Читать онлайн Чингисхан. Человек, завоевавший мир бесплатно
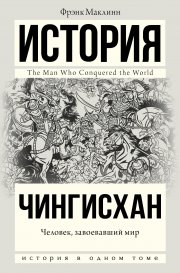
Frank McLynn
GENGHIS KHAN
THE MAN WHO CONQUERED THE WORLD
© Frank McLynn, 2015
© Перевод. Д. Лобанов, 2015
© Издание на русском языке AST Publishers, 2019
* * *
Посвящается четырем самым главным женщинам в моей жизни Полин, Джули, Луси, Эллен
Глоссарий
Главные персонажи
Нотабене: почти все даты ранней монгольской истории – предположительные.
АЛАХУШ (дата смерти – 1212). Вождь онгутов. Раскрыл найманский план нападения на Чингисхана в 1205 году. Убит фракционерами-соперниками в племени онгутов, пока Чингис находился в Китае.
АЛТАН (даты неизвестны). Третий сын Хутулы, претендент на ханство. Испытывал непреходящее чувство зависти к Чингису, своему кузену, имел склонность к предательству. По некоторым сведениям, именно он отдалил Джамуху от Чингиса.
АМБАГАЙ (годы правления: 1148–1156). Клан тайджиутов. Правитель конфедерации «Хамаг монгол улус». Распят цзиньцами Китая.
АРСЛАН (даты неизвестны). Вождь карлуков, обитавших в регионе Черного Иртыша. Прежде вассал Каракитая, перебежал к Чингису в 1211 году.
АША-ГАМБУ (дата смерти – 1227). Тангут-аристократ, назначенный Сянь-цзуном, императором Си Ся (правил в 1223–1226 гг.), и главой правительства, и главнокомандующим. Проводил антимонгольскую политику.
БАРЧУК (дата смерти – 1227). Идикут, или предводитель уйгуров. Перешел от каракитаев на сторону Чингисхана в 1209 году, получил в жены одну из его дочерей, зарекомендовал себя одним из самых доверенных и ценных союзников, сражался в тангутской кампании 1227 года.
БАТУ, БАТЫЙ (ок. 1207–1255). Сын Джучи, основатель династии ханов Золотой Орды. Главнокомандующий во время монгольского нашествия в Европу в 1236–1242 гг. Относился враждебно к великому хану Гуюку и едва не начал с ним гражданскую войну, если бы этому не помешала смерть Гуюка. Вступил в альянс с Сорхахтани-беки с тем, чтобы гарантировать избрание Мункэ великим ханом.
БЕКТЕР (ок. 1156–1180). Сын Есугея и его первой (неизвестной) жены. Сводный брат Чингиса, убитый им.
БЕЛЬГУТАЙ (ок. 1158–1252). Брат Бектера и сводный брат Чингиса. Всегда проявлял исключительную преданность Чингису и показал себя неплохим полководцем, но отличался неблагоразумием и по этой причине не участвовал в высших советах и в принятии важных решений.
БООРЧУ (ок. 1162–1227). Первый и самый верный нукер Чингиса, один из его «четверых богатырей-кулюков», спас ему жизнь. Выдающийся полководец. Дружил с Угэдэем. Умер во время тангутской кампании 1227 года, возможно, вследствие болезни Паркинсона или осложнений, вызванных эпилепсией или болезнью Меньера.
БОРОХУЛ (ок. 1162–1217). Один из приемных сыновей Оэлун и один из «четырех кулюков». Занимал второе место после Боорчу в иерархии близких друзей Чингисхана. Спас жизнь Угэдэю в битве при Халахалджит-Элэтэ. Убит во время кампании против лесных народов.
БОРТЭ (ок. 1161–1230). Официальная жена Чингиса, мать его четверых сыновей и пятерых дочерей. Необычайно умная женщина, входившая в число самых доверенных советников Чингисхана.
БУЧЖИР (ок. 1200 – ок. 1264). Участник «великого похода» Джэбэ и Субэдэя в 1221–1224 годах, впоследствии старший монгольский администратор в Китае.
ВЭЙШАО, принц (1168–1213). Седьмой из десяти императоров Цзинь (под именем Ваньянь Юнцзи); третий и последний император, умерший насильственной смертью.
ДАЙ-СЕЧЕН (даты неизвестны). Вождь клана босхуров племени унгиратов. Тесть Чингисхана.
ДАРИТАЙ (даты неизвестны). Дядя Чингисхана, вступил в сговор с Алтаном и Хучаром, причастен к унижению Бельгутая.
ДЖАГАТАЙ (ок. 1184–1242). Второй сын Чингисхана, отличался вздорным и сварливым характером, фанатически ненавидел мусульман, оставил о себе память как самая невыразительная личность среди потомков хана, нанесшая тем не менее немало вреда вендеттой против Джучи.
ДЖАМУХА (1161–1206). Клан джадарат. Друг детства Чингисхана, побратим и соперник за лидерство в монгольской нации. Возможно, был двойным агентом. Присущая ему двойственность и противоречивость неизбежно закончилась для него крахом и казнью.
ДЖУРЧЕДАЙ (даты неизвестны). Вождь племени уруут, перешедший от Джамухи к Чингису в 1201 году. Получил в жены кереитскую царевну Ибака-беки. Отец Кетея и Бучжира.
ДЖУЧИ (ок. 1182–1227). Старший «сын» Чингисхана, хотя почти наверняка Чингис не был его настоящим отцом. Обвинения в незаконнорожденности преследовали его всю жизнь. Он придерживался более либеральных взглядов на будущее империи, в результате произошел разрыв с отцом и его заподозрили в заговоре.
ДЖЭБЭ (ок. 1180–1225). Субклан бесут монголов-тайджиутов. Ранил Чингиса стрелой в битве в 1201 году, но был прощен и стал одним из главных полководцев. Превосходно взаимодействовал с Субэдэем во время «великого похода» в 1221–1224 годах.
ДЖЭЛМЭ (ок. 1170–1207). Старший брат Субэдэя. Один из главных полководцев. Спас жизнь Чингису, отсасывая кровь из тяжелого ранения в шею стрелой. Удостоился особых почестей на курултае 1206 года. Погиб во время военной кампании против найманов.
ДОРБЕЙ-ДОКШИН (даты неизвестны). Вождь клана дорбен. Полководец, отличавшийся особенно немилосердной жестокостью.
ЕЛЮЙ ЧУЦАЙ (1189–1243). Киданьский аристократ. Превосходный администратор, оказывавший большое влияние и на Чингисхана, и на Угэдэя. Руководил переписью населения и реформой налоговой системы в тридцатых годах XIII века.
ЕСУГЕЙ (?–1171). Отец Чингисхана. Малозначительный племенной вождь, так и не ставший ханом.
КАРПИНИ Джованни Плано (1182–1252). Францисканский монах, впоследствии архиепископ. Первый значительный западный посланник, посетивший монголов в 1246–1247 годах в роли представителя папы Иннокентия IV.
КОКОЦОС (даты неизвестны). Клан баарин, назван, очевидно, по наименованию тайного монгольского ритуала. Назначен «духовным наставником» Джагатая, тщетно пытался примирить его с Джучи.
КУЧЛУК (дата смерти – 1218). Сын найманского Таян-хана.
ЛЮДОВИК IX, ЛЮДОВИК СВЯТОЙ (1214–1270). Французский король с 1226 года. Единственный канонизированный король Франции. Возглавлял 7-й (1248) и 8-й (1270) крестовые походы.
МАРКО ПОЛО (1254–1324). Венецианский купец и путешественник. Самый именитый западный путешественник, побывавший в Китае Хубилай-хана. Он покинул Венецию в 1271 году и путешествовал по Востоку до 1295 года, пройдя в общей сложности 15 000 миль.
МУНЛИК (даты неизвестны). Близкий друг Есугея. При Чингисе удостоился почетного титула «духовного отца». Подвергся опале после того, как Чингис повелел казнить за предательство его сына, главного шамана Теб-Тенгри, также Кокочу.
МУХАЛИ (1170–1223). Единственный непобежденный полководец Чингисхана. Главный вдохновитель всей кампании по завоеванию цзиньского Китая. Назначен вице-королем, наместником Китая, «де-факто» заместителем «великого хана» в 1217 году.
НАЯА (даты неизвестны). Сын Ширкату, вождя клана баарин. Один из важнейших полководцев Чингисхана. Удостоился похвалы Чингисхана за то, что не нарушил клятву, данную Таргутаю из племени тайджиутов.
ОЭЛУН (ок. 1142–1216). Жена Есугея, родившая от него пятерых детей, в том числе Чингиса. Входила в число самых доверенных советников Чингисхана. Позднее вышла замуж за Мунлика.
РУБРУК ВИЛЛЕМ (ок. 1220 – ок. 1293). Фламандский монах-францисканец. Сопровождал французского короля Людовика IX в 7-м Крестовом походе и совершил поездку к монголам в качестве его посланника в 1253–1255 годах.
СОРХАН-ШИРА (даты неизвестны). Племя сулдус. Малозначительный племенной вождь, помогший юному Чингису сбежать от Таргутая, предводителя тайджиутов, заковавшего его в колодки. Вознагражден на курултае 1206 года кочевьем.
СОРХАХТАНИ-БЕКИ (ок. 1187–1252). Дочь Джаха-Гамбу, брата Тоорил-хана, кереитка и несторианская христианка. Самая влиятельная и интеллектуальная женщина своего времени, наделенная необычайным политическим даром. Жена Толуя, мать троих монгольских ханов – Мункэ, Хулагу и Хубилая (также китайского императора). Совместно с Батыем добилась престолонаследия Мункэ. Сирийский писатель и ученый Бар-Эбрей говорил об этой женщине: «Если бы я увидел в женском племени еще одну такую же женщину, как она, то я сказал бы, что племя женщин превосходит мужское племя».
СУБЭДЭЙ (1176–1248). Племя урянхайцев. Предположительно, сын кузнеца. Преданно служил Чингисхану и Угэдэю с 1192 до 1248 года. Превосходный полководец, один из величайших военных гениев своей эпохи, величайший монгольский военный стратег.
ТАТАТОНГА (даты неизвестны). Тангутский администратор, ввел при монгольском дворе уйгурскую письменность. Назначен наставником сыновей Чингиса и хранителем печати.
ТЕБ-ТЕНГРИ, также Кокочу (? – ок. 1208). Главный шаман монголов. До 1206 года всецело поддерживал Чингиса, но затем стал считать себя равным ему. После дерзкой попытки дискредитировать братьев Чингиса, хан повелел одному из них повалить его и сломать хребет, то есть фактически предать казни.
ТОЛУЙ (1192–1232). Четвертый сын Чингисхана и среди сыновей самый одаренный полководец. Чингис считал его чересчур осторожным для того, чтобы стать дееспособным ханом. Дружил с Угэдэем и, как и он, умер в результате алкоголизма или отравления. Его сыновья Хубилай, Хулагу и Мункэ стали выдающимися монгольскими правителями.
ТООРИЛ, также Он-хан (ок. 1140–1203). Предводитель кереитов. Несторианский христианин. Перебежчик и интриган, поддерживавший сложные двуличные отношения с Чингисом и Джамухой, завершившиеся поражением и смертью.
ТОХТОА-БЕКИ (?–1208). Вождь меркитского племени, вначале отъявленный противник Чингиса, имел дурную славу чрезмерной кровожадности.
ТОХУЧАР (?–1221). Зять Чингиса. Без позволения Чингисхана разграбил город Тус. Разжалован, затем был убит во время осады Нишапура.
ТЭМУГЕ, также Отчигин (1168–1246). Самый миролюбивый среди братьев Чингисхана, который нередко корил его за леность. Тем не менее он был способным политиком, обладал интеллектуальными и культурными запросами. Казнен после попытки отобрать власть у Гуюка.
ТЭМУЛУН (1169/1170–?). Сестра Чингиса. О ней практически ничего не известно, кроме ее экзогамного брака с унгиратом Палчуком.
УГЭДЭЙ (ок. 1186–1241). Третий сын Чингиса и наследник трона великого хана. Человек великодушный, харизматичный, но и склонный к раздражительности и спонтанной жестокости. Расширил империю до предела завоеваниями в Китае, Корее, Центральной Азии, на Руси, в Восточной Европе. Среди историков нет единого мнения относительно действительных причин смерти и Угэдэя, и его брата Толуя – в результате алкоголизма или отравления?
ХАБУЛ (годы правления: 1130–1146). Предводитель клана борджигинов. Хан первоначальной монгольской конфедерации. Прадед Чингисхана.
ХАСАР (1164 – ок. 1216). Самая коварная и предательская личность среди братьев Чингисхана. Обладал огромной физической силой и был превосходным лучником. Постоянно строил козни против Чингиса, отношения с великим ханом были неровные и переменчивые.
ХАЧИУН (1166 –?). Третий сын Есугея от Оэлун. О нем практически ничего не известно, кроме того, что из всех братьев он был самым близким и любимым для Чингисхана. Отец Эльджигидея (см. ниже).
ХУБИЛАЙ (даты неизвестны). Племя барулас. Монгольский полководец, не путать с более поздним монгольским ханом и китайским императором Хубилай-ханом.
ХУДУХА (даты неизвестны). Предводитель племени ойратов из числа лесных народов. Первоначально «правая рука» Джамухи, перешел на сторону Чингиса после поражения найманов. Потерпел неудачу во время мятежа туматов в 1217 году и был захвачен в плен динамичной Ботохай, «Боадицеей» туматского народа. После ее разгрома взял Ботохай в жены.
ХУЛАГУ (1218–1265). Сын Толуя и Сорхахтани-беки, внук Чингисхана, брат Ариг-буги, Мункэ и Хубилай-хана. Основал династию ильханов в Персии в 1256 году, разорил Багдад в 1258 году.
ХУТУЛА (даты правления: 1156–1160). Клан борджигинов. Хан монгольской конфедерации «Хамаг монгол улус». Погиб в битве с татарами.
ХУЧАР (даты неизвестны). Племянник Есугея, претендент на ханство. Вместе с Алтаном постоянно устраивал заговоры против Чингиса.
ЧИНКАЙ (ок. 1169–1252). Этническое происхождение неизвестно; среди монголов употреблялось всеобъемлющее и расплывчатое определение «тюрк»; в мирное время – эффективный администратор монгольских земель; главный министр Чингисхана, в этом качестве служил также великим ханам Угэдэю и Гуюку.
ШИГИ-ХУТУХУ (ок. 1180–1250). Татарин, мальчишкой усыновленный Оэлун. Сводный брат Чингисхана, один из его самых обласканных фаворитов. Де-факто верховный судья и при Чингисхане, и при Угэдэе. Высокообразованный по тем временам человек, первый монгольский сановник, овладевший уйгурской письменностью.
ЭЛЬДЖИГИДЕЙ (ЭЛЬЧИГИДАЙ) (? – дата смерти 1251/1252). Историки допускают, что с таким именем существовали двое, а не один примечательный монгольский персонаж. Наш Эльджигидей в начале XIII века выступает в роли палача Джамухи. Эльджигидей, умерший в 1251/1252 году, был казнен за оспаривание избрания ханом Мункэ. Хронология опровергает версию одного персонажа.
От автора
Понятно, что невозможно составить всеобъемлющую и достоверную биографию Чингисхана. В идеале монголовед должен владеть, как минимум, дюжиной иностранных языков – монгольским, китайским, персидским, арабским, русским, хинди, урду, гуджарати, желательно также японским, польским, венгерским и множеством диалектов в тех краях, куда проникали монголы: Вьетнама, Бирмы, Индонезии, Сибири, Грузии, Азербайджана и т. д. и т. д. Человеку потребовалось бы несколько жизней для того, чтобы освоить все эти языки, прежде чем взяться за перо. Именно по этой причине историки специализируются на отдельных регионах и пишут книги о монголах и России, о монголах и Китае, о монголах в Иране, о монголах в Европе и так далее. Мне не довелось изучить ни один из этих трудных языков, упомянутых выше. Моя скромная, но все-таки обременительная задача, сводилась к тому, чтобы синтезировать исследования, уже проведенные на основных европейских языках за последние сорок лет, о Чингисхане и его сыновьях. Безусловно, в моем тексте профессионалы монголоведы найдут немало моментов, которые у них могут вызвать возражения, но я надеюсь, что мне удалось достаточно подробно осветить жизнедеятельность Чингисхана. Я концентрировался не только на кровавых кампаниях, но и попытался отобразить особенности монгольского общества, культуры, идеологии и религии, чтобы не описывать лишь нескончаемую череду битв, осад и преследований. Я в большом долгу перед всеми исследователями монголов и их истории, но прежде всего и особенно перед Полем Пеллио (представителем предыдущего поколения историков) и перед Игорем де Рахевильцем (представителем современного поколения историков).
Главными источниками информации о Чингисхане были и остаются «Тайная история монголов»[1], составленная неизвестным автором, «История завоевателя мира» персидского историка Ата-Мелик Джувейни (изложена в пятидесятые годы XIII века) и два других фундаментальных труда персидских авторов: «Компендиум хроник»[2] Рашида ад-Дина (завершен в 1307 году) и «Табакат-и Насири»[3] Минхаджа ад-Дин аль-Джузджани (завершен в 1260 году). В этих персидских трудах содержится множество бесценных сведений, которых более нет нигде, включая свидетельства очевидцев. Конечно, среди специалистов нет единого мнения относительно их добротности и надежности. Обычно предпочтение отдается «компендиуму» Рашида ад-Дина и в силу его масштабности (история Монголии является лишь частью глобальной истории мира), и потому что в нем используются китайские свидетельства, которые давно пропали. Другие эксперты обращаются к труду Джувейни, хотя отношение к этому автору противоречивое и настороженное. Критики признают ценность его сведений, почерпнутых из источников, не дошедших до нашего времени, но их настораживает вольность толкования свидетельств, предвзятость комментариев, неизбежность конфликта между ненавистью хрониста к монголам и необходимостью скрывать и маскировать ее, поскольку он находился на службе у монголов (в Иране). Его свидетельства имеют явное преимущество, потому что он был очевидцем завоеваний монголов в Центральной Азии в двадцатых годах XIII века, и ему не довелось жить в условиях монгольского ига и потому не надо было подбирать слова и выражения. Пребывая в безопасном Делийском султанате, он мог смело изливать свою желчь и ненависть – называть Чингиса «проклятием», но именно благодаря этой удаленности его хроники и приобрели уникальную ценность.
Настоящий «кот в мешке» – «Тайная история», составленная на монгольском языке после смерти Чингисхана (1227 год) в качестве официального исторического документа для царской династии, «тайная» в том смысле, что она не подлежала разглашению, обнародованию, распространению, и ее читательская аудитория ограничивалась придворными кругами. Это диковинное и загадочное произведение наполнено двусмысленной и неясной фразеологией, его загадка усугубляется таинственностью авторства. Хотя и предполагается, что автором мог быть Шиги-Хутуху, сводный брат Чингисхана, критическая тональность многих параграфов опровергает эту версию. Маловероятно, чтобы «историю» написали Тататонга, влиятельный тангутский учитель, приставленный Чингисханом к сыновьям, или великий тюркский администратор Северного Китая Чинкай, несмотря на то, что эти двое чаще всего упоминаются среди других кандидатов. Наиболее правдоподобно предположение о том, что автором был сподвижник Тэмуге, Чингисова брата, готовившегося к борьбе за власть после смерти великого хана Угэдэя. «Тайная история» является отчасти здравым историко-нравственным поучением, отчасти исторической повестью, отчасти дидактической аллегорией и отчасти агиографией, и поэтому пользоваться ею следует с чрезвычайной осмотрительностью: в ней со всей очевидностью скрываются или искажаются ключевые эпизоды жизни молодого Тэмуджина. Как только Тэмуджин трансформируется в Чингисхана, автор, похоже, теряет к нему интерес. Жизнедеятельность настоящего Чингисхана, завоевателя мира, как и его великие завоевания, отображаются конспективно. Как бы то ни было, мы прикасаемся к выдающемуся произведению. Иногда историю монголов сравнивают с эпопеей «Смерть Артура», но это сопоставление неправомерно. Во-первых, в действительности не существовало короля Артура, тогда как реальный Чингисхан не только существовал, но и оставил в истории человечества заметный след. Неуклюжая аналогия, видимо, основывается на сходстве элементов дидактики. Другие «эксперты» превозносят «Тайную историю» как «Илиаду» степей, правда, лишенную поэтического гения Гомера. Эта аналогия столь же неудачна, как и предыдущая. Если и была торговая война между Микенами и Троей, то она происходила совершенно иначе, чем в изображении Гомера. Битвы 1206 года, отображенные в «Тайной истории», не только происходили в действительности, но и, возможно, именно так, как описал их очевидец.
Теперь несколько слов о транслитерации и использовании названий и имен. Англизирование языков Центральной Азии и Дальнего Востока всегда сопряжено с трудностями, и методы с годами изменялись. Бэйпин стал Пекином, потом Бэйцзином, и этот лингвистический вариант вряд ли можно считать окончательным. Можно посочувствовать редактору одной газеты, спросившего своего корреспондента на Дальнем Востоке: «Как долго лететь из Пекина в Бэйцзин?» Что касается англизирования имени великого завоевателя, то правильно было бы его называть Чингис Ханом (Chingis Khan), но поскольку в англоязычном мире он всегда был Дженгис Ханом (Genghis Khan), то я избрал именно этот вариант, поскольку для меня предпочтительнее жанр научно-популярной, а не сугубо академической литературы. В целом же, в сфере ономастики мне вряд ли удалось соблюсти правильность передачи имен и названий в той степени, которая удовлетворила бы лингвистов; чаще всего я руководствовался принципами благозвучия. Для большей ясности в написании имен dramatis personae[4] я составил глоссарий главных персонажей. Я безмерно благодарен Тимоти Мею, профессору университета Северной Джорджии, за помощь в разрешении проблемы с написанием монгольских имен, названий племен и кланов.
Ни один автор не способен создать книгу, опираясь лишь на собственные силы. Соответственно, мне доставляет удовольствие особо отметить участие в ее создании и поблагодарить нижеследующих лиц: Уилла Сулкина, предложившего мне написать книгу, а также его коллег и преемников в издательстве «Бодли хед» Стюарта Уилльямса, Уилла Хаммонда и Эмми Франсис, которая вела весь процесс от начала до конца. Я также благодарен дочери Джули, разыскавшей редчайшие книги о монголах, профессору У. Дж. Ф. Дженнеру за помощь в изучении китайских географических названий, древних и современных, д-ру Генри Хауарду, Биллу Доноху и Антони Хипписли – за превосходное редактирование, корректуру и составление карт. Как всегда, я всем обязан своей жене Полин, бесподобному редактору, критику, другу и интеллектуальному соратнику. Да хранит Вас Бог!
Фрэнк Маклинн, Фарнем, Суррей, 2015
Предисловие
Багдад в 1257 году все еще был одним из главных центров ислама. Столичный город аббасидского халифата продолжал пользоваться благами былого величия и славы, сохранившимися со счастливых времен конца VIII – начала IX века. Аль-Мансур, второй халиф, основавший династию Аббасидов и правивший в 754–775 годах, заложил основы, но все подлинные чудеса свершились при Гаруне аль-Рашиде, пятом халифе, царствовавшем в 786–809 годах. Он превратил Багдад в город-сказку, чьи дворцы, мечети и здравницы изумляли гостей и принесли ему всемирную известность. Пожалуй, самым удивительным и вызывавшим всеобщее восхищение был Дом мудрости, крупнейшая в мире библиотека – с научно-исследовательским институтом и переводческим бюро. В Доме мудрости имелось уникальное собрание манускриптов и книг, и при нем сформировалось научное сообщество, занимавшееся исследованиями в самых разных областях: в астрономии, математике, медицине, алхимии, химии, зоологии, географии, картографии. Но меньше всего он напоминал Лос-Аламос или МТИ (Массачусетский технологический институт) той эпохи: строгость и академизм Дома мудрости красочно будоражило многоцветье базаров и рынков с их крикливыми торговцами, заклинателями змей и гадалками. Багдад Гаруна аль-Рашида был именно таким, каким он изображен в сказках «Тысячи и одной ночи». При Гаруне и его ближайших преемниках Багдад превзошел Кордову, став самым большим городом в мире, но к XIII веку он уступил пальму первенства по численности населения Мерву и другим великим городам Хорасана{1}. Тем не менее, хотя славные времена остались в прошлом и с конца X века Багдад переживал упадок, один исламский путешественник, посетивший город примерно тогда же, когда происходило норманнское завоевание Англии, восторженно писал:
«В мире нет города, равного Багдаду по богатству и деловой активности, численности ученых и знати, протяженности его округов и пределов, огромному количеству дворцов, обитателей, улиц, проспектов, аллей, мечетей, купален, причалов и караван-сараев{2}».
Город впечатлял своим великолепием даже тех, кого раздражала столица Аббасидов, как, например, Ибн Джубайра, арабского путешественника, прибывшего из мавританской Испании и сообщавшего в 1184 году:
«Здесь изумительные рынки, большие пространства и население, пересчитать которое не сможет никто, кроме Господа. Здесь три соборные мечети… Общее число мечетей, в которых по пятницам читаются молитвы, в Багдаде достигает одиннадцати… Купален в городе несть числа{3}».
В мастерских города изготавливались превосходные шелковые и парчовые ткани, в Италии славилась особая золотая «багдадская» парча, а по всей Европе была известна ткань из шелка и хлопка «аттаби», носившая название одного из городских кварталов. В Багдаде покупались в основном предметы роскоши: полотна, шелка, хрусталь, стекло, мази и снадобья; город, возможно, уже и находился в состоянии упадка, но его богатства вызывали зависть.
Параллельно Багдаду создалась репутация города, родившегося под несчастливой звездой, и он действительно подвергался бедствиям голода, пожаров и наводнений. Массовый голод здесь случился в 1057 году, попытки мятежей предпринимались в 1077 и 1088 годах, неоднократно происходили конфликты на религиозной почве, не говоря уже о многочисленных бедах, вызывавшихся буйством огня и воды. Большие пожары отмечены хронистами в 1057, 1059, 1092, 1102, 1108, 1114, 1117, 1134, 1146 и 1154 годах. В 1117 году в Багдаде произошло землетрясение, потопы зафиксированы в 1106, 1174 и 1179 годах. Народные бунты вспыхивали в 1100, 1104, 1110 и 1118 годах, а в 1123 году конфедерация бедуинов чуть не захватила город: его спасли подкрепления, присланные тюрками-сельджуками{4}. Различные пророки и прорицатели истолковывали все эти несчастья как предвестники неминуемой катастрофы, которая окончательно разрушит Багдад. То же самое предвещало и очевидное снижение квалификации халифов. Аль-Мустасим, ставший халифом в 1242 году в возрасте тридцати одного года, не отличался дальновидностью и трезвостью ума, был человеком бездеятельным, любил предаваться удовольствиям, наслаждаться обществом женщин, музыкой и театром. Подобно многим другим индивидуумам такого сорта, отсутствие способностей он компенсировал непомерной спесью и претензиями (без каких-либо на то оснований), чтобы играть роль верховного правителя. Аль-Мустасим раздражал придворных, прежде всего главного визиря, в коридорах власти зрело недовольство и вынашивались замыслы его свержения. Особенно возмущало его упорное нежелание замечать угрозу, исходившую от монголов, загадочных племен, появившихся с востока и уже четыре раза (в 1236, 1238, 1243 и 1252 годах) направлявшихся в сторону Багдада, но не напавших только из-за того, что их отвлекала какая-нибудь другая более доступная и близкая пожива{5}.
Однако в 1257 году возможность монгольского нашествия уже нельзя было игнорировать: над халифатом нависла, если выражаться языком XX века, «угроза прямая и явная»». Монголы неумолимо надвигались, и на этот раз их ничто не отвлекало, они не проводили маневры и не блефовали. Хулагу, внук Чингисхана, брат великого хана Мункэ, будущий китайский император Хубилай и еще один амбициозный представитель рода Ариг-буги шли войной на арабский халифат. Мункэ приказал Хулагу аннексировать те районы исламской Азии, которые еще не принадлежали монголам, и пройти по западному исламскому миру до самого Египта. Хулагу командовал самым многочисленным за всю историю монгольским воинством. Согласно одному средневековому источнику, его армия насчитывала 150 000 человек, и до настоящего времени эти данные не представляются неправдоподобными{6}. Хулагу напал вначале на исмаилитов-ассасинов, самых жестоких и устрашающих противников в мире ислама. Ассасины, военно-политическое ответвление исмаилитов-низаритов, в сущности исламские сектанты, создали собственное «государство» в крепости Аламут на северо-западе Персии. Исмаилиты, повиновавшиеся лишь великому магистру ордена Старцу Горы, готовили из своих приверженцев профессиональных ассасинов, убийц «великих и могущественных», которых они умерщвляли публично, при стечении народа, ужасая и стращая всех одним своим именем. Боялся их великий вождь сарацин Саладин, от их кинжалов погибли многие крестоносцы. Но в декабре 1256 года они повстречались с еще более устрашающей силой. Монголы Хулагу напали на Аламут, разрушили вроде бы неприступную крепость и навсегда покончили с ассасинами. Полагают, что побудительным мотивом была угроза, опрометчиво высказанная магистром ордена в адрес Хулагу{7}.
Вдохновленный триумфом, Хулагу отправил послание халифу, требуя капитуляции, личного повиновения и почтения, присяги в верности, разрушения всех фортификаций Багдада и выплаты огромной дани золотом. Аль-Мустасим ответил с таким же горделивым пренебрежением, с каким бы отреагировал папа на угрозу от одного из светских владык Европы. Халиф сказал послам Хулагу, что он является главой ислама, в этом качестве превосходит любого светского правителя и ему служат миллионы правоверных от Китая до Испании. «Возвращайся домой в Монголию, молодой человек», – такова якобы была покровительственная суть его ответа Хулагу, который был моложе всего лишь на семь лет. Одновременно тайное послание Хулагу отправил и главный визирь, предлагая ему атаковать город и обещая легкую победу, поскольку Багдад переполнен заговорщиками и потенциальными бунтовщиками «пятой колонны», желающими халифу только смерти. Хулагу послал последнее предупреждение: «Луна светит только тогда, когда спрятан яркий диск солнца». Он недвусмысленно давал понять, что власть аль-Мустасима целиком зависит от терпеливости монголов{8}. На этот раз халиф разрешил спор и определил свою судьбу тем, что казнил монгольских эмиссаров, совершив самое тяжкое преступление во всех отношениях. Осознав наконец неизбежность войны и испугавшись этой перспективы, халиф созвал совет, поставив лишь один вопрос: можно ли предупредить монгольский тайфун? Единодушный ответ состоял в том, чтобы откупиться от Хулагу, заплатив ему столько золота, сколько бы он ни потребовал для мирного урегулирования. Но халиф предпочел последовать советам главного астролога, который при поддержке целой свиты предсказателей заявил, будто «предначертано», что всех, кто посмеет напасть на Аббасидов, ожидает «ужасная гибель». Астролог в деталях рассказал о тех бедах, которые постигнут Хулагу, если он совершит святотатство: солнце перестанет подниматься по утрам, прекратятся дожди, оскудеет земля, землетрясение поглотит интервентов и в течение одного года умрет и сам Хулагу. Астроном даже поклялся принести в жертву свою жизнь, если неверны его предсказания{9}. Когда эту информацию донесли Хулагу, он вызвал собственного астролога, и тот подтвердил правоту предсказателей халифа и несчастливых знамений. Хулагу незамедлительно приказал казнить «предателя». Халиф, узнав о том, что пугающие предзнаменования не убедили Хулагу, снова заколебался и на этот раз согласился заплатить огромную дань золотом. Однако Хулагу ответил, что переговоры надо было вести раньше, а теперь он желает встретиться с халифом лично{10}.
Хулагу выдвинулся к Багдаду в ноябре 1257 года, совершенно уверенный в несокрушимости своих войск. Его и без того огромная армия дополнялась рекрутами, набранными среди покоренных армян и грузин, давно осознавших бессмысленность сопротивления монголам, и, что удивительно, воинами-христианами из Антиохии. При нем был и элитный корпус китайских инженеров и саперов, специалистов в организации осад, которыми командовал сорокалетний Го Кан, ровесник Хулагу, служащий для нас примером того, что монголы ценили человека больше по знаниям, а не по родовитости. 18 января 1258 года Хулагу подошел к предместьям Багдада и начал окружать город, пробуя его оборону. Уже не существовало первоначальных круговых фортификаций, построенных халифом аль-Мансуром, но внутреннюю часть города на западном берегу Тигра окружала десятимильная стена, возведенная из обожженного кирпича, с мощными сторожевыми башнями. Не обеспечивал необходимую защиту ров, облицованный кирпичом: он был основательно разрушен наводнениями{11}. Вдобавок ко всему, аль-Мустасим приказал своим элитным тюркским воинам выстроить в лодках на реке дополнительную линию обороны. Монголы двинулись на штурм города по обоим берегам Тигра. Халиф сразу же совершил ошибку, выслав вперед по западному берегу двадцатитысячную конницу, чтобы остановить мародеров, но он не учел монгольской изобретательности. Монголы разворотили дамбы запруд на Тигре и затопили низину позади кавалеристов, заперев их в западне и перебив всех до одного. Тюркские воины в лодках оказались в лучшем положении и проявили стойкость. Хулагу действовал методично и неспешно. Баллисты и катапульты обрушили на крепостные башни град метательных снарядов, особенно интенсивному обстрелу подвергалась так называемая Персидская башня. Поскольку местность вокруг Тигра и Евфрата была в основном песчаная, камни доставлялись из близлежащих гор, использовались также стволы срубленных пальм. Монголы переправлялись через реку сразу в нескольких местах, избрав самые слабые участки в полукруге оборонительной стены. Особенно пригодилось инженерное мастерство грузин. Осада продолжалась с 29 января до 10 февраля, пока не рухнула Персидская башня, открыв проход в город. Подошло время для переговоров о капитуляции, но Хулагу отказался выдвигать условия. Он выждал три дня, прежде чем начать последний штурм, давая возможность отдохнуть своим воинам и выискивая у легковерной местной знати местонахождение спрятанных сокровищ. Хан вызвал к себе астролога халифа, высмеял его угрожающие предсказания и напомнил о клятвенной гарантии правдивости пророчеств своей жизнью. Затем Хулагу приказал казнить астролога{12}.
13 февраля началось шестидневное разграбление города. Персидский историк оставил нам красочное описание этого фактического мародерства:
«Утром, когда оранжевый круг солнца замер на краю горизонта и неведомая волшебная рука убрала с залитого ртутью неба отпечатки звезд, Хулагу повелел своей армии войти в Багдад с факелом разбоя и грабежа… Сначала они сровняли с землей стены… заполнив ров, настолько глубокий, насколько это может представить себе рациональное мышление. Потом они накинулись на город, как голодные коршуны на овец, без удержу и без стыда, убивая и сея страх… Бойня была столь велика, что кровь текла рекой, подобной Нилу, и красной, как красильное дерево, и слово Корана о «гибели семени и стебля» словно было сказано об имуществе и богатствах Багдада. Как разбойники, они растаскивали сокровища гаремов Багдада и, как безумцы, крушили зубцы стен… Стенания и плач не смолкали в ушах… неслись из окон и ворот… Ложа и подушки, украшенные золотом и драгоценностями, были разрезаны кинжалами и разорваны в клочья. Тех, кто прятался за вуалями великих гаремов… вытаскивали за волосы и волокли по улицам и аллеям, как игрушки татарского чудовища{13}».
Грабеж длился шесть дней и ночей. Мечети были опустошены и осквернены, уникальные здания были разрушены, тысячи людей загублены. По самым умеренным оценкам, за время осады и разграбления Багдада погибло 90 000 человек. Только в серале калифа находилось семьсот одалисок и около тысячи евнухов. Настоящим актом вандализма стало уничтожение Дома мудрости, эта литературная утрата сравнима с разрушением великой Александрийской библиотеки. По некоторым сведениям, столько книг было выброшено в Тигр, что прежде красная от крови вода в реке почернела от чернил и оставалась таковой на протяжении нескольких дней{14}. Среди христиан бытует мнение, что уничтожение Дома мудрости было возмездием за приговор, назначенный Александрийской библиотеке халифом Умаром, спутником и преемником Мухаммеда, в 642 году во время завоевания Египта. Согласно Бар-Эбрею, сирийскому православному богослову, современнику гибели Багдада, Умар говорил об Александрийской библиотеке: «Если эти книги согласуются с Кораном, у нас нет нужды в них; если они противоречат Корану, их надо уничтожить»{15}. Ликвидация исламских книг монголами, не обладавшими способностями Умара понимать силу письменности, могла утешить самодовольное высокомерие противников ислама на Западе.
В процессе покорения Багдада Хулагу обезглавил около семисот представителей знати и членов их семей. Сам аль-Мустасим содержался в состоянии предсмертной агонии. Сначала Хулагу морил халифа голодом, потом потребовал привести его к нему. Голодный халиф попросил еды. Хулагу дал ему золотой слиток и сказал: «Ешь!» – «Ни один человек не может съесть это», – ответил халиф, будто повторяя слова царя Мидаса. «Если тебе это известно, – сказал Хулагу, – тогда почему ты не прислал мне золото с самого начала? Если бы ты сделал это, то сейчас бы ел и пил преспокойно в своем дворце»{16}. Халиф сообщил о местонахождении казны, но для Хулагу этого было мало: он хотел знать, где аль-Мустасим хранит личные сокровища. Несчастный халиф рассказал и о тайнике. Хулагу наскучило играть с бедным халифом, и он повелел его казнить. 21 февраля были обезглавлены слуги аль-Мустасима. Халифа и его сына умертвили способом, которым монголы удостаивали только лиц королевских и царских кровей. Они завернули аль-Мустасима и его сына в ковры и растоптали копытами их же коней{17}. Затем Хулагу, утомившись убийствами, объявил тех, кто остался жив, своими подданными, нуждающимися в его заступничестве, и прекратил расправы.
Город был практически полностью разрушен. Каналы и дамбы ирригационной системы были уничтожены, что делало невозможным ведение сельского хозяйства. Багдад утратил свое значение как центр халифата во всех отношениях: демографическом, политическом, социальном, экономическом{18}. Багдад стал провинциальным городом с гарнизоном, насчитывавшим около трех тысяч человек. Ирак теперь управлялся из Тебриза. Уцелевшие жители могли позавидовать погибшим в бойне: Ильханат обложил население непомерными податями именно тогда, когда от благосостояния 1257 года осталась, может быть, лишь одна треть. К исходу XIII века обезлюдели многие предместья Багдада, особенно на западном берегу. Захирел порт Басра, так как монголы предпочитали вести торговлю с Индией из Ормуза. Аббасидский халифат агонизировал, по мнению некоторых историков, ислам не смог полностью оправиться после нанесенной травмы{19}. Не только арабский, но и весь западный мир был шокирован масштабами разрушения одной из величайших цитаделей ислама. Багдад дополнил печальный список городов, загубленных монголами: Пекин, Кайфын, Самарканд, Бухара, Киев, Москва, Краков, Будапешт. Посольства и простые путешественники отправлялись из Европы в дальнюю дорогу, чтобы выяснить – кто же они, эти свирепые люди? Как кочевники из Монголии смогли завоевать большую часть цивилизованного мира? Кто они – Хулагу и его знаменитые братья? Кем был их отец Толуй? Но прежде всего послов и путешественников интересовал человек, уже вошедший и в историю, и в легенды мира: Тэмуджин, объявленный Чингисханом.
Глава 1. Кочевники Монголии
Очень многое в нашей жизни пришло из Центральной Азии. Там будто бы впервые появились неандертальцы, зародились войны и кочевое скотоводство, даже начали возникать видения НЛО… Все эти факторы, безусловно, можно рассматривать как поясняющие метки исторического процесса, но их недостаточно для характеристики региона. Я добавил бы такой тип бинома, как степь, хотя он тоже трактуется чрезвычайно широко и подразумевает большое разнообразие местностей, растительности, высот над уровнем моря и климата. Некоторые эксперты предлагают считать степью некий континуум, простирающийся от Венгрии до Маньчжурии, ядро или сердцевину того массива, который географ Хэлфорд Маккиндер назвал «мировым островом», состоящим из Европы, Азии и Африки{20}. В этой модели горные хребты обрамляют степь с обоих концов. В Европе Карпаты отделяют русские степи от венгерской равнины, а на востоке Азии Хинганские горы разграничивают монгольские и маньчжурские степи. Другие авторы предпочитают дуалистическую модель. К «низинным степям» они относят Западный Туркестан, северокаспийские и южнорусские равнины, а к «горным степям» – восточный Туркестан, Внешнюю и Внутреннюю Монголию. Уже по одним названиям можно судить, что «горные степи» находятся на высоте от 4500 до 15 000 футов над уровнем моря, а «низинные степи» – на уровне моря{21}. Бытует и теория трех уровней. На первом уровне расположены все земли от Венгрии до Южной Украины, к северу от Черного моря и в промежутке между Каспием и Уралом. Второй уровень – «центральных степей» – занимают территории, простирающиеся от Северного Казахстана до Юго-Центральной Азии, где они соединяются с пустынями. Третий уровень формируют великие степи Монголии и Синьцзяна, занимающие пространства вдоль северных рубежей пустыни Гоби до Хинганских гор в Маньчжурии. Сюда попадают через Джунгарские ворота, горный проход между отрогами Алтая и Тянь-Шаня{22}. Но многим географам не нравится идея центрального организующего начала степей, и они предлагают ориентироваться на различие между «Внешней Евразией» (Турция, Ирак, Аравия, Иран, Афганистан, Пакистан, Индия, Таиланд, Бирма, Лаос, Вьетнам, Камбоджа, Индонезия, Китай и Япония) и «Внутренней Евразией» (Украина, Россия, Монголия и современные «станы», такие как Казахстан и прочие){23}. Следует сказать, что и приверженцы «горизонтального» отображения Азии иногда используют системы пустынь и рек, а не степей в качестве важнейших физиографических элементов характеристики континента. При таком подходе основное внимание обращается на непрерывную цепь пустынь, пролегающую южнее степей и включающую Гоби и Такла-Макан, Кызылкум к юго-востоку от Аральского моря, Каракумы восточнее Каспийского моря и Большую Соляную пустыню в Иране. Примечательно, что на этих широтах пустыни продолжаются на Ближнем Востоке, в Аравии и Сахаре и обрываются лишь Атлантическим океаном{24}. Аналогичным образом горизонтальная схема речных систем Азии также обнаруживает целостность и последовательность, начиная от Желтой реки и Янцзы, Инда и Ганга и до Тигра и Евфрата.
Акцент на степях предоставляет возможность воспользоваться «горизонтальной» западно-восточной моделью исторического исследования Монголии. По мнению других экспертов, ключ к пониманию истории Монголии заключается в «вертикальной» северо-южной оси, протянувшейся из тундры севера Сибири и побережья Северного Ледовитого океана через таежные сибирские леса на север Монголии, а дальше через степи к пустыне Гоби, по горам Северного Китая в плодородные районы юга. Соответственно, некоторые историки склонны различать «лесостепи» Северной Монголии и южные «степи-пустыни»{25}. При таком подходе горы играют более важную роль, чем «степи-пустыни»: хребты Алашань, Бэйшань и Куньлунь, горные массивы Памир с вершинами высотой до 25 000 футов и долинами, больше напоминающими каньоны, Тянь-Шань, или Небесные горы (с вершинами до 24 000 футов), Хэнтэй в Северной Монголии, Алтай в Западной Монголии (с вершинами до 14 000 футов) и их младший брат Тарбагатай{26}. Алтай особенно привлекает авторов, пишущих о Монголии, возможно, вследствие того, что Саяно-Алтайское плато соотносится с лесостепью. Тайга, состоящая в основном из сосны, занимает особое место в истории Монголии, ее пересекают четыре величайшие реки: Обь-Иртыш, Лена, Енисей и Амур{27}. Предгорные долины Алтая исключительно благоприятны для пастбищного скотоводства: луговые травы густо покрывают гравий, почвенную соль и суглинок. Хотя и не существует магической разделительной линии между тайгой и степью – наподобие резкого перехода из лесов Итури в саванны прежнего Бельгийского Конго (современного Заира) или из джунглей Амазонки в льянос Колумбии – некоторые путешественники полагают, что нашли разделительную полосу между ними в виде «ничейного» Черноземья. Между лесами и пустыней Гоби и простирается собственно Монгольская степь – некоторые историки обозначают ее пространством между северным краем Тянь-Шаня и южными пределами Алтая. Значительную часть этого пространства занимают безлесные пастбища, причем многие из них находятся ниже уровня моря, но есть и холмы, нередко поросшие лесами, как, например, Бурхан-Халдун, священная для монголов гора, расположенная в центрально-северной части региона{28}. Эти холмы были чрезвычайно важны, предоставляя пастбища в летнее время и охотничьи угодья зимой. Не менее ценными для монголов были и реки, пусть и немноговодные и ненадежные. Вода всегда ценилась здесь на вес золота. В регионе множество вади[5], есть родники, на юго-западе – в основном солончаки и болота, но самый большой источник пресной воды расположен далеко на севере: это озеро Байкал, окруженное скалистыми холмами и изобилующее морскими птицами – чайками{29}.
Монголия представляет собой в основном плато, занимающее приблизительно около одного миллиона квадратных миль и расположенное много выше над уровнем моря, чем степи Туркестана и другие западные земли – от 3500 до 5000 футов. Ее главная и господствующая природная достопримечательность – пустыня Гоби, на которую приходится треть территории страны (пятьдесят процентов – степи и луга, а пятнадцать процентов – леса). Гоби не является пустыней в том же смысле, в каком мы привыкли считать Сахару: ее поверхность может быть покрыта не только песком, но и травой, каменистыми осыпями, валунами, солончаками. Некоторые правдолюбы не желают использовать слово «пустыня», доказывая, что Гоби, в сущности, является высохшей степью{30}. На ее внешних границах действительно можно увидеть зеленую вуаль травы, и лугов достаточно много, но чем дальше уходишь вглубь этой «степи», тем скуднее растительность, которая чаще всего попадается в виде кустарника или камыша. Обычный ландшафт – барханы, движущиеся или неподвижные, глиняные равнины, солончаки, редкие колодцы и деревца вроде белого саксаула (пригоден как топливо) и эфедры. Гоби простирается с запада на восток на расстояние около 1200 миль{31}. Путешествие на верблюде с юга на север, от современной китайской границы до России, протяженностью около 800 миль заняло бы целый месяц. Половину пути надо было бы ехать по волнистой равнине, поросшей травой. Затем четыре дня пришлось бы преодолевать пустыню с двумя скалистыми кряжами, о которых один путешественник написал красочно: «Впереди в горячем мареве бескрайнего простора виднелись две небольшие округлые горы, плывущие, подобно китам, в серебряном мираже воды»{32}. Гладь песка перебивает монотонность волн равнины, но она и замедляет движение. Еще одну неделю занял бы переход по усыпанной гравием равнине, густо-красная поверхность которой пестреет прозрачными разноцветными камнями и кристаллами. Эти места для кочевников обладали сверхъестественными силами, вызывавшими тревогу и страх, и даже более поздние европейские путешественники чувствовали себя неуютно и беспокойно под воздействием миражей: «Преобладал туманный, полупрозрачный белый цвет, какой имеет аррорут[6] или овсянка, приготовленная только на воде»{33}. В пустыне пугающе тихо по ночам, и, по описанию одного путника, «яркий, немигающий свет Белой Медведицы и мерцающие мягкие огоньки Кассиопеи и Плеяд сияют так отчетливо и ясно, как нигде в другом месте северных широт»{34}. Понятно, что для человека, путешествовавшего в Гоби, главной всегда была проблема воды. В обычных условиях через каждые тридцать миль рылись колодцы глубиной десять футов; засушливость уменьшалась лишь после ливневых дождей летом{35}. Еще одну трудность создавали песчаные бури, хотя путешественники расходятся в оценках их силы и частоты возникновения в пустыне Гоби. Одни пишут об удушающих, раскаленных песчаных бурях летом и ледяных – зимой, другие же авторы, даже бывавшие в песках, считают такие бури большой редкостью{36}.
Монголия страдает и от сурового климата, и от недостатка воды. Из-за недостатка дождей (за год выпадает в среднем 10–20 дюймов) сельское хозяйство можно вести только с применением дорогостоящих ирригационных систем, и одно лишь это обстоятельство ограничивает рост населения (оценки варьируются от 700 000 до двух миллионов), что резко контрастирует с соседним Китаем{37}. Близость к северу и удаленность от моря означают более холодные средние температуры, меньше солнечной энергии и больше погодных крайностей, чем где-либо еще в Азии. Зимы здесь особенно суровы с температурами ниже точки замерзания на протяжении шести месяцев в году. Даже за один месяц можно испытать всю гамму перемен погоды. Характерный пример невероятных погодных трансформаций дает климатическое наблюдение, проведенное в июне 1942 года. Тихое предвечернее солнечное небо внезапно взорвала буря со скоростью ветра около 60 миль в час, принесшая пыль, туман и почти сплошную, на 90 процентов, облачность. Буря длилась около часа, выдохлась и открыла ясное небо, усеянное сверкающими звездами. Затем между часом и двумя ночи пролились сильные дожди, и к утру небо было снова затянуто тучами. Около девяти утра на землю опустился густой туман, пошел снег, и температура воздуха понизилась до 33 градусов по Фаренгейту[7]{38}. Удаленность Монголии от моря дает и определенные преимущества. Хотя климат в целом холодный, здесь невысокая влажность воздуха и выпадает относительно мало снега, сугробы редко бывают более трех футов глубиной. Благодаря небольшой влажности воздуха монголы летом имеют солнечного света на пятьсот часов больше, чем жители Швейцарии или штатов Среднего Запада в США, располагающихся на тех же широтах. Любые отклонения от обычного погодного режима приобретают неистовый характер. Францисканский посланник монах Карпини, рассказавший Европе о монголах в сороковых годах XIII века, сообщает о сильнейших грозах и снегопадах, происходивших в середине лета (дневниковая запись от 29 июня 1246 года отмечает обильный снегопад в этот день) и сопровождавшихся ураганным ветром, градом и пыльными бурями{39}. А лето, которое может быть столь серьезно нарушено, длится всего лишь три месяца – с июня по август. В сентябре уже начинаются холода, а в октябре может выпасть первый снег. К ноябрю реки покрываются льдом и наступает шестимесячный сезон Нибльхейма[8], длящийся до мая. В продолжение всего года погода экстремальная и непредсказуемая: температура воздуха может повышаться до 100 градусов по Фаренгейту летом и опускаться до минусовых 43 градусов зимой[9]. Поскольку для ветра не существует естественных преград, то бури здесь всегда свирепые. Можно одновременно оказаться под ударами ветра из сибирской тундры и песчаной бури, налетевшей из пустыни Гоби{40}.
Каждое время года придает свои краски степям. Пожалуй, самыми живописными они выглядят в мае, когда равнина превращается в огромный зеленый ковер, украшенный многочисленными цветами: красными маками, горечавкой, геранями, живокостью, лютиками, астрами, рододендроном, эдельвейсами, белым вьюнком и незабудками. Надо заметить, что все это разноцветье может сохраняться до конца лета. В Центральной Азии огромное многообразие растений, 8094 вида флоры, в том числе 1600 цветов, свойственных только пустыне{41}. Конечно, как и в других странах, в Монголии тоже существуют различные климатические зоны. Географы обычно выделяют две климатические зоны: на западе, включая горы Алтай и Тянь-Шань, и на востоке – Восточную Монголию. В западной зоне летом выпадает мало дождей, а зимняя погода часто определяется атлантическими циклонами, и снегопадов обычно гораздо больше, чем на востоке. Горные кряжи Западной Монголии, реки, горные потоки и ручьи способствуют формированию альпийских лугов и создают идеальные условия для зимнего выпаса домашнего скота. В восточной зоне муссоны приносят влажность летом и зимние антициклоны. Зимой обычно много ясных, солнечных дней, погода – тихая, безветренная, снега очень мало, и скот может пастись на воле круглый год{42}.
Наиболее благоприятна для жизни восточная часть Монголии, а в этой избранной зоне самым лучшим регионом считается местность возле рек Онон и Керулен – именно здесь и родился Чингисхан. Онон протяженностью 500 миль берет начало на восточных склонах горного массива Хэнтэй (вершина – более 9000 футов), служащего водоразделом между бассейнами Тихого и Северного Ледовитого океанов и, возможно, хранящего память о священной горе Бурхан-Халдун. Онон является притоком Шилки, которая, в свою очередь, питает Амур. (Если комбинацию Онон-Шилка-Амур считать одной рекой протяженностью 2744 мили, то она будет занимать девятое место среди величайших рек мира.){43} Керулен, берущий начало на южных склонах нагорья Хэнтэй, пересекает монгольские восточные степи, протекает по территории Китая и впадает в озеро Хулун. В годы сильных дождей озеро Хулун, обычно не имеющее выходных истоков, переливается через край на северном берегу и через двадцать миль соединяется с рекой Аргунь, по которой традиционно проходит граница между Россией и Китаем. Через шестьсот миль Аргунь втекает в могучий Амур. (Если по примеру комплекса Онон-Шилка-Амур представить «Амур» как единство Керулен-Аргунь-Амур, то мы получим шестую по протяженности реку в мире общей длиной более 3000 миль.){44} Лес Онон, четыреста квадратных миль деревьев и кустарников между реками Онон и Керулен, был для монголов срединной, центральной частью мироздания, оазисом посреди степей и казался подлинным чудом природы. Здесь произрастали деревья, не встречавшиеся более нигде в Монголии: дикая вишня, роза собачья, смородина (коринка), боярышник, тополь, береза, ильм, дикая яблоня, сибирский абрикос, ива, ясень, крушина, можжевельник, грецкий орех, фисташка{45}.
Климат Монголии во все времена исключал возможность сколько-нибудь серьезно заниматься земледелием. Нехватку воды и быстрое исчезновение влаги вследствие испарения под лучами солнца дополняли другие трудности: короткий вегетационный период, болота и топи, холода, сушь, засоленные заболоченные или мерзлые почвы. Монголы были (и остаются) преимущественно кочевниками-скотоводами. За этой простой формулировкой скрываются определенные сложности: есть скотоводы, не являющиеся кочевниками, и есть кочевники, не являющиеся скотоводами. К примеру, лесные народы Сибири имели лошадей и кочевали, но они не были скотоводами, а гаучо и ковбои Америки были скотоводами, но не были кочевниками. Не существовало и явного разделения между скотоводством и земледелием. Некоторые периферийные народы Монголии – онгуты, обитавшие чуть севернее Великой Китайской стены, и племена Енисея – были отчасти скотоводами и отчасти земледельцами{46}. Более очевидные различительные нюансы появляются, когда мы говорим об отгонном скотоводстве. Система отгонного животноводства подразумевает сезонные перегоны скота на новые пастбища – на высокогорья летом и в долины зимой. Но у скотоводов имеются постоянные обиталища, скажем, в деревне или ауле. У кочевников нет постоянного обиталища, они живут в шатрах и перемещаются вместе с животными из одного сезона в другой{47}. Хотя скот находится в частной собственности, пастбищами владеют сообща, родами или кланами, среди которых самые сильные заявляют свои права на лучшие выгоны и на пользование ими в оптимальные временные периоды года. Вода всегда была главным достоянием в степях, и определенные группы кочевников завоевывали права собственности на важнейшие родники и колодцы, вынуждая «чужаков» платить за доступ к ним{48}. По обыкновению, зимние стоянки и пастбища располагались в местах с небольшим снежным покровом, в низких горных ложбинах, речных долинах, на южных склонах холмов или в степных впадинах. Зима была тяжелым испытанием для животных, которые заметно слабели к весне. Когда вид высохшей травы и активное испарение воды оповещали о наступлении весны, в конце мая или начале июня, кочевники уходили на летние пастбища высокогорья, где животные быстро набирали вес. Покидая зимние пастбища, они первым делом шли к водоемам с талой водой, чтобы напоить скот. Расстояния между зимними и летними пастбищами могли быть сравнительно небольшие, около двадцати миль, но обычно они измерялись пятьюдесятью милями или даже шестьюдесятью милями в таких популярных местах, как долины рек Онон и Керулен; для тех же, кто вынужден выживать на обочинах пустыни Гоби, переходы могли составлять семьдесят пять и даже более миль. Такие путешествия обычно совершались неспешно, по пять-двадцать миль в день, без каких-либо заданных дневных норм; кочевники предпочитали отправляться снова в путь через день или уделять больше времени для отдыха{49}.
Летние стоянки выбирались на высоких местах, где дул прохладный ветерок. Это было благодатное время, когда имелось вдоволь йогурта, сыра и алкогольного напитка кумыс, который получали из забродившего кобыльего молока. Из овечьей и верблюжьей шерсти и козьего волоса монголы изготовляли веревки, ковры, пледы и седельные сумки. Они владели каким-то особым мастерством выделки войлока для шатров. Сначала шерсть отбивалась, потом ее обливали кипятком, скатывали и раскатывали до тех пор, пока она не превращалась в полотно. Собственно, из войлока и состоял монгольский шатер или «гэр» (более известное название «юрта» изобрели в России), обеспечивавший укрытие и защиту от непогоды и ветра. Осень – время для вскармливания и подготовки овец к весеннему окоту, золотая пора, когда животные пребывают в наилучшей форме{50}. С началом холодов кочевники перебираются на зимние стоянки. Вначале они содержат животных на кромках зимних пастбищ и сгоняют их в «сердцевину» пастбища лишь тогда, когда температура воздуха понижается до непозволительных пределов. Затем монголы приблизительно рассчитывают, сколько животных могут пережить зиму, забивают самых слабых особей. Мясо они коптят, заготавливая провиант на зиму. Диета монголов была преимущественно сезонной: молочные продукты употреблялись летом, мясо – зимой{51}. Конечно, кочевники старались сохранить как можно больше животных, но их возможности ограничивались ресурсами воды и кормов. Зима всегда приносила много тревог: никто не мог предсказать, насколько она будет суровой. Любой гуртовщик мог за одну ночь лишиться всего состояния вследствие несчастливого сочетания мороза, засухи и заболеваний. Поскольку животные слабели из-за «скудных зимних рационов», а весной наступала пора окота, большое значение имела сезонная стабильность. Если весной случались бураны, то могла погибнуть значительная часть стада; к счастью, это происходило не так часто, в среднем не чаще одного раза за поколение. Большие стада более жизнестойки, и кочевник-скотовод, имеющий много животных, оправится от невзгод быстрее, чем сосед, у которого их мало{52}.
У монгольского кочевника-скотовода была уйма проблем, и он всегда балансировал на грани выживания. Эрозия – разрушение растительного слоя и пыльные бури, уносящие плодородную почву, а также минерализация, происходящая под воздействием ветра и соляных источников, – лишь малая толика этих проблем. Если эти явления дополнятся чрезмерным выпасом скота, то мы получим пустыню. В любом случае, соленые и щелочные почвы, общая засушливость означают уменьшение влаги и травостоя. А это значит, что не будет ни реального увеличения численности поголовья скота, ни, соответственно, роста населения. С другой стороны, можно говорить о том, что пасторализм, как тип экономики, основанный на скотоводстве, способствует постоянному и устойчивому возрастанию населения{53}. Но и в относительно стабильных условиях кочевник должен непрестанно просчитывать свои возможности – ресурсы воды и расстояния между колодцами и водопоями, когда они ведут различные по составу стада животных, обладающих различными потребностями в воде и различной быстроходностью.
В контексте погодных обстоятельств снег должен был восприниматься монголами двояко. С одной стороны, он увеличивал природные ресурсы пастбищ, поскольку без снега они были бы полностью опустошены скотом и превратились бы в пустыню. С другой стороны, снег представлял и смертельную опасность, когда покрывал траву и другую растительность, лишая скот подножного корма{54}. Особенно зловредным был природный феномен, получивший название «дзуд» или «зуд» и означающий «бескормицу». Это бедствие возникало в результате повторяющихся оттепелей и заморозков, когда под снегом формировался толстый и непробиваемый слой льда. Дзуд был страшен, так как мог охватить территорию почти всей Монголии, в отличие от засухи, которая никогда не имела столь глобального распространения{55}. Монгольские скотоводы существовали на лезвии климатического ножа, вскармливая в то же время несколько видов домашнего скота: овец, коз, коров, лошадей и верблюдов – совершенно разных и по своим потребностям, и по методам ухода за ними. В отличие от бедуинов Аравии, обходившихся одногорбыми верблюдами, и лесных народов тайги, разводивших оленей, монголы не были «специалистами одного профиля». Их стада нуждались в ротации пастбищ точно так же, как зерновые культуры – в смене полей{56}. Табунам коней и стадам крупного рогатого скота требовались более увлажненные пастбища, нежели для овец и коз, то есть имеющие ручьи и плодородные почвы. В Монголии это означало, что их надо было пасти отдельно от других животных. Овцы и козы имеют отвратительную привычку выщипывать траву до основания, ничего не оставляя более крупным животным. Мало того, они еще вытаптывают и вспарывают копытами землю, обнажая почву, которая в результате подвергается ветровой эрозии{57}. Правильное использование пастбищ требует того, чтобы давать им время от времени отдых от беспощадных зубов овец и коз и выпускать затем на поле других животных – коров или лошадей. Элементарный здравый смысл подсказывал не допускать того, чтобы из года в год на одном и том же поле паслись одни и те же животные. Одна из причин, помимо эрозии, – чисто техническая: накапливание навоза и мочи одного и того же вида животного со временем теряет эффект удобрения и приобретает свойства отравы, повышает не питательность растений, а опасность распространения заболеваний и эпидемий{58}. Все это означает, что для коров и лошадей надо выделять отдельные пастбища, либо вначале на них пасти коров и лошадей, а потом уж – овец и коз.
Разнообразие домашнего скота – пять видов – не может не создавать проблем для кочевников. Одна из них заложена в основе монгольской культуры: условно ее можно определить как противоречие между объективностью и субъективностью. Объективно наибольшую экономическую ценность для монголов представляли огромные отары овец, но субъективно они больше дорожили лошадьми. В системе предпочтений монголов домашний скот распределялся следующим образом: лошади, верблюды, коровы, овцы и козы{59}. Тем не менее, в общей численности домашнего скота овцы занимали от 50 до 60 процентов, составляя базис и опору примитивной экономики. Поскольку Монголия начала XX века ненамного отличалась от своей предшественницы XIII столетия, мы проиллюстрируем наши тезисы достаточно красноречивой, на наш взгляд, статистикой. В 1918 году в Монголии имелось 300 миллионов акров пастбищ, 1 150 000 лошадей, 1 080 000 голов крупного рогатого скота, 7 200 000 овец и 230 000 верблюдов. В 1924-м в Монголии было 1 350 000 лошадей, 1 500 000 голов крупного рогатого скота, 10 650 000 овец и коз и 275 000 верблюдов. К 1935 году эта статистика выглядела следующим образом: 1 800 000, 2 350 000, 17 700 000 и 560 000{60}. Хотя мы и отмечаем возрастание общей численности поголовья, происходившее в результате специальных экономических плановых мер, пропорциональное соотношение между различными видами животных сохранялось, как и очевидность преимущества овечьих отар.
Монгольская овца невелика по размеру и дает меньше мяса, чем ее европейская сестра. Шерсть обладает малой коммерческой ценностью и используется главным образом для изготовления войлока и одежды. Самым важным продуктом считается молоко, из которого получают масло, сыр или кумыс{61}. Полезность овцы становится особенно очевидной весной, когда отары перегоняются с зимних пастбищ на летние луга: она не нуждается в водопое, добывая влагу из росы и мокрой травы, освобождающейся от тающего снега. Но весной овцы подвергаются риску: они котятся, и их стригут, прежде чем повести в горные лощины. Овцеводы должны проявлять чрезвычайную осторожность. Поголовье может резко сократиться, если пастбище окажется неадекватным, как это случается на высокогорьях, в пустынях или на опушках лесов{62}. Избыточных животных забивали обычно в начале зимы, но монголы очень экономно употребляли баранину и ягнятину. Францисканец Карпини сообщал, что одна овца могла прокормить пятьдесят человек{63}. Путешественник Симон из Сен-Кантена, описывая обычное поведение монголов за обедом, отмечал: «Они едят так мало мяса, что другие народы едва ли выживут при такой диете»{64}. Средняя семья отправлялась в сезонную миграцию, имея обычно сотню овец, несколько волов, пять лошадей, которые могли пригодиться в битве, и трех пони, хотя оптимальной численностью отары считалось тысячное поголовье. Овец обычно перегоняли вместе с козами, еще одно подспорье кочевника, дававшее и молоко и шерсть. Их явное преимущество состояло в том, что они могли пастись и там, где нет травы. Но они обладали и зловредным изъяном: поедали не только корни и луковицы, но и ветки деревьев, необходимые монголам в качестве топлива или строительного материала{65}. В то же время среди домашнего скота кочевников совершенно не было свиней, и это никак не связывалось с каким-либо религиозным табу. Монголы с удовольствием могли есть свинину или, как они ее называли, «мясо грязного скота». Причина была иная. Свиньи не разводились, потому что им требовались желуди, которых не было в степях, и они не могли преодолевать большие расстояния{66}.
Лишь девять процентов домашнего скота приходилось на коров и быков. Длиннорогие монгольские быки использовались главным образом как тягловая сила: они запрягались в повозки, на которых монголы перевозили свои гэры (юрты). Иногда их забивали на мясо или кожу, но крайне редко они организовывались в стада. Самым типичным представителем этого вида животных был вол: монголы позволяли быкам нарастить мышцы и мускулатуру, прежде чем их кастрировать. Возможно, самым ценным в категории крупного рогатого скота был як. Обычно считалось, что яков использовали в высокогорных районах, но, похоже, это мнение устарело. Весом до 2200 фунтов и ростом до 5–7 футов в холке, яки ценились и как вьючные животные, и как поставщики молока, мяса и волокна, а из навоза получалось превосходное топливо{67}. Известный прозаик и поэт Викрам Сет описывал яка как надежное орудие для превращения травы в масло, топливо, кожи для шатров и одеяния{68}. Но больше всего пользы было от хайнака, гибрида яка и коровы, одинаково работоспособного и на высокогорье, и в низовьях, послушного животного, самка которого дает наилучшее молоко. И францисканец Рубрук, и Марко Поло искренне восторгались способностями яка. Вот как отзывался об этих животных Рубрук:
«(У них) необычайно сильный домашний скот, с хвостами, такими же волосатыми, как у лошадей, и с косматыми животами и спинами; ноги у них короче, чем у других животных этого вида, но в целом они намного сильнее. Они с легкостью тянут огромные жилища моалов (монголов); у них длинные, изящно закрученные рога, настолько острые, что приходится постоянно отпиливать концы. Корова не позволяет ее доить, пока кто-нибудь не станет ей петь. У коров бычий норов, и если они увидят кого-нибудь в красном наряде, то сразу нападают, испытывая страстное желание убить»{69}.
Но ни яки, ни коровы не могут сравниться пользой с верблюдами, занимающими второе место в приоритетах монголов. Верблюда вполне можно считать животным многоцелевого назначения: он способен работать в любых условиях и передвигаться по любой поверхности, в том числе и там, где будет испытывать трудности лошадь, в пустынях типа Гоби, Ордоса, Алашаня или Такла-Макана. Тем не менее, к верблюдам сложилось превратное, негативное отношение, особенно со стороны викторианских искателей приключений вроде сэра Ричарда Бёртона и Фреда Барнеби, заметившего пренебрежительно, что верблюд бежит передними ногами как свинья, а задними – как корова{70}. Люди, хорошо знающие этих животных, говорят, что они способны привязываться к человеку так же нежно и преданно, как собаки и лошади, инстинктивно видя в человеке защитника от хищников{71}. В Монголии распространен центральноазиатский двугорбый верблюд, или бактриан. Конечно, среди монголов, исстари помешанных на лошадях, бактриан не пользовался таким же пиететом, с каким относились бедуины к дромадеру, хотя и он, возможно, произошел из Монголии. Не вызывает сомнений одно – то, что бактриан отличается более покладистым и добродушным характером, чем его одногорбый собрат. Поскольку ему приходится конкурировать с автомобилем, он уже не может претендовать на звание незаменимого «корабля пустыни», хотя неоспоримым фактом остается то, что единственное исследование о верблюдах в литературе осуществлено на монгольском языке{72}. Бесспорна и значительная роль бактриана в истории Азии. В Средние века он был повсеместным средством передвижения в Анатолии, Ираке, Иране, Афганистане, Индии, Монголии, Китае, позволив создать Великий шелковый путь{73}.
Бактриан обладал многими достоинствами. Его средняя продолжительность жизни составляла 20–40 лет. Он мог нести груз весом 320–370 фунтов и пройти тридцать дней без воды, если имелось достаточно подножного корма. Он мог пить воду солонее морской воды, хотя, когда она появлялась в большом количестве, мог одним залпом выпить пятьдесят семь литров. Он также был превосходным пловцом. Из верблюжьего молока можно было изготовить великолепный кумыс, а верблюжья шерсть служила главным компонентом в монгольском текстиле. Бактриан мог идти со скоростью 4 мили в час без груза и 2,5–3,5 мили в час с грузом и нести на себе 300 с плюсом фунтов, преодолевая тридцать миль в день{74}. Но у него были и недостатки, больше похожие на странности. Это животное передвигалось только днем, а во время военных кампаний иногда возникала необходимость совершать и ночные переходы. Бактрианы, пасясь, могли легко заблудиться и требовали к себе больше внимания, чем овцы или козы. Им надо было отводить для выпаса ежедневно по восемь часов. Они не любили оставаться одни в пустыне и, если оказывались в такой ситуации, то с большой вероятностью могли идти безостановочно, пока не падали замертво. Если они поскальзывались на льду зимой, то это означало неминуемую гибель, так как они не могли подняться. Даже от полезных навозных «лепешек», используемых в качестве топлива, исходил густой ядовитый дым, от которого слезились и туманились глаза погонщиков, сидевших у костра{75}.
Но животными, помогавшими монголам завоевывать степи, были все-таки лошади, эти воплощения кентавров степей, без которых, согласно поговорке, монгол чувствовал бы себя «как птица без крыла». Степной конь был аналогичен дикой лошади Пржевальского{76}. Лошади были одомашнены в степях еще в 3200-х годах до нашей эры, но ранние цивилизации использовали их в боевых колесницах, а не в кавалерии. Возможно, впервые обученный как военная скаковая лошадь монголами в период между V и III столетиями до нашей эры (а в западных степях – скифами не ранее I века нашей эры), конь стал еще более грозным орудием войны после изобретения стремян в V веке нашей эры{77}. Двенадцать-четырнадцать ладоней ростом[10], грубого сложения, с большой головой и прямой шеей, косматая, толстоногая и тяжеловесная, более короткая, массивная и сильная, чем боевой росинант средневековой Западной Европы, монгольская лошадь обладала невероятной выносливостью и могла проскакать галопом шесть миль без остановки. Хотя по западным меркам это животное относится к категории пони, зоологи предоставили монгольской породе статус подлинной лошади. Она с легкостью переносит температуры от 30 градусов по Цельсию летом до 40 градусов мороза по Цельсию зимой. Для монгольской лошади с ее короткими ногами идти шагом – слишком медленное и долгое занятие, легкий галоп – утомителен, поэтому для нее более привычна и естественна – рысь{78}. Аллюр ее нескладен и доставляет неудобства для новичка. Но она обладает бесценным даром пробиваться копытами через снег к траве и лишайникам и питаться листьями деревьев; ее не надо кормить бобами, овсом и иным фуражом. Подобно многим другим азиатским породам, монгольская лошадь может обойтись подножными кормами на пастбищах, чем в значительной мере и отличается от «обычных» коней, моментально теряющих силу, если их оставить в поле без дополнительного кормления. Именно всепогодность конницы и позволяла монголам побеждать врагов, поскольку они могли успешно вести боевые действия и зимой{79}. У каждого всадника имелось три ремонтные лошади, и он менял их через два часа, чтобы не загнать. В сочетании с мобильностью – монголы могли проскакать 600 миль за девять дней, конечно, меняя коней, – армия вооруженных номадов была практически несокрушима. И все же изумительно выносливые монгольские кони были бессильны перед капризами погоды. Особенно страшны были поздние снежные бураны, обрушивавшиеся весной на лошадей, ослабленных полуголодным зимним существованием{80}. Ограждая их от бед ненастья, монгол продлевал и свой век. Об исключительной роли лошади в жизни монголов можно судить хотя бы по тому, что она служила неким мерилом и семейного богатства, и оценки другой собственности. Согласно их расчетам, для хорошей жизни у человека должно быть пять лошадей, а это означало, что семья из пяти человек должна была содержать двадцать пять скакунов и от четырех до шести вьючных саврасок. Юрта, в которой обитали пять человек, имевших более десяти лошадей, считалась богатой. По ценности лошадь приравнивалась к пяти головам крупного рогатого скота, шести овцам или козам. Двугодок стоил полцены взрослой лошади, а годовалый жеребенок – четверть цены{81}. В табунах преобладали кобылы: они были послушнее и, кроме того, давали важный продукт – молоко для приготовления кумыса. Если недоставало обычной еды, то монголы вскрывали вены у лошади, пили кровь и зашивали рану. Для воспроизведения потомства отбирались самые здоровые и сильные жеребцы, в гареме каждого из которых насчитывалось 50–60 кобыл. Жеребец был полезен скотоводу еще и тем, что по ночам исполнял функции сторожа, удерживал кобыл в табуне, позволяя человеку полностью сосредоточиться на угрозе волков{82}.
И мужчины, и женщины, и дети – все должны были уметь обращаться с лошадьми. Детей учили ездить верхом на лошади с трех лет, а приучали к ритму верховой езды даже с более раннего возраста, пристегивая ремнями к седлу; известны случаи, когда малыши начинали ездить верхом на лошадях раньше, чем ходить{83}. Монголы обучали лошадей реагировать на команды голосом и свистом, как собак, и им не нужны были ковбои. Они очень рано начинали объезжать лошадей, вырабатывая повиновение, но не прибегая к методам принуждения до пятилетнего возраста; прежде всего животных учили не кусаться и не брыкаться{84}. Затем лошадей приучали к седлу и упряжи. Сбруя монгольской лошади обычно состояла из простейшей уздечки и короткого, глубокого седла с короткими стременами. Седла имели очень толстую войлочную подушку, а уздой были обыкновенные сочлененные трензельные кольца. Нахрапник соединялся с нащечными ремнями: когда поводья натягивались, лошадь чувствовала нажим переносьем, ртом, губами и языком{85}. Монголы не подстригали лошадей, гривы и особенно хвосты вырастали почти до самой земли. Они полагали, что это помогало животным утепляться зимой и отгонять мух и оводов летом. Кроме того, если вдруг ломались уздечка или стремя, то всегда под рукой было достаточно конского волоса для ремонта{86}. После объездки начиналась боевая тренировка: подготовка животных к тому, чтобы спокойно переносить шум и грохот битв. Лошадей приучали также к движениям всадника, стреляющего из лука: когда он вынимает стрелу из колчана, переносит лук с одной стороны на другую и выпускает стрелы под разными углами. Лошадь должна научиться понимать сигналы, подаваемые только ногами, когда поводья опущены или связаны. Всадник тоже должен знать, как не сбивать с толку коня, держать ноги под контролем и двигаться преимущественно талией и бедрами. Животные обучались адекватному поведению и в других ситуациях: во время бросания аркана, метания копья, действий мечом, иногда непосредственно вблизи головы коня{87}. Оказывается, стрельба из лука велась прицельнее, когда кони мчались во весь опор, а не в легком галопе: при опущенных поводьях и на большой скорости конь распластывался в воздухе, выпрямляясь и опуская голову и предоставляя всаднику свободное пространство для пуска стрел. Резкие и быстрые повороты монголы отрабатывали сначала на больших кругах, постепенно уменьшая и сужая их, доводя технику до автоматизма. Марко Поло отмечал, что натренированность монгольских коней была настолько высокой, что они могли разворачиваться так же молниеносно, как собаки{88}.
Наконец, наступала пора обучения устным командам. В нападениях из засад монголы предпочитали использовать кастратов-меринов, так как они вели себя спокойнее и не ржали подобно жеребцам и кобылам{89}. Монголы безумно любили своих лошадей и ветеранов, уцелевших в кровавых кампаниях, отпускали пастись и доживать последние дни на воле. Лишь в исключительных случаях их забивали на еду. Кочевники поистине заботились о своих четвероногих помощниках, поддерживая в них хорошее самочувствие. Они не ездили на конях весной и летом, разрешая им пастись на лугах и в полной мере отдохнуть. После лугов животных пасли возле шатров, и рацион подножного корма регулировался таким образом, чтобы лошади сбросили вес и подготовились к военному походу{90}. Возвратившись в стан, всадники всегда расседлывали коней, держали их головы поднятыми вверх и не давали им есть до тех пор, пока дыхание не приходило в норму, предотвращая тем самым возникновение колик и ламинита[11]{91}. Обычно монголы не подковывали лошадей, поскольку копыта в условиях сухого климата, как в Монголии, были намного тверже, чем во влажных климатических регионах, но когда они оказывались за ее пределами, нередко появлялась необходимость в подковах.
Монголия всегда была настоящим раем для фауны, и даже особое пристрастие монголов к охоте не могло повлиять на численность диких животных и птиц. В современной Центральной Азии насчитывается более восьмисот видов позвоночных животных{92}. Большинство этих видов представлено и в Монголии, а в XIII веке их разнообразие было еще более значительным. Многие представители дикого животного мира создавали конкуренцию домашним стадам, а домашний скот вытеснял и замещал диких копытных – благородного оленя, лань, газель, антилопу, кабана, горного козла. Замечено было: как только монголы уводили стада с зимних пастбищ, на них моментально собирались газели и антилопы{93}. Из всех хищников, в числе которых были медведи, леопарды, рыси и гепарды, монголам больше всего досаждали волки: для борьбы с ними использовались специально обученные орлы и особая порода свирепых собак. А когда монголы вышли в другие регионы Центральной Азии, им пришлось вступать в контакт с еще более крупными дикими кошками. В те времена водилось множество азиатских львов, и монголов, как и их имперских предшественников римлян, этот «царь зверей» завораживал до такой степени, что они включали его в дань, которую накладывали на покоренные нации{94}. В эру господства монголов в Азии, особенно в районе реки Окс[12], повсеместно обитал еще более грозный зверь – тигр{95}. Однако самые необычные отношения у монголов сложились со снежным барсом, или ирбисом. В наше время эти редкие животные встречаются лишь на высотах от одиннадцати до двадцати двух тысяч футов, а в XIII веке их было так много, что снежного барса можно было приручать, и монголы использовали его на охоте, доставляя к месту полевой потехи на коне. Монголы превращали их в добродушных домашних кошек, поедающих не только мясо, но и овощи, траву, ветки{96}.
Здесь, конечно, попадались на глаза и рядовые, если так можно выразиться, животные: дикие верблюды, лисы, кролики, белки, барсуки, куницы, дикие кошки, зайцы, быстроногие куланы, или дикие ослики, и монгольские крысы, описанные одним путешественником как «ласковые, маленькие существа с пушистым хвостом и не имеющие ничего общего с обычными отвратительными норвежскими или английскими крысами»{97}. Из грызунов – мышей, песчанок, хомяков и леммингов – монголы отдавали предпочтение суркам, которых употребляли в пищу как изысканный деликатес. Трудноуловимые сурки подвергали тяжелому испытанию терпение и мастерство охотников-номадов. Но, помимо деликатесных качеств, они еще ценились, подобно современным американским суркам, за сверхъестественные прогностические способности: они могли предсказать погоду на завтра или на весь сезон{98}.
В Монголии всегда было много змей, особенно гадюк, чьи укусы, хотя и ядовитые, редко могут быть смертельными для человека. Создав империю, монголы столкнулись с действительно очень опасными кобрами в Иране и в регионе Арала и Каспия. Но и тогда, похоже, они сумели выстроить особые отношения со змеями. Хотя монголы убивали випер, «выдаивая» из них яд, которым начиняли стрелы, в целом же относились с суеверным пиететом к этим пресмыкающимся, по Плинию Старшему, «мерзким тварям», полагая, что они связаны с драконами, властвующими над водой{99}. В общем, можно сказать, что чем дальше продвигались монголы, тем все более экзотичные и неизвестные дотоле живые существа они обнаруживали, будь то полосатая гиена в Афганистане, тюлени Каспия, страусы Западной Азии или ядовитые скорпионы Туркестана{100}.
Вызывает удивление лишь одно обстоятельство: если не считать охотничьих соколов и орлов, монголы не интересовались приручением других птиц. Несмотря на рассказы путешественников о хищных птицах – орлах, грифах, ястребах, совах – а также совершенно безобидных куропатках, тетеревах, лебедях, гусях, журавлях, колпицах, белых цаплях, пеликанах и аистах{101} – монгольские источники ничего не сообщают о пернатом сообществе. То же самое можно сказать и о семидесяти шести видах рыб в Монголии – форели, хариусе, окуне, плотве, щуке, осетре и огромном пресноводном лососе таймене – хотя в данном случае кто-то может напомнить и о традиционном предубеждении против ловли рыбы, существующем по сей день. В результате фауна озер Монголии и сегодня сохраняется практически нетронутой, а величайший резервуар пресной воды озеро Байкал по-прежнему сияет сапфиром, украшенным белыми гребешками волн и белоснежными горными вершинами вдали.
Внешность монголов всегда интриговала и в то же время шокировала как европейцев, так и западных азиатов, которым доводилось с ними встретиться лицом к лицу. Францисканский монах, сопровождавший Карпини в путешествии к монголам в середине сороковых годов XIII века, описывал их людьми низкорослыми и худощавыми, объясняя худощавость телосложения особенностями сурового образа жизни и диеты, основанной на кобыльем молоке. Он изображал их широколицыми, с выпирающими скулами и прическами, в которых смешались христианский и сарацинский стили. На голове у них была и тонзура, как у францисканцев и других монахов, от которой шла выбритая полоса шириной три пальца от уха до уха; на лбу волосы челкой в форме полумесяца опускались до самых бровей, а остальные пряди заплетались в косичку, как у мусульман{102}. Позднее другой путешественник-христианин Вильгельм[13] де Рубрук сообщал, что монгольские мужчины носят длинные волосы, заплетенные сзади возле ушей в две косы. Соглашаясь с Карпини в том, что монгольские мужчины обычно низкорослые и худощавые, Рубрук отмечает тучность монгольских женщин. У женщин, по его наблюдениям, головы выбриты от середины ко лбу, и они очень привередливы в отношении размеров носа. Чем меньше нос, тем красивее женщина. В этих целях они даже ампутировали часть носа, иногда до такой степени, что нос почти исчезал{103}. Все эти описания подтвердил сам Карпини в знаменитом повествовании, где он монголов называет «татарами»:
«Внешне татары выглядят совершенно иначе, чем другие люди, ибо их лица шире, чем у других людей, и между глазами, и между скулами. Щеки у них тоже выступают над подбородками; у них плоские и маленькие носы, глаза тоже маленькие, а веки срастаются с бровями. По большей части, за малыми исключениями, они имеют тонкие талии и почти все среднего роста… На голове у них тонзура, как у духовных лиц, и, как правило, выбрита полоса от уха до уха шириной в три пальца, соединяющаяся с вышеупомянутой тонзурой. Надо лбом они также выбривают волосы шириной в два пальца, но волосы между этой полосой и тонзурой они отращивают до самых бровей и, отрезая с каждой стороны больше, чем посередине, оставляют посередине длинные пряди; остальные волосы у них отрастают, как у женщин, и они заплетают их в две косы, прикрепляемые за каждым ухом{104}».
Эти описания францисканцев кажутся сдержанными и беспристрастными, возможно, в силу того, что жизненный опыт не озлобил их против монголов. Описания внешнего облика монголов, сделанные западными азиатами, искажены превратными представлениями о них, как о каре Божьей. Неизбежно они и изображаются в персидских и арабских источниках отвратительными и страшными персонажами. Главным образом выделяются такие детали, как отсутствие волос на лицах, бегающие глаза, резкие, пронзительные голоса, закаленность и выносливость. Достаточно привести два свидетельства. Одно из них принадлежит армянскому христианину XIII века:
«На них страшно смотреть и их невозможно описать. У них огромные головы, как у буйволов, маленькие глазки, как у только что оперившихся птенцов, тупые носы, как у котов, выпирающие морды, как у собак, узкие чресла, как у муравья, короткие ноги, как у свиньи, и от природы совершенно нет бороды. Обладая силой льва, они говорят пронзительными птичьими голосами»{105}.
А это свидетельство персидского поэта:
«У них такие узкие и острые глаза, что они могут просверлить дыры в медном сосуде, от них исходило зловоние, страшнее цвета их кожи. Головы крепились к телу так, будто у них отсутствовала шея, а щеки напоминали покрытия кожаных бутылей, испещренные морщинами и узлами. Носы у них ширились от скулы до другой скулы. Ноздри походили на прогнившие могилы, из которых свисали волосы до самых губ. Усы у них были невероятной длины, а бороды на подбородках едва заметны. Грудь, наполовину белая и наполовину черная, усеяна вшами, похожими на кунжут, выросший на плохой почве. Все тело у них было усеяно этими насекомыми, а кожа напоминала шагрень, более пригодную для башмаков»{106}.
Иностранцев особенно интересовали монгольские женщины. Их описания варьировались от высказывания чувств омерзения – жирные, уродливые, неотличимые от мужчин – до восхищения: безропотно переносят неимоверные трудности, могут управлять лошадьми и повозками не хуже мужчин, превосходные стрелки из лука и так далее. Наибольшую неприязнь вызывали кричащие цвета одеяний, а наибольший восторг – то, как монгольские женщины, стоя, рожали детей и продолжали работать, словно ничего не случилось. Отмечалось также и уважительное отношение монгольских мужчин к женщинам, ассоциирование образа женщины с луной, которая занимала особое место в монгольских религиозных верованиях{107}. Несмотря на расхожие обвинения монгольских женщин в бесполости, двуполости, гермафродитизме, европейские хронисты противоречили самим себе, когда обращали внимание на различия в одеяниях монгольских мужчин и женщин. Задолго до Чингисхана и имперской роскоши монголы уже шили одеяния из мехов, кож, шерсти, войлока и фетра. Стандартное одеяние состояло из длинного, до лодыжек платья и свободных штанов под платьем. Против стихий они надевали войлочные накидки, меховые капюшоны, кожаные сапоги и войлочные котурны; меховые одеяния были двухслойные – мех был и внутри и снаружи{108}. Самыми популярными были меха лисы, рыси и волка. Хотя в степи и не существовало резкого контраста богатства и бедности, неравенство возникало вследствие разной численности домашнего скота, и самым наглядным знаком состоятельности был особый головной убор богатой женщины, называвшийся boghtaq («богтак»)[14]. Нареченный одним автором «мужским сапогом, надетым на голову женщины», богтак представлял собой каркас из железной проволоки высотой два-три фута, обитый корой и украшенный алой и синей парчой или жемчугом; иногда каркасы оплетались красным шелком и золотой парчой{109}.
Этот элемент мишуры в мрачном и стоическом образе жизни монгольской женщины в какой-то мере «компенсировал» нехватку реального «домашнего очага». До эры Чингисхана монгольские шатры собирались и разбирались всегда внезапно и быстро. Куполообразные шатры, или гэры, собирались из решетчатых ивовых конструкций, сплетенных вместе ремнями из сыромятной кожи и покрытых одним или двумя слоями промасленного войлока. Гэр, таким образом, представлял собой конструкцию, состоявшую из обручей, сплетенных из ветвей, и сходящихся наверху вокруг самого малого и последнего обруча, из которого выдвигалось нечто вроде вытяжной трубы или дымохода. Снаружи гэр покрывался белым войлоком или слоем белой костной муки, и его диаметр мог составлять четырнадцать футов. Пол выстилался коврами из войлока, к решетчатому куполу крепились крючья, на которые развешивались продукты, оружие и другие необходимые предметы. Глава семейства всегда сидел напротив входа, вход всегда был обращен к югу, мужчины всегда сидели на западной стороне, а женщины – на востоке{110}.
Еда и питье до появления Чингисхана определялись характером пастбищной экономики, то есть наличием молока и мяса. Летом, когда в изобилии имелось кобыльего молока, монголы предпочитали мясу молочную продукцию, но зимой молоко становилось предметом роскоши и доступным только в богатых семьях. Только в чрезвычайных обстоятельствах монголы могли есть сырое мясо, обычно его употребляли в вареном или жареном виде. Зимой основным блюдом для простых людей была жидкая кашица из многократно сваренного проса. В зимнее время с едой иногда было настолько тяжело, что кочевники могли бросить собакам кость лишь после того, как из нее высасывался мозг{111}. Все ели пальцами из общего горшка, и еда строго распределялась между членами семьи. Историки придерживаются единого мнения в отношении того, что в степи приходилось быть оппортунистом в еде, всеядным и готовым съесть все, что угодно. Монголы действительно могли есть любую плоть, в том числе сурков (как мы уже знаем), мышей и других мелких животных. Некоторые историки утверждают, что монголы могли проглотить и усвоить любой протеин, исключая табу на мулиц, кошек, собак, крыс, даже вшей и послед кобыл. Английский монах Матвей Парижский, помешанный на монголах, считал, что они ели лягушек и змей. Они не могли преодолеть лишь один запрет: съесть животное, которое поразила молния{112}. Утверждалось также, будто монголы могли есть человечину. Хотя зафиксирован лишь один случай каннибализма (во время кампании Толуя в Китае в 1231 году), в Западной Европе продолжал распространяться миф о людоедстве как общепринятой практике в Монголии того времени. Согласно данной версии, монголы предавались людоедству ради удовольствия или для того, чтобы застращать врага. Одной из самых чудовищных выдумок была легенда о том, что кочевники использовали сожженные трупы состарившихся и ненужных отцов в качестве приправы к еде{113}.
Полное единодушие мнений сложилось в отношении приверженности монголов к алкогольным напиткам. Кумыс – стержень кочевой жизни. Он постоянно взбалтывался в кожаном мешке, висевшим у входа в гэр на протяжении трех-пяти летних месяцев, когда бывает вдоволь кобыльего молока; его можно было приготовить из овечьего и козьего молока, но напиток получался менее вкусный. Зимой монголы также приготовляли вина из риса, пшеницы, проса и меда. Мутный кумыс оставлял жгучее ощущение на языке, как прокисшее вино, но очень приятное послевкусие, подобно миндалю{114}. Но монголы знали и другой кумыс, «черный», готовившийся из чистейшего кобыльего молока и предназначавшийся для элиты – ханов, вождей племен, высших чиновников. Поскольку алкоголя в кумысе было в лучшем случае 3,25 процента, то пили его очень много. В эру господства кумыса алкоголизма не наблюдалось, как и драк. Алкоголизм появился позднее, когда монголы приобщились к винам, втрое или вчетверо более крепким, и даже Чингисхан не мог остановить процесс превращения пьянства в неотъемлемый компонент монгольской культуры{115}. Зловредной привычкой стали гордиться, видеть в ней признак мужественности. Выпивохи после первого раунда обязательно очищали переполненные желудки, прежде чем продолжить кутеж. У иностранцев отвращение вызывала не столько публичная демонстрация рвоты, сколько общая атмосфера грязи и антисанитарии, которая отчасти была и следствием суеверного отношения к воде. Вильгельм Рубрук сообщал, что монгол во время разговора мог вдруг замолчать и помочиться, а если возникала потребность в испражнении, он отходил, садился на корточки, облегчался и вступал снова в беседу{116}.
Суровая среда обитания и трудности кочевой жизни и лежат в основе потенциальных сил монгольского общества, которые привел в действие Чингисхан. Жесткие особенности скотоводства и преодоления стихий вырабатывали целый ряд качеств и социальных обстоятельств: приспособляемость, изобретательность и инициативу; мобильность и собранность; военную организованность и виртуозность; невысокий уровень имущественного неравенства; почти полное отсутствие разделения труда и политическая нестабильность. Постоянная миграция формировала в человеке повышенную ответственность и готовность к битве, а наличие многочисленных стад и табунов по определению служило поводом для нападений, ограблений и краж. Скотоводство всегда было сопряжено с более серьезными физическими усилиями, рисками и опасностями, чем земледелие, и оно формировало более сильную породу людей, чем крестьянство. В условиях миграции у воинов появлялось больше возможностей для повышения боевого мастерства, поскольку они могли передавать часть своих обязанностей по выпасу и перегону скота женщинам и детям{117}. Когда же начинались сражения, они были менее разрушительные, чем в оседлых обществах с сельскохозяйственными фермами, городами, храмами и другими перманентными структурами.
Можно привести и другие примеры военного применения некоторых скотоводческих навыков. Перемещение огромных стад и табунов вырабатывает организационные способности и умение ориентироваться в незнакомой местности и координировать свои действия с фланговыми соседями{118}. Очень важны уроки, которые преподает охота. Монголы с детства учились охоте на волков и мелких животных, мех которых они обменивали на различные одеяния. Но скоро им пришлось столкнуться и с крупными хищниками, и эти гигантские облавы (о них мы будем говорить позже) уже напоминали реальные военные учения.
Некоторые историки утверждают, что жизнь в пустыне способствует формированию градуализма[15] в подходах к решению проблем, а степь развивает способности решать их быстро и без раздумий. Кочевое скотоводство создает условия для самоизоляции и взаимного непонимания, и набеги становятся неизбежной деталью образа жизни. Поскольку набеги являются явным отклонением от норм, скотоводам свойственно совершать их столь жестоко, что оседлые земледельцы, испытав их однажды, не оказывают в дальнейшем никакого сопротивления. В упрощенном виде можно сказать, что скотоводческий образ жизни порождает «правовые отношения с позиции силы»{119}.
В степи неравенство в богатстве и титулах не так заметно, как в оседлых обществах. В мире монголов не существовало ни землевладения, ни крестьянства, привязанного к земле, ни лендлордов, ни замков, фортов и бастионов, ни складов продовольствия или дорогого имущества (кроме скота). Обладание богатством или территорией было очень зыбкое, и фактически не имелось условий для того, чтобы в сознании людей развились сильные чувства собственности на землю (да и владения деньгами). Отсутствовали специализация и разделение труда в нашем современном понимании. Не было никакого различия между скотоводом и воином, ибо каждый монгол одновременно был и тем и другим{120}. Даже разделение труда между полами было минимальное, поскольку и мужчины и женщины пасли отары овец и управляли обозами. Конечно, обычно мужчины имели дело с лошадьми и верблюдами, а женщины приглядывали за коровами, овцами и козами. Однако попытки Карпини обнаружить разделение труда в том, что мужчины предаются лени, когда нет войны, а женщины содержат весь лагерь, опровергаются более достоверными свидетельствами, в том числе и другим гостем монгольского двора – францисканцем Вильгельмом Рубруком{121}. По свидетельству Рубрука, в равной мере трудились представители обоего пола, в соответствии с рациональными предпочтениями. Мужчины изготовляли луки и стрелы, стремена, удила, седла, строили жилища и собирали повозки, ухаживали за лошадьми, доили кобыл и взбивали молоко, управляли и нагружали верблюдов. Женщины шили одежду, управляли повозками, собирали и грузили на них шатры и гэры, доили коров, делали масло и сыры, обрабатывали кожи, шили башмаки и носки{122}. Карпини был введен в заблуждение тем, что монголы действительно чурались обычных, нудных занятий вроде крестьянского повседневного труда. Сибариты, изображенные Карпини, вряд ли могли бы пережить бедствия голода; им вообще не было бы места в системе, где племенные вожди распределяли еду в голодные времена{123}.
Последний штрих, характеризующий жизнь степного общества, – политическая нестабильность. Каждый предводитель племени должен был считаться с тем бесспорным фактом, что если он не продемонстрирует убедительных материальных успехов, то его сподвижники растворятся в степных пространствах. Не могли этому помешать ни родственные связи, реальные или фиктивные, ни клановые обязательства верности, ни наследственные узы, ни территориальная близость, ни традиции. В степи никто не мог полагаться на чью-либо верность и иметь для этого веские основания или причины. Отсутствовали междоусобица и вендетта, но и политические альянсы и коалиции кланов, племен и отдельных воинов были текучи и эфемерны. Предводитель племени мог продемонстрировать свою власть только угрозами расправы, порабощения или «удочерения» женщин и детей. Но если вождь уже обладал такой властью, то сомнительно, чтобы от него уходили; в степи легко распознавались блеф и позерство{124}.
Глава 2. Начало
В степях до наступления XIII века уже существовали могущественные конфедерации и даже империи – скифов, аланов, гуннов, аваров, киргизов и уйгуров, но исторический понтёр, если бы таковой имелся, вряд ли сделал бы ставку на Монголию как место зарождения величайшего государства. Монголы тогда были совершенно безвестным народом, затерявшимся в дальнем углу Центральной Азии. Согласно мифу, они произошли от спаривания серо-голубого волка и рыжей лани на вершине хребта Хэнтэй у истоков рек Онон и Керулен. В результате этой связи на свет появился ребенок по имени Бата-Чиган. Спустя многие поколения Добун, потомок Бата-Чигана, и его супруга Алан-гоа народили двоих сыновей. После смерти Добуна она родила еще троих сыновей, чьим отцом, предположительно, было загадочное существо, «желтое, как солнце», проникшее к ней с лунным светом через дымоход. Уже в шатре оно потерло ее живот, пустив в нее луч света, после чего улетело опять же через дымовую трубу. Пятеро сыновей Добуна – двое его собственных и трое рожденных от божества, основали кланы, когда выросли, и положили начало сложной клановой системе, формировавшей монгольскую нацию{125}.
Младший сын Бодончар основал клан борджигинов, из которого потом произошел Чингисхан. Хайду, правнук Бодончара, станет первым правителем единого монгольского племени. Опять же, согласно легенде, истинные монголы первоначально были высокого роста, бородатые, светловолосые и с голубыми глазами, но вследствие межрасовых браков превратились в известных теперь всему миру коротышек с черными волосами и черными глазами{126}.
Хайду, живший в 1050–1100 годах, поможет нам перейти из стигийского[16] мрака легенд в относительно понятную историческую реальность. Монголы впервые упоминаются в текстах китайской династии Тан IX века и сменившей ее династии Ляо как надежные союзники китайских императоров. Согласно некоторым источникам, они были лесными племенами, пришедшими на юг из тайги. По сведениям китайцев, они произошли от племени мэнъу, входившего в конфедерацию Шивэй во времена господства династии Тан. Они прочно обосновались в междуречье Онона и Керулена{127}. Два события связаны с правлением хана Хайду. Хан начал плести интриги с чжурчжэнями в Маньчжурии, которые в конце концов свергли династию Ляо в начале XII века и основали династию Цзинь. Он также круто изменил характер экономического развития Монголии, отменил земледелие и оставил лишь одно скотоводческое направление, дополнив его овцами и верблюдами. Некоторые историки считают эту инициативу недальновидной, приведшей к тому, что монголы в своем развитии отстали от уйгуров, которые владели фермами и усадьбами{128}. Несмотря на необыкновенные способности, Хайду оставил в наследство монголам опасное противостояние двух главных кланов – между борджигинами и тайджиутами (в Монголии было тринадцать кланов, но ни один из них не мог сравниться могуществом с этими двумя родами). Старший сын Байшингор-Догшин возглавил борджигинов по праву первородства, а младший брат Чарахай-Линху положил начало родословной тайджиутов, спровоцировав долговременный конфликт. Межродовая борьба не позволяла ни Хайду, ни его преемникам стать вождями объединенного великого племени{129}.
Судьба монголов в беспокойном XII веке в значительной мере определялась отношениями с новой империей Цзинь в Китае. Хаос в исторических источниках отчасти объясняется тем, что война китайцев с кочевниками в степях шла одновременно с военным противоборством между пятью основными племенами Монголии – монголами, меркитами, татарами, кереитами и найманами – и борьбой между двумя кланами, борджигинами и тайджиутами. Проблема заключалась еще в том, что монгольское племя состояло не только из кланов и субэтносов, говоривших на монгольском языке, но и других племен – татар, найманов и кереитов, в составе которых были субэтносы, являвшиеся монголами в этнологическом и лингвистическом отношении. Отличить монголов от других племен можно было только по одному признаку: они были язычниками, в то время как другие племена исповедовали нечто среднее между несторианским христианством и шаманизмом.
Средневековые китайские историки бесцеремонно разделяли «варваров» у своих границ на категории: «цивилизованных», или «белых», татар, живших южнее Гоби и возле Великой китайской стены, преимущественно онгутов; кереитов, или «черных», татар, бедствовавших в степях, но гордившихся своим превосходством над трусливыми «белыми татарами», продавшимися за китайскую похлебку; и так называемых «диких татар» юга Сибири, добывавших пропитание охотой и рыболовством{130}. Собственно монголы, по мнению китайских историков, обитали где-то между «белыми» и «черными» татарами, и только с приходом во власть Хайду китайцы поняли, насколько они опасны.
Племена находились на разных уровнях развития и территориального влияния. Самыми могущественными были найманы, народность тюркского происхождения, обитавшая на южных склонах Алтая и в верховьях Иртыша и постепенно расселявшаяся на Тарбагатае и в верховьях рек Селенга и Орхон. Они считали себя наследниками империи уйгуров, исчезнувшей в середине IX века. До начала XIII века найманы сохраняли политическое единообразие, исповедовали несторианское христианство, разбавленное шаманизмом, и в культурном отношении были более развиты, чем племена Северной и Центральной Монголии{131}. Следующими в иерархии могущества были кереиты, жившие восточнее найманов, с которыми дружили, на землях верховий долин Селенги, Орхона и Толы (Туулы){132}. Они тоже были несторианскими христианами. Татары, состоявшие из шести разных кланов и обитавшие в степях южнее реки Керулен, считались в XII веке тайными союзниками Китая, и их иногда называли «жандармами» династии Цзинь. Все китайские правители старались нейтрализовать угрозу, исходившую от кочевников на севере, проводя политику «разделяй и властвуй», и татары вплоть до конца XII века с готовностью помогали им в этом. Еще в начале X века китайские историки отмечали особую роль цзубу (почти наверняка татар) в Восточной Монголии. Это племя традиционно враждовало с кереитами, и, согласно хроникам, разгромило сорокатысячное кереитское войско в начале XII века{133}. Татары представляли серьезную угрозу для монголов, соседствуя на юге с коренными монгольскими землями у рек Онон и Керулен. А к северо-западу на нижней Селенге, южнее озера Байкал и по берегам озера Хубсугул[17] обитал еще один воинственный народ – меркиты, правда, разделенный на три племени, у каждого из которых имелся собственный правитель.
Первая половина XII века была отмечена знаменательным эпизодом, вошедшим в историю Монголии. Главным его героем был хан Хабул, внук Хайду, человек, прославившийся не только аппетитом Пантагрюэля, но и способностями полководца и государственного деятеля. В 1125 году он отправился в Китай на коронацию императора Си-цзуна, где шокировал весь двор своим обжорством{134}. Однако во время следующего визита он совершил действие, запомнившееся на века и китайцам и монголам: напился на банкете, дергал императора за бороду и произвел скандал{135}. При дворе Цзинь со всей серьезностью отнеслись к шутовству хана, зная его влиятельность в степях. Цзиньцы позволили ему отбыть с позором, но сразу же отправили в погоню вооруженный отряд, чтобы вернуть и заставить подписать вассальные обязательства. Узнав о погоне, Хабул устроил засаду и перебил преследователей. Вызов был брошен, и на протяжении многих лет – с 1135 и по 1147 год – между цзиньцами и монголами шла ожесточенная война. Цзиньцы снова попытались использовать татар, но Хабул разгромил их и нанес унизительное поражение экспедиционным силам, вторгшимся в Монголию в 1137 году{136}. Ему удалось сформировать временную коалицию основных монгольских племен, но он так и не стал верховным правителем – ханом всех ханов. Хабул показал себя превосходным полководцем, но не смог подмять под себя других вождей. Коалиция просуществовала недолго и не продемонстрировала потенциал к превращению в племенную сверхдержаву{137}.
Хабул проявил незаурядные полководческие и политические способности, но оставил после себя рубашку кентавра Несса, избрав преемником тайджиутского аристократа, проигнорировав семерых сыновей. Тайджиуты восприняли это как знак того, что теперь они, а не борджигины, являются старшим монгольским кланом. Соперничество между двумя кланами обострилось. Некоторые историки предполагают, что именно это решение Хабула, а не раздел ханства между двумя сыновьями, произведенный ранее Хайду, ослабило монголов и могло погубить их навсегда как более или менее значительную государственно-политическую силу{138}.
Этим представителем рода тайджиутов был Амбагай. В 1143 году он чувствовал в себе достаточно сил для того, чтобы пойти войной на цзиньцев и захватить двадцать фортов у Великой стены. Репутация цзиньцев была подорвана, и в 1146 году они отправили на север большую экспедицию. Когда она потерпела неудачу – китайцы никогда не могли нанести поражение монголам в открытом сражении, – цзиньцам пришлось согласиться на унизительный договор о мире, в котором кочевники впервые выдвигали условия китайскому императору. По условиям мира цзиньцы обязывались выплатить огромные репарации отарами овец, стадами крупного рогатого скота и зерном, уйти из некоторых приграничных фортов, которые монголы считали для себя опасными, и предоставить субсидии{139}. Но цзиньцы приготовили возмездие. И снова самая постыдная роль отводилась татарам. Они даже готовы были нарушить священные обычаи степного гостеприимства. Амбагай, считавший себя равным Хайду, отправился в лагерь татар где-то в начале пятидесятых годов XII века с предложением выдать замуж свою дочь, чтобы скрепить альянс с татарами. Однако татары, приняв его, тут же передали цзиньцам, а те распяли пленника на деревянном осле. Умирая, Амбагай призвал всех монголов отомстить за него{140}. Об этой зверской расправе монголы всегда помнили и через семьдесят лет жестоко отплатили цзиньцам.
Учитывая, что все даты ранней истории Монголии предположительные, мы можем датировать смерть Амбагая 1156 годом. Ему наследовал Хутула, борджигин, и это восстановило клан в роли главного правящего рода. Все же остается множество неясных моментов в избрании Хутулы. Некоторые историки утверждают, что тайджиуты вышли из монгольской конфедерации, отделились от борджигинов и обосновались северо-восточнее озера Байкал{141}. По мнению других авторов, Хутула предлагал провести новые выборы, на которых голосовать будут только тайджиуты. В любом случае, Хутула был сыном Хабул-хана, лишенным прав наследования, когда Хабул выдвинул кандидатуру Амбагая.
Какими бы ни были обстоятельства наследования ханского титула, результатом стало дальнейшее возрастание напряженности в отношениях между борджигинами и тайджиутами. В монгольской культурной традиции утвердилось разделение между монголами-нирунами («собственно монголами»), «детьми света», и менее родовитыми соплеменниками монголами-дарлекинами («монголами вообще»), возможно, сходное с различием между стражами и воинами в «Республике» («Государстве») Платона{142}. Проблема заключалась в том, что оба клана считали себя «нирунами», а соперников – менее полноценными монголами. Эта кастовая дифференциация заняла особое место в «библии» монгольской империи – «Тайной истории»[18], в которой лишь борджигины представлены истинными монголами, а тайджиуты изображены младшими «кузенами» или «бедными родственниками», подобными другим жалким придаткам вроде бесутов, оронаров и арулатов{143}. Все это можно было бы посчитать чисто монгольской эзотерикой, если бы вражда не привела к плачевному результату: в пятидесятые годы XII века монголы существенно ослабли и лишились той силы, которой обладали во времена Хабул-хана. Цзиньцы воспользовались их слабостью, разграбили и натравили татар. Хутула выдержал тринадцать сражений за это десятилетие, но так и не одолел противника, возможно, из-за дезертирства тайджиутов.
Видимо, Хутула оказался невезучим ханом, хотя, согласно всем источникам, он обладал превосходными качествами. Писали, будто он унаследовал от отца не только чревоугодие Гаргантюа и невосприимчивость к боли, но и огромную физическую силу, медвежьи руки и громоподобный голос Воанергеса[19], сопоставимый с речевыми способностями величайших в истории ораторов, таких как Дантон и Питт Старший. Согласно одному описанию, его голос «раздавался подобно грому в горах…»: «Он мог разорвать человека пополам, как мы ломаем стрелу. Зимними ночами он спал у костра, разожженного из деревьев, и не чувствовал ни искр, ни горящих головешек, падавших на его тело. Проснувшись, он принимал ожоги за укусы насекомых»{144}. Хутула мог съесть барана и выпить огромный кувшин кумыса за один присест. Однажды, убегая от татар, он спрятался в камыше и погрузился в воду, дыша через тростинку. Татары видели только его коня, тонувшего в песке, и решили, что болото уже поглотило и их врага. Когда они ушли, Хутула выдернул коня из трясины, схватив его за гриву{145}. Несмотря на все свои недюжинные способности, хан не мог набрать достаточно воинов, чтобы нанести решающее поражение татарам. После тринадцати схваток цзиньцы убедились в слабости Хутулы, снарядили большую экспедицию и разгромили монголов у озера Буир-нор в 1161 году. Неизвестно, погиб ли Хутула в этой битве, но вскоре он пропал, и клан борджигинов почти прекратил свое существование{146}.
Следующим правителем из рода борджигинов стал Есугей. Происхождение этого человека не совсем ясно. По официальной версии, изложенной в «Тайной истории», он был третьим сыном Бартана, второго сына Хабул-хана, и принадлежал к правящей элите{147}. Но Есугей никогда не правил монголами так, как это делали Хабул, Амбагай и Хутула. Его лагерь располагался у реки Онон поблизости от современного озера Гурван-Нуур, и он командовал воинством, состоявшим из борджигинов, ренегатов-тайджиутов и представителей других племен, но никогда не обладал властью, достаточной для избрания ханом{148}. Его воинами были в основном искатели приключений, бродяги, варнаки и другие вольные люди степей, не желавшие подчиняться каким-либо правилам, пренебрегшие обязанностями, даже родственными узами, и порвавшие со своими кланами и племенами. Поскольку прожить отшельником в Монголии было не только трудно, но и опасно, эти люди обычно собирались вокруг харизматичного лидера в ожидании легкой поживы{149}. Есугей был в сущности вожаком кондотьеров, поэтому возникают подозрения, что «Тайная история» включила его в генеалогию монгольской правящей элиты в пропагандистских целях, чтобы подкрепить славу и статус Чингисхана. Вполне вероятно, что Есугей был вождем субклана, не имел никакого отношения ни к Бартану, ни к Хабулу и был, по монгольским понятиям, богатуром, то есть человеком большой силы и достоинства, и носил титул, который обычно присваивался кочевникам не ханских кровей{150}.
В пятидесятые годы XII века Есугей поддерживал союзнические отношения с Хутулой, но преследовал свои цели и руководствовался лишь своими интересами и поэтому нередко отказывался повиноваться хану. Есугей исходил из простой логики: для того чтобы добиться более высокого положения в монгольской иерархии, ему следует вступить в альянс с предводителем кереитов Тоорилом («кречетом»), который нуждался в союзниках, потому что испытывал постоянную угрозу со стороны родственников. Жизнь Тоорила была тяжелой. В возрасте семи лет его выкрали меркиты и превратили в раба, заставляя постоянно толочь в ступе просо. Отец во время набега освободил его, но через шесть лет он снова попал в рабство, на этот раз вместе с матерью к татарам. В этом плену ему поручалось ухаживать за верблюдами. Тоорилу удалось бежать, но два последующих инцидента свидетельствуют о том, что у него не складывались родственные отношения{151}. Возмужав, он стал признанным лидером кереитов, но ему стали досаждать завистливые братья. Тоорил решил ликвидировать наглецов, но они сбежали и нашли приют у Тохтоа-беки, заносчивого меркитского хана. Надо сказать, что предательство тогда было распространено в степях, и Тохтоа вскоре передал братьев Тоорилу, который сразу же казнил их. Дядя Тоорила, возмущенный жестокостью племянника, публично осудил его как убийцу. Дядя пользовался популярностью среди кереитов (он заботился о нуждах племени, тогда как Тоорил думал только о своих интересах) и призвал соплеменников свергнуть тирана. Тоорил едва успел сбежать на юг в Китай с сотней сторонников{152}.
С этой малопривлекательной личностью и намеревался заключить альянс Есугей, невзирая на оппозицию Хутулы, не одобрявшего его планы. Тогда шла война с татарами и цзиньцами, не прекращалась межклановая борьба борджигинов с тайджиутами, и совершенно некстати было ввязываться в дела кереитского ханства{153}. Но Есугей был упрям и даже устроил церемонию «анд», побратимства, с Тоорилом. Целых семь лет Тоорил скитался на пограничных землях. Наконец, Есугей и Тоорил окрепли настолько, что смогли вторгнуться в кереитское ханство и прогнать дядю Тоорила, вынужденного бежать на запад к тангутам царства Си Ся (северо-западный район современного Китая){154}.
Но вмешательством в дела кереитов не закончились глупости Есугея. Он проявил полнейшее политическое тупоумие, посеяв вражду с меркитами. В данном случае можно говорить даже о совершении двух неразумных поступков. У монголов была принята экзогамия, и им приходилось отправляться в дальние поездки за невестами и даже красть чужих жен и обрученных девушек, если представлялась такая возможность. Есугей был закоренелым ловеласом: он уже имел официальную жену и гарем постельных партнерш. В 1159 или 1160 году ему приглянулась пятнадцатилетняя девочка по имени Оэлун, обрученная с предводителем меркитов Ике-Чиледу, братом Тохтоа-беки, и он похитил ее при совершенно неясных обстоятельствах{155}. Это абсолютно безответственное действие положило начало пятидесятилетней кровной вражде между монголами и меркитами. Сыновья Есугея унаследовали вендетту и, не имея к ней никакого отношения, были вынуждены с честью ее продолжать{156}.
С Оэлун Есугей нажил пятерых детей – четырех сыновей и одну дочь: Тэмуджина, родившегося в 1162 году, Хасара, родившегося в 1164 году, Хачиуна, родившегося в 1166 году, Тэмуге, родившегося в 1168 году, и Тэмулун, родившуюся в 1169 или 1170 году{157}. У Есугея уже было двое детей от официальной жены, имя которой до сего времени вызывает споры. В некоторых источниках содержатся намеки на возможную неверность первой жены{158}. Сыновей от первой жены звали Бектер и Бельгутай. Для ранней истории Монголии свойственна нечеткость в определении племенной принадлежности Оэлун. Относительный консенсус существует в отношении ее бурятского происхождения, и современные буряты считают своей прародительницей мать Чингисхана. Другие авторы считают бурятскую версию вымыслом, хотя и существуют косвенные свидетельства того, что Бортэ, жена Чингисхана, погребена на территории Бурятии. В соответствии с этой точкой зрения она принадлежала к роду олхонутов из племени унгиратов[20], обитавшего в самой восточной части Монголии{159}. Такое предположение отчасти может объяснить и причину похищения Оэлун Есугеем: у монголов был особый спрос на невест из племени унгиратов – до такой степени, что его называли «племенем-консортом».
Тэмуджин, будущий Чингисхан, родился в 1162 году. Эта дата представляется единственно верной среди других предположений, включая и сведения Рашида ад-Дина, избравшего 1155 год, не говоря уже о таких эксцентричных вариантах, допускавших его появление на свет в 1167 году, что потребовало бы пересмотра всех остальных деталей традиционного исторического повествования{160}. Нет единства мнений и в отношении места его рождения. Одни историки считают, что он родился в долине Гурван-Нуур, другие – указывают деревню Дадал в урочище Делюн-Болдок, располагавшуюся в 350 милях северо-восточнее современного Улан-Батора в провинции Хэнтэй среди лесов, гор и озер, хотя эта гипотеза больше согласуется с идеей Платона о том, что красивая окружающая среда порождает величие, а не с какими-либо документальными свидетельствами. Здравый смысл подсказывает, что он мог родиться где-то в верховьях рек Онон и Орхон, богатых дичью; в частности, упоминались остров Балджун (в действительности полуостров на Ононе) и гора Дуйран{161}.
Конечно, его рождение окружено легендами, включая историю о зачатии от луча света, проникшего в лоно матери, очень похожую на христианскую притчу о Деве Марии (Непорочном зачатии) и фактически повторяющую легенду об Алан-гоа и рождении Бодончара. В «Тайной истории» излагается не менее занимательная легенда о том, что он вышел из лона матери, держа в кулачке сгусток крови размером в сустав пальца, верный знак того, что младенец станет великим завоевателем; аналогичная былина рассказывается о рождении Тамерлана{162}. Над именем Тэмуджин историки давно ломают голову: оно означает «кузнец». Если это смысловое значение принять за основу, то надо еще больше понизить социальный статус отца Есугея. В действительности Есугей назвал сына именем татарского вождя Тэмуджина-Угэ, которого только что победил и полонил. Тем самым он хотел передать ребенку силу татарского вождя, для чего пленника надлежало убить; явный намек на то, что рождение Тэмуджина отмечено убийством человека – тоже грозное предзнаменование, сказали бы циники{163}.
Мальчик воспитывался традиционно: верховой езде и стрельбе из лука по птицам. Зимой он катался по льду на коньках, сделанных из кости или дерева, учился выслеживать белок и куниц, а затем охотиться и на более крупных животных, таких как олени. Потом его обучали и соколиной охоте, искусством которой должен был владеть вождь племени. Никакого образования в нашем понимании дети не получали. Тэмуджина не учили читать и писать, и будущий великий император Чингисхан был неграмотным. Выносливого и физически крепкого Тэмуджина вскоре начал обгонять брат Хасар, обладавший, согласно источникам, силой Самсона. Плечи и грудь Хасара были столь широки, а талия – такая узкая, что под ним могла пройти собака, когда он лежал на боку{164}. Подобно Хутуле, сообщали хронисты, он мог разорвать человека пополам, как хворостинку, и скоро стал самым метким стрелком из лука в роду борджигинов. Возможно, именно по этой причине между ним и Тэмуджином всегда была вражда и ревность, и Тэмуджин больше любил скромного Хачиуна и особенно Тэмуге. Но самым близким другом для него был тогда Джамуха, юный аристократ из клана джадаратов. Они много времени проводили вместе, часто играли в бабки, и хотя их пути разошлись, дни счастливого детства запомнились надолго. Тэмуджин тяжело переживал расставание с другом, когда Джамуху куда-то увезли, и они не виделись восемь лет. Когда им было по шесть или семь лет, они дали друг другу клятву «анд», которая связывала людей гораздо более сильными узами, чем кровное родство{165}. Отношения «анд» среди монголов служили объединению кланов, субэтносов и различных племен и народностей и были своего рода политическим инструментом, в отличие от кровного побратимства, например, между скифами и викингами, скреплявшего обязательства личной преданности между воинами{166}.
Вскоре после отъезда Джамухи, когда Тэмуджину исполнилось девять лет, Есугей решил обручить его со знатной невестой. У монголов было принято заключать ранние браки, и такие помолвки обычно использовались для повышения престижа семьи или клана{167}. Невесты традиционно поставлялись племенем унгиратов на юго-востоке Монголии. Называвшиеся также торолкинами или «язычниками», унгираты, возможно, монголизированные тюрки, наследовали очень сложную мифологию о своем происхождении, которая и сейчас интригует антропологов. По крайней мере, известно, что в истории они впервые появились в 1129 году, когда приняли участие в собрании, созванном Елюем Даши, основателем Каракитайского ханства{168}.
Дорога к унгиратам была дальняя – через горы и юго-восточный угол пустыни Гоби. Тэмуджину предстояло серьезное испытание. Все его странствия до этого состояли из переездов между летними и зимними пастбищами по долинам рек Онон и Керулен. Первую часть путешествия они провели на кручах среди черных скал, колючих кустарников и вереска. Они перебрались через гору Дархан, устраивая ночевки на берегах озер, где всегда можно было подстрелить дичь. После живописных горных ландшафтов, изумлявших Тэмуджина, отряд Есугея вышел в пустыню. Есугей объяснил сыну, что осенью пески не представляют никакой опасности: кони в хорошей форме, и его воины знают эти места, поскольку им часто приходилось совершать набеги на китайское приграничье (сегодня провинция Ганьсу). Верно, может недоставать воды. Но если прорыть колодец, то можно найти грунтовую воду. Выйдя из пустыни, монголы оказались в окружении плодородных полей, садов, посевов ржи и проса, среди оазисов, поросших ильмом, ивами и тополями.
Традиционное место встреч монголов и унгиратов находилось между урочищами Цэгцэр и Чихургу{169}. Есугей уже рассказал Тэмуджину о некоторых трудностях в отношениях с унгиратами. Они разделялись на два клана – ниргинов и босхуров. Хотя ниргины были главнее, монголы имели дело с босхурами и их вождем Дай-сеченом{170}. Дай-сечен встретил их приветливо, но сразу же помрачнел, когда услышал предложение Есугея. Номадам более высокого статуса полагалось платить за невест. Хотя Есугей и считался предводителем племени, он был беден и мог предложить Дай-сечену в качестве предоплаты всего лишь одного коня{171}. С другой стороны, унгиратки ценились как самые красивые женщины в степях, и Есугей уже видел Бортэ, десятилетнюю дочь Дай-сечена, и понял, что она очень подходит в жены сыну{172}. Дай-сечен, втайне рассерженный скромным предложением Есугея, выдвигал все новые требования, рассчитывая расстроить сделку после завершения формального обмена любезностями.
И тогда впервые сыграло свою роль прирожденное обаяние Тэмуджина. Сразу же проникся к нему симпатией Алчи-нойон, любимый сын вождя босхуров, и упросил отца принять Тэмуджина в семью. Дай-сечен согласился, взвинтив цену за достоинства дочери{173}. Он возьмет коня, но Есугей обязуется возместить долг, не дожидаясь свадьбы. Он также оставляет Тэмуджина в семье и будет использовать как батрака в порядке возмещения задолженности. «Проживание зятя в семье» было распространено в монгольских степях, если жених не мог сразу же заплатить за невесту, но обычно это касалось только бедняков{174}. Тэмуджин не возражал против того, чтобы пожить в семье Дай-сечена, но его оскорбила бедность отца и собственная роль пешки в династических играх. Позже он с презрением говорил о поступке отца: «Устраивать брак ради обогащения – это удел торгаша»{175}.
Прежде чем Есугей отправился в обратный путь, Дай-сечен рассказал о том, что их приезду предшествовал сон, будто к нему в руки сел белый сокол, держащий в когтях и солнце и луну: это доброе знамение того, что его зять будет править миром{176}. Вероятно, сновидение и примирило его с нищим зятем, который тем не менее с явным удовольствием провел три года в стане унгиратов. Предположительно, Тэмуджин работал у тестя чабаном, табунщиком или перегонщиком: степь не признает праздных людей. Эти три года в семье Дай-сечена не прошли для него даром. Познавая жизнь племени, географически расположенного далеко от родных мест, он бессознательно готовился к тому, чтобы править империей{177}. Он извлек немало полезных уроков, видел, как долги порождают вражду, как месть превращается в побудительный мотив и вендетта укрепляет родственные узы, племенную идентичность и солидарность, мешающие формированию сверхдержавы племен{178}. На его глазах разрасталась торговля унгиратов с китайцами, обитавшими на юге за Великой стеной, куда отправлялись меха, кожи, кони, овцы, валухи, верблюды, яки и соль в обмен на лаки, текстиль, слоновую кость, украшения и оружие из железа. Дай-сечен рассказывал о богатстве и могуществе империи Цзинь, и Тэмуджин недоумевал: почему же тогда цзиньцы не завоюют племена в степях и не отберут у них все то, что получают торговлей? Дай-сечен отвечал: китайцы – не воинственный народ, а Тэмуджин думал, что тогда их покорят другие племена, более воинственные.
Но скоро безмятежные времена закончились. Когда Тэмуджину исполнилось двенадцать лет, пришли вести о смерти Есугея. Предположительно, совершая очередной набег, Есугей повстречался с очень большим отрядом татар. Их силы были почти равны, и исход битвы никто не мог предсказать. Татары все же узнали своего главного врага и решили заманить в ловушку. Поскольку два войска встретились на татарской территории, татары пригласили монгольского предводителя и его людей на пиршество, подмешав в угощенье медленно действующий яд{179}. Угроза съесть или выпить яд всегда была неотъемлемой деталью степного быта, но Есугей нанес бы страшное оскорбление татарам, если бы отказался от их гостеприимства. Вскоре после отъезда из татарского лагеря он почувствовал ужасную боль в желудке и, немного помаявшись, скончался. Согласно коду чести номадов, он становился мучеником{180}. Умирая, Есугей попросил верного нукера Мунлика вернуть Тэмуджина домой. Сподвижники переживали утрату, и, возможно, Мунлик произнес знаменитую эпитафию: «Ключевые воды пропали, бел-камень треснул»[21]{181}.
Мунлик поскакал к унгиратам, чтобы сообщить печальную весть Дай-сечену. Унгиратский вождь не хотел отпускать Тэмуджина, жалея свою дочь Бортэ, которая оставалась в положении покинутой супруги, но он должен был подчиниться обычаям степей и отправить парня в долину Онон.
Есугей спешно отозвал Тэмуджина, зная, что после его смерти поднимется проблема наследования, а если сына не будет дома, то никто не назовет его имя и не заступится за него, как говорят французы, les absents ont toujours tort[22]. Первые предвестники грозы появились, когда вдовы Амбагая запретили Оэлун присутствовать на ежегодной церемонии поклонения выдающемуся прародителю тайджиутов{182}. Затем, когда Оэлун попыталась сплотить клан борджигинов вокруг себя, соплеменники ее не поддержали. В этом проявилось не столько женоненавистничество, сколько нежелание признавать главенство двенадцатилетнего подростка. Очевидно, какое-то влияние оказала и обыкновенная корысть: Оэлун не была кондотьером, в отличие от покойного супруга, и соплеменники могли лишиться возможностей поживиться набегами и грабежами.
Им не понравилось и то, что Оэлун отвергла притязания младшего брата Есугея, бравшего ее в жены согласно обычаю левират. Этот человек, Даритай, четвертый сын Бартана, оскорбился и начал сговариваться с тайджиутами, чтобы покончить с борджигинами{183}. Вожди и племена, один за другим уходили от Оэлун. Первым ушел Таргутай, спесивый вождь тайджиутов, провозгласивший, что клан тайджиутов снова главный среди монголов. Самой неприятной была измена Мунлика, назначенного Есугеем на смертном одре опекуном детей. Мятежники не только изгнали борджигинов, но и присвоили все их движимое имущество.
Имея теперь лишь полдюжины лошадей и несколько слуг, семья Оэлун испытывала реальную нужду{184}. Они питались ягодами, корнями, некоторыми съедобными растениями, мясом сурков и барсуков. Летом еще можно было как-то просуществовать, а зимой в рационе оставались только корни, растения и вареное просо, чем Оэлун никогда не кормила детей, пока Есугей был жив. Выживание семьи полностью зависело от мастерства лучника Хасара и охотника Тэмуджина, если бы им не мешали старшие сыновья Есугея от первой жены, которые начали отнимать добычу. Как-то Тэмуджин и Хасар поймали большую рыбину (мы уже знаем, что монголы презирали ловлю рыбы, считая это уделом людей низшего сорта), Бектер отобрал ее, поджарил и съел{185}. Тэмуджин решил наказать единокровного брата. Когда Бельгутай ушел ловить рыбу, Тэмуджин и Хасар подстерегли Бектера и напали, изрешетив стрелами. По некоторым описаниям, Бектер знал, что обрек себя на расправу, и встретил смерть бесстрастно{186}.
Убийство, совершенное Тэмуджином, когда ему было тринадцать или четырнадцать лет, свидетельствует о его необычайной жестокости и взрослой способности просчитывать причинные связи своих действий. Убийство оправдывалось неписаными законами степей, которые нарушил Бектер, но истинные причины были гораздо более серьезные. Тэмуджин видел в нем волевого соперника, чьи претензии на преемственность в клане борджигинов могут оказаться более обоснованными, поскольку он был старшим сыном Есугея{187}. Он не усматривал такой же угрозы со стороны Бельгутая, потому что этот второй старший брат всегда казался ему более слабым и кротким, хотя Бельгутай мог быть просто более умным и здравым человеком: неслучайно он прожил больше девяноста лет, редчайший пример долголетия в его эпоху{188}.
Бельгутаю даже в голову не приходило отомстить за смерть брата, и он стал одним из самых верных сторонников Тэмуджина. Уже в роли хана всех ханов Тэмуджин (уже Чингисхан) с благодарностью вспоминал о товариществе: «Благодаря силе духа Бельгутая, удали и искусной стрельбе из лука Хасара я смог завоевать всемирную империю»{189}. У монголов было принято пользоваться эвфемизмами, говорить не «убил» или «предал смерти», а «скинул», «отделался», «порушил»{190}.
Но если Бельгутай проявил смиренность, избрав путь наименьшего сопротивления, то Оэлун отреагировала бурно и гневно. Она обругала Тэмуджина и Хасара самыми последними словами, награждая самыми немыслимыми эпитетами, сравнивая и с собаками, съедающими свой послед, и с пантерами, прыгающими со скалы, и с остервеневшими львами, и с питонами, у которых глаза набухли, как животы, и с кречетами, терзающими собственные тени. Как они собираются, вопрошала мать, мстить тайджиутам и татарам, если не могут поладить с кровными братьями? «Вы – волки, обезумевшие волки, рвущие собственную плоть, полоумные молодые верблюды, нападающие сзади на своих матерей, хищные грифы, набрасывающиеся на скалы»{191}.
Возможно, до тайджиутов дошли слухи об убийстве Бектера или они просто решили убедиться в том, что семья Оэлун действительно существует на грани голодной смерти. Посланная ими разведка донесла, что там все более или менее благополучно. Таргутай, самопровозглашенный вождь монголов, понимал, что Тэмуджин с каждым днем становится для него все более опасным. Проще всего было бы его убить, но это вызвало бы вендетту братьев, которые подняли бы против него весь клан борджигинов. Он мог бы убить их всех, но тогда развеялась бы его репутация мудрого правителя всех монголов. Самым лучшим решением представлялось убрать Тэмуджина из игры не убийством, а порабощением. Тайджиуты нагрянули в лагерь Оэлун, но Тэмуджина на месте не оказалось: он в это время был на охоте. Таргутай благоразумно заверил Хасара и других братьев в том, что вовсе не намерен причинить им вред, ему нужен лишь один Тэмуджин{192}. Ему надо было найти подходящие основания для задержания Тэмуджина, достаточные для оправдания сурового наказания, а не приговора к смерти. И он, конечно, сослался на убийство Бектера, чья судьба его в действительности совершенно не волновала{193}.
Но изловить Тэмуджина было непросто. Он выставил кордоны в лесах, где укрылся, когда братья предупредили его об опасности. Шесть дней Тэмуджин продержался в лесу, но потом, измученный голодом, попытался уйти, и его схватили. Таргутай, торжествуя, привез пленника в свою ставку и заковал в колодки. Это устройство состояло из толстых тяжелых досок с круглым отверстием в центре для головы, которые надевались на шею, стягивались и скреплялись замками. Мало того, руки пленника тоже приковывались к колодкам. Отверстие посередине было достаточно большим для того, чтобы узник мог дышать и есть, но не позволявшим человеку снять оковы через голову. Иногда для ужесточения наказания тяжесть и размеры колодок избирались такими, чтобы пленник не мог руками дотянуться до рта и мучился без пищи и воды, пока кто-нибудь из сострадания не подавал ему еду и питье. Согласно источникам, колодки были облегченные, но Таргутай был уверен, что пленник не сбежит. Таргутай не знал, на что способен его узник. Тайджиуты поставили неопытного юнца сторожить его, и, когда юноша задремал, Тэмуджин подкрался к нему, ударил дубинкой и исчез{194}. Но в оковах он не мог далеко уйти, ему пришлось укрыться в реке среди тростника, а деревянные колодки служили ему чем-то вроде «спасательного жилета». Вскоре тайджиуты подняли тревогу и начали поиски беглеца.
Тэмуджину всегда сопутствовала удача, повезло и на этот раз. Среди тех, кто искал его, только один человек заметил, где прячется беглый узник. Это был Сорхан-шира из племени сулдас, втайне симпатизировавший борджигинам; сулдасов силой заставили быть вассалами тайджиутов. Когда все ушли, Сорхан-шира помог замерзшему и голодному юноше выйти из тростника, привел его в свой шатер и спрятал в кипе руна; по одной версии, тайджиуты прокололи кипу овечьей шерсти копьями, но, очевидно, промахнулись. Когда шумиха стихла, Сорхан снял колодки, накормил Тэмуджина, дал ему лук и стрелы. В полночь, при полной луне, Тэмуджин угнал из табуна коня и ускакал прочь. Осмотрительный Сорхан, желая, чтобы Тэмуджин сразу же направился домой, обеспечил его едой только в расчете на эту дорогу и не дал ему седло{195}. Но Тэмуджин на всю жизнь запомнил благородный поступок Сорхан-ширы и, став ханом, щедро вознаградил его.
Биографы иногда отмечают, что заточение у тайджиутов нанесло глубокую психологическую травму в жизни Чингисхана, однако подобные эпизоды, исключая колодки, не были редкостью в степях. Как мы уже видели, Тоорил дважды испытал нечто подобное в раннем возрасте, а его брат Джаха-Гамбу длительное время был узником тангутов; Джамуха тоже познал тяготы рабства у меркитов{196}. Трудно сказать, сколько времени Тэмуджин провел в темнице со дня пленения на реке Онон и до освобождения с помощью Сорхан-ширы. Полагаем, что не больше нескольких месяцев, если, конечно, как некоторые авторы утверждают, «Тайная история» не ужала события, которые в действительности происходили на протяжении многих лет. Известно, что тайджиуты пытались изловить его снова, но Тэмуджин ловко скрывался в горах Бурхан-Халдун, где борджигинам были знакомы каждая тропинка, ущелье и ложбина. Легенда гласит, что его кормили кречеты – наподобие того, как пророка Илию кормили вороны. Когда тайджиуты прекратили поиски, Тэмуджин пришел домой и увидел семью в крайне бедственном положении: его родичи питались одними сурками, и вся их собственность состояла из девяти лошадей{197}.
К тому времени Тэмуджину исполнилось четырнадцать лет: он выглядел почти взрослым мужчиной и проявлял чрезвычайную сторожкость. Однажды, когда Хасар и Бельгутай были на охоте, в стойбище ворвался отряд тайджиутов и увел всех лошадей. В распоряжении семьи остался один конь, на котором охотился в лесу Бельгутай. Тэмуджин оседлал его и в тот же вечер отправился в погоню. Он выследил тайджиутов, но не мог их догнать, потому что надо было давать отдых и себе, и коню перед каждым большим пробегом.
На четвертый день погони его лошадь выдохлась, а сам он устал и проголодался{198}. Неожиданно ему повстречался юноша примерно такого же возраста, и звали его Боорчу. Тэмуджин своим обаянием произвел на него такое же впечатление, как на сына Дай-сечена. Юноша поклялся ему в вечной дружбе, предоставил еду, питье и коней, попросив взамен лишь разрешения сопровождать нового друга. Через три дня они настигли налетчиков. Под покровом ночи друзья забрали у тайджиутов украденных лошадей, но теперь почти сразу же за ними устремилась погоня{199}.
Тайджиуты, как всегда сверх меры самонадеянные, совершили ошибку. Их главарь, скакавший на превосходном жеребце, все дальше и дальше удалялся от своих товарищей и уже готовился бросить аркан. Но Боорчу оказался блестящим стрелком и опередил его, тяжело ранив в грудь. Подоспели соплеменники, но им пришлось остановиться, чтобы оказать помощь предводителю, и погоня прекратилась{200}. Боорчу привел Тэмуджина к отцу Наху-Байану, который дал им на всю обратную дорогу к реке Онон эскорт охраны. С этого момента между Тэмуджином и Боорчу завязалась крепкая мужская дружба, которая сохранялась всю жизнь{201}.
Командуя отрядом Боорчу, рекрутами из числа вольных борджигинов, примкнувших к обаятельному вожаку, и перебежчиков из племени сулдус, тайно посланных Дай-сеченом, Тэмуджин быстро набирал силу как полководец. Уже тогда он совершил целый ряд легендарных деяний, отбился, к примеру, от шестерых разбойников, напавших из засады{202}. В налетах того времени ему, видимо, удалось обогатиться в достаточной степени для того, чтобы расплатиться с Дай-сеченом. Следующим самым значительным событием в его жизни стало путешествие с Боорчу через пустыню Гоби за невестой Бортэ. Мы можем датировать это событие 1177 или 1178 годом. Согласно источнику, Дай-сечен встретил их радушно. Возможно, так оно и было: помимо материального интереса, возникала и психологическая проблема – дочери исполнилось шестнадцать лет, и, по монгольским стандартам, ее могли занести в разряд старых дев. Помолвка формально уже состоялась, новых претендентов не появилось, Дай-сечен не нарушил традиционные связи между монголами и унгиратами и не нажил врагов в среде борджигинов. Все же сам факт бракосочетания снимал напряженность, возникшую после отъезда Тэмуджина, и это Дай-сечен отметил «приданым» в виде роскошной темно-коричневой собольей шубы{203}. Строго говоря, доха была не «приданым», а подарком от Чотан, жены Дай-сечена, для Оэлун, матери жениха, и такое дарение было неотъемлемой деталью монгольской процедуры бракосочетания. Теперь Дай-сечен был всем доволен. Он уже не был для Тэмуджина «кудой» – отцом потенциальной супруги, а реальным тестем красивого, рыжеволосого и широкоплечего воина, ставшего его зятем.
На свадьбе текли реки кумыса. Дай-сечен похвалялся древней и сложной генеалогией племени, в соответствии с которой унгираты произошли от некой этнической общности под названием «Золотой сосуд» и обладали редким мастерством выплавки железа{204}. Предполагают, что между Тэмуджином и Бортэ были дальние родственные связи, но это всего лишь догадка, и очень туманная{205}.
Дай-сечен строго соблюдал монгольские обычаи и считал своей обязанностью проводить дочь к дому жениха, хотя и помнил о несчастной судьбе Есугея, оказавшегося на враждебной земле и принявшего яд, и Амбагая, распятого на деревянном осле. Поэтому он установил пределы путешествия. Похоже, он оставил свадебный отряд на дальнем краю пустыни Гоби (или на излучине реки Керулен) и вернулся обратно, поручив жене Чотан добраться до места назначения и передать соболью шубу Оэлун. Экспедиция преодолела все трудности, переправилась через Керулен, дошла до Сенгура и по нему поднялась до стойбища Тэмуджина{206}.
Минуло два года. Все это время Тэмуджин продолжал наращивать силы своей небольшой дружины. Вскоре у него появился еще один верный сподвижник Борохул, уступавший только Боорчу по влиятельности и близости к вожаку{207}. В источниках можно найти намеки на то, что Оэлун переживала по этому поводу, расстраивалась и успокоилась лишь тогда, когда Тэмуджин разрешил ей усыновить татарского мальчика по имени Шиги-Хутуху, захваченного во время одного из рейдов.
Потом нагрянула беда. Меркиты не забыли и не простили похищение Есугеем Оэлун, обрученной с братом Тохтоа-беки. Они жаждали мщения, и в 1179 или 1180 году им такая возможность представилась. Огромный отряд, не менее трехсот человек, напал на стойбище Тэмуджина. Монголы уступали в численности, не ожидали нападения, запаниковали и, практически не оказав сопротивления, рассеялись. Тэмуджин с четырьмя братьями и матушкой Оэлун ускакали, а Бортэ осталась в стойбище.
Это был постыдный эпизод в биографии Тэмуджина, и в «Тайной истории» содержится лишь малопонятное замечание: «Для Бортэ не оказалось лошади»{208}. Ясно, что Тэмуджин покинул ее. Непонятны лишь причины: сделал он это в панике из-за трусости или сознательно оставил приманку, отвлекавшую внимание и позволявшую его людям беспрепятственно уйти? Если все обстояло именно таким образом, то его замысел оправдался: когда меркиты увидели Бортэ, у них пропало желание продолжать преследование{209}. Тэмуджин и его дружина бежали в горы и поблагодарили священную Бурхан-Халдун за спасение; Тэмуджин даже снял пояс, чтобы продемонстрировать полное повиновение духам священной горы{210}.
Когда монголы возвратились в стойбище, их глазам предстало печальное зрелище: шатры, повозки, стада, лошади, женщины – все исчезло. Некоторые источники утверждают, что меркиты увели и Чотан, которая якобы гостила у дочери. Поначалу Тэмуджин думал, что нападение совершили татары, но по разным признакам и свидетельствам понял, что это были меркиты. Он не сомневался: если бы попал к ним в руки, то это означало бы для него либо верную смерть, либо самый гнусный вариант рабства{211}. Тэмуджин понимал также, что теперь ему предстоит смертельная схватка: как меркиты не простили похищения Оэлун, так и он не успокоится до тех пор, пока не отомстит за полонение Бортэ. В истории открылась новая страница, как один комментатор отметил, «Троянской войны в степях»{212}. Тэмуджин осознавал, что одними собственными силами не справится с тремя могущественными кланами меркитов, и начал подыскивать союзников. Первым кандидатом на эту роль стал Тоорил, «анда» отца, но привлечь его на свою сторону было не так-то просто. Дальнейшие события показали, что он успешно решил эту задачу.
Интуитивно Тэмуджин нашел самые верные подходы к Тоорилу, ориентируясь одновременно на алчность, гордыню и здравомыслие предводителя кереитов. Он начал с того, что предложил ему в дар соболиную шубу, которую Чотан привезла для Оэлун. Дар был принят с явным удовольствием. Затем, поступившись самолюбием, Тэмуджин сказал, что хотел бы стать его приемным сыном. А потом уже напомнил о том, что Тоорил был «андой», побратимом Есугея, его отца, успевшего немало сделать для кереитского вождя. Помимо поддержки, оказанной во время борьбы с дядей и семилетнего изгнания, Есугей еще помог ему вернуть престол, когда сводный брат Эрке-Хара совершил переворот и низложил хана{213}.
Тоорил выслушал Тэмуджина и пообещал содействовать его кампании против меркитов. Некоторые критики обвиняют хана в легковерности и глупости, податливости на эмоциональный шантаж и ослеплении соболиной шубой, но кереит не был столь наивен. Жесткий и трезвый расчет показывал, что ему выгоден союз с Тэмуджином. В Монголии формировалась новая военно-политическая доминирующая сила – найманы, традиционные враги кереитов, пытавшиеся заключить альянсы с ойратами, онгутами, меркитами, тайджиутами и (это вызывало особые опасения) с татарами, которые уже поссорились с цзиньцами и отказались играть роль китайских ставленников в степях. Над Тоорилом нависла угроза оказаться в изоляции и окружении, и, помимо «внешней опасности», назревал конфликт дома – мутил воду чрезвычайно амбициозный сын Сэнгум и еще не отказался от своих затей дядя{214}.
Тоорил мобилизовал все силы для того, чтобы начать массированную кампанию против меркитов, пока к ним на помощь не пришли союзники. По некоторым оценкам, кереиты могли выставить армию численностью 500 000 человек. Хотя мы имеем дело с явным преувеличением, это было, без сомнения, большое и могущественное племя. Тэмуджин подключился к набегу Тоорила на земли меркитов. «Коалиция» переправилась через реку Чихой и на протяжении многих месяцев – вероятно, в 1180–1181 годах – вела кровопролитные сражения{215}. Детали – невразумительные и смутные; источники почти наверняка смешивают различные кампании Тэмуджина против меркитов, однако исход очевиден: сокрушительная победа Тоорила и Тэмуджина. Тохтоа-беки и его братья понесли тяжелые, если не фатальные, потери, им пришлось рассеяться и превратиться в партизанские банды. Они, вообще, могли бы полностью исчезнуть, если бы Тэмуджин, огорчая союзников, внезапно не вышел из борьбы, заявив, что у него слишком большие потери{216}. В действительности Тэмуджин, уже вынашивавший планы завладеть всей Монголией, не хотел, чтобы кереиты наращивали могущество.
Бортэ вызволили, но обнаружили, что она беременна. Она была отдана в качестве награды Чилгер-боко, младшему брату умершего Эке-Чиледу (у которого Есугей и похитил Оэлун). Ее мать тоже подверглась унижениям: ей пришлось быть «женой» худородного меркита. Оскорбляло не сексуальное, а социальное осквернение. Используя, по описаниям, «разные методы» (пытки?), Тэмуджин выяснил имена всех трехсот налетчиков, казнил, забрал в рабство их жен и наложниц{217}. Беременность Бортэ очень тревожила Тэмуджина, и позднее он приказал придворным хронистам переписать историю. Рашид ад-Дин, арабский историк, приняв их пропагандистскую версию за чистую монету, сочинил легенду о том, что она уже была беременная, когда меркиты брали ее в плен. Согласно этой легенде, меркиты сразу же отправили Бортэ к Тоорилу, предлагая мирные переговоры. Когда Тэмуджин вышел из войны, советники Тоорила уговаривали его изнасиловать Бортэ в знак возмездия, а он отослал ее Тэмуджину. Вся эта история являет собой полнейший вымысел, нацеленный на то, чтобы скрыть позор Бортэ и незаконнорожденность ребенка. Даже «Тайная история» не решилась воспроизвести небылицу{218}. Тем не менее ребенка Чилгер-боко, рожденного, вероятно, в 1182 году, Тэмуджин признал собственным сыном и нарек Джучи.
Одним из непредвиденных последствий войны с меркитами стало воссоединение Тэмуджина с другом детства Джамухой. Его давний приятель давно примкнул к Тоорилу по тем же причинам, которые привели Тэмуджина к вожаку кереитов, и, узнав, что Тоорил опекает Тэмуджина, вдруг вспомнил о побратимстве.
Джамуха, теперь уже предводитель джадаратов, тоже не раз попадал в трудное положение, как и его друг. В юности его похитили и поработили меркиты; он бежал, сформировал отряд воинов, но, поняв, что меркиты слишком могущественны, вызвался верно служить Тохтоа-беки, добившись прощения за прежнее «преступление» – то есть побег. Одним из условий альянса было предоставление права содержать тридцать персональных стражей. Необычайно сметливый, Джамуха смог войти в полное доверие к Тохтоа-беки, убедив его в том, что он умнее всех его советников (в чем он, возможно, был прав){219}.
Рашид ад-Дин показывает молодого человека в действии. Однажды Джамуха разглядел гнездо куропатки в высокой траве и тайно пометил это место. На следующий день, проезжая здесь же на конях с сановниками из ближайшего окружения хана, он сказал, что год назад видел гнездо куропатки, и ему интересно проверить, остались ли какие-нибудь следы. «Давайте посмотрим, сохранилось ли гнездо, а, может быть, и куропатка уже вывела птенцов», – предложил Джамуха с невинным видом. Меркитские сановники приблизились к указанному месту, и из травы вдруг вылетела куропатка, а в гнезде запищали птенцы. Сановники изумились: «Как можно запомнить неприметное место в траве и найти его через год!»{220}
Этой истории подивился и Тохтоа-беки. А фокус с гнездом был детской игрой в сравнении с coup de théatre[23], устроенном Джамухой потом. Заметив, что стражники у шатра Тохтоа-беки расслабились, он подучил своих дружинников напасть на опешившего хана. Джамуха спокойно объяснил ему, что сделал это только для того, чтобы показать, насколько негодная у него охрана{221}. Тохтоа-беки, поняв, что с такой охраной его могли легко убить, осыпал Джамуху словами благодарности, но выразил неудовольствие, когда Джамуха потребовал подписать и засвидетельствовать грамоту, освобождавшую его от всех вассальных обязательств. В шатре назревал скандал. Джамуха сказал хану, что у него простой выбор: сделать то, что от него требуют, или умереть. Тохтоа-беки видел, что Джамуха не блефовал, и предпочел сохранить себе жизнь{222}.
Однако с самого начала военной кампании против меркитов Джамуха с пренебрежением отнесся к Хасару и Бельгутаю, эмисарам Тэмуджина, посланным с предложениями о совместных действиях{223}. Впечатление ненадежности и непредсказуемости вскоре еще больше усилилось. Двадцать тысяч всадников Тоорила должны были соединиться с рекрутами Тэмуджина на восточном склоне Бурхан-Халдуна, но Джамуха отказался подойти и потребовал, чтобы союзники пришли к нему, стоявшему тогда у истоков Онона. Из-за его каприза Тоорил совершил два больших перехода – сначала к Тэмуджину, а затем к лагерю Джамухи. И Тэмуджина и Тоорила удивило то, что Джамуха привел столько же воинов, сколько было и у них, а потом еще и отругал обоих за опоздание на три дня{224}.
Джамуха явно был доволен тем, что Тэмуджин досадил Тоорилу, когда преждевременно вышел из войны с меркитами, и присоединился к «анде» после раскола. Они отошли к лагерю Джамухи на реке Онон, а Тоорил отправился на свою базу на реке Тола через долину Хокорту в нагорье Большой Хэнтэй{225}. Затем последовали незабвенные полтора года нераздельной совместной жизни, когда молодые люди не отходили друг от друга, подобно библейским Давиду и Ионафану. Они обменялись золотыми поясами и великолепными скакунами. Молодые люди с нежностью вспоминали о детстве, вместе охотились, пили кумыс, блудили и, как повествует «Тайная история», «спали под одним стеганым одеялом»{226}.
Подобное «сердечное согласие» кажется странным, особенно после откровенно прохладного отношения, которое выказывал Джамуха своему «анде» во время меркитской кампании. Кочевники редко сожительствовали подобным образом. Предполагается, что Тэмуджин нуждался в поддержке друга, у которого в то время было гораздо больше сподвижников. Но чем руководствовался Джамуха?{227} Бортэ, не любившая Джамуху и не доверявшая ему, предупреждала мужа, что им пользуются как пешкой в игре за достижение своих целей – с ней была согласна и Оэлун, – но Тэмуджин отвергал их подозрения, как чисто женские причуды{228}.
Неожиданно, после полутора лет гармонии, изъявления нежных чувств и дружбы, возможно в 1183 году, Джамуха затеял ссору, заговорив в дельфийской манере о том, что его «коневодческие интересы» приносятся в жертву «овцеводам» Тэмуджина{229}. Безусловно, в этом обвинении можно разглядеть и тот факт, что Тэмуджин даже после победы над меркитами все еще оставался относительно беден конями.
Но чем можно объяснить гнев Джамухи? Некоторые историки считают, что причина кроется в распределении пастбищ: соплеменники осуждали Джамуху за то, что от дружбы больше выигрывает Тэмуджин. По мнению других авторов, Джамуха корил товарища за то, что он чрезмерно озабочен проблемами мира, а надо воевать, чтобы реализовать свои амбиции. Самым эксцентричным предположением была гипотеза советских историков, выдвинутая в начале XX века и утверждавшая, что Тэмуджин и Джамуха представляли антагонистические социальные группы в примитивной классовой борьбе, в которой Тэмуджин отстаивал интересы аристократии, а Джамуха бился за народ{230}. Даже следуя этой логике, все было скорее наоборот. Одним из преимуществ Тэмуджина было именно то, что он продвигал своих людей в соответствии с принципами меритократии, то есть по их способностям, тогда как Джамуха придерживался старых олигархических традиций. Нам остается предложить свой вариант. Может быть, Джамуха следовал каким-то эзотерическим, квазигностическим ощущениям, нам неизвестным. Но тогда почему сам Тэмуджин назвал взрыв эмоций друга «загадкой»?{231} Возможно, права Бортэ. Джамуха дожидался своего часа и высказался, когда почувствовал себя достаточно уверенным в своих силах и понял, что Тэмуджин ему больше не нужен. В таком случае у Тэмуджина было несколько вариантов ответа, но Джамуха оставлял за собой право не согласиться с любым из них{232}. Можно выдвинуть и такое предположение: двое молодых людей были вовлечены в очень тяжелую межличностную борьбу. На самом высшем уровне конфликт заключался в разрешении кардинальной проблемы – кто из них объединит всю монгольскую нацию?
Какими бы ни были истинные причины, разногласия оказались непримиримыми. Тэмуджин с ближайшими родичами и сподвижниками ночью откочевал и расположился лагерем на новом месте у реки Кимурха. Вскоре после внезапного и неожиданного раскола все монгольские кланы, кроме тайджиутов, созвали высший совет, на котором окончательно обозначились расхождения мнений и намерений. Разделительная линия в основном определялась возрастом: старейшины племен хотели создать новую федерацию кланов во главе с Джамухой, молодые воины выступали против этих замыслов.
Тэмуджин притягивал к себе прежде всего тех, кто стремился порвать со строгостями кланового режима, построенного на родственных связях. С начала шестидесятых годов XII века в степях фактически, выражаясь словами Гоббса, шла «война всех против всех»: тайджиуты враждовали с борджигинами, не прекращались интервенции татар, союзников цзиньцев, набеги меркитов, противоборство между кереитами и найманами. Для молодых монголов Тэмуджин был олицетворением новых веяний, лидером, чье обаяние подтверждалось военными победами и богатыми трофеями и чьи слова не расходились с делами{233}. Но другой стороной новой жизненной модели стала одержимость демонстрацией мужественности и готовности к насилию, а вооруженные грабежи и изнасилования поощрялись как свидетельства истинного мачо. Для молодежи все разговоры о создании новой конфедерации означали лишь нескладные попытки залить молодое вино в старые мехи.
Возник острый конфликт между сторонниками Джамухи и Тэмуджина. Джамуха убеждал всех, что не он инициировал разрыв, его спровоцировали Алтан и Хучар, дядья Тэмуджина, всегда его ненавидевшие. Источники сообщают о 13 000 воинов, вставших на сторону Тэмуджина, хотя вряд ли можно полагаться на достоверность сведений в монгольских источниках, заслуживших репутацию ненадежных{234}. Тэмуджин, отличавшийся организационными и административными способностями, разделил своих сподвижников на тринадцать станов, или «куреней». В первый курень вошли сам Тэмуджин, его сыновья, телохранители и близкие друзья; второй курень состоял из братьев Тэмуджина и их окружения; остальное воинство распределялось по кланам: джуркины (юркины), баяуды, джалаиры, баарины и так далее. Примечательно, что некоторые прежние сторонники Джамухи перешли к Тэмуджину, верно рассчитав, кто одержит победу{235}




















