Читать онлайн Лорд Джим бесплатно
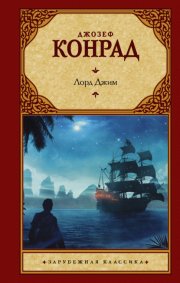
От автора
Когда этот роман был впервые опубликован отдельным изданием, стали говорить, будто я чересчур увлекся: по мнению некоторых критиков, то, что начиналось как рассказ, вышло из-под авторского контроля. Мне указали на границы выбранной мною повествовательной формы: дескать, человек не сможет говорить так долго. А если и сможет, то никто не станет слушать. Такое повествование выглядит неправдоподобно.
Я думал об этом лет шестнадцать, но до сих пор не убедился в правоте моих критиков. Известно, что и в тропиках, и в умеренных широтах люди способны полночи «молоть языком», обмениваясь историями. В моей книге тоже рассказана история – одна, хотя и прерванная несколько раз, чтобы слушатели могли отдохнуть. Терпение слушателей, полагаю, объясняется тем, что им интересно. Это обязательная предпосылка: я бы не стал излагать на бумаге историю, которую не считаю увлекательной. Что же до того, вероятно ли столь долгое говорение с физической точки зрения, то все мы знаем: речи некоторых членов парламента длятся чуть ли не по шесть часов, меж тем как ту часть книги, где Марлоу говорит от первого лица, можно прочесть вслух меньше чем за три. К тому же, хоть я и не позволял себе загромождать повествование несущественными подробностями, естественно было бы предположить, что несколько раз на протяжении ночи рассказчик подкреплял свои силы стаканом минеральной воды или чего-нибудь еще.
Но шутки в сторону. Сперва я действительно задумал написать рассказ, в основу которого легла бы история о корабле пилигримов. Ничего другого в мой изначальный замысел не входило, и это было вполне законное зачатие. Однако, написав несколько страниц, я остался недоволен и решил на некоторое время их отложить. Они пролежали в ящике моего письменного стола до тех пор, пока покойный мистер Уильям Блэквуд не попросил меня вновь дать что-нибудь для его журнала.
Только тогда я понял, что эпизод с кораблем пилигримов – хорошая отправная точка для свободно блуждающего повествования, и что это как раз то событие, которое способно оживить образ простого, но остро чувствующего персонажа. В ту пору я сам не вполне понимал мои душевные движения. Да и сейчас, после стольких лет, они не стали для меня много яснее.
Те несколько страниц, которые я извлек из своего стола, оказали определенное влияние на выбор темы, но, сделавшись частью целого, были переписаны сообразно новому замыслу. Я знал, что повествование будет долгим, хотя изначально и не предполагал растягивать его на тринадцать номеров журнала.
Иногда меня спрашивают, не эту ли свою книгу я люблю больше всех других. Я убежденный противник фаворитизма не только в политике, но и в частной жизни, а также в непростых отношениях между автором и его творениями. У меня самого обыкновенно не бывает любимцев, но то, что некоторые читатели выделяют «Лорда Джима» среди моих работ, меня не огорчает и не раздражает. Чтобы это было «за пределами моего понимания», я тоже не скажу. Нет! И все-таки испытать удивление и замешательство мне однажды пришлось.
Друг, вернувшийся из Италии, поведал мне, что одной даме, с которой он там беседовал, моя книга не понравилась. Я, конечно, выразил сожаление, но сама по себе нелестная оценка удивила меня куда меньше, чем ее основание. «Видите ли, – сказала та дама, – это все так нездорово…»
Обеспокоенный столь неожиданным заявлением, я довольно долго размышлял и, в конце концов, пришел к выводу: во-первых, сам тот предмет, о котором говорится в книге, как правило, не слишком волнует женщин, а во-вторых – та леди вряд ли итальянка. Не знаю даже, в Европе ли находится ее родина. В любом случае для латинского темперамента нет ничего нездорового в остром переживании утраты чести. Эта утрата может быть истинной или ложной, а вызванные ею терзания могут показаться искусственными. Мой Джим, пожалуй, не типическая фигура, но я позволю себе твердо заверить читателей в том, что при этом он и не продукт холодного извращенного мышления, не порождение Северных Туманов. Однажды утром в обыкновенном восточном порту он прошел мимо меня: значительный и располагающий к себе, притом совершенно безмолвный и словно окутанный облаком. Моя задача состояла в том, чтобы со всем сочувствием, на какое я только способен, подобрать слова, которые выразили бы, что он значил в моих глазах. Он был «одним из нас».
Дж. К.Июнь 1917.
Глава 1
Он был без одного-двух дюймов шести футов росту[1], могучего телосложения. Шагал, слегка ссутулив плечи, наклонив голову и по-бычьи глядя исподлобья. Говорил густым звучным голосом, держался с упрямой уверенностью, в которой, впрочем, не было ничего агрессивного. Его напористость казалась необходимой, и он, по-видимому, направлял ее в той же мере на самого себя, как и на других. Безупречно аккуратный, он одевался во все белое, от туфель до шляпы, и пользовался большой популярностью в многочисленных восточных портах, где служил клерком судового поставщика.
Клерки судовых поставщиков не сдают никаких экзаменов, но должны обладать сноровкой – в теории и на практике. Их работа состоит в том, чтобы под парусом, на паровом ходу или на веслах быстрее конкурентов добраться до любого корабля, намеренного причалить. Затем следует бодро приветствовать капитана и вручить ему карточку своего начальника, а едва капитан ступит на берег, твердо, однако не слишком навязчиво направить его в большую пещероподобную лавку, полную всего того, что моряки едят и пьют, а также всего того, чем они чинят и украшают свое судно, начиная с набора крюков для якорной цепи и кончая сусальным золотом для резьбы на корме. Хозяин, которого капитан видит впервые в жизни, с братским радушием приветствует его в своих прохладных владениях, где имеются удобные кресла, напитки, сигары, письменные принадлежности и свод портовых правил. Теплый прием размягчает соляную корку, наросшую на сердце моряка за три месяца плавания. В продолжение всей стоянки корабля знакомство, завязанное таким образом, поддерживается ежедневными визитами клерка. В отношении капитана он выказывает дружескую преданность, сыновнее участие, терпение Иова и самоотверженную верность любящей женщины, сдабривая все это приятельской веселостью. Потом выписывается счет. Быть клерком судового поставщика – ремесло прекрасное и гуманное, и тех, кто в нем преуспевает, не так-то много. Клерка, который не только ловок в теории, но и не понаслышке знаком с жизнью моряка, приходится задабривать и деньгами, и любезным обращением. Джиму всегда хорошо платили и обращались с ним так, что, будь он даже чертом, в ответ от него можно было бы ожидать дружеской преданности, однако он, проявляя черную неблагодарность, внезапно оставлял работу и уезжал. Причина, на которую он ссылался, не встречала понимания хозяев. «Чертов дурак!» – бормотали они ему вслед. Так они аттестовывали его изысканную чувствительность.
Для белых торговцев в портовых городах и капитанов судов он был просто Джим и никак иначе не назывался. Другого имени, которое у него, конечно, имелось, он раскрывать не желал. Его инкогнито, дырявое, как решето, должно было прятать не личность, но факт. Как только факт прорывался наружу, Джим поспешно покидал тот порт, в котором это происходило, и уезжал в другой – еще дальше на восток. Он держался прибрежных городов, потому что был моряком, отлученным от моря, и обладал знаниями, полезными лишь для одной сухопутной работы – помощника судового поставщика. Преследуемый фактом, который всплывал случайно, но неизбежно, он размеренно двигался навстречу восходящему солнцу. О нем узнали сперва в Бомбее, затем в Калькутте, Рангуне[2], Пинанге и Батавии[3], и везде он был просто Джимом, клерком судового поставщика. Потом острое восприятие непереносимого заставило его навсегда покинуть мир морских портов и белых людей. Джим скрылся в девственных джунглях, в малайской деревушке, продолжая и там хранить инкогнито. К короткому имени, которым он представился, местные жители прибавили еще одно слово: они стали звать его «туан Джим». Это означало примерно то же, что «лорд Джим».
Родом он был из семьи пастора. Славные капитаны многих торговых кораблей вышли из стен, где царят мир и набожность. Отец Джима обладал достаточными знаниями о непознаваемом, чтобы поддерживать благочестие в крестьянских домах, не нарушая спокойствия тех, кого безошибочная воля Провидения сделала хозяевами поместий. Своей замшелой серостью церквушка на холме напоминала скалу, проглядывающую сквозь зубчатое кружево листвы. Деревья, росшие вокруг, вероятно, помнили, как закладывался первый камень этого храма, построенного несколько столетий назад. Ниже стоял пасторский дом, тепло красневший в окружении лужаек, клумб и елей. Позади располагался фруктовый сад, слева – мощеный двор с конюшней. К кирпичной стене лепились стеклянные своды теплиц. Семья жила в этом гнезде на протяжении нескольких поколений, но Джим был одним из пяти сыновей, и, когда легкое чтение выявило в нем любовь к морю, его определили на «учебный корабль торгового флота».
Там он выучился решать кое-какие тригонометрические задачи и поднимать брам-стеньги. Его успехи встречали одобрение. Среди своих товарищей он был третьим в навигации и сделался загребным на первой шлюпке. Спокойная голова и отлично развитые мускулы позволяли ему ловко управляться с реями. Его пост был на фор-марсе[4]. С презрением человека, которому суждено блестяще преодолевать опасности, глядел он вниз, на мирное скопление крыш, разрезаемое на две половины коричневыми водами реки, и на фабричные трубы вдали, что росли перпендикулярно закопченному небу, – тонкие, будто карандаши, и изрыгающие дым, будто вулканы. Он видел, как отчаливают большие корабли и как снуют туда-сюда широкие паромы. Внизу, под его ногами, плавали маленькие лодочки, а впереди, суля волнующие приключения, виднелась туманная роскошь моря.
На нижней палубе, в шуме двух сотен голосов, Джим забывался, погружаясь в воображаемый морской мир легкой литературы. Мысленно он спасал людей с тонущих судов, рубил мачты во время ураганов, вплавь боролся с волнами, зажав в руке линь, или, выжив после кораблекрушения, босой и полуобнаженный, бродил по скалам в поисках моллюсков, которые не дали бы ему умереть от голода. Он побеждал в столкновениях с дикарями на тропических берегах, подавлял мятежи в открытом море, вдохновлял своим мужеством несчастных, оказавшихся вместе с ним на крошечном суденышке посреди океана, – словом, всегда был, как герой романа, неколебим в своей преданности долгу.
– Скорее! Там что-то происходит.
Мальчишки, слившись в плотный поток, карабкались вверх по лестнице. Наверху слышались крики и беготня. Едва высунув голову из люка, Джим остолбенел.
Была зима, сгущались сумерки. Ветер, усилившийся после полудня, остановив движение на реке, теперь дул с силой урагана. Судорожные порывы гремели, как залпы огромных орудий над океаном. Косой дождь падал с неба простынями, которые то трепетали, то никли, и время от времени Джим видел угрожающие волны прилива. Какое-то суденышко судорожно металось возле берега, неподвижные здания вырастали из дрейфующего тумана, громоздко темнели паромы, стоящие на якоре, забрызганные дебаркадеры поднимались и опускались. Следующий порыв ветра грозил сдуть все это прочь. По воздуху летала вода. В свирепости бури ощущалось нечто злонамеренное, в ярости ветра – нечто многозначительное. Этот жестокий мятеж неба и земли был, как мнилось Джиму, направлен именно против него. От ужаса он перестал дышать и замер. Ему показалось, будто он кружится на месте.
Его отпихнули с дороги. Раздалась команда:
– По шлюпкам!
Мальчики побежали. Каботажное судно, вошедшее в устье реки, чтобы спастись от бури, натолкнулось на шхуну, стоящую на якоре, и один из наставников это увидел. Мальчишки облепили перила, сгрудившись возле шлюпбалок.
– Авария! Прямо перед нами! Мистер Симонс заметил.
Джима толкнули, он споткнулся о бизань-мачту и схватился за веревку. Старое учебное судно, поставленное на якорь носом против ветра, все дрожало, мягко кивая и низким голосом своей скудной оснастки насвистывая тихую песню о юности, проведенной в море.
– Шлюпку на воду!
Джим увидел, как лодка, заполненная его товарищами, стала быстро опускаться, и бросился к ней. Раздался всплеск.
– Отвязать фалы!
Джим перегнулся через перила: речная вода обтекала судно, закипая пеной. Шлюпка, словно заговоренная волной и ветром, дергалась на месте, почти не продвигаясь. Из сгущавшейся темноты слабо донесся голос:
– Гребите, щенки, если хотите кого-нибудь спасти! Гребите как следует!
Шлюпка резко задрала нос, ощетинилась веслами и прыгнула вперед, наконец-то пересилив чары ветра и прилива. Плечо Джима крепко схватила чья-то рука:
– Опоздал, парень.
Капитан корабля удержал мальчика, который, видимо, готов был прыгнуть за борт. Джим поднял глаза, полные боли разочарования. Капитан сочувственно улыбнулся.
– Это научит тебя не зевать. Может, в следующий раз повезет.
Шлюпка была встречена громким приветственным воплем. Довольно скоро она, танцуя, вернулась, до половины наполненная водой, в которой лежали спасенные – два изможденных матроса. Угрозы ветра и моря теперь казались Джиму ничтожными – тем сильнее он сожалел о том, что недавно испытал перед ними такой ужас. Сейчас он смотрел на них другими глазами, и шторм уже нисколько его не смущал. Даже более серьезные испытания были ему по плечу. Он мог все преодолеть – легче, чем кто-либо. Страх совершенно исчез.
Однако тем вечером Джим сидел, мрачный и задумчивый, в стороне от остальных, а героем нижней палубы был баковый гребец шлюпки – сероглазый мальчик с девичьими чертами. Товарищи забрасывали его вопросами, а он повествовал:
– Я увидел в воде чью-то голову и сразу схватился за багор. Поймал бедолагу за штанину и сам чуть не вывалился за борт. Наверное, вывалился бы, если бы старик Симонс не выпустил румпель и не схватил меня за ноги. Лодка едва не перевернулась. Симонс – славный малый. Я на него не в обиде за то, что он частенько нас поругивает. Он бранил меня не переставая все то время, пока держал. Кричал, чтобы я не выпустил из рук багор. Он, старый Симонс, жутко вспыльчивый, правда? Нет, я зацепил не того, маленького, а другого – дюжего, с бородой. Когда мы его втащили, он застонал: «Моя нога! Моя нога!» – и закатил глаза. Только представьте себе: такой здоровяк брякнулся в обморок, как девчонка. Разве кто-нибудь из вас потерял бы сознание из-за царапины от багра? Я бы точно нет. Правда, крюк вошел в ногу вот настолько. – Рассказчик произвел сенсацию, показав своим слушателям специально принесенный для этой цели багор. – Да нет же, я не за мясо его тянул, а за штаны. Хотя крови, конечно, было много.
Столь откровенное проявление тщеславия Джим счел жалким. Шторм, оказавшийся лишь мнимо ужасным, породил сообразный себе мнимый героизм. Джим сердился на стихии за то, что они своим бунтом застигли его врасплох, нечестно парализовав в нем благородное стремление навстречу опасности. Тем не менее он был даже рад тому, что не попал в шлюпку, ведь именно неудача произвела внутри его этот поворот. Он получил более ценный опыт, чем те, кто налегал на весла. Теперь Джим не сомневался: в другой раз все оробеют, а он один не растеряется перед лицом фальшивой угрозы стихий. Только он знает ей истинную цену. Если смотреть бесстрастно, эта опасность ничего не стоит. Джим больше не ощущал в себе ни малейшего следа испуга. Итогом ошеломляющего события явилось для него то, что он, отделившись от шумной толпы своих товарищей, стал незаметно упиваться свежей жаждой приключений и уверенностью в собственной многогранной отваге.
Глава 2
После двух лет обучения Джим отправился в море и вскоре обнаружил, что края, так хорошо знакомые его воображению, на деле, как ни странно, вовсе не спешат будоражить путешественника чем-либо захватывающим. Он сделал много рейсов и узнал магическую монотонность существования между небом и водой. Ему приходилось терпеть недовольство людей, прихоти моря и прозаическую суровость повседневного труда ради хлеба насущного. Только беззаветно любя свою работу, можно было чувствовать себя вознагражденным за такое терпение. Джим не получал этой награды. Однако и вернуться он не мог, потому что нет ничего более заманчивого и порабощающего, чем морская жизнь. К тому же перед ним открывались неплохие перспективы. Он был благовоспитан, спокоен, дисциплинирован и хорошо знал свои обязанности. Еще очень молодым его назначили старшим помощником на отличное судно. Ему даже не пришлось пройти на море через те испытания, которые позволяют отчетливо увидеть, чего мужчина стоит: каковы пределы его самообладания, из какой материи он сшит, чему и насколько упорно способен сопротивляться, – испытания, которые показывают не только окружающим, но и ему самому скрытую правду его натуры.
За все это время Джиму только однажды довелось мельком увидеть сколько-нибудь серьезный гнев природы. Ее подлинный темперамент проявляется не так часто, как думают некоторые люди. Шторм имеет множество обличий, и лишь иногда на лице фактов появляется зловещая печать жестокого намерения – неопределимое нечто, заставляющее человека чувствовать и думать, будто за неблагоприятным стечением обстоятельств или яростью стихии кроется не простая случайность, а злой умысел некоей непреодолимой и беспощадной силы, которая хочет вырвать у него, человека, и надежду, и страх, и боль усталости, и жажду покоя, то есть растоптать, сокрушить, уничтожить все, что он видел, знал, любил или не любил, все дорогое и необходимое ему: солнечный свет, воспоминания, будущее… Иными словами, эта сила хочет начисто удалить из поля его зрения весь драгоценный мир простым и ужасным способом – отняв жизнь.
В начале той недели, о которой капитан-шотландец впоследствии говаривал: «Черт подери! И как мы только не отправились на дно!» – на Джима упала мачта, и он много дней пролежал на спине, почти обездвиженный, в беспамятстве, отчаянии и таких муках, будто его опустили на самое дно пропасти смятения. О том, чем все это закончится, он не думал и в минуты просветления переоценивал свое безразличие. Опасность, когда ее не видишь, бывает такой же смутной, как несовершенство человеческой мысли. Страх превращается в тень, и не получающее подпитки воображение, враг людей, отец всех ужасов, погружается во мглу истощенных эмоций. Джим ничего не видел, кроме своей каюты, пришедшей в беспорядок от постоянной тряски. Он лежал покалеченный, а кругом творилось маленькое светопреставление, и в глубине души он радовался, что не может выйти на палубу. Правда, иногда его физически сковывал приступ нестерпимой душевной боли: задыхаясь, он извивался под одеялом, а потом неразумная грубость существования, беззащитного перед агонией таких ощущений, наполняла его отчаянным желанием спастись любой ценой.
Через несколько дней погода наладилась. В ближайшем восточном порту, куда прибыло судно, Джиму пришлось лечь в госпиталь. Выздоровление шло небыстро, и корабль отплыл без него.
В палате для белых мужчин было, кроме Джима, еще двое пациентов: эконом канонерской лодки, который сломал ногу, упав в люк, и железнодорожный подрядчик из соседней провинции, которого поразила загадочная тропическая болезнь. Он держал доктора за осла и тайно злоупотреблял лекарством, контрабандно приносимым ему преданным слугой-тамилом. Товарищи по несчастью рассказывали друг другу о себе, понемножку играли в карты или, зевая, просто валялись целыми днями в пижаме, не говоря ни слова. Больница стояла на холме. Легкий бриз, проникавший в пустую комнату через вечно распахнутые окна, приносил ее обитателям немного мягкости неба, томности земли и завораживающего дыхания восточного моря. В воздухе витали ароматы, навевающие мысли о беспредельном покое и дарящие нескончаемые грезы. Каждый день Джим глядел поверх густой зелени садов, поверх городских крыш и прибрежных пальм на рейд – ворота Востока. Водная гладь в гирляндах островков освещалась торжествующим солнцем, корабли казались игрушечными.
Как только смог ходить, не опираясь на трость, Джим вышел в город в поисках какой-нибудь возможности вернуться домой. В тот момент оказии не предвиделось. Пришлось ждать. В порту Джим, что неудивительно, стал знакомиться с людьми своей профессии. Оказалось, есть два сорта моряков. Одни (их мало, и встречаются они редко) хранят в себе неисчерпаемую энергию и ведут загадочное существование. У них темперамент пиратов и глаза мечтателей. Они живут в безумной суматохе планов, надежд, опасностей и предприятий за пределами цивилизации, в темных закоулках моря. Смерть – единственное событие их необыкновенного пути, обладающее рациональными признаками безусловного достижения. Вторая разновидность, большинство, – это люди, попавшие на Восток по воле случая (как и сам Джим) и теперь не желавшие возвращаться в родные края, поскольку дома, на севере, условия тяжелее, представления о долге строже, моря суровее. Полюбив вечный мир восточного неба и восточной земли, моряки этого сорта привыкли к коротким рейсам, удобным креслам на палубах, большим командам, состоящим из азиатов, и привилегированному положению белого человека. Содрогаясь при мысли о тяжелой работе, они наслаждаются ненадежной легкостью своей жизни. Всегда на грани увольнения и на пороге нового найма, такой моряк готов служить китайцам, арабам, полукровкам – да хоть самому дьяволу, если тот не будет его слишком утруждать, – и без конца разглагольствует о поворотах фортуны: дескать, такой-то получил командование кораблем на китайском побережье (не работа, а сплошное удовольствие), такой-то удачно устроился где-то в Японии, такой-то – на сиамском флоте. В людях подобного сорта, в их речах, поступках, внешности и характере ощущалась размягченность, гнильца, порожденная упорным желанием прожить жизнь легко.
Поначалу Джиму казалось, что эта толпа сплетников – такие же моряки, как тень – надежная материя. Но со временем он поддался своеобразному очарованию людей, умеющих выглядеть так, будто им хорошо живется на столь скудном пайке опасности и труда. К его первоначальному презрению по отношению к ним постепенно прибавилось другое чувство, и внезапно он сам, отказавшись от возвращения на север, принял должность старшего помощника капитана «Патны».
Так назывался местный пароход – древний, как камень, тощий, как борзая, и изъеденный ржавчиной, как железная бочка, отслужившая свой век. Владельцем судна был китаец, фрахтовщиком – араб, а капитаном – немец-ренегат, променявший свою родину на Новый Южный Уэльс[5] и никогда не упускавший возможности публично выругать ее. При этом он, очевидно, подражал победоносной бисмарковской политике «крови и железа», тираня всех, кого не боялся. Лиловый нос и рыжие усы придавали его виду пущую воинственность.
Когда «Патна», выкрашенная снаружи и побеленная изнутри, встала, дымя, у деревянной пристани, на ее борт взошли паломники – человек восемьсот (чуть больше или чуть меньше). Они втекли на борт по трем трапам, подгоняемые верой в Бога и надеждой на рай, слитно топоча и шаркая босыми ногами, но кроме того не издавая ни звука и не оглядываясь. Протиснувшись между узкими перилами, толпа разлилась по всей палубе, от носа до кормы, затекла в разверстые пасти люков и наполнила внутренности корабля, как вода, безмолвно поднимаясь, наполняет резервуар до краев, заходя в каждый уголок, в каждую трещину. Восемьсот мужчин и женщин с севера, юга и окраин Востока собрались здесь, привезя с собою веру и надежды, привязанности и воспоминания. Эти люди пробирались сквозь джунгли, спускались по рекам, шли по мелководью на своих проа[6], переплывали на маленьких каноэ с острова на остров, терпели страдания, видели незнакомые картины, подвергались незнакомым страхам – и все ради одной цели. Среди паломников были обитатели забытых лесных хижин, густонаселенных кампонгов[7], рыбацких поселков. Повинуясь зову идеи, они оставили свои дома, богатые или бедные, вышли из-под защиты своих правителей, покинули места, знакомые с юности, и могилы отцов и явились – в пыли, в поту, в саже, в лохмотьях. Среди тех, кто поднялся на борт, были и сильные мужчины, главы семейств, и худощавые старцы, которые тратили на это путешествие последние силы, не надеясь вернуться, и юноши, чьи бесстрашные глаза смотрели с любопытством, и застенчивые девочки с длинными спутанными волосами, и женщины, пугливо прижимавшие к груди младенцев (завернутые в свободные концы засаленных материнских платков, эти паломники спали, не сознавая своего паломничества).
– Только посмотрите на эт-тот скот, – с немецким акцентом сказал шкипер своему новому помощнику.
Араб, возглавлявший благочестивую толпу, поднялся на борт последним – красивый и важный, в белом длиннополом одеянии, с большим тюрбаном на голове. Слуги, тянувшиеся за ним вереницей, внесли его багаж. «Патна» отшвартовалась и, пятясь, отошла от причала.
Она прошла между двумя маленькими островками, наискось пересекла якорную стоянку парусных судов, описала полукруг в тени холма и приблизилась к пенистым рифам. Араб, стоя на корме, принялся читать молитву о путешествующих по морю. Он призывал милость Всевышнего, прося благословить людские усилия и сокровенные стремления сердец. «Патна» шлепала в сумерках по тихой воде пролива, и маяк на винтовых сваях, поставленный неверующими на опасном мелководье, моргал своим огненным глазом, словно бы смеясь над целью путешествия паломнического корабля.
Благополучно пройдя через пролив, «Патна» пересекла бухту и продолжила путь по Проходу Полуторного Градуса: прямиком в Красное море под ясным небом – под знойным небом, обернутым в такой нестерпимый солнечный свет, что его безоблачная яркость убивала всякую мысль, подавляла всякое энергическое побуждение, угнетала сердце, истощала силы. Под этой зловещей роскошью глубокое синее море хранило неподвижность: ни малейшего колыхания, ни легкой ряби, ни морщинки, – вязкое, стоячее, безжизненное. С легким шипением пересекая эту сияющую гладкую равнину, «Патна» разворачивала за собой черную ленту дыма и белую ленту пены, которая сразу же таяла, словно некий корабль-призрак оставлял эфемерный след на мертвой воде.
Каждое утро солнце, как будто бы нарочно приспосабливаясь к ходу паломнического судна, появлялось с тихим всплеском света за кормой (всегда на одном и том же расстоянии), к полудню догоняло корабль, изливая на богомольцев концентрированный жар своих лучей, а потом скользило к закату и, наконец, таинственно погружалось в море – каждый вечер одинаково далеко от носа.
Пятеро белых на корабле жили отдельно от человеческого груза. Над всей палубой протянулся белый навес, и ничто, кроме приглушенного гула печальных голосов, не выдавало присутствия толпы людей в огромном пламенеющем океане. Неподвижные, жаркие, тяжелые дни один за другим уходили в прошлое – казалось, падали в бездну, вечно зиявшую в кильватере «Патны». А «Патна», испуская одинокий завиток дыма, уверенно двигалась вперед. Опаленная безжалостным небом, она была похожа на тлеющую головешку посреди сверкающей бесконечности.
Ночи опускались на палубу как благословение.
Глава 3
Восхитительная тишина наполнила мир, и спокойные лучи звезд словно заверяли его в том, что с ним никогда не случится ничего дурного. Молодой месяц взошел на западе, низко над горизонтом, похожий на стружку, снятую с золотого слитка. Аравийское море – гладкое и ласкающее взгляд прохладой, как ледяная простыня – распространяло безукоризненную ровность вплоть до безукоризненного изгиба темного горизонта. Винт вращался без малейшей заминки: казалось, его ритм был неотъемлемой частью безопасного мироздания. Вдоль боков «Патны» устойчиво тянулись две глубокие темные складки. Эти прямые расходящиеся гребни с тихим шипением возмущали мерцающую гладь завитками пены, маленькими волнами, легкой рябью. Как только корабль проходил, они с мягким плеском разглаживались, чтобы более не нарушать неподвижности неба и воды – этого круга, в центре которого неизменно оказывалась черная металлическая скорлупка.
Джим стоял на мостике, глубоко проникнутый ощущением абсолютной защищенности. От молчаливого лика природы веяло покоем – как от нежного, заботливого лица матери веет нерушимой любовью. Под тентом, доверившись мудрости и отваге белых мужчин, силе их атеизма и прочности их огненного корабля, спали пилигримы. На всех палубах, во всех углах лежали люди – на циновках, на одеялах, на голых досках, закутавшись в цветные ткани и грязные лохмотья, подсунув под голову узелок с вещами или уткнувшись лицом в предплечье, – мужчины, женщины, дети, старые вместе с молодыми, немощные со здоровыми. Все были равны перед лицом сна – брата смерти.
Дуновение, производимое быстрым движением корабля, мерно охватывало все темное пространство от одного высокого фальшборта до другого, овевая ряды податливых тел. Кое-где с балок свисали тусклые шарообразные фонари. Они отбрасывали на палубу размытые кружки света, которые слегка дрожали от непрерывной вибрации корабля, падая то на чей-то поднятый подбородок, то на чьи-то закрытые глаза, то на смуглую руку в серебряных кольцах, то на тощую ногу под ветхим покрывалом, босую ступню, запрокинутую голову или горло, обнаженное как будто специально для ножа. Зажиточные семьи соорудили для себя нечто вроде шалашей из тяжелых ящиков и пыльных циновок. Бедные лежали бок о бок, используя вместо подушки узелок со всей своей собственностью. Одинокие старики ютились на молитвенных ковриках, свернувшись клубком и закрыв ладонями уши. Отец, втянув голову в плечи и касаясь коленями лба, печально дремал рядом с сыном, который спал на спине, лохматый, повелительно вытянув одну руку. Женщина, накрытая, как труп, белой простыней, прижимала к себе с одного и другого бока по голому ребенку. Багаж араба, сгруженный прямо на корме, образовывал холм ломаных очертаний с фонарем на вершине. Сзади смутно и беспорядочно виднелась всякая всячина: поблескивающее брюхо медного котла, ножки лонгшеза, наконечники копий, старая сабля в прямых ножнах, прислоненная к груде подушек, носик жестяного кофейника. Механический лаг на гакаборте звякал, сообщая о том, что еще одна миля пройдена во имя веры. Время от времени над спящей толпой пролетал терпеливый легкий вздох чьего-то тревожного сна или отрывистый металлический лязг из недр корабля. Иногда громко загребала уголь лопата, хлопала дверца топки. Шумы, доносившиеся снизу, звучали так резко, словно людей, управлявших загадочными машинами, переполняла неукротимая злоба. Изящная скорлупка продолжала ровно двигаться вперед под неподвижными голыми мачтами. Ее нос все резал и резал великую гладь воды под недостижимой безмятежностью неба.
Джим расхаживал из стороны в сторону, и собственные шаги казались ему такими звучными, будто их эхом подхватывали бдительные звезды. Блуждая взглядом по линии горизонта, он жадно всматривался во что-то недоступное, но не видел признаков надвигающейся катастрофы. Единственной тенью на лице моря была тень дыма, валившего из трубы тяжелой лентой, которая оставалась все такой же длинной, хотя конец ее постоянно растворялся в воздухе. Два малайца, молчаливые и почти неподвижные, стояли у руля, чей латунный обод поблескивал в овале света из нактоуза[8]. Иногда в этот свет попадали черные пальцы, перехватывающие рукояти вращаемого колеса. Цепи тяжело скрипели в пазах. Джим посматривал на компас, окидывал взглядом недостижимый горизонт, потягивался, похрустывал суставами и лениво поворачивался туда-сюда, ощущая избыток благополучия. Почувствовав себя бесстрашным от картины незыблемого покоя, царившего вокруг, он ни о чем не тревожился, лишь порой заглядывал в карту, прикнопленную к низкому трехногому столику позади румпеля. Лист бумаги с указанием глубин освещался выпуклым фонарем, закрепленным на пиллерсе. Бумажная гладь перекликалась с гладью моря. На карте лежали циркуль и штурманская линейка. Местоположение корабля в минувший полдень было отмечено черным крестиком, от которого до самого Перима[9] тянулась твердая прямая линия, обозначавшая курс корабля – тропу, ведшую души паломников к благословенному миру, к обещанному спасению, к вечной жизни. Карандаш лежал тут же, на карте, касаясь заточенным кончиком сомалийского побережья. Круглый и неподвижный, он напоминал голую мачту. «До чего ровно идем!» – подумал Джим с удивлением и, пожалуй, даже с благодарностью небу и морю за их безмятежность. В такое время он привык размышлять о подвигах: эти грезы, радовавшие его воображаемыми успехами, были лучшей частью жизни, ее тайной правдой, сокрытой действительностью. Восхитительно мужественные и чарующе неясные, они шествовали перед ним геройской поступью, увлекая Джима за собой и опьяняя его душу божественным зельем безграничной веры в себя. Не существовало ничего такого, чему бы он не мог противостоять. Эта идея была настолько приятна Джиму, что он улыбался, без особого внимания смотря перед собой, а оглядываясь, видел на поверхности моря белый след от киля корабля – такой же прямой, как черная линия, прочерченная на карте.
Дребезжание жестяных ведер, донесшееся из кочегарки, напомнило Джиму о том, что его вахта подходит к концу. Он вздохнул облегченно и в то же время с сожалением: не хотелось расставаться с умиротворяющей картиной, дающей такую захватывающую свободу его мыслям. Немного клонило в сон, приятная слабость разлилась по всему телу, как будто кровь превратилась в теплое молоко.
На мостик бесшумно поднялся шкипер – в расстегнутой пижаме, краснолицый, полусонный. Левый глаз лишь слегка приоткрылся, а правый таращился глупой стекляшкой. Склонив затуманенную голову над картой, шкипер лениво почесал ребра. В том, как обнажилась при этом его плоть, было что-то непристойное. Мягкая голая грудь лоснилась, как будто во время сна вместе с потом вытопился жир. Резким безжизненным голосом, напоминающим трение напильника о доску, шкипер высказал замечание профессионального характера. Второй подбородок образовал на шее складку, похожую на мешок, подвязанный к челюсти. Джим, вздрогнув, ответил вполне учтиво, однако отвратительное мясистое тело, увиденное словно впервые в этот момент откровения, навсегда запечатлелось в памяти как воплощение всего самого низменного, что есть в любимом нами мире: в наших сердцах, которыми мы верим в спасение, в людях, которые нас окружают, в картинах, которые мы видим, в звуках, которые слышим, и в воздухе, который наполняет наши легкие.
Тонкий золотой завиток месяца медленно проплыл вниз и потерялся на фоне потемневших вод. К земле будто бы приблизилась вечность, звезды заблестели ярче, цвет глянцевого полупрозрачного небесного купола над матовым диском моря сделался насыщеннее. «Патна» шла так гладко, что ее продвижение не ощущалось людьми. Она была подобна густонаселенной планете, несущейся сквозь темные пространства, где роятся солнца, ужасно одинокие и спокойные в ожидании того момента, когда они почувствуют на себе дыхание новой, еще не созданной жизни.
– До чего жарко внизу – словами не описать! – произнес голос.
Джим улыбнулся, не оборачиваясь. Шкипер показал заговорившему неподвижную ширь своей спины. У ренегата это было в обычае: сначала подчеркнуто не замечать человека, а потом вдруг повернуться к нему и, вперив в него уничтожающий взгляд, разразиться мощным, хлещущим, как из водосточной трубы, пенистым потоком ругательств. Но сейчас шкипер только угрюмо хрюкнул. На лестнице, ведущей к мостику, стоял, теребя в мокрых руках грязное полотенце, второй механик. Нисколько не смутившись, он продолжил песнь своих жалоб: тем, кто наверху хорошо, только, разрази его гром, он не знает, какой от них прок. Механики, бедные черти, заставляют корабль двигаться и со всем остальным тоже бы справились, право слово…
– Заткнитесь, – равнодушно рыкнул немец.
– Заткнуться? Конечно! А чуть что – вы к нам побежите, разве нет? – не унимался второй механик: за эти три дня он, дескать, уже почти сварился, и теперь ему нет дела до того, сколько он нагрешил, потому что там, куда плохие ребята отправляются, когда помрут, ему будет привычно, а еще, черт подери, он почти оглох от проклятого шума, ведь эта дурацкая ржавая банка с поверхностным конденсатором громыхает внизу похуже, чем старая лебедка, так что он уж и сам не понимает, зачем рискует собственной шкурой каждый божий день и каждую ночь, зачем торчит среди этого хлама, которому давно пора на слом, зачем возится с развалиной, – видно, таким уж отчаянным парнем он родился, если при…
– Где вы напились? – спросил шкипер свирепо, но остался неподвижно стоять в свете нактоуза, как неуклюжая статуя человека, вырезанная из куска жира.
А Джим все улыбался удаляющемуся горизонту. В сердце его теснились благородные побуждения, а в уме – мысли о собственном превосходстве над окружающими.
– Напился! – дружески насмешливо повторил второй механик. Он повис на перилах, за которые держался обеими руками, напоминая тень на гнущихся ногах. – Уж точно не вы меня угостили, капитан. Вы, черт подери, скряга. Скорее дадите человеку умереть, чем предложите ему капельку шнапса. У вас, немцев, это зовется экономией. А мы говорим: «Пенни сбережешь – фунт потеряешь».
Пьяница расчувствовался: старший механик, славный малый, плеснул ему немного, но только разок, и это было еще в десять часов. А сейчас попробуй подними старого плута с койки – пятитонного крана будет мало. Спит себе сладко, точно младенец, с бутылочкой первосортного бренди под подушкой.
Из толстой глотки командира «Патны» донесся глухой рык, а затем вырвалось слово «schwein[10]». Оно высоко воспарило и тут же опустилось, точно капризное перышко от легкого дуновения. Шкипер и старший механик были давние приятели, не один год служили вместе у лукавого старика китайца в роговых очках и с почтенными сединами, которые тот заплетал в косицу и перевязывал красным шелковым шнуром. В порту, к которому «Патна» была приписана, считалось, что по части беззастенчивого воровства эти двое «ничегошеньки не упускали». Внешне они казались странной парой: у одного тусклый злобный взгляд и мягкая складчатая плоть, а у другого одни кости да провалы, голова длинная, как у тощей старой клячи, впалые виски, впалые щеки и глубоко посаженные стеклянно-равнодушные глаза. Однажды за некий проступок механика высадили на берег в каком-то восточном городе: то ли в Кантоне[11], то ли в Шанхае, то ли в Йокогаме – он не считал нужным помнить ни место, ни причину своего личного кораблекрушения. Это было по меньшей мере лет двадцать назад. Из снисхождения к юности провинившегося его тихо выкинули с корабля, и, поскольку дело могло бы кончиться намного хуже, он не сохранил горестных воспоминаний об этом событии. Потом, вследствие расширения паровой навигации, механиков стало не хватать, и ему удалось снова получить какую-никакую работу. Встречаясь с незнакомыми людьми, он всегда уныло бубнил, что «чего только не повидал в здешних краях». Движения его напоминали трепыханье скелета: казалось, он вот-вот выпадет из одежды. Этот человек словно не ходил, а блуждал, в том числе и под световым люком машинного отделения. При этом он без удовольствия курил табак с примесью опиума в медной чаше на конце четырехфутового мундштука вишневого дерева, и его тупоумное лицо принимало такой глубокомысленный вид, будто он, узрев в тумане проблеск истины, выстраивал на ее основе целую философскую систему. Вообще-то не имея привычки щедро делиться с ближним своими запасами спиртного, в ту ночь старший механик нарушил собственные принципы и угостил помощника – малохольного сына Уоппинга[12], – который от неожиданности и крепости угощения сделался очень весел, смел и разговорчив. Ярость немца-ренегата достигла предела: он дымился, как выхлопная труба. А Джим, находя эту сцену довольно забавной, не мог дождаться окончания своей вахты. В последние десять минут она действовала на нервы, как ружье, дающее осечку. Эти люди не принадлежали к героическому миру приключений, хотя и были неплохими парнями. Даже шкипер… Тут Джима затошнило от вида тучной плоти, колеблемой затрудненным дыханием и с бульканьем исторгавшей грязные ругательства. И все-таки он был сейчас слишком полон приятной истомы, чтобы испытывать деятельную антипатию. Кто эти люди, не имело значения. Они могли задевать Джима плечами и в то же время его не касаться. Он мог дышать тем же воздухом, каким дышали они, и в то же время не иметь с ними ничего общего. Неужто шкипер в самом деле набросится на механика?.. Жизнь так легка, а он, Джим, так уверен в себе – слишком уверен, чтобы… Черта, отделявшая его размышления от сна на ногах, была тоньше паутинки.
Между тем второй механик непринужденно перешел к рассуждениям о своей отваге и своих финансах.
– Кто пьян? Это я-то пьян? Ну уж нет, капитан, таких речей я не потерплю! Вам давно пора бы знать, что мой начальник задаром даже воробья не напоит, – провалиться мне на этом месте! Да и пить я умею дай бог каждому: еще не сварено такое зелье, от которого у меня помутилась бы голова. Я могу хоть жидкий огонь лить себе в глотку и ни капельки не захмелею. Да если бы я только подумал, что пьян, то выбросился бы за борт – разделался бы сам с собой! Мигом! А так я с мостика не сойду. Где, как не здесь, вы прикажете мне дышать ночным воздухом? На палубе, среди этого сброда? Нет уж! И не грозите мне – я вас не боюсь!
Немец поднял тяжелые кулаки и беззвучно потряс ими в воздухе.
– Страха я вообще не ведаю, – продолжал механик с энтузиазмом искреннего убеждения. – Иначе стал бы я возиться с этой гнилой развалиной! Ваше счастье, что на свете есть люди, которые не трясутся за свою шкуру. Если бы не мы, то где бы вы были? Вы и ваша посудина, у которой обшивка не толще бумаги, – где, я вас спрашиваю? Вам-то хорошо: вы и такую выгоду имеете, и сякую. А я? Вкалываю за жалких полтораста долларов в месяц на своих харчах. Спрашиваю вас со всем уважением – с уважением, заметьте: кому не захочется бросить этакую негодную работу? Здесь ведь небезопасно – видит бог! Только я из тех бесстрашных парней…
Механик отпустил перила и стал размахивать руками, словно очерчивая в воздухе фигуру, демонстрирующую величину и форму его бесстрашия. Слабый голосок срывался, и визгливые ноты протяжно разносились над морем. Чтобы придать своей речи пущую выразительность, оратор перекатывался с пяток на носки. И вдруг опрокинулся головой вперед, как будто его ударили дубинкой по затылку. «Черт!» – хрипнул он, падая, после чего на секунду воцарилась тишина.
Джим и шкипер одновременно пошатнулись, но удержали равновесие и застыли, словно окоченели, недоумевающе глядя на невозмутимую воду. Потом они подняли глаза к звездам.
Что случилось? Машины продолжали сипло гудеть. Неужто сама Земля оступилась?.. Шкипер и его помощник ничего не понимали. Неподвижность спокойного моря и безоблачного неба внезапно стала казаться ужасающе ненадежной, словно балансирующей на самом краю зияющей гибельной пропасти. Механик принял строго вертикальное положение и тут же снова осел, превратившись в бесформенный куль.
– Что это еще такое? – поинтересовался бесформенный куль приглушенным голосом.
Где-то бесконечно далеко еле слышно прогрохотал гром; донесся даже не звук, а скорее колыхание воздуха. Оно медленно замерло, и корабль отозвался, как будто гром рычал не высоко в небе, а глубоко в воде. Глаза двух малайцев, стоявших у руля, блеснув, поглядели на белых людей, но смуглые руки не выпустили штурвала. Острая металлическая скорлупка «Патны» приподнялась на несколько дюймов, гибко перекатившись с кормы на нос, после чего возобновила работу – продолжила ровно резать морскую гладь. Дрожания под ногами больше не ощущалось, внезапно вновь стало тихо. Можно было подумать, что корабль благополучно пересек узкую полоску вибрирующей воды и гудящего воздуха.
Глава 4
Где-то через месяц Джим, стараясь честно отвечать на острые вопросы, которые ему задавали, так сказал о «Патне»: «Что бы это ни было, она перебралась через это легко, как змея переползает через палку». Он выразился удачно. Разбирательство производилось в полицейском суде восточного порта. Вопросы задавались с целью выяснения фактов. Джим стоял на огороженном возвышении свидетельского места. Щеки пылали, хотя в просторном зале было прохладно от панок[13], мягко колыхавшихся над головой. Снизу смотрело множество глаз. Лица, с которых эти глаза глядели на Джима, были темными, белыми или красными, внимательными или как будто заколдованными. Люди сидели ровными рядами на узких скамейках, порабощенные голосом свидетеля – таким громким, что у него самого звенело в ушах. Больше ничего в целом мире не было слышно. Казалось, что даже мучительно четкие вопросы, на которые Джим отвечал, не исходили извне, а болезненно рождались в его собственной груди. Их молчаливо задавала его собственная совесть. На улице полыхало солнце, а здесь, в зале, было зябко от опахал, горячо от стыда и больно от колких пристальных взглядов. Лицо председательствующего судьи, чисто выбритое и невозмутимое, мертвенно бледнело между красными физиономиями двух морских заседателей. Широкое окно располагалось под потолком, и свет лился оттуда на головы и плечи этих трех мужчин, чьи фигуры яростно выделялись в полутьме большого зала, полного неподвижно глядящих теней. Суду нужны были факты. Факты! Их требовали от Джима, как будто они могли хоть что-нибудь объяснить!
– Когда вы пришли к выводу, что столкнулись с чем-то плывущим по поверхности воды – скажем, с обломком затонувшего корабля, – ваш капитан приказал вам пойти и проверить, нет ли каких-нибудь повреждений. Казалось ли вам тогда вероятным, что ваше судно действительно пострадало от удара? – спросил тот заседатель, что был слева от судьи, – скуластый, с жидкой бородкой в форме подковы.
Опираясь локтями о стол, сцепив грубые руки он смотрел на Джима вдумчивыми голубыми глазами. Второй заседатель – тяжеловесный, с презрительной миной – откинулся на спинку стула, во всю длину вытянув левую руку и тихонько барабаня пальцами по своему блокноту. В середине, в просторном кресле, сидел судья. Его спина была выпрямлена, а голова чуть склонена к плечу. Руки он скрестил на груди. Перед ним, возле чернильницы, стояла стеклянная ваза с несколькими цветками.
– Нет, – отвечал Джим. – Мне сказали никого не звать и вообще не шуметь, чтобы не создавать паники. Эта предосторожность показалась мне разумной. Я взял один из фонарей и пошел. Открыв люк форпика[14], сразу услышал плеск воды. Опустил фонарь так низко, как было можно, и увидел, что отсек уже больше чем наполовину заполнен водой. Тогда я понял: ниже ватерлинии большая дыра.
Джим замолчал.
– Да, – сказал грузный асессор, мечтательно улыбнувшись своему блокноту. Его пальцы не переставали играть, беззвучно касаясь бумаги.
– В тот момент я не подумал об опасности. Наверное, я был несколько ошарашен: все произошло так тихо и так внезапно… Я знал, что у судна нет других переборок, кроме таранной, которая отделяла форпик от носового трюма. Возвращаясь к капитану, чтобы доложить ему о пробоине, я увидел второго механика: он стоял на лестнице, ведущей на мостик, и был, как мне показалось, в каком-то оцепенении. Сказал, что, похоже, сломал левую руку: поскользнулся на верхней ступени и упал, пока я ходил смотреть нос. «Боже мой! – воскликнул механик. – Переборка-то гнилая! Через минуту она сломается, и вся чертова посудина пойдет вместе с нами ко дну, как кусок свинца». Он оттолкнул меня правой рукой и с криком побежал вверх по лестнице. Левая рука висела вдоль туловища. Я тоже поднялся на мостик и как раз успел увидеть, как капитан набросился на механика. Тот упал на спину. Второй раз он его не ударил, а навис над ним и стал что-то говорить, зло, но тихо. Думаю, спрашивал, почему он не спустился и не остановил машины вместо того, чтобы поднимать шум на палубе. «А ну встаньте и бегом в трюм! Живо!» – услыхал я. И еще ругательства. Механик соскользнул вниз по правой лестнице, торопливо обогнул световой люк в полу и шмыгнул в машинное отделение (вход туда был слева). На бегу он стонал.
Джим говорил медленно, но его воспоминания сменяли друг друга быстро и были чрезвычайно ярки. Он мог бы, как эхо, повторить стоны механика, чтобы суд, которому так нужны факты, отчетливо представил себе всю картину. Преодолев первоначальное отторжение, Джим пришел к выводу, что его рассказ действительно должен быть очень точным: только так можно передать истинный ужас, который таился за страшным фасадом. Факты, столь необходимые суду, были видимы, осязаемы, открыты для чувств, занимали определенное место во времени и в пространстве (для их существования требовалось двадцать семь минут и судно весом тысяча четыреста тонн). Они складывались в целое, имевшее черты, оттенки и выражения – словом, лицо, которое могло запомниться, – а кроме того, присутствовало что-то еще – что-то невидимое: направляющий дух или внутренняя гибель, злобная душа в ненавистном теле. Джим хотел, чтобы все поняли: те события не были заурядными, все в них играло чрезвычайно важную роль, и он, к счастью, все запомнил. Он сделался словоохотлив ради истины, а также, пожалуй, ради себя самого. И если слова его были достаточно осторожны, то мысли все летали и летали по замкнутому кругу фактов, которые поднимались со всех сторон, отрезая его, Джима, от окружающих. Ум стал похож на животное, оказавшееся за высоким забором и мечущееся в ночи, пытаясь найти слабое место, щель, лазейку, чтобы сбежать. Это ужасное умственное смятение иногда вынуждало Джима замолкать.
– Капитан продолжал расхаживать по мостику и мог бы показаться довольно спокойным, если бы не споткнулся несколько раз. А когда я с ним разговаривал, он чуть не натолкнулся на меня, как слепой. На то, что я ему сообщил, он ничего определенного не ответил. Только забормотал себе под нос. «Проклятый пар» или «чертов пар» – в общем что-то насчет пара. Больше я ничего не разобрал. Я подумал…
Джим стал говорить не по существу, и его болезненно прервали следующим точно поставленным вопросом. Он смутился и внезапно почувствовал усталость. Он ведь как раз о том и собирался рассказать, о чем его сейчас спросили. Собирался рассказать, а теперь, после этого грубого вмешательства, ему оставалось только произнести «да» или «нет».
– Да, я это сделал, – ответил он коротко и правдиво.
Мрачные молодые глаза на красивом лице, статная фигура, расправленные плечи – он прямо стоял на своем огороженном месте, а душа внутри извивалась. Его вынудили ответить на новый вопрос – такой же точный и бесполезный, как и предыдущий. Потом он опять выжидающе замолчал. Во рту сначала почувствовалась пресная сухость, как от пыли, потом соленая горечь, как от морской воды. Отерев влажный лоб, Джим облизнул губы. По спине пробежали мурашки. Грузный заседатель опустил веки и продолжил беззвучно барабанить по бумаге, безучастный и скорбный. Глаза его коллеги, глядевшие поверх обожженных солнцем сцепленных рук, казалось, излучали добродушие. Судья качнулся вперед, так что бледное лицо нависло над цветами, а потом переместил вес своего тела на один из подлокотников и подпер висок рукой. Панки создавали ветер, овевавший и темнолицых местных жителей в объемных складчатых одеждах, и европейцев, которые, держа на коленях тропические шлемы, потели в тиковых костюмах, облепленные ими как второй кожей. Босоногие служители проворно скользили туда-сюда вдоль стен – бесшумные, как привидения, и настороженные, как охотничьи собаки. Длинные белые одеяния были застегнуты на все пуговицы и перевязаны красными поясами, которые перекликались с красными тюрбанами.
Взгляд Джима, блуждавший по залу во время пауз между ответами, остановился на белом мужчине, сидевшем отдельно от остальных. Лицо выглядело изношенным и угрюмым, но спокойные ясные глаза смотрели открыто и с интересом. Ответив на новый вопрос, Джим чуть было не вскричал: «Да какой от этого прок? Какой прок?!» Он слегка топнул ногой, прикусил губу и посмотрел, отвернувшись от судьи, поверх голов. Он снова встретил взгляд того белого мужчины, который не смотрел на него завороженно, как остальные: в этих глазах ощущались и ум и воля. Между вопросами Джим до того забывался, что позволял себе размышлять. «Этот парень, – думал он, – глядит на меня так, будто видит кого-то за моим плечом». Они уже где-то встречались: может быть, на улице, – но Джим был уверен, что никогда не говорил с тем человеком. В течение многих дней он вообще ни с кем не говорил. Только вел беззвучный, бессвязный и бесконечный разговор с самим собой, как узник, запертый в одиночной камере, или путник, заблудившийся в пустыне. Сейчас Джим отвечал на вопросы, имевшие цель, но не имевшие смысла, и не знал, заговорит ли еще хоть раз до конца своей жизни. Слыша собственные правдивые слова, он утверждался в своем и без того устойчивом мнении: от дара речи ему больше не будет пользы. И тот мужчина, видимо, понимал безнадежную тяжесть его положения. Джим посмотрел в белое лицо, бросившееся ему в глаза, и решительно отвернулся, как после окончательного расставания.
Впоследствии в далеких уголках мира у Марлоу много раз возникало желание вспомнить Джима – вспомнить обстоятельно, в подробностях и вслух, – например, после ужина, сидя на веранде, укутанной в неподвижную листву и коронованную цветами, среди глубокого сумрака с огненными крапинами тлеющих сигар. В каждом плетеном кресле – молчаливый слушатель. Иногда какой-нибудь из красных огоньков приходит в движение: удлиняясь, он освещает пальцы ленивой руки и часть лица, умиротворенного отдыхом. Или же в алой вспышке появляются задумчивые глаза и безмятежный лоб. При первом же слове тело Марлоу, растянувшееся в кресле, застывает, как будто крылатый дух преодолел толщу времени и, заставляя губы шевелиться, говорит из прошлого.
Глава 5
– Да, я был на суде, – начинает он. – До сих пор не могу понять, зачем я туда пошел. Я охотно соглашусь верить в ангела-хранителя, который есть у каждого из нас, если вы, ребята, не станете спорить с тем, что все мы также имеем приятелей среди чертей. Я ни в чем не хочу чувствовать себя особенным, а между тем точно знаю: он, то есть черт, у меня есть. Я его, конечно, не видел, зато располагаю массой косвенных доказательств. Он наверняка существует. По натуре он злобен и вечно подстраивает для меня всякое такое. «Какое такое?» – спросите вы. Я имею в виду мое присутствие на разбирательстве и эту историю с желтой собакой… Вы ведь не думаете, будто это обычное дело, чтобы паршивой дворняге позволяли путаться у людей под ногами на крыльце магистратского суда? Так вот… Бес подсовывает мне что-то такое, что необъяснимым и поистине дьявольским образом притягивает людей со слабыми местами, с излишне твердыми местами, со скрытыми позорными клеймами – боже мой! – причем не только притягивает! При виде меня у них развязываются языки для душераздирающих признаний. Как будто мне собственных тайн мало, как будто мне самому не из-за чего терзаться до конца моих дней! Господи, помоги! И за что такая милость, хотел бы я знать? Да будет вам известно, забот у меня не меньше, чем у всякого другого, и память не свободнее, чем у любого странника в этой долине, так что, как видите, я не очень-то гожусь в исповедники. Тогда зачем мне все эти признания? Ума не приложу. Разве только затем, чтобы пересказывать их после ужина? Чарли, дружище, ты так славно нас угостил, что теперь для этих господ даже игра в роббер – слишком бурное развлечение. Они развалились в твоих удобных креслах и думают про себя: «Чем утруждаться, пускай лучше Марлоу болтает».
Болтать? Извольте. О мастере Джиме говорить легко. Особенно после нескольких хороших блюд, на высоте двухсот футов над уровнем моря, с ящичком приличных сигар под рукой, таким славным вечером, как этот. Когда воздух свеж и звезды светят, даже лучшим из нас хочется забыть, что мы здесь только гости и нам придется идти дальше, трясясь над каждой минуткой, терзаясь из-за каждого непоправимого шага и надеясь все-таки выкрутиться благополучно (хотя уверенными быть нельзя – при том как мало помощи от тех, кто задевает нас локтями справа и слева). Известное дело, везде находятся люди, для которых вся жизнь будто отдых с сигарой после ужина – легкое, приятное, пустое время, оживляемое разве что какой-нибудь историйкой, которая забудется, прежде чем ты узнаешь ее конец. Конец… Если таковой, конечно, есть.
Я впервые встретился с ним взглядом, когда его допрашивали. Видите ли, на то разбирательство пришли все, кто был хоть как-то связан с морем, потому что история наделала шуму. Все только о ней и кудахтали, с тех пор как пришла загадочная телеграмма из Адена. Загадочная, хотя и не сообщавшая ничего, кроме фактов – таких голых и безобразных, какими они только могут быть. Утром я одевался в своей каюте и через переборку услышал, как мой зороастриец Дубаш болтает о «Патне» с экономом в кладовой за чашкой чая. На суше первый же знакомый, которого я встретил, с ходу говорит мне: «Слыхал ли ты когда-нибудь что-нибудь подобное?» И все, с кем я ни сталкивался, либо цинически ухмылялись, либо имели печальный вид, либо бормотали под нос ругательства – кто как, смотря что за человек. Даже незнакомые люди запросто заговаривали друг с другом об этой странной истории – лишь бы выплеснуть накипевшее. Вот уж была радость для всяких бездельников – любителей выпить за чужой счет! О «Патне» судачили в портовой конторе, у каждого судового маклера, у каждого агента. Судачили белые, местные, полукровки. Это слово не сходило с языка у лодочников, которые сидели, полуголые, на каменных ступенях. Боже правый! Многие негодовали, кто-то шутил, и все не переставая гадали, что же стало с теми людьми. Прошло недели две или даже больше, и стало ясно: разгадка тайны скорее всего окажется печальной. Но вот одним прекрасным утром, стоя в тени у крыльца портовой конторы, я увидел четверых мужчин, идущих мне навстречу по набережной. Сначала я не мог понять, откуда вдруг взялась эта странная компания, а потом мысленно воскликнул: «Так это же они!»
Это точно были они: трое собственной персоной и с ними четвертая персона – до того огромная в поясе, что и ремней-то таких, я думал, не делают. Хорошо позавтракав, они сошли с парохода компании «Дейл лейн», который причалил где-то через час после восхода солнца. Ошибки быть не могло. Шкипера «Патны» я узнал сразу: это был самый толстый человек в благословенных тропиках, обхвативших кольцом нашу старушку землю. К тому же месяцев за девять до того я встречался с ним в Семаранге. Пока его корабль загружали, он бранил тиранические институты Германской империи и целыми днями сосал пиво у Де Джонга. Однажды Де Джонг, который не моргнув глазом брал по гульдену за бутылку, отозвал меня в сторону, сморщил свою физиономию, похожую на кожаный мешочек, и доверительно говорит: «Торговля есть торговля, капитан, но этот человек – меня от него тошнить. Тьфу!»
Итак, я смотрел на него из тени. Он шел торопливо, немного опережая своих товарищей. Солнце лупило прямо по нему, и от этого его тело казалось еще огромнее. Он напомнил мне циркового слоненка, шагающего на задних ногах. Правда, надо признаться, в нем было нечто величественное – при всей нелепости его вида. Он сошел на берег в грязной пижаме, ярко-зеленой с оранжевыми вертикальными полосками, и в поношенных соломенных туфлях на босу ногу. На голове был выброшенный кем-то тропический шлем, очень замусоленный и на два размера меньше, чем нужно (эта штуковина не держалась бы на большой голове, если бы не веревка из манильской пеньки). Неудивительно, что этакому толстяку нелегко было одолжить у кого-нибудь подходящую для себя одежду. Так значит, идет он, не глядя по сторонам, разгоряченный от спешки, проходит мимо меня на расстоянии каких-нибудь трех футов и в простоте душевной лезет по ступеням в контору, чтобы сделать заявление или дать показания – называйте, как хотите.
Насколько мне известно, первым делом капитан «Патны» обратился к главному инспектору по найму. Арчи Рутвел как раз только что пришел и, по собственным его словам, собирался начать свои тяжкие труды с нагоняя старшему клерку. Может, кто-нибудь из вас знает этого услужливого маленького португальца-полукровку с жалкой тонкой шейкой, который вечно норовит выклянчить у капитанов что-нибудь съестное: кусок соленой свинины, мешочек печенья, немного картошки… Однажды, помнится, я отдал ему живую овцу из своих корабельных запасов. Не то чтобы мне было от него что-то нужно – нет, пользы от него ждать не приходилось. Просто я был тронут тем, как наивно он верит в священность своих притязаний. Эта вера была так сильна, что казалась почти прекрасной. Раса вернее, две расы – и климат… Ну да ладно. Зато теперь я знаю, кто мне друг навеки.
Так вот: Рутвел, стало быть, читал своему клерку суровую нотацию – лекцию о нравственности чиновника, – когда услышал позади себя какой-то шум. Обернулся и увидел, как он сам выразился, нечто огромное и круглое. На середину просторной комнаты словно выкатилась громадная бочка из-под сахара, завернутая в полосатый фланелет. Рутвел уверяет, будто от удивления даже не сразу сообразил, что эта бочка живая. Сидел себе и не понимал, как и зачем к нему в контору доставили такой громоздкий предмет. В приемную набилось полным-полно опахальщиков, уборщиков и полицейских служителей, прибежали матросы и рулевой с парового катера – можно было подумать, что начался мятеж. Все вытягивали шеи и чуть не на головы друг другу лезли, силясь заглянуть в контору. Тем временем капитан «Патны» сумел кое-как стянуть привязанный к голове шлем и с легкими поклонами двинулся на Рутвела, который, по собственному его признанию, пришел в такое смятение, что поначалу слушал и не понимал, чего этому видению нужно. Оно говорило хриплым и мрачным, но уверенным голосом. Постепенно Арчи сообразил: речь идет о «Патне». И тогда ему сразу стало не по себе, ведь он малый впечатлительный и его легко расстроить. Собравшись с духом, он крикнул:
– Стойте! Я к таким делам отношения не имею. Вам нужно к начальнику. А я не могу вас слушать. Ступайте к капитану Эллиоту. Туда, туда.
Рутвел вскочил, обежал вокруг своего длинного стола и принялся то тянуть, то толкать посетителя. Капитан был удивлен, но поначалу не сопротивлялся. Только у самого входа в кабинет начальника порта в нем проснулся какой-то животный инстинкт: он уперся и фыркнул, как испуганный вол.
– Погодите! Да что такое? Пустите же!
Арчи без стука распахнул дверь.
– Капитан «Патны», сэр! – прокричал он. – Входите, капитан.
Старик, писавший какую-то бумагу, так резко выпрямился, что с носа свалилось пенсне. Едва завидев начальника, Арчи захлопнул за капитаном дверь и спасся бегством в свой кабинет. Ему на подпись принесли кое-какие документы, но он говорит, будто не мог вспомнить, как пишется его собственная фамилия, – такой шум поднялся за стенкой. Арчи – самый чувствительный инспектор по найму в обоих полушариях. Говорит, он так терзался, будто бросил человека в пасть голодному льву. Крику в самом деле было немало. С улицы я слышал, как бушевал папаша Эллиот, и у меня есть все основания полагать, что эти звуки разнеслись аж по всей эспланаде до оркестрового павильона. За словом старику лезть в карман не приходилось, и голосом природа его не обделила, а на кого кричать, ему было все равно. Думаю, он запросто наорал бы на самого вице-короля. Вот как он мне это объяснял: «Выше, чем я есть, мне уже не взобраться. Пенсию я заработал, да и отложено кое-что. А потому, если им там не нравятся мои представления о долге, я хоть завтра уеду домой. Человек я старый и всю жизнь говорил что думал. Единственное, чего бы я хотел, – это чтобы мои девочки вышли замуж прежде, чем я умру». Замужество дочерей было его пунктиком. Эти три особы, хотя и очень недурные собой, ужасно походили на него. И если утром он вставал, озабоченный их брачными перспективами, то от одного его вида вся контора начинала трепетать, гадая, кого же он сожрет за завтраком. Ренегата Эллиот, однако, не сожрал. Если позволите мне такую фигуру речи, он разгрыз его на крошечные кусочки и, пардон, выплюнул.
Через несколько секунд чудовищная туша спешно покинула здание портовой конторы и застыла на ступенях рядом с тем местом, где стоял я. Капитан «Патны», глубоко задумавшись, стал грызть ноготь большого пальца. Толстые пурпурные щеки тряслись. Наконец он остановил сердитый косой взгляд на мне. Трое его товарищей ждали чуть поодаль. Один был маленький, гадкий, пожелтевший, с подвязанной рукой. Другой (тип с висячими седыми усами и в синей фланелевой куртке) – длинный, сухой как щепка, не толще древка метлы. Он озирался по сторонам с видом какого-то самоуверенного тупоумия. Третий, крепкий широкоплечий молодой парень, стоял к двум другим спиной, держа руки в карманах, и в их оживленном разговоре не участвовал, просто неподвижно глядел на пустую эспланаду. Подъехала какая-то пропыленная развалина, завешанная жалюзи. Возница, закинув правую ступню на левое колено, принялся критически осматривать пальцы. Молодой человек с «Патны» не двинулся с места, даже головой не пошевелил, а все смотрел на залитую солнцем набережную. То был первый раз, когда я увидел Джима. Он казался таким равнодушным и неприступным, какими люди могут казаться только в юности. Чистое лицо, чистые очертания тела, ноги, твердо стоящие на земле… Казалось, никогда еще солнце не освещало более многообещающего юноши. Глядя на него и зная то, что он знал, и даже побольше, я так разозлился, будто поймал его на попытке чего-то добиться от меня ложными посулами. Он не имел права выглядеть таким надежным! «Если даже парни этого сорта настолько сильно сбиваются с пути…» – сказал я себе. Мне захотелось бросить шляпу под ноги и танцевать на ней от горчайшей досады. (Шкипер одного итальянского парусника именно так и поступил на моих глазах со своей фуражкой, когда его болван помощник натворил бед, пытаясь с ходу поставить судно на два якоря на рейде, где было полным-полно других кораблей.) Видя кажущееся спокойствие этого юнца, я спрашивал себя: он просто дурак? Или чурбан? Можно было подумать, он вот-вот начнет насвистывать песенку. Заметьте: поведение двух других типов меня нисколько не беспокоило. Они, так сказать, совершенно вписывались в ту историю, которая уже успела сделаться всеобщим достоянием и скоро должна была стать предметом судебного разбирательства.
– Этот полоумный старый негодяй, который сидит там наверху, обозвал меня собакой, – заявил капитан «Патны».
Не знаю, вспомнил ли он, что мы уже встречались. Скорее всего да. Наши взгляды пересеклись. Он сверкнул глазами, я улыбнулся. «Собака» – это было самое мягкое из всех слов, которые долетели до меня через открытое окно.
– Неужели? – отозвался я, по какой-то непонятной причине не сумев просто промолчать.
Капитан «Патны» кивнул, снова прикусил большой палец, тихо выругался, а потом поднял глаза на меня и с угрюмо-страстным бесстыдством произнес:
– Ха! Тихий океан большой, мой друг! Вы, чертовы англичане, можете делать што угодно. Ничего, я знаю, где для такого человека, как я, есть достаточно места. У меня знакомстфа в Апии, в Гонолулу…
Он задумался, а я без труда вообразил себе, какого рода «знакомстфа» имелись у него в тех местах. Не стану отрицать: я и сам знавал многих людей подобного сорта. Бывают времена, когда человеку приходится делать вид, будто ему одинаково сладко живется в любой компании. У меня тоже была такая пора, но, вспоминая о ней, я не собираюсь корчить кислую мину. Да, я вращался в дурном обществе, и у тех, с кем я тогда вынужденно сталкивался, отсутствовала моральная – как бы это сказать? – моральная позиция. Но как раз поэтому или же по другой не менее серьезной причине иметь с ними дело было в два раза поучительнее и в двадцать раз веселее, чем с теми респектабельными ворами-коммерсантами, с которыми вы, ребята, частенько садитесь за один стол даже безо всякой необходимости, а просто по привычке, по трусости, по доброте душевной и по сотне других столь же глупых и скользких причин.
– Вы, англичане, все подлецы, – продолжал мой патриотичный австралиец – то ли фленсбургский, то ли штеттинский (теперь уж не помню, какому славному маленькому балтийскому порту выпала сомнительная честь стать гнездом столь ценной птицы). – Кто вы такие, штобы кричать? А? Скажите мне! Вы ничем не лучше других людей! А этот старый мошенник, штоп его, разорался! – Большая туша, подпираемая ногами, как колоннами, ходила ходуном с головы до пят. – Фсегда вы так! Шумите из-за фсякой ерунды только потому, что я родился не в вашей проклятой стране. Заберите мою лицензию. Заберите – мне она не нужна. Такой человек, как я, обойдется без какой-то ферфлухте[15] лицензии. Плефать я на нее хотел! – Он сплюнул. – Лучше получать американиш граштанстфо!
Крича и дымясь, капитан «Патны» переминался с ноги на ногу, будто кто-то невидимый держал его за лодыжки, а он отчаянно пытался высвободиться. Еще чуть-чуть, и от него бы пошел дым – так он разгорячился. В том, что я не уходил, нет ничего загадочного: любопытство, самое банальное из человеческих чувств, заставляло меня ждать, как повлияет эта сцена на молодого человека, который, держа руки в карманах и повернувшись к тротуару спиной, смотрел поверх газонов эспланады на желтый портик отеля «Малабар». Казалось, он просто ждал приятеля, чтобы пойти на прогулку. Вот как он выглядел, и это было возмутительно. Я полагал, что его должны пронзать тревога и смущение, что он должен извиваться, как жук, насаженный на булавку. В то же время я некоторым образом боялся этого – думаю, вы меня понимаете. Нет ничего ужаснее, чем видеть человека изобличенным – не в преступлении, но в более чем преступном малодушии. Для того чтобы не сделаться нарушителем закона, достаточно обыкновенного присутствия духа. Однако никто из нас не защищен от слабости – такой, о которой мы не знаем, но которую, вероятно, подозреваем в себе (подобно тому как в некоторых частях света нам под каждым кустом мерещится ядовитая змея). Эта слабость может таиться в нас вне зависимости от того, наблюдаем ли мы за ней или нет, просим ли Бога защитить нас от нее или относимся к ней с мужественным пренебрежением, подавляем ли мы ее на протяжении десятилетий или пытаемся не замечать. Подталкиваемые ею, мы совершаем то, за что нас могут осыпать оскорблениями, если не повесить. Но дух – он, право же, способен пережить и осуждение, и даже виселицу! А есть вещи на первый взгляд довольно незначительные, однако совершенно пагубные для некоторых людей. Я смотрел на того юнца, и мне нравилась его внешность. Было видно, что он один из нас. В тот момент он как бы представлял в моих глазах всех себе подобных – мужчин и женщин, которых нельзя назвать ловкими или веселыми, но которые строят свое существование на фундаменте честности и обладают притом инстинктом мужества. Это мужество не боевое и не гражданское, это вообще не какая-либо особенная разновидность отваги. То, о чем я говорю, есть всего лишь врожденная способность смотреть искушению прямо в лицо. Она имеет мало общего с интеллектом, зато и позерство ей чуждо. Эта сила сопротивления груба, если хотите, и тем не менее бесценна. Она есть нерассуждающая благословенная стойкость перед внешними и внутренними страхами, перед могуществом природы и соблазнительной порочностью людей, поддерживаемая честностью, неуязвимой ни для фактов, ни для дурных примеров, ни для подстрекательства идей. К черту идеи! Они, эти бродяги, стучатся в наши умы с черного хода и каждый раз уносят с собой частичку нашей сущности, крупицу нашей веры в те простые вещи, за которые мы должны крепко держаться, если хотим достойно жить и легко умереть!
Впрочем, к Джиму все это прямого отношения не имело. И все-таки внешне он был похож на тех, кого мы так охотно берем в попутчики: славных глупых малых, невосприимчивых к капризам интеллекта и, так сказать, извращениям нервов. Стоит мне только увидеть такого парня, я тотчас готов доверить ему палубу – и в фигуральном, и в профессиональном смысле. Я знаю, что говорю, – мне ли не знать? Ведь скольких ребят я сам сделал моряками – то есть обучил ремеслу, секрет которого легко уместить в одну короткую фразу. Я снова и снова вбивал ее в молодые головы, чтобы она надежно укоренилась в них, проникла в каждую мысль и в каждый юношеский сон. Море было ко мне благосклонно, однако и я, по-моему, не остался перед ним в долгу. Так, во всяком случае, мне кажется, когда я вспоминаю мальчишек, прошедших через мои руки: многие из них уже достигли зрелости, некоторые погибли, но все они стали хорошими моряками. Готов побиться об заклад: если завтра мне придется вернуться домой, то не пройдет и двух дней, как у ворот какого-нибудь дока я встречу загорелого парня на голову выше меня ростом, и он скажет мне сочным молодым баском: «Вы меня не узнаете сэр? Я такой-то. Плавал под вашим началом на таком-то корабле. То был мой первый рейс». И тогда я вспомню растерянного мальчика не выше спинки этого кресла. Вспомню его матушку и, вероятно, старшую сестрицу: они молча стояли на причале и от огорчения не могли даже махать платочками вслед плавно ускользавшему кораблю. А может быть, паренька провожал почтенный отец: привез сына рано утром и решил ненадолго остаться – для того, конечно же, чтобы увидеть, как работает брашпиль[16]. В итоге он остался надолго и даже слишком надолго. Спрыгнул на берег в последний момент, не успев ничего сказать на прощание. Как сейчас слышу голос рейдового лоцмана, который говорит мне с кормы, растягивая слова: «Господин помощник капитана, подождите минуточку! Тут джентльмен сойти хочет… Сюда, сэр, сюда. Чуть не уехали в Талькауано, да? Вот так. Осторожнее. Порядок. Все, ребята, можно!» Буксиры, адски дымя, взбивают старушку реку в яростную пену. Джентльмен на берегу отряхивает колени. Благодушный эконом бросает ему забытый зонт. Все так, как полагается. Отец принес морю маленькую жертву и теперь должен вернуться домой, делая вид, будто нисколько не огорчен. Сама жертва (разумеется, добровольная) в ближайшие же сутки успеет основательно познакомиться с морской болезнью. Но постепенно парнишка овладеет всеми маленькими премудростями и одной великой тайной ремесла. Он будет готов жить или умереть, как пожелает море. И если ты решился играть со стихией в эту игру, в которой человек обречен на проигрыш, то тебе всякий раз бывает приятно, когда увесистая молодая лапа хлопает тебя по спине и бодрый молодой голос говорит: «Помните меня, сэр? Я такой-то…»
Поверьте, это действительно радует. Ты понимаешь: по крайней мере однажды в жизни ты сделал свою работу как надо. Однажды меня уже хлопнули вот так вот по спине, и я поморщился, потому что рука была тяжелая, но после этого сердечного приветствия я весь день ходил окрыленный и лег спать, чувствуя себя менее одиноким, чем прежде. Помню ли я малыша такого-то? Еще бы не помнить! В общем, мне ли не знать, как выглядят такие парни. Потому-то, если бы судил по внешности, я бы доверил Джиму палубу своего корабля и спокойно уснул бы. Но боже мой, как бы я ошибся! От этой мысли мне становится жутко. Молодой человек казался надежным, как новенький соверен, но в его золоте была какая-то дурная примесь. Совсем небольшая: одна капля – не больше! И все-таки в этой единственной капле содержалась редкая отрава, из-за которой весь сплав, вероятно, стоил не больше латуни.
Именно такое подозрение Джим вызывал у меня, когда стоял с наплевательским видом перед портовой конторой. Я не мог поверить собственным глазам. Говорю вам: ради профессиональной чести я хотел, чтобы он терзался. Два других типа, о которых и говорить-то не стоит, увидали своего капитана и не спеша двинулись ему навстречу, болтая между собой. Ими я интересовался не больше, чем какими-нибудь существами, невидимыми для невооруженного глаза. Судя по ухмыляющимся физиономиям, они обменивались шутками. Один держал руку, видимо сломанную, на перевязи. Во втором, долговязом, я по вислым седым усам узнал старшего механика «Патны» – личность во многих отношениях печально известную. Это были два ничтожества. Итак, они подошли. Шкипер неподвижно уставился на мостовую у себя под ногами. Казалось, он раздулся до противоестественных размеров по причине какой-то ужасной болезни или под действием какого-то неизведанного яда. Подняв голову, капитан увидел двух своих подчиненных, его одутловатую физиономию исказила насмешливая гримаса, и он открыл было рот, чтобы что-то сказать, но тут его, похоже, осенила некая мысль. С характерным звуком сомкнув толстые лиловатые губы, он решительным утиным шагом подошел к остановившейся у тротуара повозке и стал дергать ручку с таким неистовым нетерпением, что я бы не удивился, если бы ветхий экипаж опрокинулся вместе с лошадью. Встряска заставила возницу прервать созерцание собственной ступни. Обернувшись и увидев, как огромная туша пытается протиснуться в дверцу повозки, бедняга в ужасе вскинул обе руки. Убогое средство передвижения отчаянно раскачивалось, наклоненная толстая шея раскраснелась, жирные бедра напряглись, необъятная оранжево-зеленая спина вздымалась. При виде того, как эта грязная полосатая масса словно бы старается вырыть себе нору, легко было усомниться в реальности происходящего. Стало смешно и страшно, как от гротескного правдоподобия тех видений – пугающих и вместе с тем завораживающих, – которые посещают человека в лихорадке. Капитан «Патны» исчез. Я почти ожидал, что крыша разломится надвое и что вся повозка треснет, как коробочка хлопчатника, но она только просела, лязгнув рессорами, после чего шумно опустилась одна из штор-жалюзи. Затем через маленькое отверстие снова показались плечи капитана и разъяренная, потеющая, брызжущая слюной голова, похожая на привязной аэростат. Кулак, красный, как кусок сырого мяса, сделал в сторону возницы несколько угрожающих движений, сопровождаемых громоподобным приказом ехать. Куда? Может быть, к Тихому океану. Возница хлестнул пони, тот фыркнул, стал на дыбы и рванулся с места галопом. Куда? В Апиа? В Гонолулу? В распоряжении капитана «Патны» было шесть тысяч миль тропического пояса, а точного адреса я не услышал. Фыркающий пони в мгновение ока умчал своего грузного седока в ewigkeit[17], и больше я никогда не видел шкипера. Никто из известных мне людей ничего не слышал о нем, после того как он был унесен из поля моего зрения маленькой повозкой, которая скрылась за поворотом, подняв облако белой пыли. Он уехал, исчез, испарился, совершил побег. И, как это ни абсурдно, у меня сложилось впечатление, будто повозку с лошадью и возницей он забрал с собой. Так или иначе, с тех пор я ни разу не встречал гнедого пони с рваным ухом, понукаемого апатичным тамилом, которого мучила мозоль на ступне. Тихий океан действительно большой. Нашлось ли на его просторах место, где капитан «Патны» сумел проявить свои таланты, мне неизвестно. Я знаю одно: шкипер улетел, как ведьма на метле. Низкорослый типчик с перевязанной рукой заблеял вслед повозке: «Капитан! Куда же вы? Капита-а-ан!» Сделав несколько шагов в том направлении, куда уехал шкипер, коротышка остановился и, понурив голову, медленно побрел назад. Молодого человека шум загрохотавших колес заставил резко, не сходя с места, повернуться. Не делая никаких других движений или жестов, он остался стоять в таком положении после того, как повозка исчезла из виду.
Все это произошло гораздо быстрее, чем длится мой рассказ. Дело в том, что я пытаюсь при помощи медлительных слов передать вам мгновенное действие зрительных впечатлений. В следующую секунду на сцене появился клерк-полукровка, которому Арчи поручил принять необходимые меры в отношении бедных моряков, потерпевших крушение. С готовностью бросившись выполнять задание, клерк выбежал из конторы с непокрытой головой и стал озираться. В отношении главного объекта его миссия была обречена на неудачу. Поняв это, он с суетливо-важным видом подошел к оставшимся троим и сразу же оказался втянут в неистовую перебранку с коротышкой, у которого была сломана рука: тому, по всей видимости, не терпелось с кем-нибудь поскандалить. Дескать, он, второй механик «Патны», не позволит собой командовать: он, черт подери, не из этаких! Чтобы какой-то нахальный писаришка-метис запугал его своим враньем? Ну уж нет! Даже будь все «взаправду так», он не потерпит угроз от «субъектов подобного сорта». Наконец он проревел о своем желании, о своем решении, о своем бесповоротном намерении отправиться в постель. «Не будь ты жалкий португалец, – прокричал разбушевавшийся коротышка, – ты бы увидел, что мне место в больнице!» С этими словами он сунул кулак здоровой руки клерку под нос. Начала собираться толпа. Полукровка, изо всех сил стараясь сохранять солидный и горделивый вид, принялся разъяснять свои намерения. Я ушел, не дожидаясь развязки.
Так случилось, что в то время в госпитале лежал один из моих людей. Придя навестить его накануне судебного разбирательства, в палате для белых мужчин я увидел того крикливого коротышку: он метался, лежа на спине, очевидно, в бреду, на руку была наложена шина. К моему великому удивлению, второй тип – тот, что с вислыми усами, – тоже каким-то образом туда попал. Я вспомнил, что во время перебранки возле портовой конторы он улизнул с набережной, шаркая ногами, но притом едва ли не вприскочку и изо всех сил пытаясь скрыть испуг. В том порту он был не впервые и, по всей видимости, прямиком направился в заведение Мариани возле базара. Этот мошенник Мариани, содержатель бильярдной и винного погребка, знал старшего механика «Патны», не раз проворачивал с ним вместе всякие делишки и чуть ли не ноги ему целовал. Он предоставил ему комнату на втором этаже своего притона и запас бутылок. Похоже, усатый ощущал какую-то смутную угрозу для своей безопасности и потому пожелал от всех скрыться. Много позднее сам Мариани (явившись ко мне на борт, чтобы получить с эконома долг за сигары) сказал мне, что сделал бы для своего друга механика много больше, не задавая лишних вопросов, – насколько я понял, в благодарность за какую-то давнюю противозаконную услугу. В огромных вытаращенных глазах кабатчика, черных с яркими белыми уголками, заблестели слезы, когда он, дважды ударив себя кулаком в мускулистую грудь, произнес: «Антонио никогда не забывать! Никогда!» В чем именно заключалось то аморальное обязательство, которое связывало Мариани, я так и не узнал, но что бы это ни было, механик «Патны» получил возможность сколько угодно сидеть под замком в каморке, вся обстановка которой состояла из стола, стула, матраца в углу да осыпавшейся штукатурки на полу. Пребывая в иррациональном состоянии страха и подавленности, он двое суток подбадривал себя напитками, предоставляемыми Антонио, а вечером третьего дня из каморки послышалось несколько ужасающих воплей. Атакуемый легионом многоножек, механик распахнул дверь, одним отчаянным прыжком преодолел шаткую лестницу, приземлился на живот Мариани, быстро встал и, как кролик, выскочил на улицу. Утром полицейские нашли его в мусорной куче. Сначала он подумал, что его тащат на виселицу, и стал геройски бороться за свободу. Но к тому моменту, когда я присел около его кровати, он уже дня два как затих. Осунувшееся бронзовое лицо с белыми усами благообразно покоилось на подушке. Я мог бы подумать, будто передо мной раненый солдат с детской душой, если бы не призрачная тревога в блеске пустых глаз – неопределенный страх, словно крадущийся за стеклом. Старший механик «Патны» казался настолько спокойным, что у меня даже возникла сумасбродная надежда услышать его точку зрения на происшествие, наделавшее столько шуму. Говоря откровенно, мне не терпелось зарыться в неприглядные обстоятельства дела, которое в конечном счете касалось меня только как части расплывчатого множества людей, объединяемых бесславным трудом и определенными правилами поведения. Причины своего любопытства я объяснить не могу. Называйте его нездоровым, если угодно. Но совершенно праздным оно не было. Я хотел что-то найти. Вероятно, я, сам того не осознавая, искал какую-нибудь глубинную причину, объясняющую поступок молодого моряка и хотя бы отчасти его оправдывающую. Теперь я вполне отчетливо вижу несбыточность тогдашней моей надежды. Ибо невозможно похоронить самую упрямую тень, преследующую человека на протяжении всей истории, – тайное сомнение, которое окутывает нас, как туман, гложет, как червь, и холодит сильнее, чем определенность смерти. Если мы однажды усомнились в том, что власть принятого и коронованного кодекса чести незыблема, то переступить через это, не споткнувшись, будет крайне трудно. Такое сомнение порождает панические крики и весьма нередко ведет к злодеяниям. Оно верный спутник катастрофы. Так неужели я поверил в чудо? Да еще и так пылко? Возможно, ища оправдание поступку незнакомого мне молодого человека, я старался не столько ради него, сколько ради самого себя. Одного вида этого парня было достаточно, чтобы его слабость вызвала у меня тревогу личностного свойства и явилась в моих глазах ужасающей тайной, знаком печальной участи всех тех, чья юность в свою пору была похожа на его юность. Боюсь, подлинная причина моей пытливости именно такова. Несомненно, я ждал чуда. Но единственным во всей этой истории, что я сегодня мог бы назвать чудесным, была моя собственная глупость. Ведь я всерьез надеялся услышать от жалкого больного – всем известного мошенника – нечто способное изгнать злой дух моего сомнения, причем надежда моя, похоже, приняла отчаянную форму. После нескольких бессмысленно дружелюбных фраз, на которые он откликнулся охотно, хотя и вяло (как полагается приличному больному), я, не теряя времени, извлек на свет божий слово «Патна», завернув его, словно в нежнейший шелк, в деликатную вопросительную интонацию. Деликатность моя была эгоистична. Я щадил этого человека только потому, что не хотел спугнуть. Ни злости, ни искренней жалости я к нему не испытывал. Сам по себе его опыт не имел для меня никакой ценности, и о его оправдании я не беспокоился. Он состарился, погрязнув в мелких преступлениях, и больше не мог вызывать ни отвращения, ни сочувствия.
– «Патна»? – переспросил он и, как будто бы с трудом припомнив это слово, ответил: – Да, да. В здешних краях я чего только не повидал… Она утонула на моих глазах.
Я уже готов был встретить эту глупую ложь всплеском негодования, но механик прибавил:
– Она кишела рептилиями.
Я промолчал. Что он имел в виду? Блуждающий фантом страха в его глазах словно остановился и печально поглядел в мои. Больной задумчиво продолжил:
– Меня подняли среди ночи, чтобы смотреть, как она тонет.
В голосе больного вдруг зазвучала пугающая сила. Я пожалел о своем сумасбродстве. Нигде поблизости не виднелся белокрылый чепец сестры. Палата была почти пуста. В середине длинного ряда железных коек лежал какой-то моряк, с которым на рейде произошел несчастный случай. Сейчас он сел на постели – коричневый от солнца, худой, с небрежной повязкой на голове. Внезапно мой занятный собеседник вытянул костлявую руку и, как клешней, ухватил меня за плечо.
– Только я один мог разглядеть. Мое острое зрение всем известно. Затем, я думаю, меня и позвали. Никто из них не успел увидеть, как это началось. Но потом-то они увидели. И запели все вместе вот этак.
Раздался волчий вой, проникший даже в самые дальние уголки моей души.
– Ох… Сделайте так, чтоб он заткнулся! – простонала жертва несчастного случая.
– Вы, кажется, не верите мне? – произнес механик с выражением неописуемого самодовольства. – Говорю вам чистую правду: других таких глаз, как мои, вы по эту сторону Персидского залива не найдете. Загляните-ка под кровать.
Я, разумеется, нагнулся. Сомневаюсь, чтобы кто-нибудь на моем месте сумел бы воспротивиться любопытству.
– Что видите? – спросил механик.
– Ничего, – ответил я, стыдясь собственной наивности.
Он устремил на меня дикий взгляд, полный иссушающего презрения, и сказал:
– То-то же! А если бы я заглянул, я бы увидел! Говорю же вам, ни у кого нет таких глаз, как мои.
Механик снова схватил меня и заставил сесть. Ему не терпелось снять с себя груз своей тайны.
– Миллионы розовых жаб, – сказал он. – Никто их не видит – только я. Миллионы розовых жаб. Это еще хуже, чем глядеть, как тонет корабль. Глядеть на тонущие корабли я мог целыми днями, покуривая трубочку. А почему мне сейчас ее не дают? Я всегда курил, когда смотрел на жаб. Корабль ими кишел. Кто-то, знаете ли, должен был за ними следить.
Механик лукаво подмигнул мне. По моему лбу струился пот, тиковый пиджак прилип к спине. Послеобеденный бриз порывисто обдувал палату, заставляя шторы шевелить жесткими складками и греметь латунными кольцами. Края покрывал на пустых кроватях, выстроенных в ряд, бесшумно вздымались над голыми досками пола. Я весь трясся. Мягкий тропический ветерок, разгулявшийся по комнате, казался мне ледяным: я словно перенесся домой, на север, и спрятался в сарае от зимней бури.
– Не дайте ему разораться, мистер! – издалека прокричала жертва несчастного случая.
Огорченный и рассерженный голос этого человека звучал в пустой палате как в туннеле. Механик снова дернул меня за плечо и заговорщицки сощурился.
– Корабль ими кишел, знаете ли, и мы должны были от них избавиться, но только так, чтобы ни одна живая душа не узнала, – произнес он очень быстрым шепотом. – Все розовые. Все розовые и здоровенные, как мастиф. Одноглазые, с когтями вокруг пастей. Брр! Брр!
Под простыней, как от ударов гальванического тока, возбужденно задергались тощие ноги больного. Выпустив мое плечо, он стал хватать руками воздух. От напряжения тело задрожало, как отпущенная струна арфы, и в этот момент призрачный страх пробился сквозь стеклянную стену взгляда. Лицо старого солдата, благородное и спокойное, исказило выражение затаенного коварства, гнусной настороженности и отчаянного страха. Сдержав крик, он спросил, указывая на пол:
– Что они делают?
Этот жест и этот голос подействовали на меня, как вспышка какого-то зловещего фантастического света. Я понял, что они означают, и мне стало тошно от собственной догадливости.
– Спят, – сказал я, осторожно глядя на механика.
Я не ошибся: именно это слово он и хотел услышать. Именно оно его успокоило. Он глубоко вздохнул.
– Шшш! Тихо. Я в этих краях чего только не повидал. Знаю этих гадин. Как только какая-нибудь шевельнется, бахните ее по башке. Их там слишком много, а корабль дольше десяти минут не продержится… – После этих слов больной задышал учащенно. – Быстрей! – вскрикнул он, а потом стал кричать уже не переставая: – Они все проснулись! Их миллионы! Они меня затопчут! Но вы погодите! Погодите! Я перебью их как мух! Помогите же мне! Помоги-и-ите!
Когда бывший механик «Патны» перешел на нескончаемый монотонный вой, это сделалось совершенно невыносимо. Жертва несчастного случая горестно схватилась обеими руками за перебинтованную голову. На другом конце палаты показался санитар в фартуке до подбородка – такой крошечный, как если бы я посмотрел на него в подзорную трубу, поднеся ее к глазам не той стороной. Не буду скрывать: я обратился в бегство. Не говоря больше ни слова, выбрался на галерею через одно из низких окон. Вой преследовал меня, как мщение. Я вышел на площадку безлюдной лестницы, и тогда все внезапно стихло. Спускаясь по блестящим ступеням, я сумел упорядочить свои спутанные мысли. Внизу, во дворе, мне встретился один из хирургов, живших при той больнице. Он остановил меня и сказал:
– Приходили навестить подчиненного, капитан? Думаю, завтра мы его отпустим. И все-таки этот глупый народ не понимает, как нужно себя вести, чтобы сберечь здоровье. Кстати, у нас тут лежит старший механик того паломнического судна. Любопытный случай. Белая горячка в тяжелейшей форме. Он три дня пил не просыхая, пока сидел в том греческом или итальянском заведении. Сколько, по-вашему, он выпивал в день? Четыре бутылки тамошнего бренди – так мне сказали. Поразительно, даже невероятно! Внутри у него, должно быть, котельное железо. А голова? С головой, конечно, беда, но знаете, что любопытно? В его болтовне есть какая-то система, которую я пытаюсь разгадать. В том, как он бредит, прослеживается логика, и это очень необычно. Обыкновенно таким больным мерещатся змеи, а ему нет. Добрых старых традиций нынче никто не уважает. Эх! Он, видите ли, предпочитает земноводных. Ха-ха! Нет, правда: не помню, чтобы меня когда-нибудь прежде так сильно интересовали алкоголики. Он ведь, знаете ли, должен был умереть – после такого-то веселенького эксперимента. Крепкий оказался орешек! Двадцать четыре года в тропиках тоже, между прочим, не шутки. Вам бы в самом деле следовало на него взглянуть. Старый, почтенного вида пьяница. Удивительнейший человек из всех, кого я встречал. В медицинском отношении, разумеется. Так вы к нему зайдете?
До сих пор я, как принято в подобных случаях, вежливо кивал, но теперь, изобразив сожаление, пробормотал что-то о нехватке времени и торопливо пожал врачу руку.
– Да! – крикнул доктор мне вслед. – На суд-то он прийти не сможет. Думаете, его показания могли бы быть важными?
– Нет, я так не думаю, – ответил я, выходя за ворота.
Глава 6
Власти, очевидно, тоже так не думали и потому не стали откладывать разбирательство. Оно состоялось в назначенный день. Тем самым требования закона были соблюдены. А поскольку дело представляло особый, так сказать, человеческий интерес, то зал суда отнюдь не пустовал. Факты выглядели вполне определенно – по крайней мере один, самый существенный факт сомнений не вызывал. Выяснить же, каким образом «Патна» получила пробоину, было невозможно: суд не ставил перед собой такой задачи, и никого из присутствовавших это не волновало. Тем не менее, как я уже сказал, на заседание пришли все моряки, бывшие в городе, а также многие портовые служащие и торговцы. Сознавали они это или нет, их всех занимал вопрос сугубо психологического свойства. Они ждали какого-то открытия, притом чрезвычайно важного, которое касалось бы силы и ужасающего могущества человеческих эмоций. Подобные ожидания, разумеется, не могли быть оправданными. Из всего экипажа «Патны» только один человек оказался в состоянии и захотел предстать перед судом, и теперь он без толку ходил вокруг да около того, что и так все знали, а от задаваемых вопросов было не больше пользы, чем от стучания молотком по металлическому ящику, в котором спрятан искомый предмет. Впрочем, от официального разбирательства и не следовало ждать большего. Его предметом было не фундаментальное «почему», а поверхностное «как».
Тот молодой человек, вероятно, мог бы удовлетворить интерес собравшихся, но вопросы, которые ему задавали, без конца уводили его от того, что, на мой взгляд, и было единственной правдой, заслуживающей внимания. Уполномоченные власти, как правило, не интересуются ни состоянием души человека, ни тем, тонка ли у него кишка. Им полагается только разобраться в последствиях произошедшего. Да и, честно говоря, обыкновенный полицейский судья и два морских заседателя попросту не годились для чего-то иного. Я не хочу сказать, что эти трое были глупы. Судья оказался очень терпелив. А помогали ему шкипер парусного судна (набожного вида малый с рыжеватой бородой) и Брайерли, Большой Брайерли – капитан отличного судна компании «Блу стар». Кто-нибудь из вас, наверное, слышал о нем.
Так вот. Исполняя навязанную ему почетную обязанность, он, по всей видимости, страдал от скуки. Сам он за всю свою жизнь не совершил ни одной ошибки: с его судами никогда ничего не случалось. Он без заминок шел вверх по служебной лестнице, производя впечатление человека, которому неведома нерешительность, не говоря уж о недоверии к себе. В тридцать два года Брайерли уже командовал одним из лучших торговых судов на востоке. Свою «Оссу» он очень ценил: послушать его, так в целом мире не было другого такого корабля. Как и другого такого капитана – думаю, он признался бы в этом, если бы его спросили напрямую. Выбор пал на достойного человека. Ведь все прочие люди – те, кто не командовал стальным пароходом «Осса», делающим шестнадцать узлов в час, – были довольно жалкими созданиями, а он, Брайерли, спасал утопающих и помогал судам, терпящим бедствие. В благодарность за безупречную службу он получил от страховщиков золотой хронометр, а от одного иностранного правительства – бинокль с гравировкой. Эти заслуги и награды значили для него очень много. Я знаю людей (вполне дружелюбных и кротких), которые не переносили Брайерли. Мне же он нравился. Конечно, я нисколько не сомневался в том, что он не смотрел на меня как на равного себе. В присутствии такого человека нельзя не чувствовать собственной ущербности, будь ты хоть император Запада и Востока. Но я не обижался. Ведь он не презирал меня за мои поступки или за то, кем я был. Я имел в его глазах пренебрежимо малый вес только потому, что мне не посчастливилось быть Монтегю Брайерли, капитаном «Оссы», обладателем золотого хронометра и серебряного бинокля – свидетельств моих непревзойденных умений и несокрушимой отваги. Меня не переполняло чувство гордости за собственные заслуги и награды, я не был предметом обожания черного охотничьего пса – лучшей собаки на свете, которая так любила своего лучшего на свете хозяина, как никто никогда никого не любил. Конечно, мне нелегко было смириться с тем, что я настолько обделен судьбой, но моя обделенность роднила меня со всем остальным населением планеты (со многими миллионами более или менее человеческих существ), и это несколько утешало. Я терпел положенную мне долю добродушно-презрительной жалости ради чего-то неопределенного, что привлекало меня в Брайерли. Что именно это было, я и сам толком не понимал. Могу сказать лишь одно: иногда я ему завидовал. Жизненные невзгоды причиняли его самодовольной душе не больший ущерб, чем булавка – гладкой поверхности скалы. Это, конечно, вызывало зависть. На разбирательстве по делу «Патны» Брайерли сидел рядом с бледным, скромно державшимся судьей, являя и мне, и миру картину самоудовлетворенности, нерушимой, как гранит. Вскоре он покончил с собой.
Показания Джима, разумеется, навевали на Брайерли скуку, и я почти с ужасом думал о том, насколько безгранично должно быть его презрение к молодому человеку. На самом же деле он, вероятно, молчаливо расследовал собственное дело и в итоге признал себя виновным без смягчающих обстоятельств, а доказательства этой загадочной вины отправились вместе с ним на дно морское. Если я что-нибудь понимаю в людях, то дело, несомненно, касалось чего-то крайне важного – одной из тех мелочей, которые пробуждают идеи, порождают мысли, способные отравить жизнь человека, непривычного к их компании. У меня есть основания утверждать, что причиной самоубийства были не деньги, не пристрастие к спиртному и не женщина. Брайерли выбросился за борт через неделю после окончания разбирательства и через три дня после того, как «Осса» отправилась в рейс. Можно подумать, будто, дойдя до определенной точки фарватера, он вдруг увидел врата другого мира, настежь отворившиеся, чтобы его принять.
Но нет, это решение не было внезапным. Я знал седовласого помощника Брайерли – первоклассного моряка и дружелюбного малого. Правда, свое дружелюбие он распространял на всех, кроме командира, с которым держался на редкость угрюмо. Так вот этот человек со слезами на глазах поведал мне, как было дело. Утром, когда он поднялся на палубу, Брайерли что-то писал в штурманской рубке.
– Было без десяти четыре, – сказал старик. – То есть ночная вахта еще не закончилась. На мостике я перемолвился парой слов со вторым помощником, капитан услыхал мой голос и подозвал меня. Мне не хотелось идти. Стыдно признаться, но это ведь правда, капитан Марлоу: я терпеть не мог бедного капитана Брайерли. Никогда не знаешь, из чего человек сделан. Он слишком многих (не считая меня) обошел по службе и чертовски хорошо умел всех вокруг унижать: ему достаточно было только пожелать тебе доброго утра, и ты как будто становился меньше. Без служебной надобности, сэр, я никогда с ним не заговаривал, а когда это все же требовалось, с трудом сдерживался, чтобы не быть неучтивым. – (Здесь старик себе польстил: я всегда недоумевал, как Брайерли мирится с такими манерами.) – У меня есть жена и дети. Я прослужил компании десять лет и уже давненько ждал, что следующая капитанская вакансия будет моя. Дурак! Так значит, капитан мне говорит: «Подите сюда, мистер Джонс». Этак чванливо, как всегда: «Подите сюда, мистер Джонс». Я подошел. «Давайте отметим наше положение», – сказал он и склонился над картой с циркулем в руке. По уставу это должен был сделать вахтенный, перед тем как смениться. Я, однако, ничего не сказал, а только поглядел, как капитан поставил маленький крестик на месте, где мы тогда находились, и надписал время. До сих пор ясно вижу аккуратные цифры, которые он вывел: «семнадцать, восемь, четыре до полудня, а год был написан на верхнем поле красными чернилами. Больше года капитан Брайерли никогда не использовал одну и ту же карту. Та карта сейчас у меня. Ну так вот. Выпрямился он, посмотрел на крестик, улыбнулся сам себе, а потом говорит мне: «Еще тридцать две мили, и опасность будет позади. Тогда можете взять на двадцать градусов южнее». Мы как раз обходили с севера Гекторову отмель. «Хорошо, сэр», – отвечаю я, а сам не понимаю, чего это он суетится, ведь перед сменой курса я все равно должен буду к нему обратиться. Тут колокол ударил восемь раз. Мы поднимаемся на мостик, и второй помощник, прежде чем уйти, докладывает, как обычно: «Пройдена семьдесят одна миля». Капитан смотрит на компас, потом оглядывается по сторонам. Небо темное и ясное. Звезды видны, как в морозную ночь в высоких широтах. Вдруг он тихонько вздыхает и говорит: «Я пойду на корму и сам поставлю лаг на нуль, чтобы не было ошибки. Еще тридцать две мили этим курсом – и будете в безопасности. Давайте посмотрим: шесть процентов – поправка. Потом проходите тридцать по циферблату и сразу можете забирать на двадцать градусов вправо. Зачем нам терять расстояние? Незачем, верно?» Я никогда раньше не слышал, чтобы он говорил так много, да еще и без особой нужды, как мне показалось. Я ничего ему не ответил. Он спустился по лестнице, и пес, который ни днем ни ночью от него не отлучался, шмыгнул за ним. Я услыхал шаги капитана по корме. Потом он остановился и заговорил с собакой: «Возвращайся на мостик, Пират. Наверх, мальчик! Ну, давай!» Еще через несколько секунд капитан крикнул мне из темноты: «Мистер Джонс, заприте, пожалуйста, пса в штурманской рубке, хорошо?» То были последние слова, капитан Марлоу, которые он мне сказал. Больше, сэр, ни один живой человек не слышал от него ни словечка. – Дрогнувшим голосом старина Джонс продолжал: – Да, капитан Марлоу, он выставил для меня лаг – вы подумайте! – и даже масла туда капнул. Масленка осталась рядом. В половине пятого помощник боцмана взял шланг, чтобы помыть корму, и вдруг, не домыв, прибегает на мостик: «Мистер Джонс, пойдемте, пожалуйста, со мной. Поглядите, что я нашел – самому мне лучше не трогать». На перилах висел золотой хронометр капитана Брайерли, аккуратно привязанный за цепочку. Я сразу все понял, сэр, и ноги у меня подкосились. Я все равно что своими глазами увидал, как он падает за борт. Не трудно было даже сказать, как далеко мы с того момента успели пройти. Гакабортный лаг показывал восемнадцать миль и три четверти. У грот-мачты не хватало четырех кофель-нагелей. Видно, он положил их в карманы, чтобы легче было пойти на дно. Но боже мой! Что эти четыре железки для такого дюжего мужчины, как капитан Брайерли! Похоже, в последнюю минуту его всегдашняя уверенность в себе немножко пошатнулась. Это, думается мне, был единственный раз за всю его жизнь, когда он дал слабину. Да и то я уверен, что, как только прыгнул за борт, он не сделал больше ни единого движения, ни рукой ни ногой. А если бы вывалился случайно, тогда, напротив, мог бы продержаться на плаву целые сутки. Капитан Брайерли ни в чем никому не уступал – я сам однажды слышал это от него. За время ночной вахты он написал два письма: одно для компании, другое для меня. Там было множество указаний, как вести судно (будто я не ходил по этим морям подольше его), и множество околичных советов, как держать себя в Шанхае, чтобы новым капитаном «Оссы» сделали меня. Он писал мне, точно отец любимому сыну, а ведь я его на двадцать пять лет старше и успел нахлебаться соленой воды, прежде чем он надел первые штанишки. В письме к судовладельцам – оно осталось незапечатанным, чтобы я мог прочесть, – капитан Брайерли писал, что всегда исполнял свой долг и даже в смертный час не предал компанию, так как оставил судно в руках моряка, надежней которого не сыскать. Это он меня, сэр, имел в виду. Меня! Дескать, если своим последним шагом он не утратил доверия господ судовладельцев, то пускай они прислушаются к его горячей рекомендации и примут во внимание мои служебные заслуги, когда станут решать, кому отдать вакансию. И далее в таком роде. Я читал, сэр, и глазам своим не верил. Меня всего этакое странное чувство охватило… – Разволновавшись, старина Джонс быстро провел возле переносицы большим пальцем, широким, как лопатка. – Могло показаться, сэр, будто капитан Брайерли только затем и прыгнул за борт, чтобы дать невезучему человеку последний шанс. Из-за этого его ужасного безумного поступка я неделю был сам не свой. К тому же думал, что вот этакой ценой наконец-то выбился в люди. Но напрасно я боялся. К нам перевели капитана «Пилиона». Он поднялся на борт в Шанхае – этакий фатоватый типчик, сэр. Костюм в клетку, волосы на пробор причесаны. «Я, – говорит он, – ваш новый капитан, мистер… мистер… э… Джонс». А духами от него воняет, будто он ими с ног до головы облился. Я, капитан Марлоу, так на него поглядел, что он, смею сказать, заикаться начал. Пробормотал что-то про мое понятное разочарование. Его помощнику, дескать, отдали «Пилион», а его самого перевели сюда, но он тут ни при чем. Им в управлении, надо полагать, виднее, но он, мол, сожалеет. «Не сожалейте, – говорю я. – Старику Джонсу, черт подери, не привыкать». Его нежным ушкам мои выражения пришлись не по вкусу. Когда мы сели обедать, он принялся ко всему на корабле подлейшим образом придираться. Голос у него был такой, каким Панч и Джуди бранятся друг с дружкой в балагане на ярмарке. Я стиснул зубы и уставился в тарелку. Терпел, сколько мог, но под конец не выдержал. Он вскочил, поднялся на цыпочки, вздыбил свои нарядные перышки, как драчливый петух, и говорит: «Вы увидите, что я не такой человек, как был капитан Брайерли». – «Уже вижу», – отвечаю я хмуро, но при том делаю вид, будто очень занят своим стейком. Тут этот франтик как разверещится: «Вы старый грубиян, мистер… э… Джонс, и, если хотите знать, в компании именно так о вас и думают!» Те, кто подавал нам на стол, слушают, черти, и улыбаются во весь рот. «Может, я и не подарок, – говорю я, – но не опущусь до того, чтобы смотреть на вас в кресле капитана Брайерли». С этими словами я положил нож и вилку. «Вы предпочли бы сами занять его место – вот в чем все дело», – ухмыляется этот тип. Я вышел из кают-компании, собрал свои пожитки и, прежде чем судно успели разгрузить, уже стоял на причале со всем своим добром. Вот так-то, сэр. Выбросило меня на берег после десяти лет службы. А ведь в шести тысячах миль отсюда у меня жена и четверо детей, которым без моего половинного оклада будет нечего есть. Но уж лучше так, чем слушать, как оскорбляют капитана Брайерли. Да, сэр! Он оставил мне свой ночной бинокль (вот этот самый) и еще пожелал, чтобы я взял себе его пса. А вот, кстати, и Пират. Здоро́во, бедолага. Где наш капитан, а?
Пес взглянул на нас грустными желтыми глазами, горестно тявкнул и залез под стол.
Этот разговор произошел через два с лишним года после тех событий, на борту «Огненной королевы» – старой развалины, на которую Джонса все-таки назначили капитаном. Вышло довольно забавно. Место досталось ему после Мэтерсона – полоумного Мэтерсона, того самого, что все околачивался в Хайфоне до прихода французов… Так вот. Старина Джонс, сопя, продолжал:
– Да, сэр! Капитана Брайерли здесь всегда будут помнить. Я написал его отцу, как все было, но в ответ не получил ни строчки: ни «спасибо», ни «иди к черту» – ничего! Наверное, они предпочли бы не знать.
Джонс прослезился и стал вытирать лысину красным бумажным платком. Этот старик, этот жалобно скулящий пес, эта засиженная мухами каютка, которая сделалась единственным хранилищем памяти капитана Брайерли… У меня вдруг возникло невыразимо тягостное чувство, будто судьба посмертно мстила ему за то, что он так верил в собственное величие и пытался обмануть жизнь, почти освободившись от всегдашних человеческих страхов. Я говорю «почти», хотя, возможно, он был свободен до конца. Кто знает, в каком лестном свете ему представлялось его самоубийство?
– Как вы думаете, капитан Марлоу, зачем он это сделал? – спросил Джонс, сжимая ладони. – Почему? Мне это все никак покоя не дает! Почему? – Старик ударил себя по низкому морщинистому лбу. – Будь он бедный, хворый, по уши в долгах… А так? Рассудок, что ли, у него помутился? Но нет, только не у него. Он не из тех, кто сходит с ума. Вы уж мне поверьте. Помощник знает о своем шкипере все, что о нем следует знать. Молодой, здоровый, обеспеченный. Никаких забот. Вот сижу я иногда и все думаю, думаю, покуда голова не загудит. Была же все-таки какая-то причина!
– Я уверен, капитан Джонс, – говорю я, – это не было что-то такое, что могло бы сильно встревожить вас или меня.
Внезапно в замороченной голове Джонса словно зажегся фонарь, и в завершение нашего разговора бедняга высказал поразительно верную мысль. Высморкав нос, он скорбно кивнул мне и ответил:
– Ох, сэр! Да ведь мы с вами никогда так много о себе не мнили!
Воспоминания о моем последнем разговоре с самим Брайерли теперь, конечно, окрасились для меня знанием о его конце, последовавшем вскоре. Я говорил с ним во время того судебного разбирательства. После первого заседания мы встретились на улице. Он выглядел раздраженным, и это меня удивило: обычно он, если соизволял с кем-нибудь беседовать, держался совершенно невозмутимо – пожалуй, только с оттенком терпеливой насмешливости, как будто само существование собеседника казалось ему хорошей шуткой.
– Видите ли, мне никак нельзя было отвертеться от этого разбирательства, – начал он и довольно долго жаловался на то, какие неудобства доставляет ему ежедневное посещение суда. – И кто знает, сколько все продлится: дня три, наверное.
Я слушал Брайерли молча: по моему тогдашнему мнению, это было уместнее всего, – а он с жаром продолжал:
– Какой во всем этом смысл? Более глупого спектакля вообразить невозможно!
Я заметил, что выбора нам не предоставили. Он прервал меня, сдерживая своего рода ярость:
– Я все время чувствую себя дураком!
Я поднял голову: это было неслыханно для Брайерли – говорить о самом себе. Он схватил меня за лацкан, потянул и спросил:
– Зачем мы мучаем парня?
Этот вопрос оказался созвучен той мысли, которая, как колокол, гудела в моей голове. Мне живо вспомнилась картина бегства шкипера-ренегата, и я тут же ответил:
– Черт знает! Видимо, вы мучаете того, кто вам это позволяет.
Брайерли со мной согласился. Так сказать, подхватил мою нить. От удивления я не знал, что и думать.
– Да! – В его голосе зазвучала злость. – Неужели он не понимает, что чертов шкипер смылся? Чего он ждет? Человеку в таком положении уже ничто не поможет. Ему крышка.
Мы прошли несколько шагов в тишине. Потом Брайерли опять воскликнул по-восточному импульсивно:
– Зачем глотать всю эту грязь?
Та энергия, с какой он выражал свои чувства, есть единственная разновидность энергии, которую можно наблюдать к востоку от пятидесятого меридиана. Тогда ход его мыслей был для меня непонятен, но сейчас я подозреваю, что они не покидали своего привычного русла: в конечном счете бедняга Брайерли думал о себе.
Я сказал, что шкипер «Патны» успел очень неплохо нагреть руки и теперь нигде не пропадет. Джим – другое дело. Пока идет следствие, правительство оплачивает его проживание в гостинице для моряков, а в кармане у него, вероятно, нет ни пенни. Чтобы куда-то убежать, нужны деньги.
– Разве? Не всегда, – горько усмехнулся Брайерли, а когда я сказал что-то еще, ответил: – Ну так пускай зароется на двадцать футов в землю и там сидит. Ей-богу, я бы так и сделал.
Тон Брайерли почему-то задел меня, и я возразил:
– А по-моему, он выказывает своеобразную отвагу, принимая все это, когда можно было бы убежать, и никто бы за ним не погнался.
– К черту такую отвагу! – прорычал Брайерли. – Раз она не помешала человеку сбиться с пути, значит, грош ей цена. Может, по-вашему, это будет мягкость и слабость, но я вам вот что скажу: я готов дать двести рупий, и, если вы дадите еще сто, мы устроим так, чтобы уже завтра утром этого бедолаги здесь не было. Он старается держаться невозмутимо – значит, он джентльмен. Он поймет. Должен понять! Это прилюдное издевательство над ним слишком ужасно: он сидит, а всякие местные голодранцы, матросы, старшины и прочие дают такие показания, что человеку впору сгореть со стыда. Это же отвратительно! Почему, Марлоу, вы так не думаете, не чувствуете? Разве вы со мною не согласны – как моряк?! Если бы он исчез, все это прекратилось бы!
Брайерли произнес последние слова с небывалым воодушевлением и сделал такое движение, будто хотел достать бумажник. Я его остановил, холодно заявив, что трусость этих четырех людей не представляется мне делом такой огромной важности.
– А еще, наверное, называете себя моряком, – ответил Брайерли зло.
Я сказал, что называю и, надеюсь, с полным на то правом. Он махнул своей большой рукой, как бы отказывая мне в индивидуальности, отбрасывая меня в толпу.
– Вы и вам подобные не имеете чувства собственного достоинства, – проговорил он. – Вы слишком мало думаете о том, кем вам следовало бы быть. Вот что хуже всего.
Мы шли, замедляя шаг, и теперь совсем остановились возле портовой конторы. Я улыбнулся, оказавшись на том самом месте, откуда необъятный капитан «Патны» исчез внезапно, как перышко, унесенное ураганом. Брайерли продолжал:
– Это позор. Кого только нет среди нас! Каких только отпетых негодяев! Но, черт подери, мы должны соблюдать профессиональные приличия, чтобы не превратиться в шайку бродяг. Нам же доверяют. Понимаете? Доверяют! По правде говоря, мне нет дела до азиатских паломников, но уважающий себя моряк не поступил бы так, даже если бы вез тюки со старым тряпьем. Мы не армия, и никто не руководит нами сверху, извне. Единственное, что нас объединяет, – общие представления о чести. А такие происшествия, как это, подрывают доверие к нашей профессии. Можно прожить в море почти всю свою жизнь, и за многие годы оно ни разу не испытает тебя на прочность. Но вот наступает момент, когда… Если бы я… – Он осекся, потом продолжил переменившимся голосом: – Я прямо сейчас дам вам двести рупий, Марлоу, а вы только поговорите с тем парнем. Черт бы его побрал! Я бы многое отдал за то, чтобы он никогда здесь не появлялся! Тем более что кое-кто из моих, кажется, знает его семью. Отец у него священник: в прошлом году мы встречались, когда я гостил у родственников в Эссексе. Старик, похоже, гордится сыном-мореплавателем. Ужасно! Сам я не могу этого сделать, но вы…
Так, благодаря Джиму, я увидел подлинного Брайерли незадолго до того, как он вверил морю и свою сущность, и свою личину. Участвовать в его затее я, конечно, отказался. Все же не вполне подавив свое всегдашнее высокомерие, бедняга Брайерли произнес это последнее «но вы» так, будто я был не многим значительнее насекомого. Уязвленный, я встретил его предложение с негодованием. Из-за того ли, что он меня раздразнил, или же по иной причине, я твердо решил: судебное разбирательство послужит Джиму суровым наказанием, которое, будучи принятым, по сути, добровольно, отчасти искупит вину. Прежде я не был в этом столь уверен. Брайерли, рассерженный, ушел. Тогда я хуже, чем сейчас, понимал состояние его души.
На следующий день я пришел в суд поздно и сел отдельно от всех. Разумеется, я не мог забыть вчерашнего разговора с Брайерли, и теперь они оба: Джим и он – были у меня перед глазами. Один являл собой олицетворение мрачного бесстыдства, другой – презрительной скуки. Вероятно, обе эти личины служили лишь маскировкой. Что одна из них была ложной, я знал наверняка. Брайерли не скучал, едва сдерживал гневное негодование. Если так, то и дерзость Джима вполне могла оказаться напускной. Я полагаю, что на самом деле это было отчаяние. В какой-то момент наши взгляды встретились. То, как он на меня поглядел, охладило бы мое намерение говорить с ним, даже если бы я имел таковое. По причине ли его дерзости или отчаяния, я чувствовал, что не способен помочь ему. То был второй день слушаний. Через несколько минут после нашего обмена взглядами разбирательство приостановили до завтра. Белые зрители устремились к выходу. Джима заблаговременно отпустили со свидетельского места, так что он смог покинуть зал одним из первых. Я увидел в дверном проеме его голову и плечи, обрисованные светом. Меня задержал какой-то незнакомый человек, обратившийся ко мне невзначай, и, пока я отвечал на вопрос, Джим стоял снаружи, на веранде, опершись обоими локтями о балюстраду, спиной к толпе, которая стекала вниз по ступеням. Шаркали ботинки, голоса сливались в неясный гул.
Сколько я помню, следующим на повестке было дело об избиении ростовщика. Ответчик, почтенный старец с гладкой белой бородой, сидел на циновке за дверью вместе с сыновьями, дочерьми, зятьями и невестками. Тут же на корточках или стоя расположилась, по-видимому, добрая половина населения деревни. Внезапно какая-то стройная темнокожая женщина с оголенным плечом и тонким золотым кольцом в носу заговорила высоким сердитым голосом. Мой собеседник инстинктивно поднял глаза. Мы только что вышли из зала и оказались прямо за широкой спиной Джима.
Откуда на веранде взялась собака, я не знаю. Может быть, ее привел кто-то из местных. Так или иначе, она была там и увивалась вокруг людских ног тихо и проворно, как это умеют делать только собаки, обитающие в тех краях. Мой собеседник об нее споткнулся. Она беззвучно отскочила, а он, слегка повысив голос, сказал с усмешкой: «Нет, вы только поглядите на эту трусливую дворнягу!» Через секунду нас разделила толпа местных жителей, входивших в зал. Он протолкнулся вниз по лестнице и исчез, а я решил переждать, прислонившись к стене. Тут Джим повернулся и преградил мне путь. Теперь мы были одни. Он смотрел на меня с упрямой решимостью. Я почувствовал себя путником, застигнутым врасплох на лесной тропе. Веранда опустела, гул голосов стих. За дверями, в зале, сначала воцарилась торжественная тишина, потом кто-то по-восточному запричитал. Собака попыталась было пробраться внутрь, но ее отвлекли блохи: и она принялась выкусывать их, поспешно усевшись у порога.
– Вы что-то сказали? – произнес Джим очень тихо и не столько наклонился ко мне, сколько навис надо мной – думаю, вы представляете себе, что я имею в виду.
– Нет, – быстро ответил я.
Голос Джима чем-то меня насторожил. Я внимательно посмотрел на молодого человека и снова почувствовал себя так, будто повстречался с разбойником в лесу. Только исход нашей встречи выглядел еще менее определенным, ведь Джима не интересовала ни моя жизнь, ни мой кошелек. У меня не было ничего такого, что я мог бы просто отдать ему или за что следовало бы с ним бороться.
– Вы говорите: ничего не сказали, но я слышал, – возразил Джим очень мрачно.
– Это какая-то ошибка, – растерянно запротестовал я, не сводя с него глаз.
Смотреть на лицо этого молодого человека было то же самое, что наблюдать, как темнеет предгрозовое небо: тень незаметно наползает на тень, и таинственная неизбежность спокойно зреющего неистовства становится все очевидней.
– Насколько мне самому известно, я ни разу не раскрыл рта в вашем присутствии, – сказал я, не погрешив против истины.
Я тоже уже немного злился – из-за нелепости этой сцены. Сейчас мне кажется, что в тот момент я был, как никогда, близок к тому, чтобы меня побили, причем в прямом смысле – кулаками. Вероятность такого исхода нашей встречи смутно ощущалась в воздухе. Не скажу, что Джим откровенно угрожал мне. Наоборот, он был странно пассивен, понимаете? Но он все клонился на меня, и, хотя его тело не было грузным, мне казалось, будто оно способно сокрушить стену. Лишь одно некоторым образом успокаивало: Джим задумался, видимо, почувствовав искренность моих возражений. Мы стояли лицом к лицу. А в суде тем временем разбиралось дело о нападении на ростовщика. «Буйвол… Палка… В великом страхе…» – услышал я.
– Зачем вы пялились на меня все утро? – спросил Джим наконец.
Он поднял и снова опустил глаза.
– А вы ожидали, что все мы будем безотрывно глядеть в пол, чтобы не ранить ваши чувства? – отрезал я, вовсе не собираясь кротко идти на поводу его сумасбродства.
Джим снова поднял глаза и на этот раз уже не отвел.
– Нет. Все в порядке, – сказал он и, словно бы посовещавшись с самим собой, повторил: – Все в порядке. Я готов терпеть. Только… – И вдруг заговорил чуть быстрее: – Я никому не позволю называть меня оскорбительными словами за пределами зала суда. С вами был какой-то субъект. Вы говорили с ним… Да, да, я знаю. Все в полном порядке. Говорили-то вы с ним, но нарочно так, чтобы я тоже слышал.
Я заверил его, что он находится в странном заблуждении и мне неизвестно, как оно могло возникнуть.
– Вы думали, я побоюсь за себя заступиться, – произнес Джим с едва уловимой горечью.
Он был мне достаточно интересен, чтобы я различал в его голосе тончайшие оттенки, но притом совершенно непонятен. Сейчас сама эта фраза или та интонация, с какой она была произнесена, почему-то заставила меня отнестись к молодому человеку со всей возможной снисходительностью. Раздражение, вызванное нелепостью его претензий, внезапно исчезло. Джим просто ошибся, и я чувствовал, что ошибка эта весьма неприятного свойства. Мне не терпелось мирно прекратить эту сцену, как не терпелось бы прервать непрошеное ужасающее признание. И вот что самое забавное: соображения высшего порядка соседствовали во мне с некоторой боязнью вульгарного скандала, который казался мне вероятным и даже очень вероятным, хотя причины я не понимал. В любом случае участие в потасовке выставило бы меня в нелепом свете, а я отнюдь не стремился к трехдневной славе человека, который получил синяк под глаз или что-нибудь в этом роде от помощника капитана «Патны». Ему же скорее всего уже не было дела до того, как люди воспримут его поведение, а в собственных глазах он выглядел бы правым. Даже не обладая магической проницательностью, можно было понять, что при всей своей внешней сдержанности и даже вялости он чем-то ужасно разозлен. Не стану отрицать: я умиротворил бы его любой ценой, если бы только знал как. Но я, представьте себе, не знал. Я находился в беспросветной темноте. Мы продолжали молча стоять друг против друга. Помешкав секунд пятнадцать, Джим шагнул вперед, и я приготовился отражать удар, хотя при этом у меня, кажется, ни один мускул не дрогнул.
– Будь вы вдвое больше и в шесть раз сильнее, – проговорил Джим очень тихо, – я бы сказал вам, что о вас думаю. Вы…
– Постойте! – воскликнул я, и он в самом деле на секунду остановился. – Что вы обо мне думаете, скажете после. А сперва не будете ли вы так любезны объяснить, чем я вас обидел?
Последовала пауза, в продолжение которой он негодующе оглядывал меня, а я делал сверхъестественные усилия, копаясь в памяти. Мне изрядно мешал доносившийся из зала суда восточный голос: кто-то страстно и многословно опровергал обвинение во лжи. Наконец мы с Джимом заговорили почти одновременно.
– Я покажу вам, что я не тот, кем вы меня назвали, – сказал он тоном, свидетельствующим о приближении кризиса.
– Да говорю же вам: я вас не понимаю, – запротестовал я.
Джим попытался сокрушить меня презрительностью своего взгляда.
– Ну вот видите? Отнюдь не я пытаюсь уползти прочь, – ответил он. – И кто же теперь трусливая дворняга?
Тут я наконец все понял. А Джим между тем изучал мое лицо так, будто искал место для своего кулака.
– Я никому не позволю… – угрожающе пробормотал он.
В самом деле произошла безобразнейшая ошибка. Он полностью себя выдал. Передать вам не могу, как я был потрясен. Видимо, заметив перемену в моем лице, он тоже слегка переменился.
– Боже правый! – проговорил я, запинаясь. – Неужели вы думаете…
– Я слышал это собственными ушами, – настойчиво ответил Джим, впервые за время этой угнетающей сцены повысив голос. Потом он добавил с оттенком пренебрежения: – Так значит, это сказали не вы? Хорошо, тогда я отыщу того, второго.
– Да не будьте же дураком! – вспылил я. – Все было совсем не так!
– Но я слышал, – настаивал он, неколебимый в своем мрачном упрямстве.
Многие посмеялись бы над ним. Но мне было не смешно. Нисколько не смешно. Еще никогда человека так беспощадно не обнажал его собственный естественный порыв. Одно-единственное слово лишило Джима благоразумия – того покрова, который еще более необходим нашим душам для соблюдения приличий, чем одежда – нашим телам.
– Не будьте дураком, – повторил я.
– Но ваш собеседник это сказал, вы не отрицаете? – произнес Джим отчетливо и без смущения посмотрел мне прямо в лицо.
Я ответил на его взгляд.
– Не отрицаю.
Наконец Джим повернул голову туда, куда я указывал. В первую секунду он, по-видимому, ничего не понял, но потом смутился и пришел в такой ужас, будто никогда раньше не видел собак и злополучная желтая дворняга показалась ему каким-то чудовищем.
– Никто не думал вас оскорблять, – сказал я.
Джим посмотрел на несчастное животное: собака сидела неподвижно, как изваяние, навострив уши и повернувшись узкой мордой к двери. Внезапно она, точно какой-то бдительный механизм, клацнула зубами в попытке поймать муху.
Я посмотрел на Джима: нежная кожа его покрытых пухом щек, уже обожженная солнцем, стала еще красней. В ту же секунду краска достигла лба и залилась под кудрявые волосы. Уши сделались багровыми, и даже чистые голубые глаза потемнели от прилива крови к голове. Губы слегка оттопырились и задрожали, что, вероятно, свидетельствовало о подавляемом желании заплакать. Джим не мог произнести ни слова – таким униженным он себя, по-видимому, чувствовал. И еще не исключено, что он был разочарован: наверное, ждал возможности восстановить свое доброе имя и отвести душу, поколотив меня. Кто знает, какое огромное облегчение сулил ему этот случайный скандал? Молодой человек был достаточно наивен, чтобы ожидать чего угодно. Но сейчас он понимал, что выдал себя совершенно напрасно. Будучи честным не только со мной, но и с собой, он не скрыл своей отчаянной надежды при помощи скандала избавиться от позорной печати. Однако звезды посмеялись над ним. Он издал горлом нечленораздельный звук, как будто его оглушили ударом по голове. Это было жалкое зрелище.
Лишь далеко за воротами я догнал Джима. Мне пришлось настолько ускорить шаг, что я запыхался. Наконец, поравнявшись с ним, я спросил, не думает ли он бежать.
– Ни в коем случае! – воскликнул он, мгновенно заняв оборонительную позицию загнанного зверя.
Я объяснил, что имел в виду бегство не от меня.
– Ни от кого я не бегаю! Нет такого человека на земле! – заявил Джим с упрямой миной.
Сдержавшись, я не стал указывать ему на очевидное исключение, которое имеет силу даже для храбрейших из нас. Мне подумалось, что он сам очень скоро это признает. Пока я безуспешно искал подходящие слова, Джим терпеливо на меня смотрел, а потом зашагал дальше. Я пошел рядом и, боясь его упустить, торопливо сказал, что не хотел бы, чтобы у него создалось ложное впечатление, будто я… Не договорив, я ужаснулся глупости этой фразы, но то воздействие, которое слова производят на слушателя, иногда не имеет никакого отношения к их смыслу или к логике построения предложения. Мое идиотское бормотание, видимо, оказалось приятным Джиму. Он прервал меня и с вежливым спокойствием (которое свидетельствовало либо о невероятной силе воли, либо о чудесной гибкости духа) произнес:
– Это исключительно моя ошибка.
Выражение его лица меня поразило: казалось, он говорит о каком-то пустяке. Неужели он сам не понимал печального смысла произошедшего?
– Надеюсь, вы меня простите, – продолжил Джим и довольно угрюмо прибавил: – Те люди, которые пялились на меня в суде, – такие дураки, что все вполне могло оказаться так, как мне подумалось.
Эти слова неожиданно заставили меня взглянуть на молодого человека по-новому. С любопытством и удивлением посмотрел я в его беззастенчивые непроницаемые глаза.
– Не могу я мириться с такими вещами, – сказал он просто. – И не буду. В суде – другое дело. Там мне приходится терпеть. Для этого у меня хватает сил.
Не стану врать, будто понял его. То представление о нем, которое я получил, было сродни нескольким мимолетным взглядам сквозь просвет в плавучем тумане. Подмечаемые мною яркие детали мгновенно испарялись, не успевая сложиться в целостную картину. Мое любопытство подкармливалось, но не насыщалось, и ориентира я не получал. Напротив, этот парень сбивал меня с толку – к такому выводу я пришел тем вечером. Расстались мы поздно. Я снимал комнату в отеле «Малабар», и Джим, приняв мое настойчивое приглашение, поужинал вместе со мной.
Глава 7
В тот день в город прибыл почтовый пароход, и ресторан отеля больше чем наполовину заполнился людьми, в чьих карманах лежали стофунтовые кругосветные билеты. Среди путешественников были мужья и жены, наскучившие друг другу за время плавания, были компании, большие и небольшие, были одиночки, поглощавшие свой ужин кто в торжественном молчании, а кто весело и шумно. Люди говорили или размышляли, шутили или хмурились – в зависимости от привычки, приобретенной дома. Что же до новизны окружения, то они отзывались на нее не более чутко, чем их багаж, сложенный в верхних комнатах. Подобно своим чемоданам, на которых вехи пути отмечались наклейками, хозяева обвешивали себя ярлыками. Пароходным билетам предстояло долго красоваться на дорожных сумках в качестве драгоценного документального свидетельства того, что такой-то побывал там-то или там-то. Других постоянных следов путешествие не оставляло. Темнокожие слуги бесшумно скользили по натертому полу просторного зала. Время от времени раздавался смех какой-нибудь девушки – такой же невинный и пустой, как она сама. Иногда, если звяканье посуды внезапно притихало, слышалось жеманное мурлыканье остряка, развлекающего соседей по столу живописными вариациями на тему последнего корабельного скандала. Две кочующие старые девы обсуждали меню, язвительно шевеля выцветшими губами. Деревянные лица и убийственные туалеты придавали им странное сходство с двумя огородными пугалами, разодетыми в пух и прах. Несколько глотков вина открыли сердце Джима и развязали ему язык. К тому же он, по-моему, вовсе не жаловался на аппетит. Тот эпизод, с которого началось наше знакомство, он, как мне показалось, глубоко похоронил, с тем чтобы никогда больше не вспоминать. Пока мы ужинали, я видел перед собой молодое лицо, мальчишеские голубые глаза, смотревшие прямо в мои, видел сильные плечи и открытый бронзовый лоб с белой полоской у корней густых светлых волос. Прямодушный взгляд, искренняя улыбка, юношеская серьезность – все это вызывало мое живейшее сочувствие. Это был правильный парень, один из нас. Говорил он мрачно, со спокойной откровенностью, которая, однако, могла быть следствием чего угодно: мужественного самообладания, дерзости, черствости, безграничного невежества или чудовищного самообмана. Тон нашей беседы позволял предположить, что мы обсуждаем какого-то безразличного нам человека, футбольную игру или погоду прошлого сезона. Я плавал в море домыслов, пока при удобном повороте разговора не улучил возможность осторожно заметить, что все это разбирательство в общем и целом, наверное, довольно-таки изнурительно для Джима. Его рука, быстро метнувшись через стол, схватила мою руку, лежавшую возле тарелки. Взгляд, вспыхнув, остановился на моем лице. Я вздрогнул.
– Вам, должно быть, ужасно тяжело, – пробормотал я, смущенный столь явным, хотя и безмолвным, всплеском чувства.
– Как в аду, – ответил Джим.
Его порывистое движение и глухо вырвавшиеся слова заставили двух холеных путешественников, сидевших за соседним столиком, встревоженно оторваться от пудинга с мороженым. Я встал, и мы перешли на переднюю галерею, чтобы выкурить по сигаре за чашкой кофе.
На маленьких восьмиугольных столиках горели свечи в стеклянных шарах. Между уютными плетеными креслами вклинивались жесткие листья растений. Свет из высоких окон падал на красноватые стволы колонн, окутанные, словно роскошной драпировкой, темным блеском ночи. Движущиеся огни кораблей, как заходящие звезды, мигали вдалеке, а холмы за рейдом напоминали остановившиеся громады грозовых облаков.
– Я не сумел дать тягу, – заговорил Джим. – Шкипер сумел – тем лучше для него. А я, даже если бы мог, не стал бы. Все они так или иначе отвертелись, но для меня это был не выход.
Я слушал с таким напряженным вниманием, что боялся лишний раз пошевелиться в кресле. Мне хотелось узнать то, чего я до сих пор не знаю, а только предполагаю. В рассказе Джима самоуверенность смешивалась с подавленностью, как будто его вера в собственную врожденную непогрешимость сковывала правду, извивавшуюся внутри. Сначала он тоном человека, который признается в своей неспособности перепрыгнуть через двадцатифутовую стену, заявил, что никогда не сможет вернуться домой. Это заявление заставило меня вспомнить слова Брайерли об эссексском священнике: «Старик, похоже, гордится сыном-мореплавателем».
Не могу вам сказать, знал ли Джим, насколько им гордятся, но «мой папаша» он произносил так, чтобы я понял: старый добрый сельский священник – лучший из всех отцов, которым когда-либо приходилось печься о большом семействе. Это не говорилось прямо, но внушалось мне с тревожной настойчивостью, как нечто такое, что я непременно должен был себе уяснить. Волнение Джима, говорившего об отце, трогало своей искренностью. Вместе с тем оно осложняло историю незримым, но остро ощущаемым присутствием людей, живущих на другом конце света.
– Думаю, бедный старик уже все знает из газет, – сказал Джим. – Я больше никогда не смогу поглядеть ему в лицо.
Я ничего не ответил и даже не решился поднять глаза. Джим продолжал:
– Как ему объяснить? Он не поймет.
Тут я все-таки посмотрел на своего собеседника: молодой человек задумчиво курил. Через секунду он, словно бы спохватившись, заговорил опять. Ему не хотелось, чтобы я смотрел на него так же, как на его соучастников в… в преступлении, скажем так. Он спешил заверить меня, что не принадлежит к такому сорту людей. Он, Джим, совсем другой. Я слушал, не выказывая признаков несогласия, потому что не имел намерения ради бесплодной правды лишать человека даже малейшей крупицы той благодати, которая дана ему в утешение. Не знаю, в какой степени он сам себе верил. Не знаю, что он разыгрывал и разыгрывал ли что-нибудь вообще. Думаю, он тоже этого не знал, ведь, по моему убеждению, мы никогда в полной мере не осознаем тех уверток, при помощи которых уклоняемся от мрачной тени самопознания.
Итак, я молчал. А Джим тем временем заговорил о том, что ему делать, «когда это глупое разбирательство закончится» (очевидно, он, как и Брайерли, не питал уважения к процедуре, предусмотренной законом). Теперь ему некуда было идти, признавался он, скорее рассуждая вслух, чем беседуя со мной. Ни лицензии, ни карьерных видов, ни денег, чтобы уехать подальше, ни возможности найти работу. Вероятно, дома можно было бы что-то придумать, но для этого пришлось бы обратиться за помощью к родным, чего Джим ни в коем случае не желал делать. Нет, он видел для себя только один путь – в матросы. Или, может, его возьмут хотя бы старшиной-рулевым на какой-нибудь пароход. На это он бы сгодился.
– Думаете, сгодитесь? – безжалостно спросил я.
Джим вскочил, подошел к каменной балюстраде и поглядел в ночь. Через секунду он вернулся и встал, как башня, перед моим креслом. На юношеском лице еще не развеялось болезненное облако подавленной эмоции. Джим понимал: я сомневаюсь отнюдь не в его способности управляться со штурвалом. Слегка дрожащим голосом он спросил, зачем я такое сказал: ведь до сих пор я был «бесконечно добр» к нему. Не посмеялся над ним, даже когда он… (тут он смешался) по недоразумению повел себя «как чертов осел». Я несколько разгоряченно прервал его, сказав, что тот случай вовсе не представляется мне смешным. Джим сел и сосредоточенно допил кофе, опустошив чашечку до последней капли, потом отчетливо произнес:
– Я ни на секунду не допускал, что те слова могут относиться ко мне.
– Нет? – спросил я.
– Нет, – с тихой решимостью ответил он. – Разве вы сами знаете, как бы поступили на моем месте? Точно знаете? И в любом случае вы же не станете считать себя… – Он глотнул воздуха и договорил: – Считать себя… дворнягой?
И при этом Джим, клянусь честью, вопросительно поднял на меня глаза. Это был вопрос – самый настоящий! Однако ответа он не дождался. Прежде чем я успел опомниться, Джим продолжил говорить, глядя прямо перед собой. Казалось, он читал что-то, написанное на теле ночи.
– Тут все дело в том, готов человек или нет. Я в тот момент готов не был. Я не пытаюсь оправдаться, но хотел бы объяснить… Я бы хотел, чтобы кто-нибудь наконец-то понял. По крайней мере один человек! Вы например! Почему бы нет?
Джим говорил торжественно и выглядел несколько смешно, как всегда выглядит тот, кто пытается спасти из огня свое представление о собственной моральной сущности – эту драгоценную привычную картину, которая вовсе не предопределяет всей игры, однако приписывает себе неограниченную власть над природными инстинктами, и потому ее крушение влечет за собой ужасные последствия. Джим стал тихо рассказывать свою историю. Вместе с капитаном и двумя механиками «Патны» он плавал в шлюпке по морю, залитому мягким закатным светом. На корабле компании «Дейл лейн», который их подобрал, они скоро сделались мишенью для косых взглядов. Толстый шкипер чего-то наплел, остальные трое молчали, и поначалу это как будто бы всех удовлетворяло. Вы ведь не станете устраивать перекрестный допрос жертвам кораблекрушения, которых вам посчастливилось спасти если не от смерти, то по крайней мере от тяжких страданий. По прошествии некоторого времени старшим членам команды «Эйвондейла» пришло в голову, что «дело тут нечисто», но свои сомнения они оставили при себе. Им довелось подобрать капитана, старшего помощника и двух механиков с затонувшей «Патны» – этих сведений, строго говоря, было достаточно. Я не стал спрашивать Джима о чувствах, которые он испытывал в те десять дней на борту чужого судна. Насколько я сам понял из его рассказа, он был словно оглушен тем, что внезапно узнал о себе, и теперь изо всех сил старался как-то объяснить это свое открытие единственному человеку, способному постичь ужасающий истинный смысл произошедшего. Вы должны иметь в виду: он не пытался приуменьшить значимость случившегося – в этом я уверен, и в этом его отличительная особенность. Что же до чувств, которые он испытал, когда сошел на берег и узнал непредвиденную развязку истории, столь печально начавшуюся при его участии, то о них он со мною не говорил. Мне трудно себе представить, каковы они были.
Можно предположить, что у него почва ушла из-под ног. Даже если так, совсем скоро он обрел новую опору. Две недели в ожидании судебного разбирательства он жил в гостинице для моряков. Кроме него там было еще шестеро или семеро постояльцев, и от них я кое-что о нем слышал. По их ленивому мнению, старший помощник капитана «Патны», вдобавок к прочим своим грехам, вел себя как угрюмый грубиян. Целыми днями он лежал, будто в могиле, в лонгшезе на веранде, вставая только в часы, когда подавались обеды и ужины, а поздно вечером отправлялся на набережную и бродил там в одиночестве – безучастный ко всему вокруг, молчаливый и нерешительный, как бездомное привидение.
– Думаю, за все то время я и тремя словами ни с кем не перемолвился, – сказал Джим, пробудив во мне острую жалость, а потом сразу же прибавил: – Кто-нибудь из тех парней непременно ляпнул бы что-то такое, с чем я не позволил бы себе примириться, а скандала я не хотел. Мне тогда было совсем не до склок. Я был слишком… слишком… У меня не хватило бы сил.
– Так значит, – бодро сказал я, – та переборка все-таки выдержала.
– Выдержала, – пробормотал он. – Но клянусь вам, я чувствовал, как она гнется под моей рукой.
– Удивительно, до чего живучим иногда оказывается старое железо.
Джим ответил мне несколькими легкими кивками. Он сидел, откинувшись на спинку кресла, безжизненно свесив руки и вытянув ноги, словно те перестали гнуться. Трудно вообразить себе зрелище более печальное. Внезапно он поднял голову, выпрямился и хлопнул себя по коленям.
– Подумать только! Какой шанс упущен! – При этих словах Джим вспыхнул, а последнее слово – «упущен» – прозвучало как крик боли.
Он опять замолк, на лице застыло отстраненное выражение яростной тоски по той доблести, которой он не проявил. Его ноздри на секунду сузились, словно уловили ее пьянящий аромат. Если вы думаете, что я был удивлен или потрясен, то несправедливы ко мне. О, я понимал, какое богатое воображение у бедняги Джима! Он не единожды себя выдал. По его взгляду, устремленному в ночь, я видел: он стремительно уносится в чудесное царство героических мечтаний. Ему не до сожалений о потерянном, его без остатка поглотили мысли о том, чего он не сумел получить. Нас разделяло расстояние в каких-нибудь три фута, но при этом Джим был очень далеко от меня и с каждой секундой все глубже проникал в невероятный романтический мир. Вот наконец он достиг самого сердца этого мира! Странное выражение блаженства разлилось по лицу, глаза заискрились в свете свечи, горевшей на столике между нами. Да он прямо-таки улыбался! То была экстатическая улыбка, которая никогда не заиграет на наших с вами физиономиях, мои дорогие друзья! Я выдернул его из самой сердцевины этого сладостного омута, спросив:
– Вы хотите сказать, что не упустили бы своего шанса, если бы остались на корабле?
Джим повернулся ко мне: глаза наполнились внезапной болью, лицо приобрело выражение смущения, замешательства и страдания. Можно было подумать, он только что свалился со звезды. Никто из нас с вами никогда ни на кого так не посмотрит. Он весь содрогнулся, как будто его тронули холодным пальцем прямо за сердце, наконец вздохнул. Но я был не расположен его щадить. Он только раззадоривал меня своей противоречивой неосторожностью.
– Вот если бы вы заранее знали, как все обернется… – произнес я с недобрым намерением, но стрела моего вероломства упала у ног Джима, не причинив ему вреда, а он не подумал ее поднять – возможно, даже не заметил.
Он сбросил с себя недавнюю напряженность и, приняв непринужденную позу, сказал:
– К черту все! Говорю же вам: переборка затрещала по швам прямо у меня на глазах. Я нагнулся, посветил фонарем и увидел, как от пластины сам собой отвалился кусок ржавчины величиной с ладонь. – Джим провел рукой по лбу. – Эта штуковина зашевелилась и отскочила, как живое существо.
– Наверное, вам стало не по себе, – равнодушно заметил я.
– Вы полагаете, – ответил он, – я думал о собственной шкуре, когда сто шестьдесят человек, ни о чем не подозревая, спали прямо у меня за спиной, в носовой части твиндека[18], столько же, даже побольше, – в кормовой части, и еще больше – на палубе? Даже если бы у нас было время, шлюпки вместили бы только треть всей этой толпы! Я ждал, что перегородка треснет с минуты на минуту и вода захлестнет людей прежде, чем они успеют проснуться. Что я мог сделать? Что?
Мне не трудно представить себе, как Джим стоит в тесной железной пещере, слыша дыхание спящих паломников и освещая круглым фонарем переборку, на которую с другой стороны всем своим весом давит океан. Парень остолбенело смотрит на гнущийся металл, вздрагивает при виде отвалившегося куска ржавчины, осознает гнетущую неизбежность смерти. Насколько я понял, тогда шкипер уже во второй раз отправил Джима в носовую часть корабля – видимо, чтобы избавиться от его присутствия на мостике. Он сказал мне, что первым его побуждением было закричать. Тогда вся огромная толпа мгновенно перенеслась бы из состояния сна в состояние ужаса. Но от беспомощности, которая им овладела, он не смог издать ни единого звука. Думаю, именно это ощущение люди имеют в виду, когда говорят, будто у них язык приклеился к небу. «Все пересохло», – это лаконичное выражение использовал сам Джим. Итак, он беззвучно выбрался на палубу через люк номер один. Когда он поднимался, виндзейль[19], трепыхавшийся на ветру, ударил его по лицу, и от легкого прикосновения ткани он чуть не упал с лестницы.
Парень признался мне, что у него затряслись колени, когда, поднявшись на бак, увидел спящую толпу. Машины к тому времени уже остановили. Травили пар. Вторя низкому рокоту замолкающего двигателя, ночь вибрировала, как басовая струна. Весь корабль дрожал.
Кое-где показались головы, поднявшиеся над циновками. Смутно затемнели очертания людей, которые сели, прислушались и снова легли, сделавшись неразличимыми на фоне беспорядочного нагромождения ящиков, паровых лебедок и вентиляторов. Джим понимал, что паломники по неведению не придают этому странному шуму должного значения. Железный корабль, мужчины с белыми лицами, загадочные предметы и загадочные звуки – для невежественной богомольной толпы все было одинаково непривычно и казалось столь же надежным, сколь и непостижимым. Джим решил, что это, пожалуй, хорошо: пусть люди как можно дольше не понимают того, сама мысль о чем настолько ужасна!
Не забывайте: он думал (как подумал бы любой другой на его месте), будто судно вот-вот пойдет ко дну. Покоробленные, изъеденные ржавчиной металлические пластины не могли долго выдерживать натиск океана. Стоило одной из них лопнуть, и вода, как при взрыве на плотине, мгновенно затопила бы все. Джим неподвижно стоял, глядя на спящие тела. Это были приговоренные, не знающие о собственной участи. Он смотрел на них как на толпу мертвецов. Они ведь и правда погибли! Ничто не могло их спасти! Допустим, половину из них можно было бы усадить в шлюпки. Но времени не было! Нисколько! Поэтому не имело смысла размыкать губы или двигаться с места. Вероятнее всего, Джим оказался бы в воде прежде, чем успел бы произнести три слова или сделать три шага. Море вспенилось бы от исступленного барахтанья человеческих существ. Воздух наполнился бы криками о помощи. Но ждать помощи было неоткуда. Джим прекрасно представлял себе то, что грозило начаться с минуты на минуту. Мысленно он в мельчайших мучительных подробностях переживал все это, стоя у люка с фонарем в руках, – как, по-моему, и теперь, когда сидел со мной на веранде, рассказывая мне о вещах, о которых не мог рассказать в суде.
– Так же четко, как вас сейчас, я видел, что ничего не могу сделать. Жизнь словно бы уже отхлынула от моих рук и ног. Оставалось только одно: стоять и ждать, причем недолго – несколько секунд.
К тому времени весь пар был спущен. Шум угнетал Джима, но тишина оказалась и вовсе невыносимой.
– Я думал, что задохнусь еще раньше, чем утону, – сказал он.
Если верить его настойчивому заверению, о собственном спасении он даже не помышлял. В голове у него то возникала, то рассеивалась, то снова возникала только одна отчетливая мысль: «Восемьсот человек и семь лодок, восемьсот человек и семь лодок…»
– Внутри меня, – сказал он возбужденно, – кто-то вслух твердил: «Восемьсот человек, семь лодок, а времени нет!» Вы только представьте себе! – Джим подался ко мне, нависнув над столиком. Я отвел взгляд. – Думаете, я испугался смерти? – спросил он с тихой яростью и хлопнул ладонью по столу, отчего чашки затанцевали. – Я готов поклясться, что нет! Я не испугался! Бог свидетель! Нет! – При этих словах Джим резко выпрямился, скрестил руки и уронил подбородок на грудь.
Из ресторана через высокие окна до нас доносилось мягкое позвякивание посуды. Вдруг раздался всплеск голосов, и на галерею вышла компания путешественников в самом веселом расположении духа. Они шутливо обменивались воспоминаниями о каирских осликах. Какой-то надутый краснощекий господин донимал бледного встревоженного юнца на длинных тихо ступавших ногах, труня над его покупками на базаре.
– Нет, в самом деле. Неужели вы считаете меня совсем конченым человеком? – спросил Джим серьезно.
Компания прошла мимо нас и расселась в кресла. Зачиркали спички, на пару секунд осветив лица без тени выражения и плоский глянец белых манишек. Гул разговоров, подогретых обильной пищей и напитками, казался мне нелепым и бесконечно далеким.
– Кое-кто из матросов дремал возле люка на расстоянии вытянутой руки от меня, – сказал Джим.
Ночью на корабле несли вахту, сменяя друг друга, несколько малайцев. Бо́льшая часть команды спала: вызывали только рулевых и вахтенных. Джиму захотелось схватить ближайшего к нему темнокожего парня за плечо и встряхнуть, но он не сделал этого. Кто-то как будто прижал его руки к туловищу. Он не испугался – о нет! Он просто не смог, и все. Вот что я вам скажу: смерти Джим, может быть, и правда не боялся, но его напугала непредвиденность случившегося и необходимость действовать безотлагательно. Злосчастное воображение заставило его испытать все ужасы паники, услышать топот ног и жалобные крики, увидеть переполненные шлюпки. Ему разом вспомнилось все, что он знал о страшных происшествиях на море. Вероятно, он действительно был готов умереть, но предпочел бы сделать это спокойно, погрузившись в своего рода мирный транс. Готовность погибнуть не такое уж редкое явление, однако на свете не много найдется людей, закованных в броню такой непроницаемой решимости, которая позволит им воевать до конца, даже если бой уже проигран. По мере того как слабеет надежда, усиливается стремление к покою. Оно крепнет до тех пор, пока не победит саму жажду жизни. Кто из нас, сидящих на этой веранде, не наблюдал или не испытывал чего-то подобного? Крайней усталости чувств, отвращения к напрасным усилиям, желания отдохнуть? Все это хорошо знакомо тем, кто сражается с неразумной стихией: морякам, потерпевшим крушение и ждущим подмоги, путникам, заблудившимся в пустыне, борцам с нерассуждающей силой природы или глупой жестокостью толпы.
Глава 8
Не знаю, долго ли стоял Джим как вкопанный возле люка, ожидая, что палуба под ногами вот-вот уйдет под воду, которая подхватит его и станет швырять будто щепку. Видимо, недолго – пару минут. Два каких-то человека, чьих лиц в темноте было не различить, стали сонно переговариваться. Непонятно откуда послышалось шарканье ног. Но все эти звуки перекрывала ужасная тишина – предвестник катастрофы, – тягостная немота последней секунды перед крушением. Потом Джиму пришло в голову, что он, возможно, успеет перерезать крепления шлюпок, чтобы они всплыли, когда корабль пойдет ко дну.
У «Патны» был длинный мостик, и все лодки находились возле него, четыре с одной стороны и три с другой. Самая маленькая – по левому борту, почти на уровне руля. Джим с жаром заверил меня, что он тщательно следил за тем, чтобы все они могли быть использованы при первой необходимости. Он, дескать, свои обязанности знает. Полагаю, в этом смысле парень и правда был хорошим помощником.
– Я считаю, что всегда нужно быть готовым к худшему, – сказал он, взволнованно глядя мне в лицо.
Я кивнул, одобряя это разумное правило и отводя глаза от легкого неразумия своего собеседника.
Итак, Джим побежал к шлюпкам, переступая через ноги и головы спящих. Внезапно кто-то схватил его за китель, снизу раздался испуганный голос. Свет лампы, которую Джим держал в правой руке, упал на темное лицо с умоляющими глазами. Он достаточно знал язык малайцев, чтобы разобрать слово «вода», настойчиво повторяемое молитвенным тоном, почти с отчаянием. Джим попытался высвободиться, но теперь его схватили за ногу.
– Этот несчастный вцепился в меня как утопающий, – выразительно сказал он мне. – «Вода! Вода!» – какую воду бедняга имел в виду? О чем мог догадаться? Настолько спокойно, насколько смог, я велел ему отцепиться. Он меня задерживал, а время шло. Другие паломники тоже зашевелились. Мне нужно было спешить: я боялся, что не успею перерезать крепления шлюпок. Теперь тот человек держал меня за руку и явно собирался закричать. Тогда началась бы паника. Чтобы ее предотвратить, я ударил его фонарем по лицу. Звякнуло стекло, свет погас, зато мне удалось высвободиться, и я побежал. Я хотел скорее подобраться к шлюпкам. Скорее к шлюпкам. Но тот человек набросился на меня со спины. Я развернулся и попытался унять его – он все никак не успокаивался. Я чуть не задушил беднягу, прежде чем понял, чего ему нужно. Он просил воды, питьевой воды. Им выдавали ее строго по норме, а у него был маленький сын, которого я несколько раз видел. Ребенок болел и хотел пить. Когда я проходил мимо, отец решил выпросить у меня немного воды, вот и все. Мы стояли под мостиком, в темноте. Он сжимал мои запястья. Поняв, что от него не отделаться, я сбегал в свою каюту, схватил флягу и сунул ему. Он испарился. Только тогда я заметил, как у меня самого пересохло в горле.
Джим облокотился о столик и прикрыл ладонью глаза. Мне стало не по себе, по спине пробежали мурашки. Во всем этом было нечто странное. Пальцы, отбрасывавшие тень на его лицо, слегка дрожали. После недолгого молчания он заговорил опять:
– Такое случается с человеком только раз в жизни, и… Ну так вот. Когда я наконец добрался до мостика, эти несчастные уже снимали одну шлюпку с колодок. Шлюпку! Пока я поднимался по лестнице, меня с силой ударили по плечу. Видимо, целились по голове, но промахнулись. Меня это не остановило, и тогда старший механик (его к тому времени подняли с койки), снова замахнулся на меня ножной упоркой из лодки. Я ничему не удивлялся. Все это казалось естественным, хотя и ужасным. Ужасным. Я увернулся от удара, схватил этого жалкого сумасшедшего и поднял над полом, как ребенка. Он зашептал: «Не надо! Не надо! Я принял вас за одного из черномазых». Я бросил его, он заскользил по доскам и сбил с ног коротышку, своего помощника. Шкипер, возившийся с лодкой, обернулся и бросился на меня, по-звериному рыча. Но я был как камень. – Джим постучал костяшками пальцев по стене возле своего кресла. – Мне казалось, будто я уже двадцать раз слышал, видел и делал все это. Они не могли меня напугать. Как только я поднял кулак, шкипер остановился и пробормотал: «А, это вы! Давайте скорее, помогайте». Вот так он и сказал: «Скорее». Как будто нам было куда спешить. «Вы хотите что-то сделать?» – спрашиваю я. «Да, – рявкает шкипер через плечо, – смыться». По-моему, тогда я не понял смысла его слов. А двое других уже поднялись на ноги и полезли в шлюпку. Они топали, пыхтели, толкались, ругали лодку и корабль, ругали друг друга и меня. Все вполголоса. Я не двигался и ничего не говорил. Только смотрел, как «Патна» накренилась. Она стояла неподвижно, будто в сухом доке, но не прямо, а вот так. – Джим поднял согнутую в локте руку ладонью вниз, опустил пальцы – повторил. – Вот так. – Впереди, над головой форштевня, четко вырисовывалась линия горизонта. Черная искрящаяся вода вдалеке была неподвижна, как в пруду. Мертвенно-неподвижна. Неподвижнее, чем когда-либо прежде. Я не мог смотреть на такое тихое море. Вы когда-нибудь наблюдали за тем, как корабль плавает головой вниз и не тонет только благодаря одному-единственному листу железа, слишком старого, чтобы можно было его чем-то укрепить? А? Доводилось ли вам? О да, об укреплении я, конечно, подумал. Я подумал обо всем на свете. Но разве можно укрепить переборку за пять минут? Или даже за пятьдесят? Где мне было взять людей, которые спустились бы туда? А материал? Материал! Если бы вы видели ту перегородку, разве отважились замахнуться на нее молотком? Не говорите, что да. Вы ее не видели. Никто бы не осмелился. Черт подери, чтобы решиться на такое, нужно верить в какой-то шанс, хотя бы один из тысячи! Но не было и тени шанса. За мое бездействие вы считаете меня трусливой дворнягой, ну а вы-то что сделали бы на моем месте? Что? Вы не можете мне этого сказать, и никто не может. Чтобы принять какие-то меры, нужно время. Чего бы вы от меня хотели? Какой от этого был бы толк, если бы я до умопомешательства перепугал толпу людей, которых не мог в одиночку спасти? Которых ничто не могло спасти?! Да поймите вы! Это такая же правда, как и то, что я сижу сейчас перед вами…
Через каждые несколько слов Джим делал быстрые вдохи и бросал быстрые взгляды на мое лицо, как будто ему было важно, какое впечатление производит на меня его боль. Однако он говорил не со мной, а передо мной. Это был спор человека с невидимым антагонистом и неизменным спутником – вторым обладателем его души. Речь шла о том, что лежало вне компетенции судебного расследования. Две стороны одного «я» вели сложный и важный диспут о сущности жизни, и судья им не требовался. Джим хотел получить союзника, помощника, сообщника. Я чувствовал, что меня могут окружить, завлечь в ловушку, ослепить, приманить. Может быть, даже попробуют напугать, лишь бы только я принял отведенную мне роль в споре, неспособном привести ни к какому решению, коль скоро человек должен быть честным со всеми своими иллюзиями – возвышенными, которые предъявляют к нему определенные требования, и низменными, которые заставляют испытывать определенные нужды. Вы не видели Джима и не слышали его слов, потому я не могу описать вам своих тогдашних смешанных чувств. Мне казалось, будто меня заставляют постичь непостижимое, и я даже не знаю, с чем сопоставить это неприятное ощущение. Передо мной обнажали условность, которая есть в любой правде, и искренность, которая есть в любой лжи. Джим взывал к обеим сторонам одновременно: к той, что вечно обращена к свету дня, и к той, что, подобно невидимому для нас полушарию луны, ведет тайное существование в постоянной темноте и лишь по краям бывает очерчена боязливым пепельным светом. Признаюсь, слова Джима меня всколыхнули. Повод был неясен, незначителен. Подумаешь, скажете вы, юнец, каких миллион, сбился с пути. Но ведь он один из нас. Казалось бы, его история должна быть для меня не важнее, чем затопление муравейника, но в том, как он преподнес ее мне, ощущалась тайна, настолько захватывающая, будто он один стоял впереди целой толпы и смутная правда его слов могла повлиять на мнение человечества о самом себе…
Марлоу останавливается, чтобы зажечь новую жизнь в своей чирутке, и как будто бы забывает про свой рассказ, но потом вдруг продолжает:
– Конечно, я сам виноват. Незачем было интересоваться тем, что меня не касается. Это моя слабость. Его слабость – другого рода. Мне следовало бы уделять больше внимания случайному и внешнему. Тщательнее смотреть, кто передо мной: клиент старьевщика или человек, носящий тонкое белье. Человек – вот в чем все дело. Я встречаю слишком многих людей. – Тут в словах Марлоу промелькнула грусть. – И слишком многие оказывают на меня определенное… определенное… воздействие, так сказать. Как тот парень. В каждом подобном случае я вижу перед собой только человека и больше ничего. Проклятый демократизм! Такой взгляд, пожалуй, лучше, чем слепота, но пользы от него мне, уверяю вас, никакой. Люди ждут, что тонкость их белья будет принята во внимание. Но я никак не могу пробудить у себя интерес к таким вещам, и это, конечно, плохо. Это мой недостаток. А потом наступает теплый вечер, и даже партия в вист становится для многих чересчур обременительным занятием. Тогда мне вспоминается история…
Он замолкает, ожидая, вероятно, что его попросят продолжать. Но все молчат. Только хозяин, с неохотой выполняя долг гостеприимства, бормочет:
– Ты так тонко устроен, Марлоу.
– Кто? Я? – отзывается Марлоу тихо. – Вовсе нет! Кто был тонким, так это Джим, и, как бы я ни старался, мне не передать всех тех оттенков, которыми изобиловал его рассказ. Они неуловимы для бесцветных слов. К тому же он все усложнял своей простотой. Бедный простодушный чертяка! Нет, право же! Он был удивителен. Сидел передо мной и, глядя мне в глаза, говорил, будто без страха встретил бы что угодно, если бы видел это так же отчетливо, как я вижу его. И ведь он сам в это верил. Чудесная наивность, скажу я вам! Я украдкой приглядывался к нему, спрашивая себя, уж не хочет ли он нарочно меня разозлить. Нет, парень искренне твердил, будто нет ничего такого, чему бы он не мог противостоять «в открытую» (заметьте, «в открытую»!). Дескать, с тех пор, как он был еще совсем мальчишкой («вот такого росточка»), он готовил себя к всевозможным трудностям, какие встречаются на суше и на море. С гордостью Джим рассказал мне о том, как он придумывал всяческие опасные положения и выходы из них, готовился к худшему, развивая в себе лучшее. Надо полагать, его юность была полна захватывающих переживаний. Только подумайте! Столько приключений, столько славы, столько побед! Он казался самому себе очень прозорливым, и это ощущение, пустившее глубокие корни, венчало каждый день его духовной жизни. Сейчас, говоря со мной, Джим обо всем забыл, глаза светились. Он будто обыскивал меня фонарем своей глупости, и с каждым словом, которое он произносил, мое сердце становилось тяжелее. Смеяться над ним я не хотел и, чтобы ненароком не улыбнуться, сделал безучастное лицо. Джим выказал раздражение.
– То, что происходит на самом деле, всегда оказывается неожиданным, – произнес я примиряюще.
Мое тупоумие вызвало у него презрительное «тьфу!». Видимо, он имел в виду, что неожиданное для него исключено. Только сама непостижимость могла быть ему опасна – так хорошо он себя ко всему подготовил. Однако это произошло: его застигли врасплох. Он шепотом проклинал воду и небо, корабль и людей – все его предали! Он был обманом ввергнут в состояние философского смирения, не позволявшее ему даже пальцем пошевелить, меж тем как четверо других (шкиперу и двум механикам помогал еще один) прекрасно понимали необходимость действий и потому отчаянно возились со шлюпкой, спотыкаясь друг о друга и обливаясь потом. В последний момент что-то у них пошло не так. Каким-то непостижимым образом заклинило передний блок, и трагическая суть этого происшествия тут же завладела остатками их умов. Занятное, наверное, было зрелище: трое несчастных выбиваются из сил на мостике судна, которое замерло в тишине спящего мира. Сражаясь с самим временем, они пытаются освободить шлюпку. То тянут, то толкают ее, злобно рыча, то ползают на четвереньках, то в отчаянии вскакивают. Они готовы зарыдать, готовы убить. Вцепиться в глотки друг другу им мешает только одно – страх смерти, которая молча стоит за ними, как хладнокровный и непреклонный надсмотрщик. Да, вот так зрелище! Джим был свидетелем этой сцены и теперь мог с презрением и горечью описать ее в мельчайших подробностях. Только, похоже, он знал эти подробности благодаря некоему шестому чувству, ведь, если верить его клятвенным заверениям, он держался на расстоянии и не бросил в сторону шлюпки ни единого взгляда. Ни единого! А я ему верю. Ему было не до этой возни: ощущая опасный крен корабля, он думал об угрозе, притаившейся в самом сердце абсолютной безмятежности, и завороженно созерцал меч, висящий над его впечатлительной головой.
Весь мир застыл у Джима перед глазами, и он без малейшего затруднения представлял себе, как взметнется темная линия горизонта, как опрокинется широкая равнина моря и как разверзнется пропасть. Он предчувствовал безнадежную борьбу и видел звездное небо, навсегда смыкающее над ним свой могильный свод. Вот его бунтующая молодая жизнь делает последнее движение, и вот черный тупик. Боже мой! Все это он мог себе вообразить. Да и кто не смог бы? А он – не забывайте – был в определенном смысле совершенный художник, обладающий даром быстрого предвосхищающего видения. Оно являло бедняге такие картины, от которых все его тело превращалось в холодный камень, зато в голове начинался огненный танец мыслей – хромых, слепых, немых – чудовищный вихрь калек. Не помню, говорил ли я вам, что он исповедовался передо мной, как будто я имел право связывать и освобождать. Он закапывался глубоко-глубоко в надежде получить от меня отпущение, от которого ему не было бы никакого проку. В его случае торжественно произнесенные обманные слова не могли облегчить боль. Никто не поможет грешнику, которому сам Создатель, как видно, назначил заботиться о себе самому.
Итак, Джим стоял на мостике у правого борта, стараясь держаться как можно дальше от шлюпки, над которой шкипер и механики бились с ожесточением безумцев и таинственностью заговорщиков. Два малайца тем временем не отходили от штурвала. Только представьте себе действующих лиц этой, слава богу, исключительной сцены морской жизни: четверо ополоумели от яростных и тайных усилий, а трое в полной неподвижности глядят вдаль поверх тента, укрывающего глубокое неведение сотен человеческих существ, чьи мечты, надежды и усталость удерживает на краю гибели невидимая рука. В том, что им действительно грозила смерть, я, учитывая состояние судна, нисколько не сомневаюсь. У тех несчастных, которые суетились возле шлюпки, действительно были основания сойти с ума от страха. Честно говоря, будь я сам тогда на борту «Патны», я не поставил бы и фальшивого фартинга на то, что она продержится дольше секунды. Но она держалась! Этим паломникам суждено было окончить свой горький путь как-то иначе. Казалось, то Всесилие, чьей милости они себя вверили, пока еще нуждалось в них как в скромных земных свидетелях своего существования, и потому, глянув вниз, оно сделало океану знак: «Не убий!» Я, вероятно, усмотрел бы в спасении этих людей что-то чудесное и пророческое, если бы не знал, каким крепким и выносливым бывает старое железо. Иногда оно не уступает людям, которых мы изредка встречаем, – тем, кто, изношенный как тень, продолжает принимать на себя тяжесть жизни. Что, на мой взгляд, действительно загадочно, так это поведение двух рулевых. Они были в разношерстной кучке азиатов, привезенных из Адена для дачи показаний на суде. Один из них оказался совсем молодым парнем, с трудом преодолевавшим крайнее смущение. Благодаря гладкости и живости желтого лица, он выглядел еще моложе своих лет. Я прекрасно помню, как Брайерли спросил его через переводчика, что он думал тогда, стоя у руля. Переводчик, обменявшись с ним короткими фразами, повернулся к суду и с важным видом ответил: «Он не думал ничего».
Второй рулевой был гораздо старше. Полинялый голубой платок, хитроумно завязанный, обхватывал седеющую косматую голову, во впадинах усохшего лица залегли мрачные тени, смуглая кожа казалась еще темнее от бесчисленных морщин. Часто моргая терпеливыми глазами, он объяснил: судно постигла беда, и он это видел, но приказа отойти от штурвала не было. Он такого приказа не помнит. Тогда с чего бы он вдруг ушел с места? Отвечая на следующий вопрос, рулевой выпятил узкую грудь и заявил: тогда ему даже в голову не пришло, будто белые люди собираются покинуть корабль только из страха смерти. Он и сейчас в это не верит. Должны быть какие-то другие причины – тайные. С видом человека, который знает, что говорит, он качнул старой головой. Да, вот так-то! Тайные причины. Опыта ему не занимать, и да будет туану, то есть господину, известно (рулевой кивком указал на Брайерли, который не поднял головы), что за долгие годы служения белым людям на море он много чего узнал. Тут он с дрожью волнения излил на наши зачарованные головы целый поток имен: фамилии давно умерших шкиперов, названия забытых кораблей. Одни казались знакомыми, а другие звучали странно, как будто их исказила рука бесчувственного времени. Наконец рулевого прервали. В зале суда по меньшей мере на минуту воцарилась тишина, которая затем плавно перешла в глубокий ропот. Этот эпизод сделался сенсацией второго дня слушаний. Все присутствовавшие были под впечатлением – кроме Джима. Тот угрюмо сидел на краю первой скамьи и даже ни разу не взглянул на удивительного свидетеля, который, казалось, упорно вел какую-то загадочную линию защиты.
Так вот. Те два азиата стояли у руля неподвижного судна, готовые умереть, если это будет угодно судьбе. Белые не удостаивали их даже полувзглядом, вероятно, вовсе позабыв о том, что они существуют. Джим, во всяком случае, ничего о них не помнил. Он помнил только свое бессилие: поскольку он был один, он ничего не мог сделать. Оставалось только утонуть вместе с кораблем. В таком случае имело ли смысл поднимать шум? Джим ждал, стоя неподвижно и безмолвно. Он словно оцепенел от сознания своей героической проницательности.




















