Читать онлайн Бабочки Креза. Камень богини любви (сборник) бесплатно
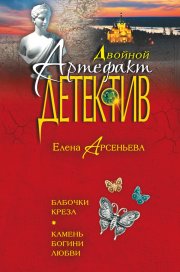
Бабочки Креза
Бесплотнее, чем время, беззвучней ты.
И. Бродский
А. Тарковский
- Из тени в свет перелетая,
- Она сама и тень, и свет,
- Где родилась она такая,
- Почти лишенная примет?
– Ну и что? – холодно спросила Алёна, глядя на нечто, смотревшее на нее из зеркала. – Предполагается, что я запрыгаю сейчас от восторга?
– Минуточку… – сказал молодой человек, отражавшийся к зеркале рядом с этим нечтом. Он снял с нечта веселенький розовый пеньюар и предупредительно взялся за спинку кресла, готовый его отодвинуть, чтобы нечту было удобнее встать. – Теперь прыгайте, прошу!
Ни нечто в зеркале, ни Алёна в кресле не шевельнулись.
Молодой человек с бейджиком, на котором было написано «Сева», поднял безукоризненные брови, явно удивленный, что не видит ни прыжков, ни восторга. С такими бровями люди обычно не рождаются, как не рождаются солдатами. С такими бровями они становятся по своей доброй воле после тщательного их, бровей, выщипывания, подбривания и подкрашивания. Обычно данной экзекуции с готовностью, обусловленной многолетней привычкой, подвергают себя женщины. Молодой человек относился к редким представителям противоположного пола, которые придают своей внешности суперважное, можно сказать, основополагающее значение. Впрочем, на нем вообще пробы ставить негде было, начиная от бровей и кончая покрытыми лаком ногтями на пальцах ног, видных из умопомрачительных сандалет на платформе.
«Боже, ты все видишь, – безнадежно подумала Алёна. – Но где были мои глаза?! Поспешишь – людей насмешишь, вот уж воистину!»
Она спешила. Она всегда спешила! И жить торопится, и чувствовать спешит – это не про Евгения Онегина, это про Алёну Дмитриеву, точнее, Елену Ярушкину, одну такую писательницу-детективщицу средней степени известности. А поспешишь, как известно и как упомянуто выше, – людей насмешишь. Так вот глядя на нечто, смотревшее на нее из зеркала, Алёна уже и смех слышала, и разинутые от хохота рты видела.
– Вы просто не привыкли к своему новому образу, – сказал Сева. – К тому же, мадам, если вы были не готовы к резкой смене имиджа, вряд ли стоило идти стричься в экспериментальный салон.
– Да, не стоило, – согласилась Алёна. – Но в той парикмахерской, куда я обычно хожу, авария – нет воды. Мне нужно было подстричься, ну я и зашла в первую попавшуюся, а вы как раз оказались свободны…
– Вам повезло! – высокомерно сообщил молодой человек. – У меня расписан каждый час на месяц вперед. Но сегодня клиентка попала в аварию – ее «Мазду» срочно повезли в автосервис, – а потому она позвонила и сообщила, что не приедет. Вы бы слышали, как она рыдала из-за того, что вынуждена пропустить свое время!
Бровям Алёны Дмитриевой было очень далеко до бровей Севы. Во-первых, она их не красила, во-вторых, не подбривала, в-третьих, иногда даже забывала элементарно выщипывать. Однако поднимать умела не менее выразительно и даже, не побоимся сказать так, весьма красноречиво. Сейчас ее поднятые брови сообщали о сомнении, будто дама рыдала по поводу отменившейся стрижки. Даме явно машину было жалко, вот и все.
Однако же и самомнение у этого Севы!
Между прочим, само имя такое – порождающее самомнение. Алёна знала пару, так сказать, носителей данного имени, и они оба жутко задирали носы. Примеры из истории (Всеволод Большое Гнездо) и из литературы (Всеволод Вишневский) не являлись исключением из общего правила. С другой стороны, у последних двух Сев имелись все основания для высокого самомнения. У прочих – не факт…
– С другой стороны, если вам так не нравилось то, что я делаю, давно нужно было сказать, – брякнул в ту минуту Сева. И совершенно напрасно брякнул.
– Да неужели?! – так и взвилась Алёна. – Да я вам сто раз повторяла: не надо так коротко! Но вы продолжали щелкать ножницами, вас было просто не остановить! Не пойму, вы с плана сдачи остриженных волос работаете, что ли? – Алёна ткнула пальцем в кучку темно-русых прядей, которые уже сметала в совочек проворная уборщица.
Кучка собралась немалая. Алёна носила волосы средней длины, примерно до плеч. Сейчас же ее голову плотно облегала пушистая курчавая шапочка, напоминавшая прическу негритянки.
В детстве у Лены Володиной, как звали в ту пору нашу героиню, была кукла-негритяночка Салли. Теперь Алёна смотрела на себя в зеркало и вспоминала детство. Одно утешало: в порядке эксперимента Сева не покрасил ей волосы в черный цвет и – для резкой смены имиджа – заодно не вычернил ей кожу, не то сходство с Салли стало бы полным: у куклы было совершенно такое же глупо-ошарашенное выражение курносого личика, как сейчас у Алёны.
– Я с самого начала, когда села в кресло, предупредила: хочу подстричься чуть-чуть. Чуть-чуть, понимаете?! Только форму волосам придать. А вы что сделали?
– Между прочим, у вас череп удивительно красивой формы, и ваша новая стрижка ее только подчеркнула, – высокомерно сообщил Сева. – Будь моя воля, я вас просто-напросто наголо обрил бы. Такой череп, как у вас, грех скрывать от окружающих. Но я предвидел вашу ортодоксальную реакцию и не стал предлагать вам ничего подобного. На самом деле во всем виноваты ваши волосы. Я и вообразить не мог, что они так круто вьются. По моему замыслу, короткие пряди должны были мягко облегать череп, а…
– Если вы еще раз назовете мою голову черепом, я вас… я вам… – Она хотела сказать: «Дам по физиономии», но только процедила сквозь зубы: – Я вам не заплачу за работу. Честное слово! У меня и так есть большое искушение не делать этого, поскольку результат мне не нравится, а уж если еще раз услышу про череп…
– С вас три тысячи пятьсот рублей, – торопливо проговорил Сева и принялся искать на шее Алёны заклейку, фиксировавшую пеньюар.
– Что? – с трудом пошевелила она вмиг онемевшими губами. – Что вы сказали?
– Три тысячи пятьсот рублей, – повторил Сева. – Включая мытье э-э… головы…
Неужели он хотел сказать – черепа?!
Алёна не стала заостряться на том, что дважды ему повторила, мол, че… в смысле, голова у нее чистая, только утром вымытая. И это была правда, она вообще мыла голову каждое утро, поскольку лишь тогда ее легкие, пышные и кудрявые волосы красиво лежали… Эх, как уместно здесь прошедшее время, однако! Но сейчас не до деталей. Три тысячи пятьсот рублей… Сто евро за то, что тебя обстригли практически наголо, причем даже не спросив твоего на это разрешения!
Помнится, в Париже Алёна позволила себе сходить в парикмахерскую. Всего тридцать пять евро, причем после каждого щелчка ножницами у нее осведомлялись, не коротко ли, нравится ли мадам, а также не дует ли ей из окна (дело было летом) и удобно ли ей сидеть. Сплошная эстетика бытия! А здесь…
Но теперь уже не до эстетики. Теперь вопрос стоит куда серьезней: есть ли у нее с собой такие деньги? Или ей предстоит публичный позор из-за широты натуры и беспечности? Нет бы сначала взглянуть на прейскурант, а уж потом в кресло перед выщипанным Севой плюхаться!
Алёна мысленно обшарила карманы и карманчики своей очень многокарманной сумки – и вздохнула с облегчением: вроде бы позора не будет. Однако в дальнейшем ей придется поприжаться в тратах. С другой стороны, с новой прической на шампунях можно долго экономить…
Алёна скрипнула зубами (ей всегда казалось неестественным упоминание в романах о скрежете зубовном, но сейчас она поняла, что фраза как раз весьма жизненна!) и принялась выворачивать карманы сумки. Сева стоял над душой и внимательно наблюдал за ее действиями. Тут же ошивалась барышня из рецепшн, держа руку на мобильнике: наверное, чтобы вовремя вызвать милицию, если скандальная клиентка вдруг окажется неплатежеспособной. С не меньшим любопытством наблюдали за происходящим и прочие посетительницы салона: одна ради такого дела высунулась из-под фена, другая сидела в кресле и крутила головой направо и налево – от Севы к Алёне, – а поскольку ей мелировали волосы и вся голова (череп, а?) была украшена смешными рожками из фольги, казалось, будто за земными проблемами наблюдает некая инопланетянка, а рожки – вовсе не рожки, а антенны, с помощью которых на какую-нибудь там альфу Спика идет передача информации о поведении аборигенов третьей планеты от Солнца. Еще одна дама просто стояла у дверей с озабоченным видом. Когда она чуть поворачивала голову, сквозь ее локоны вспыхивали радужными огнями бриллианты в серьгах. Вроде бы там имели место быть еще какие-то камни, синие. Очень может быть, что сапфиры, да какая разница, главное – это было потрясающе. Алёна непременно разглядела бы серьги получше (она вообще была к серьгам неравнодушна, равным образом к бриллиантовым, бижутерии и даже к оригинальной пластмассе), кабы у нее имелось время. Сейчас же ей хотелось как можно быстрее уйти отсюда, чтобы наедине с собой оплакать свою былую красоту. Причем слово «оплакать» не метафора, высосанная из пальца: Алёна натурально с трудом сдерживала слезы.
Сунув деньги барышне из рецепш и не удостоив Севу более ни единым взглядом, она пошла к выходу. Вдруг в дверь, оттолкнув даму в серьгах, ворвалась высокая рельефная брюнетка в белых бриджах, белой норковой курточке, в белых сапогах и с белой сумкой через плечо. Окинув салон безумным взором больших черных глаз, брюнетка, грохоча каблуками, кинулась к Севе и обняла его, совершенно скрыв под массой очень длинных, очень густых и очень кудрявых черных волос.
Сева покачнулся, причем было трудно понять, то ли он не устоял под таким натиском, то ли попытался вырваться из объятий, но брюнетка, как выражаются тангерос, стояла на своей оси и фиксировала партнера.
– Севочка! – вскричала она пылко. – Ты знаешь, я отдала свою Масю уродам, пусть употребят ее как хотят, и приехала на такси. Я как позвонила тебе, что не приду, так стала натурально больная. Просто не могла пережить, что тебя не увижу! К тому же мне так надоели эти патлы! – Она тряхнула изобилием своих волос, отчего по салону распространился головокружительный аромат незнакомых Алёне духов. – У меня от них голова болит, и я ими за все цепляюсь. Хочу, чтобы ты меня постриг коротко, короче некуда. Желаю начать новую жизнь! Мася сдохла, тут уж ничего не поделаешь. Мне все равно новую тачку придется покупать, и пусть это будет какая-нибудь отвязная «Ланча», что ли. Но ты же меня знаешь: новая машина – новый имидж, новая прическа!
Первый миг оторопи миновал, и Алёна, которая была в принципе дамочка с фантазией и весьма востра умом (без названных составляющих невозможно написать даже одного-разъединого детективчика, а не такое ненормальное их количество, которое вышло из-под пера нашей героини), догадалась, что сдохшая Мася, которую отдали на употребление уродам, скорее всего, автомобиль под названием «Мазда». Писательнице как-то приходилось общаться с человеком, который называл свой «Рено» Ренатой, так почему «Мазде» не быть Масей, так же как «Форду» – Федей, «Мицубиши» – Мишаней, «Тойоте» – Тоней, «Ягуару» – Яшей, «Волге» – Вовой, а «Хонде» – Фросей? При чем тут Фрося, спросите вы? Мол, не просматривается ассоциативная связь. Ну а в других случаях она просматривается, что ли?
Умение мыслить логически подсказало нашей героине, что брюнетка в белом – та самая клиентка, вместо которой она угодила в кресло экспериментатора Севы. Ага, значит, тот не лгал, уверяя, что дама рыдала по телефону. В самом деле, очень похоже, что рыдала она не из-за покалеченной Маси, а из-за невозможности явиться к Севе. И вот, вы только поглядите! Явилась-таки! И хочет постричься налысо!
Где-то Алёна читала, что древнегреческие (а может, древнеримские или еще древнекакие-то) женщины в знак скорби по усопшему супругу состригали себе волосы и сжигали их на его погребальном костре. Может статься, если Мася окажется невосстановимой, брюнетка устроит ей пышную кремацию и бросит в костер свои тугие черные локоны, которые срежет Сева…
Фантастика, честное слово!
Экзальтированная брюнетка между тем оторвалась от Севы, сгребла с его лица и тела массу своих волос (ей-богу, об этом изобилии так и хотелось выразиться по-старинному: власов!) и плюхнулась в кресло. Откинулась на спинку, вытянула ноги и блаженно замерла, ожидая мгновения, когда ее головы (черепа?) коснутся руки парикмахерского божества.
Однако божество стояло, нерешительно пощелкивая ножницами (наверное, так Зевс поигрывал перунами, размышляя, к чему бы руку приложить, титанов в Аид низринуть или не в меру ревнивую Геру стегануть для острастки) и поглядывая то на брюнетку, то на даму в бриллиантах.
Смысл сей мизансцены внезапно сделался вполне понятен Алёне. Так ведь сейчас настала очередь стричься именно этой дамы! А брюнетка уже расселась, и не похоже, что ее возможно с места сдвинуть.
А между тем придется.
– Валечка, – робко заговорил Сева, – лапа, давай запишемся на какой-нибудь другой день, а? Ты же опоздала, твоя очередь уже прошла… Хочешь, приходи через две недели, а, зая?
Алёна снова скрипнула зубами (эдак и эмаль стереть недолго, честное слово!) – «лапа», да еще и «зая»! Нет надо поскорей уходить из этой парикмахерской!
Как назло, она уронила сначала шарф, потом перчатки, потом пачку одноразовых платков… Вообще процесс одевания как-то неоправданно затянулся.
– Через две недели?! – так и взвилась брюнетка. – Какого…?!
Услышав употребленное ею слово, Алёна уронила все, что только что собрала с полу. О зубах лучше вообще молчать.
– Ну, лапа… – виновато пробормотал Сева. – Ты же знаешь, у меня запись, а сейчас очередь вон той дамы… Если бы ее не было, тогда, конечно, зая…
Брюнетка повернула голову в сторону обладательницы бриллиантовых серег, и Алёне вдруг показалось, что ворох ее черных кудрей зашевелился – некоторые пряди будто начали приподниматься, раскачиваться и потянулись к сопернице в борьбе за парикмахерское кресло и Севу…
«Медуза Горгона! – мысленно ахнула Алёна. – Ну один в один!»
– Извините, – поспешно произнесла дама в серьгах. – Я раздумала стричься. Я… запишусь на какой-нибудь другой день, попозже. Прошу прощения. Всего доброго!
И ринулась из зала, схватив с вешалки сиренево-серую шубку. Конечно же, норковую, как же иначе. Вообще на вешалке обитали сплошь норки. А среди них был один стриженый мутончик с ламой, и принадлежал он, извините, писательнице Дмитриевой.
Черные локоны перестали шевелиться. Змеи успокоились и улеглись на прежнее место. Они ведь не знали, что Медуза Горгона решила с ними расстаться, не то уж точно закусали бы ее насмерть!
Алёна наконец оделась и, с трудом сдерживаясь, чтобы не расхохотаться, отправилась восвояси. Настроение у нее неожиданно исправилось, и это свидетельствовало, во-первых, о том, что все на свете относительно, даже потеря кудрей, а во-вторых, о том, что наша героиня была весьма непредсказуема как в настроениях своих, так и в поступках, в чем нам еще не раз предстоит убедиться.
Она вышла из салона, поежилась, ощутив, как холодно стало теперь голове, но решила больше не зацикливаться на неприятных эмоциях, а искать позитив, и, подняв воротник, спустилась с крыльца, намереваясь отправиться на поиски означенного позитива в ближайший книжный магазин. Сейчас бы очень не помешала какая-нибудь новая Гавальда… а может, старый любимый Борхес, книжка которого у Алёны когда-то была, но куда-то запропала (наверное, затырил какой-то злодей, взявший почитать и не вернувший). Вопреки расхожему мнению о том, что чукча не читатель, чукча – писатель, писательница Алёна Дмитриева читала много. Ну, может, потому, что была все же не чукчей, а вполне русской, правда, с дальней примесью капельки буйной абхазской крови, что и делало ее такой порою вспыльчивой… но отходчивой, заметим. От крыльца в обход дома к тротуару вела узенькая дорожка, и на ней стояла, загораживая путь Алёне, дама в бриллиантах. Она застегивала шубку и, услышав за спиной шаги, обернулась.
А Алёна, взглянув на нее повнимательней, даже споткнулась, с трудом сдержав восхищенное «ах!».
На самом деле ослепляли вовсе не бриллианты в розовых ушках – поражала воображение сама дама. Ей было лет шестьдесят, не более (ну да, пустячок такой!), однако она выглядела совершенно так, как, по мнению Алёны, должна была выглядеть настоящая столбовая дворянка. Великолепно одета, разумеется, не в турнюры и кринолины, а в полном соответствии с современной модой – только очень изысканно и дорого. Самая малость макияжа, а духи… ого какие духи! Явным образом не на пенсию grande-dame существовала, одевалась вот в такие легонькие норковые шубки и сапожки змеиной кожи, вдевала в ушки какие-то немыслимые серьги и причесывала свои темно-русые, с продуманной сединой волосы (зачем еще какой-то Сева ей понадобился, совершенно непонятно?), а также посещала салоны красоты. Все как надо! С нее бы портрет писать великому художнику да подпись к нему поставить примерно вот такую: «Портрет графини N. N.». Или даже – княгини… При том совершенно ясно, что родилась она году примерно в тысяча девятьсот сорок седьмом, то есть в то время, когда дворянство, тем паче столбовое и титулованное, было уже выкорчевано, или, выражаясь языком соответствующей эпохи, ликвидировано как класс. Но слово «порода» само собой приходило в голову при первом же взгляде на точеное, худое лицо, покрытое патиной морщин словно нарочно для того, чтобы подчеркнуть изысканную давность происхождения красивой, все еще очень красивой дамы со стройной фигурой. А стоит только представить, какой она была в минувшие, молодые свои лета! Именно о таких говорят: «Из-за нее города горели!»
Алёна тихонько вздохнула. Она тоже была ничего себе, и в минувшие годы, и в описываемое время, однако города из-за нее точно не горели. Чего не было, того не было. Впрочем, может, оно и к лучшему. Вот еще пожаров не хватало…
Дама улыбнулась Алёне и вдруг сказала:
– На самом деле я должна вас поблагодарить. Увидев, что юноша сделал с вашими волосами, причем не обращая внимания на протесты, я поняла, что мне этого точно не надо.
От ее жизнеутверждающих слов Алёна чувствовала, что порция позитива ей потребуется побольше, чем планировалось сначала. Придется купить и Гавальду, и Борхеса, а также прихватить какой-нибудь красивый альбом. Желательно о мифологии в искусстве – именно такие картины всегда невероятно повышали Алёне настроение.
Она с усилием улыбнулась, ощущая себя невероятной уродиной.
– А знаете, – проговорила дама задумчиво, меряя ее пристальным взором, – я вообще-то чушь спорола. Как ни странно, стрижка вам идет. И не пойму, в чем дело. То ли у вас такой тип лица, которому все идет, то ли в самом деле Сева гениален.
– Это у вас такой тип лица, которому все идет, – усмехнулась Алёна. – Так что вы вполне могли остаться и обрить голову.
Дама была красивая, слов нет. Но бестактностей Алёна терпеть не могла!
У дамы возмущенно раздулись ноздри, но тут же она усмехнулась:
– Один – один! Извините, я ляпнула не подумав.
– И вы меня извините, – прочувствованно сказала Алёна, но не став уточнять, что сама-то она ляпнула подумав.
В ту минуту позади них послышался резкий звук распахнувшейся двери, а потом всполошенный голос:
– Наталья Михайловна!
Дама обернулась.
С крыльца слетел Сева. Чуть не упал, поскользнувшись платформами на обледенелой дорожке, смешно вильнул своими худыми ногами, обтянутыми чрезмерно узкими брюками.
– Наталья Михайловна, сейчас позвонила клиентка, которая должна была прийти через час. У нее проблемы – срочно надо собаку в ветеринарную клинику везти, она просто рыдала оттого, что вынуждена пропустить свое время, но, во всяком случае, через час я вполне могу заняться вашими волосами. Может быть, вы подождете? Мы можем предложить вам кофе… чай… зеленый или черный, на выбор.
– Спасибо, нет, – мягко сказала Наталья Михайловна. – Вы извините, но я ведь практически случайно здесь оказалась. Обычно к своему мастеру хожу, а она заболела, вот я и заглянула сюда. Тем более салон напротив моего дома, да такая вывеска у вас эффектная.
Она махнула рукой, указывая на висящую сбоку от двери огромную пеструю бабочку из какого-то блестящего материала, напоминающего шелк. Парикмахерская называлась «Мадам Баттерфляй», что говорило об эрудированности ее владельцев. Ну кто, в самом деле, кроме сугубых знатоков и любителей, помнит сейчас старую оперу Пуччини, которая куда чаще именуется по-другому – «Чио-Чио-сан». Да и про Чио нынче никто не знает, вот разве что кто-то вспомнит, что есть такая песня группы «Кар-мэн»…
– Ой, вы оценили, да? – Сева зарделся, как невинная девица, даром что был ростом под метр восемьдесят и мускулист. – Это я придумал. Красиво, верно? Моя любимая бабочка – орнитоптера крезус Валлас. Описана лепидоптерологом Валласом в тысяча восемьсот пятьдесят девятом году.
– Кем Валласом? – растерялась Алёна.
– Лепидоптерологом, – повторил Сева. – Лепидоптеролог – человек, изучающий бабочек. Лепидоптерология – наука о бабочках, слово произошло от латинского lepidoptera – бабочка.
– Снимаю шляпу! – восхитилась Алёна. – То есть сняла бы, если бы она у меня была. Такие энциклопедические познания… Честно говоря, я тоже на бабочку загляделась, вот и зашла. Умеете людей приманивать, ничего не скажешь… – Она грустно вздохнула.
– Вы, наверное, в какой-нибудь энциклопедии картинку увидели, да? – спросила Наталья Михайловна.
– Да я вообще лепидоптерологией с детства увлекался, – сказал Сева. – Особенно бабочками. Когда классе в восьмом учился, даже думал на биофак поступать. Потом заболел визажем, но страсть к бабочкам осталась. Обожаю бабочек и цветы! Они, как мне представляется, бесполы – совершенные существа, андрогины, какими люди были, по античным представлениям, раньше, до того, как боги разделили их на мужчин и женщин.
Так, кое-что во внешности женственно-брутального Севы стало объяснимо. Вообразил себя андрогином? Или… не вообразил? А впрочем, его дело!
– Бесполы, значит? – хмыкнула Алёна. – А как же насчет пестиков и тычинок у цветов? А у бабочек ведь тоже, кажется, есть самцы и самки.
– Их тоже разделили боги, – горько вздохнул Сева и покачал головой, как будто осуждал проступок сей, совершенный богами без спроса у него. – Я ведь говорил только о своем восприятии. Мне кажется, что два крыла бабочек – образ их двуединой сущности…
– Минуточку! – возразила Алёна, сама не понимая, почему не может угомониться и оставить в покое несчастного андрогина вместе с его фантасмагориями. – Но вот у человека две ноги и две руки. Это тоже символ его двуединой сущности?
Сева посмотрел на нее сверху вниз:
– Вы просто ортодокс. Вы мыслите схемами. Мне вас по-человечески жаль…
– Да не ортодокс я, а просто спорщица, – покаянно призналась Алёна. – Извините. Это от растерянности. Просто мне ни разу не приходилось видеть парикмахера-лепидоптеролога.
– Да какой я лепидоптеролог? – смешно сказал Сева с интонациями некоего мельника, который уверял, что он ворон, а не мельник. – Я увлечен только бабочками. И не я один, такое впечатление. Хотите, что-то покажу?
Оскальзываясь и для поддержания равновесия взмахивая руками, словно бабочка крыльями, причем широченные в проймах и сужающиеся к запястью рукава его бледно-голубого (хм-хм…) рабочего халата усугубляли сходство, Сева заспешил за угол дома, приглашающе улыбаясь дамам. Те озадаченно переглянулись и заспешили за ним, чтобы увидеть… серую унылую стену, на которой были нарисованы две бабочки. Одна была зеленая, ярко-зеленая, как на вывеске, а вторая – сапфирово-синяя, с белыми пятнышками на крыльях.
– Боже! – обронила Наталья Михайловна.
А писательница Дмитриева только головой покачала. Рисунок был поразительно хорош! Рисовали, видимо, цветными мелками, но такими яркими, что цвет не поблек даже на сером бетонном фоне. Бабочки были совершенно огромными, живыми, вот только что не трепещущими, и если бы Алёна не убоялась трюизма, который ближайший родич банальности, она непременно подумала бы, что эти бабочки вот-вот готовы вспорхнуть со стены и пуститься в полет над подтаявшими мартовскими сугробами.
– Бабочка Зефир бриллиантовый! – произнес Сева голосом завзятого конферансье, представляющего публике новую звезду. – А также бабочка сапфировая, иначе говоря – морфида Менелай!
– Менелай – это который обманутый муж Елены Троянской? – уточнила Алёна. – Странно, мне он представлялся довольно-таки невзрачным существом. А в его честь такую красоту назвать…
– Вопрос не ко мне, – сказал Сева, – но эта бабочка в самом деле так называется и так выглядит. Удивительно точно нарисована, знаток работал.
– Зефир бриллиантовый? – недоверчиво повторила Наталья Михайловна, разглядывая зеленую бабочку. – Зефир…
– Про зефир – худо-бедно понятно, – задумчиво произнесла Алёна. – В античной мифологии Зефир – бог западного ветра… Ночной Зефир струит эфир, бежит-шумит Гвадалквивир, и всё такое. Бабочка легка, как ветерок. Аналогия налицо. Но почему зефир бриллиантовый, если он такой зеленый?
– Он не просто зеленый – он блестящий, – запальчиво возразил Сева. – Я знаете сколько времени такой материал для выставки искал, чтобы блестел даже в пасмурный день! Ведь значение слова «бриллиант» – блестящий.
– Ну да, – недоверчиво покачала остриженной головой Алёна. – Значит, зеленка, ну, бриллиантовая зелень, которой царапины мажут, по-вашему, тоже блестящая? Да нисколько! Зеленая, как зелень, и жутко пачкается.
Сева посмотрел на нее свысока:
– На самом деле бриллиантовая зелень – это порошок из кристалликов зеленовато-золотистого цвета, его разводят на пятидесятипроцентном спирту. Порошок блестит, поэтому называется не только бриллиантовая, но и блестящая зелень.
– Так это вы зефир с Менелаем нарисовали? – насмешливо осведомилась Наталья Михайловна.
– Нет, – громко вздохнул Сева. – Не наделен талантом, увы. Только в воображении рисую образы и воплощаю их в жизнь… – Он мечтательно поглядел на прическу Алёны, но тотчас воровато отвел глаза. – А вот одна моя клиентка… да вы ее видели, Валентину-то… и рисует прекрасно, и делает потрясающие броши и заколки из бисера. У нее обширная клиентура, потому что ее изделия выглядят просто потрясающе, украсят… – Внезапно Сева оборвал свою речь, в которой появился отголосок рекламного пафоса, и в его глазах мелькнуло выражение ужаса: – О боже, да ведь я и забыл, что меня Валентина ждет!
И, даже не простившись, он убежал, стуча платформами, к своей Медузе Горгоне, на голове которой уж небось вовсю зашевелились нетерпеливые черные змеи.
– Терпеть не могу бабочек! – вдруг сказала с отвращением Наталья Михайловна. – Возьмешь их за крылышки – так мерзко шелестит под пальцами, бр-р! И пыльца осыпается, аж сухо в горле становится. – Женщина передернулась. – А как они лапками судорожно сучат, вы обращали внимание?
Алёна же обратила внимание на слово «сучат», подумав, что, ежели бы саму Наталью Михайловну досужий лихоимец вдруг схватил за крылышки (ну, конечно, при условии, что они у нее откуда-то вдруг взялись бы), она небось тоже засучила бы и лапками, и ручками, и ножками. Однако наша героиня дипломатично выразилась в том смысле, что трогать бабочек необязательно, если так уж неприятно, а лучше смотреть на них издалека, ибо они и впрямь напоминают ожившие цветы, если употребить чье-то расхожее выражение. Автора выражения, впрочем, вспомнить Алёне не удалось, зато она внезапно взяла да и блеснула эрудицией, вспомнив, что Набоков, к примеру, бабочек просто обожал, не зря же написал:
- Бархатно-черная, с теплым отливом сливы созревшей,
- вот распахнулась она; сквозь этот бархат живой
- сладостно светится ряд васильково-лазоревых зерен
- вдоль круговой бахромы, желтой, как зыбкая рожь.
- Села на ствол, и дышат зубчатые нежные крылья,
- то припадая к коре, то обращаясь к лучам…
- О, как ликуют они, как мерцают божественно! Скажешь:
- голубоокая ночь в раме двух палевых зорь…
Тут чтица-декламаторша умолкла, ибо у Натальи Михайловны вдруг возникла такая тоска в глазах, что Алёна сочла за благо затолкать набоковский дактиль в те же бездны памяти, откуда он столь внезапно и прихотливо возник. Надо было срочно принимать какие-то меры, дабы сгладить невыгодное впечатление (наша героиня была мнительна), и Алёна примирительно сказала:
– А все-таки красивая картинка. И жителям вон того дома повезло, – она махнула в сторону очень барственного четырехэтажного особнячка недавней постройки – из тех, к которым в Нижнем Новгороде прочно прилипло определение «элитка». – А то смотрели они с осени до весны на голую серую стену… Ладно еще летом – кусты, трава, цветы, сейчас же такая тоска… Зато теперь вот бабочки к ним прилетели!
Проходивший мимо невысокий мужчина несколько угрюмого вида, с бородой и в очках, при виде бабочек вдруг ахнул, остановился, достал из огромной сумки, висевшей через плечо, фотоаппарат (с длинным объективом, не мыльницу какую-то!), сфотографировал бабочек и двинулся дальше гораздо бодрее, чем прежде. Конечно, лица его Алёна уже не видела, но ей почему-то показалось, что на нем наверняка поубавилось угрюмости. А может быть, даже заиграла улыбка.
– И вообще, – продолжала фантазировать Алёна, – если бы я могла, я бы всю эту унылую стену без единого окошка изрисовала цветами, бабочками и облаками, между которыми летали бы ангелы!
– Вы случайно не учителем русского языка и литературы работаете? – снисходительно осведомилась Наталья Михайловна.
– С чего вы так решили? – изумилась Алёна.
– Да вот сказки сочиняете, стихи декламируете, – пояснила Наталья Михайловна и улыбнулась так, что Алёна немедленно вспыхнула:
– Нет, я не учительница, а частный детектив.
В принципе она не столь уж сильно соврала, поскольку в своих романах выступала в роли преступника и следователя в одном лице, изо всех сил стараясь сначала себя запутать, а затем успешно распутывая собственные коварные замыслы. Конечно, Алёна не ожидала, что Наталья Михайловна сделает такое лицо и такие глаза.
– Послушайте… – заговорила она потрясенно, – а ведь я как раз ищу человека, который мог бы расследовать преступление!
– Преступление? – зачем-то переспросила Алёна.
Наверное, затем, чтобы получить исчерпывающий ответ:
– Ну да. Преступление. Убийство.
1918 год
«Ну, кухарка, – подумала Аглая. – Ну и что такого?» И пожала плечами.
Так она думала за последние полчаса раз примерно десять. И пожимала плечами столько же раз.
«Если этот мир не может стать таким, каким ты хочешь его видеть, надо самому стать таким, каким хочет видеть тебя этот мир», – говаривал ее отец. Он уже был тогда болен, чувствовал, что скоро умрет, но старался жить, не скрипя зубами от боли, а получая от жизни удовольствие. Для него удовольствие было не в изобильной еде и питье (с его-то больным желудком!), не в разгуле и роскошестве (с его-то вечной нищетой, к которой приучила жизнь на нелегальном положении), а в работе. В школе для крестьян, которую он устроил в имении. Днем в ней учились дети, вечерами она открывалась для взрослых. Правда, взрослые, само собой, туда и не заглядывали, но отец верил, что все со временем переменится, люди просто должны привыкнуть и тогда придут.
Особенно много таких надежд отец лелеял после того, как в феврале скинули царя. «Вспомнил свою молодость», – снисходительно подумала тогда Аглая, которая знала, что двенадцать лет назад, в девятьсот пятом году, на баррикадах в Москве отец всерьез «делал революцию». Там же он получил пулю в живот, но каким-то чудом остался жив, только – на всю жизнь болен. И смирился со случившимся, постарался сделаться таким, каким хотел видеть его этот мир. Революционеру невозможно сообразовать свою жизнь с шестиразовым питанием, и протертыми супчиками, и паровыми котлетками, и жиденькой нежной рисовой кашкой. Но небогатому помещику, владельцу небольшого имения в пятнадцати верстах от Нижнего, можно вполне. Он распростился с «бурями молодости», как он это называл, и вернулся к жене, ранее покинутой за то, что, полюбив молодого социалиста, не решилась уйти за ним в «новую жизнь».
Именно тогда Аглая и увидела отца впервые. Ей было в ту пору тринадцать, и она не скоро привыкла к изможденному, тощему, желтолицему человеку, который поселился в их с матерью доме и вокруг которого отныне завертелась вся их жизнь. Потом привыкла и даже полюбила его – особенно когда в одночасье сгорела от инфлюэнцы, подхваченной во время краткой поездки в город, мама… Дочь и отец очень сошлись, жили, поддерживая друг друга и дружбой, и начавшей пробуждаться родственной любовью, и истинной страстью к делу рук отца: народной школе. И чем все кончилось?! Отец умер, увидев, как «крестьянские дети» радостно подожгли дом, в котором она размещалась. Для детей школа была всего лишь «пережитком старого мира», который в октябре семнадцатого рухнул окончательно. Господский дом, стоявший почти вплотную к школе, не сгорел только чудом: ветер внезапно переменился и понес пламя в другую сторону, к деревне, так что сгорело несколько овинов, за что поджигатели были крепко выпороты по постановлению сельского схода. Однако стену дома опалило изрядно, отчего внутри поселился неискоренимый запах холодного дыма, ставший для Аглаи самым страшным на свете запахом – знаком разрушения и смерти.
Она не любила вспоминать ужас прошедшего года, проведенного в родительском доме. Жизнь была лишенной надежд, она была обреченной, Аглая каждый день говорила себе, что надо уйти отсюда, из деревни, где она стала чужой всем и где все стали ей чужими. Даже жалости от людей, которые равнодушно смотрели, как горит школа, она не хотела. Конечно, надо было уйти раньше, но как уйти от родных могил? Вот и дождалась того, что однажды ночью выскочила на улицу, можно сказать, в чем была: после приезда очередного комиссара барский дом был тоже сожжен. Деревенские сбежались – кто поглазеть на огонь, кто поживиться. Спасти из мебели, книг и картин, маминых любимых картин, не удалось почти ничего, да и то, что осталось, растащили «спасальщики». Аглая, собрав небольшой узелок из вещей, которые смогла вернуть, устыдив баб, навалившихся было на «барские наряды», ушла по большой дороге, даже не оглянувшись на догоравшие останки прежней жизни. А что еще оставалось делать, если эта жизнь исторгла ее из себя?!
Кое-как добравшись до Нижнего (пригородные поезда не ходили, пришлось все пятнадцать верст отмахать пешком), она поселилась у прежней гимназической подруги (Аглая в свое время заканчивала городскую гимназию), вернее, в доме у ее тетки. Да и пригрелась было там, приходила в себя, проживая те небольшие деньги, которые удавалось выручить за продажу материнских украшений и нескольких золотых червонцев: они оставались в цене, даром что считались осколками проклятого прошлого. Но ни продать толком, торгуясь, ни с умом тратить вырученное она не умела, оттого деньги уходили быстро, а потом кончились вовсе. Подруга тем временем вышла замуж за приезжего агитатора и отправилась с ним в Москву. Ее тетка мигом повысила плату за комнату и прямо сказала Аглае: не можешь платить – выкатывайся. Нужно было искать работу, но где и какую?! Что она умела делать? Да ничего. Разве что учить детей тому, что знала сама. Но кому это нужно в сошедшей с ума стране?!
Но однажды разговор, который она услышала, стоя за керосином, мол, доктору Лазареву, что живет в бывшем доме купца Малофедина на Малой Покровской, на углу Ильинки, в четвертом номере, нужна кухарка, заставил Аглаю встрепенуться. Судя по разговору, одна из женщин была соседкой того самого доктора. Так вот, она говорила, что кухарка доктору нужна не простая, а умеющая готовить самые что ни на есть деликатные блюда, потому что у него больной желудок.
– Хорош же он доктор, если сам себя вылечить не может! – фыркнула собеседница. – Сапожник без сапог!
За керосином Аглая достояла, отнесла его своей квартирной хозяйке, выслушала новую порцию упреков в том, что за жилье не плачено, а потом улучила минутку – да и удрала, не прощаясь, зажав под мышкой свой узелок, сильно уменьшившийся, где была пара штопаного белья, метрики, немножечко денег – про самый черный день! – да томик Пушкина: все, что осталось от прежней жизни. Нет, еще у Аглаи имелось черное платье, когда-то служившее траурным, а теперь ставшее повседневным, а также жакетик. Если она не устроится на работу и не обживется, в жакетике придется и зиму зимовать… если она прежде с голоду не умрет. А служа кухаркой, может, и не умрешь… Главное, чтобы доктор Лазарев ее взял!
Она легко нашла трехэтажный, богато украшенный лепниной дом, стоявший чуть в глубине от дороги и отгороженный палисадом. Вошла в парадное – и покачала головой. Некогда, пожалуй, тут все и впрямь выглядело парадно: высокие окна с витражами, ковровые дорожки, широкие перила, чистота и порядок, – теперь же о существовании витражей можно было догадаться только по осколкам цветных стекол, торчащим в развороченных и разбитых оконных проемах, о некогда расстеленных дорожках – по крюкам для металлических прутьев, которые должны были их поддерживать на ступеньках, об имевших место быть перилах – по гнутым металлическим полосам, вкривь и вкось торчащим обочь лестничных пролетов, о чистоте и порядке… О существовании чистоты и порядка в заплеванном, прокуренном и забросанном окурками, изрядно загаженном парадном уже ничто не напоминало. Зато наличествовала наглядная агитация. «Бей буржуев!» – было написано на одной стене. На другой большевикам советовали отправиться на неприличные буквы. А около самой двери стена была забрызгана чем-то красным. И засохшие капли были жутко похожи на брызги крови.
Аглая поднялась на второй этаж, в котором располагался четвертый номер, и остановилась, разглядывая обитую кожей дверь с медной табличкой: «Д-ръ медицины И. Г. Лазаревъ». Сбоку висел шелковый, весьма захватанный шнурок звонка с толстой кистью внизу. Аглая слышала, что теперь у многих господ дверные звонки электрические, с кнопочкой, но, уж конечно, когда электричества нет, по-старинному звонить удобнее. Она уже набралась было храбрости дернуть за шнур, как вдруг изнутри донеслось лязганье засовов. Аглая отчего-то страшно перепугалась и отскочила подальше, даже взбежала на несколько ступенек выше и вообще изо всех сил постаралась сделать вид, будто поднимается на третий этаж, а квартира под номером четыре ее в жизни не интересовала.
Дверь распахнулась, и оттуда выскочила девушка лет семнадцати, маленькая и проворная, словно птичка, и, словно птичка, востроносенькая. На ней было скромное темное платье с белым кружевным воротничком и кружевной передничек. Девушкины волосы были гладенько причесаны и свернуты на затылке в некий кукиш, а спереди, надо лбом, имела место быть небольшая кружевная же наколка.
– Мустафа! – крикнула девушка, свесившись в лестничный пролет. – Где ты, ирод?! Неси дрова! Сколько раз тебе говорено?
Нетрудно было догадаться, что девушка зовет татарина-дворника, служившего заодно и истопником. Немного странно показалось Аглае, что дворника кличут с парадного входа, а не с черной лестницы. Неудивительно, что Мустафы не было ни слуху ни духу.
– Ах, басурманская душа! – воскликнула горничная с тихим отчаянием. – Неужто на митинг побежал?! Да что ты там понимаешь, на тех митингах?
Вот теперь стало понятно, почему Мустафу ищут на парадной лестнице. Видать, тоже возомнил себя гегемоном, и по черной лестнице ходить ему сделалось зазорно. А впрочем, ныне парадная лестница от черной ничем по виду и не отличалась. Ну совершенно ничем!
– Пойти разве на улице поглядеть? – сама себе сказала горничная задумчиво. – Вдруг где-нибудь за углом стоит, лясы точит?
И она проворно засеменила вниз по лестнице и выскочила из подъезда. Причем Аглая заметила, что, пробегая мимо красных брызг на стене, девушка перекрестилась. Знать, и в самом деле приключилось здесь ужасное душегубство!
И тут Аглаей овладело уныние. Горничная была такая чистенькая, такая гладенькая, будто перепелочка, такая щеголиха! Нет, она исхудалую, плохо одетую Аглаю и на порог не пустит. Даст ей от ворот поворот и даже слушать не станет про то, что готовит она отменно. Да и не только в том дело, что Аглая одета бедно. По ней сразу видно, что она – из хорошей семьи, из благородных. Как теперь говорят – белая кость, голубая кровь. Теперь такие всяким горничным ненавистны. И перепелочка с превеликим удовольствием отправит Аглаю восвояси. А вот господину – вернее, товарищу – доктору, очень может быть, даже понравится, что кухаркой у него будет дворянка, бывшая гимназистка. Хорошо бы сначала встретиться с ним, а уж потом предстать пред немилостивые очи горничной.
Совершенно непонятно, почему Аглая убедила себя, что очи ее будут немилостивы, но она была очень упряма. Еще матушка говорила, бывало: что в голову дочери вобьется – нипочем не выбьется. Сейчас вбилась вдруг в Аглаину голову мысль о заведомой недоброжелательности к ней докторовой горничной, та мысль и толкнула ее украдкой войти в прихожую, чтобы поискать хозяина…
Аглая очутилась в помещении, которое было бы просторным, но стало тесным из-за того, что было загромождено огромным зеркалом, которое тускло поблескивало в причудливой раме, а также вешалкой, сплошь завешанной каким-то невероятным количеством шуб. Их тесная масса загораживала очень изрядный угол.
Неужели это все докторовы шубы? Если так, богатый же он человек!
Аглая растерянно водила глазами, пытаясь понять, в которую из трех дверей, выходящих в прихожую, ей нужно заглянуть, чтобы найти доктора, как вдруг услышала торопливые шаги на площадке. Горничная возвращалась! Быстро же она управилась. Надо быть, не нашла Мустафу.
И только тут до Аглаи дошло, какую глупость она содеяла. Да ведь ее же за воровку могут принять! Схватят и слушать не станут, а вызовут чеку, а там, говорят, разговор что с контрой, что с ворами короткий: в момент к стенке поставят. К тому же помещичья дочь в чеке запросто за контру сойдет.
Испугавшись до полной потери разума, Аглая метнулась за шубы и затаилась там.
Пусть горничная уйдет из прихожей – Аглая или выберется из квартиры, или направится доктора искать. Сейчас же она ни на что не способна – ноги от волнения подкашиваются.
Позади шуб находилась стена. Аглая оперлась на нее спиной, прилагая массу усилий, чтобы не задохнуться, не чихнуть, не закашляться от пыли и нафталина, а главное – не заорать в голос от страха: что-то беспрестанно швыряло, возилось, шелестело вокруг… может быть, жадно насыщалась неистребимая моль, которая плевать хотела на весь нафталин в мире, а может быть, здесь было мышиное гнездо. О нет, только не мыши…
Аглая стиснула зубы и изо всех сил постаралась отрешиться от внутренней жизни, происходящей в шубном мире. В конце концов, мыши – не волки, не съедят! И вообще, все это суета сует. Гораздо интересней было то, что происходило в мире внешнем, доступном ее зрению через маленькую щелочку, оставленную между висящими на вешалке бобрами, медведями, лисами, белками и, очень может быть, даже и соболями.
А происходило там вот что.
Горничная закрыла дверь. Да не просто закрыла, а заложила засов, повернула ключи в двух замках и заложила задвижку.
«Ну, я попалась так попалась! – с ужасом подумала Аглая. – Как же я отсюда выберусь?! Дверь-то мне в жизни не открыть! Разве что придет кто… Господи, пусть кто-нибудь придет! Пусть горничная откроет дверь, чтобы я смогла сбежать!»
Видимо, Господь сейчас был в духе и услышал ее молитвы, потому что немедленно раздался оглушительный трезвон – кто-то изо всей мочи дергал шнурок звонка с той стороны двери. Дергал нетерпеливо, яростно…
Святые угодники, а что, если чека пришла арестовывать хозяев? Или явился наряд красных революционных матросов из недавно образованной Волжской флотилии? Матросы частью в анархисты записались, а частью верно служили большевикам, но и те, и другие славились своей лютостью и свирепостью. Вот как ворвутся они сюда… Удастся ли Аглае за шубами отсидеться? Или ее найдут и тоже арестуют?
Горничная подошла к масляной лампе, стоявшей на гнутоногом столике, и подкрутила фитиль. Прихожая озарилась довольно ярким светом.
– Сейчас, сейчас… – прочирикала горничная, глянув в глазок. – Тише, тише, барыня, звонок оборвете, я уж открываю!
«Ага, значит, не красные революционные матросы пришли, а какая-то барыня. Забавно, – подумала Аглая, – какая же может быть барыня после октября семнадцатого года?»
Тяжело громыхнул засов, потом защелкали ключи в замках и залязгали задвижки. Наконец дверь распахнулась.
– Какая я тебе барыня, ты что, Глаша, ума лишилась? – раздался насмешливый голос, и на пороге появилась женщина, при виде которой Аглая просто остолбенела.
Нет, она не была ни барыней, ни матросом, но ее вполне можно было назвать красной… потому что она была одета в красное. Пламенела кумачовая косынка, низко надвинутая на лоб, отчего как-то даже неразличимы делались черты лица. В яркую красноту отдавала кожаная куртка с алой шелковой розеткой в петлице. Конечно, юбка и сапоги на женщине были самые обычные, черные, но на них даже и внимания как-то не обращалось – взгляд так и прикипал к куртке и косынке. Даже тяжелый пояс, стягивавший ее куртку в талии, был красным, однако на нем висела еще одна вещь, выбивающаяся из красного революционного ансамбля: черная тяжелая деревянная кобура «маузера». И наверняка это была не просто пустая кобура, наверняка в ней и «маузер» был!
– Великодушно извините, ваше превосходительство, госпожа комиссарша, что заставила вас ждать! – всполошенно бормотала горничная, которую, как только что выяснилось, звали Глашей.
– Не госпожа комиссарша, а товарищ комиссар, – наставительно произнесла красная женщина. – Сколько раз тебе говорено было!
– Так точно, товарищ комиссар! – вытянулась во фрунт маленькая горничная. – Извините, стало быть, великодушно за опоздание. Я кофей варила для господина-товарища доктора, а на кухне звонок плохо слышен, да еще и керосинка гудит как оглашенная.
– Кофе варила? – изумилась яркая гостья. – С каких пор ты стала кофе варить? А кухарка у вас на что?
– Да ведь она сбежала, товарищ комиссар! – возмущенно сообщила Глаша. – Сбежала с красной революционной матросней! – И тут бедняжка спохватилась, аж за щеки схватилась: – Ой, что я ж такое сказала?! Простите, Христа ради, ваше превосходительство, обмолвилась по глупости!
– Ничего, со мной можно обмолвиться, – усмехнулась пламенеющая женщина. – Но все же лучше сказать, что кухарка ваша нашла себя в новой жизни, встала на путь революционных преобразований рука об руку с прогрессивно настроенным товарищем.
– Прогрессивно… рука об руку… – повторила горничная как зачарованная. И тут же снова схватилась за щеки, что было у нее, видимо, выражением превеликого отчаяния: – Да мне ж, темной, вовеки сего не запомнить! Надобно записать. – И она, сунувшись в карманчик своего передничка, извлекла на свет божий четвертушку синей бумаги и огрызок карандаша: – Не откажите повторить, ваше превосходительство, товарищ комиссар!
– Нашла себя в новой жизни, – великодушно повторила женщина в красном. – Встала на путь революционных преобразований…
Глаша торопливо записывала.
– Пиши, пиши, – добродушно кивнула комиссарша. – И выучи наизусть. Ты же знаешь, товарищи все жуткие начетчики, готовы к стенке поставить, ежели кто в слове ошибется!
– Ой, господи помилуй, – перекрестилась Глаша огрызком карандаша. – Ничего, авось пронесет, у меня память хорошая, все живенько вызубрю так, что от зубов станет отскакивать.
– Ну, тогда хорошо, – кивнула гостья. – А что товарищ доктор, ждет ли меня?
– Да-с, а как же-с, извольте-с пройти-с, – закивала горничная и отворила какую-то дверь.
Дама вошла. И в прихожей определенно стало темнее после того, как исчез этот неистово-революционный цвет ее одежды.
Глаша куда-то убежала. Вполне можно было рискнуть и попытаться отпереть дверь. Однако Аглая замешкалась. Она размышляла.
Неужто такие яркие женщины тоже могут недомогать? Не похоже! У нее такой вид, словно и еда, и сон ей ненадобны, устали она не знает, хворь никакая не пристанет. Однако же вот понадобился ей зачем-то доктор медицины Лазарев…
Как бы выяснить, зачем? Разве что подслушать, о чем комиссарша станет с ним говорить там, за дверью?
Аглая начала торить себе путь меж шубами и уже почти выбралась из-за них, как в прихожей снова послышалась меленькая, торопливая поступь Глаши, а потом появилась и сама она – с подносом, на котором стояли серебряный кофейник и чашки. Потянуло таким дивным ароматом… Сто лет, кажется, не вдыхала Аглая аромата такого кофе, да и вообще никакого, кроме желудевого!
Аглая чуть не зажмурилась восхищенно. Однако в ту же минуту Глаша пнула дверь, за которой скрылась комиссарша, и Аглая увидела, что та стоит около стула и вешает на него свои вещи. Женщина раздевалась, чтобы пройти на осмотр к доктору. Итак, комната была приемной перед кабинетом.
Горничная вошла туда с подносом и через минуту появилась обратно. Только девушка прикрыла за собой дверь, как раздался пронзительный звон. Аглая чуть высунулась и увидела, что звонит телефонный аппарат, висевший на стене. Глаша сняла трубку и прокричала, надсаживаясь:
– У аппарата! Квартира доктора Лазарева! Чего-сь изволите-с? Желаете записаться, мадам? Спинку поправить? Когда? Послезавтра, пятого сентября? В какое время желательно? Как прикажете, будет исполнено. Мерси вам, мадам. Будьте здоровеньки.
Водрузив причудливую трубку на рычаг, Глаша принялась писать в большой клеенчатой тетради, лежавшей на столике у зеркала, на всякий случай приговаривая:
– Мадам Сипягина, пятого сентября осьмнадцатого года, в три часа пополудни.
Закрыв тетрадку, она направилась было на кухню, однако телефон снова зазвонил.
– А, чтоб тебя разорвало! – проворчала Глаша от души. – Вот ирод, а? Ни минуты с него спокойной нет! Так бы тебя кочережкой и навернула, чтобы заткнулся, гад, на веки на вечные!
И все же она сняла трубку и снова отчеканила, надсаживаясь, слово в слово, как в прошлый раз:
– У аппарата! Квартира доктора Лазарева! Чего-сь изволите? – Помолчала минутку. – Ах, вам товарища комиссаршу… Так оне у товарища доктора уже. Позвать никак не можно, вы уж извините, товарищ! Ну как «когда выйдут»? Откуда ж мне знать? Как налечатся, так и выйдут. Может, через полчаса, может, через час, а может, и через два. Ихнее дело такое, комиссарское, сами понимаете! До свиданьичка, сударь, то есть этот… товарищ!
«Что ж за комиссарша такая? – ломала голову Аглая. – И что за доктор? Наверное, хороший, коли к нему по телефону записываются. Нынче-то телефоны, почитай, у всех бывших отключили. А у него не отключили. Значит, он не бывший? Наверное, самый нынешний, коли комиссаров лечит!»
Глаша ушла, и в прихожей снова стало тихо. Аглая выползла из-за шуб, задыхаясь. Ох и жарища! Ох и духотища! Такое впечатление, что она и сама среди шуб вся пропахла нафталином и даже не заметила, как уронила где-то там свой узелок.
Осторожно, на цыпочках перешла Аглая прихожую и потянула дверь. В приемной было пусто, и она решилась войти.
На полу валялись короткие кавалерийские сапожки, на стуле кучкой лежали вещи комиссарши. Аглая увидела алый корсет с кружевными пажиками для чулок и сами чулки – черные шелковые чулки; лежали там и очень хорошенькие кружевные штанишки, тоже черные.
«Ну и белье! – стыдливо хихикнула Аглая. – Такое небось только блудницы носят. И почему комиссарша все с себя сняла? Получается, она голая пошла к врачу, что ли? Да что ж за врач-то он такой?!»
Девушка огляделась и только сейчас увидела кушетку, на которой небрежно лежали несколько одинаковых халатов, вроде купальных, только из легкой серой шерстяной ткани. Очень может быть, они предназначались для посетителей, и в один из них и нарядилась комиссарша, чтобы пройти в кабинет… массажиста! Да, доктор Лазарев оказался массажистом – об этом можно было судить по развешанным на стенах рисункам. На них Аглая невольно задержала взгляд. Очень симпатичный мужчина атлетического телосложения, облаченный в полосатое трико (верхняя часть – майка, нижняя – штанишки до колен), с зализанными назад волосами и лихо подкрученными усиками, массировал разные части тела столь же симпатичным господам и дамам в самых невероятных купальных костюмах, которые объединяло одно: непременные штанишки до колен, иногда прикрытые юбочками у женщин, иногда – без оных.
Аглая изумленно покачала головой. Где-то люди друг друга убивают, мир на дыбы встал, а тут какой-то массаж, какие-то кружевные чулки… А впрочем, все близко в жизни, великое и смешное, пугающее и комическое, как любил говорить отец.
Однако какими же замечательными духами пользуется товарищ комиссарша! Давно Аглая ничего подобного не нюхала, а все же помнила их аромат – духи назывались «Любимый букет императрицы». У матушки с девичьих еще времен стоял флакончик, в котором оставалась только капелька духов и только тень аромата. Вот этого самого!
Она наклонилась к вещам. Все пахнет духами! И белье, и куртка, и косынка, и даже, такое ощущение, кобура. Может, надушен и «маузер»?
Аглая нерешительно коснулась куртки, а потом вдруг неожиданно для себя самой взяла да и надела ее. И защелкнула на талии ремень, и повязалась косынкой, точно так же, как комиссарша, низко прикрыв ею лоб. Ужасаясь тому, что сделала, она огляделась в поисках зеркала – захотелось увидеть себя в столь невероятной одежде, а потом скорей сбросить ее с себя! – однако зеркала в приемной не оказалось.
Зеркало было в передней, Аглая отлично помнила. Выскочить на минуточку, посмотреться – и обратно… Переодеться и осторожно выйти из квартиры, чтобы постучать снова и смиренно попроситься в кухарки…
Девушка замерла перед зеркалом. Честное слово, ее никак не отличить от комиссарши. Очень красиво получилось. И очень страшно!
А между тем, подумала Аглая, красный цвет ей определенно к лицу. Жаль, что прежде ничего красного не носила, а теперь-то уж не скоро доведется новыми вещами разжиться. А вот так пройтись бы по улице…
Звон колокольчика заставил ее подпрыгнуть. Кто-то идет! Сейчас примчится Глаша и застанет Аглаю на месте преступления. Что ж, опять под шубами прятаться? А с чужой одеждой как быть?
Боже мой, вот попалась так попалась! А звонок просто разрывается. Даже удивительно, что Глаша не слышит. Все, погибла Аглая! Теперь ее, как воровку… Она вспомнила кроваво-красные брызги на стене подъезда и, на миг потеряв всякое соображение от страха, принялась отодвигать задвижки, щелкать ключами и убирать засовы.
Дверь распахнулась.
На пороге стояли двое мужчин. Один был в такой же кожанке, как сейчас на Аглае, только черного цвета, в кожаном кепи и в крагах. Таких «кожаных» называли самокатчиками, потому что обычно они разъезжали на мотоциклетках. Второй был в матросском бушлате и бескозырке без ленточки. По слухам, без ленточек ходили анархисты…
У Аглаи задрожали ноги.
– Товарищ Полетаева? – спросил «самокатчик». – Ваш автомобиль подан.
* * *
– Убийство?! – воскликнула Алёна. – Слушайте, я такими делами не занимаюсь. С этим лучше в милицию. Если хотите, я познакомлю вас с отличными людьми, которые…
– Послушайте, многоуважаемая… Вас как зовут? – нетерпеливо спросила Наталья Михайловна.
– Елена Дмитриевна, – нерешительно представилась наша героиня, которую и в самом деле звали так. Другое дело, что она своего имени терпеть не могла, никогда так не представлялась, предпочитая свой звучный и некоторым образом прославленный псевдоним, а сейчас вдруг… сама не могла понять, почему ляпнула.
– Послушайте, многоуважаемая Елена Дмитриевна, – сухо отчеканила Наталья Михайловна, и красивое лицо ее стало ледяным и неподвижным, словно у Снежной королевы в знаменитом мультике. И ее голубые, всего лишь самую чуточку выцветшие глаза словно бы изморозью подернулись и сделались как бы даже белыми. – Ответьте мне на один, всего лишь на один вопрос. Отчего более младшее поколение заведомо считает всех, кто старше их, кретинами? Неужели оно – поколение, стало быть, – так охотно допускает, что само немедленно обзаведется всеми признаками прогрессирующей идиотии, лишь только перевалит за определенный возрастной рубеж?
– Я не… я не… – начала заикаться Алёна, и что-то вроде снисходительной улыбки мелькнуло на прекрасном лице Снежной королевы. Глаза чуточку оттаяли и обрели подобие прежней голубизны.
– Поверьте, если бы речь шла об убийстве, совершенном в обозримом времени, я непременно пошла бы в милицию. Кстати, у меня есть там приличные связи, так что я обратилась бы не к каким-то замотанным районным инспекторам угро, а к более высокопоставленным чинам. Однако я имею в виду расследование, имеющее отношение к весьма далекому прошлому. Я хочу, чтобы вы открыли секрет убийства моего предка.
– Предка? – воскликнула Алёна. – О господи! И каким же образом я его открою? С помощью машины времени, что ли?
– Если она у вас есть, – весьма сухо кивнула Наталья Михайловна, – то почему бы и нет?
Понятно. Дама не любит шуток. Или просто их не понимает. А впрочем, шутка так себе получилась, довольно убогонькая.
– А он вам кто? – осторожно поинтересовалась Алёна.
– Предок-то? – проговорила Наталья Михайловна. – Дед.
– Господи Иисусе! – невольно помянула имя Божие всуе Алёна. – Так это в каком же году было?! Убили его когда?
– Насколько я могу судить, в тысяча девятьсот восемнадцатом.
Алёна даже головой покачала. Но не сокрушенно, а восхищенно. Дело в том, что она находилась сейчас в довольно привычном состоянии: подходил срок сдачи в издательство очередного детектива, а между тем некий творческий конь по имени Пегас там еще даже не валялся. Бывает, что сюжеты тормозят на подступах к творческим лабораториям, и автор (аффтар, выражаясь по-нынешнему, по-интернетски) может бесплодно биться головой о стенку, причем очень долго… до синяков и кровоподтеков. Поэтому Алёна, которой, в принципе, очень часто приходилось подвергать свою многодумную головушку таким испытаниям, в минуты отчаяния готова была схватиться, уцепиться за малейшую, даже самую неопределенную подсказку судьбы. Опыт жизни подсказывал ей, что никакими щедротами небес пренебрегать не следует. И знаете, готовность писательницы Дмитриевой следовать мало-мальской подсказке свыше не раз себя оправдывала. Почему бы ей не оправдаться еще раз? Конечно, издательство ждет от своего автора современного детектива, однако ведь любую стародавнюю историю вполне можно пришить к современности. Например, кто-то находит бесценную рукопись образца тысяча девятьсот восемнадцатого года, дневник, скажем, в котором вскрываются корни… корни…
Корни чего? Преступления, само собой!
«Стоп! – одернула Алёна. – О чем-то в таком роде я уже писала, причем совсем недавно. Ну ладно, не будем загадывать. Отказаться я всегда успею. Сначала надо послушать, в чем там штука. В любом случае придется, конечно, в архивы идти. И это здорово! В пыли веков всегда можно набрести на что-нибудь интересное!»
Так подумала Алёна и мысленно засучила рукава, приуготовляя себя к вскапыванию бумажных залежей. Однако холодок в голосе Натальи Михайловны быстренько остудил ее благородный порыв:
– Имейте в виду, что все мыслимые и немыслимые архивы уже пройдены. Мой покойный муж служил в КГБ, затем во всех его позднейших модификациях и, наконец, в ФСБ, был отнюдь не последним человеком в верхних эшелонах местной власти, поэтому имел доступ практически к любым документам.
У Алёны непроизвольно приоткрылся рот.
– Да-да, – кивнула Наталья Михайловна, которая, очевидно, обладала способностью читать по губам даже прежде, чем произнесено слово. – Спецхран тоже исследован. Так что время на архивы вам тратить не придется.
Алёна растерянно моргнула:
– Тогда чего же вы от меня хотите? В архивах, получается, работать бессмысленно, да и возможности мои по сравнению с гэбэшником высоких чинов, мягко говоря, скромные, чтобы не сказать – никакие… Что я-то могу сделать?
Снежная королева улыбнулась ледяной и, как показалось Алёне, довольно коварной улыбкой.
– Позвольте, Елена Дмитриевна, я сначала кое-что расскажу вам о своей семье, хорошо? Тогда, может быть, вы поймете, чего я хочу и почему. Моя мать родилась в семнадцатом. Отца своего она не знала, даже никогда его не видела. Да и немудрено! Он погиб вскоре после того, как она родилась. Чтобы не оставаться одной в те тяжелые времена, моей бабушке, которую звали Натальей, как меня – вернее, меня назвали в ее честь, – пришлось снова выйти замуж. Фамилия ее мужа была Конюхов, он был матрос, хотя Наталья происходила из дворянской семьи. Впрочем, в восемнадцатом году это уже не имело значения… Моя мать Лариса с самого начала знала, что Гаврила Конюхов – не родной ее отец. Наталья никогда не скрывала от дочери, что ее отец погиб, а за Гаврилу она вышла только для того, чтобы спастись от смерти. Сначала Лариса думала, что речь идет о голодной смерти. Но потом Наталья рассказала ей, что она боялась преследований, как вдова некоего человека… Наталья скрывала его имя так тщательно, что не назвала даже дочери! Она страшно боялась, ведь ее бывший муж совершил какое-то серьезное преступление против Советской власти. Чтобы спастись, Наталья была вынуждена совершенно порвать с прежней жизнью. То есть абсолютно! Были уничтожены все документы, в том числе и свидетельство о венчании, личные бумаги, письма – вообще все, что могло связать Наталью и Ларису с прошлым. Впрочем, Конюхов был добрым и заботливым мужем – насколько мог, насколько это вообще было в его силах, потому что по природе своей он был грубоват и буен… Читали Тренева, «Любовь Яровая»?
Алёна кивнула, потому что она училась на филфаке и Тренев входил в обязательную программу.
– Читала. Чепуха и скукотища.
– Да не скажите… – протянула Наталья Михайловна. – Тренев замечательно нарисовал ту неразбериху, которая царила во время Гражданской войны. Революцию сделали нахрапом, власть удерживали лютой жестокостью. Народу, за самым малым исключением, было вообще все равно, кто у власти, лишь бы поскорей замиренье наступило, гражданская война очень часто велась в пределах одной, отдельно взятой семьи, а матросы и в самом деле были весьма влиятельными и порою очень колоритными людьми. Помните Швандю у Тренева? Совершенно таким был и Гаврила Конюхов. No comments, как говорится! Высокий, очень сильный, грубый человек. И все же именно благодаря ему выжили мои бабушка и мать… Конечно, Наталье больше всего на свете хотелось, чтобы ее дочь носила фамилию отца, но, разумеется, это было невозможно. Так или иначе жила странная семья неплохо и даже в достатке, поскольку Конюхов имел немалые способности, много работал, получал какие-то пайки, и все такое. Правда, хрупкое семейное счастье продлилось недолго. Ларисе было семнадцать, когда Конюхова арестовали. Она запомнила, что донос на него написал человек по фамилии Шведов.
– Но как Лариса могла это узнать? – спросила Алёна, воспользовавшись крохотной паузой, которую сделала Наталья Михайловна, чтобы перевести дух. – Жертвам репрессий не сообщали, кто писал на них доносы. Тем более членам семей. Или вы потом видели донос в архивах КГБ, то есть как его, НКВД?
– Доноса я не видела, – качнула головой Наталья Михайловна. – Он был по какой-то причине уничтожен. О Шведове и его доносе я узнала от мамы, которая случайно услышала разговор Конюхова и Натальи. Якобы Конюхов однажды явился очень встревоженный и сказал: «Я сегодня видел Шведова. Плохи наши дела, Наташа!» И Наталья в ужасе воскликнула: «Не может быть! Он ведь погиб! Она же убила его! Мы ведь видели!» А Конюхов угрюмо ответил: «Значит, недобила. Значит, он тогда выжил, а нам теперь не жить. Эх, если бы Шнеерзон не проговорился, все было бы иначе, а теперь… Шведов узнал меня. Глаза у него горели, как у голодного волка! Помяни мое слово, нам плохо придется. Донесет он на меня!» – мрачно ответил Конюхов и оказался прав: той же ночью за ним пришли и арестовали.
– Слушайте, а кто такая «она», о которой говорили Наталья и Конюхов? – спросила Алёна, которую, конечно, не могла не заинтриговать рассказанная случайной знакомой загадочная история. – И о чем проговорился какой-то Шнеерзон?
– Вот уж чего не знаю, того не знаю, – покачала головой Наталья Михайловна. – Мама клялась и божилась, что тоже не в курсе. Она спрашивала Наталью, но та молчала, уводила разговор в сторону, а однажды просто попросила дочь данную тему не затрагивать, потому что дело слишком опасное. Смертельно опасное дело! Поэтому ни мама моя, ни я так и не узнали, о чем проговорился какой-то там Шнеерзон и кто та женщина, которая недобила подлеца и доносчика Шведова, погубившего Гаврилу Конюхова.
– Понятно… – протянула Алёна, хотя, конечно, ровно ничего понятно ей не было. – Значит, Конюхова арестовали по доносу Шведова. А что же стало с Натальей и Ларисой? Неужели их тоже схватили? Тогда ведь часто арестовывали целыми семьями…
– Нет, они спаслись, – ответила Наталья Михайловна. – Вечером того дня, когда Гавриил рассказал жене о встрече со Шведовым, он посадил семью в поезд, и Наталья с Ларисой уехали из Москвы в Нижний Новгород. Здесь жила старая-престарая тетка Натальи – больше никакой родни у нее не было. Тетка приютила их, и они стали ждать вестей от Конюхова. Однако не дождались, конечно… Окольными путями, спустя немалое время, им стало известно, что его арестовали, но не довезли до тюрьмы: когда его вывели во двор из подъезда, он пустился бежать и был застрелен при попытке к бегству.
– Господи, жуть какая! – вздрогнула Алёна. – Такое ощущение…
Она не договорила, потому что ощущение было слишком страшным.
– Да, – кивнула Наталья Михайловна, мгновенно поняв ее. – У меня тоже есть такое ощущение, что Конюхов бросился бежать нарочно, надеясь, что его застрелят конвоиры. Он боялся пыток, боялся, что не выдержит и возведет на себя напраслину, а может быть, проговорится о событиях, приключившихся с ним и Натальей в восемнадцатом году. Это его пугало больше всего, он во что бы то ни стало, по мере сил своих, хотел отвести беду от любимой жены и дочери, пусть она и не была ему родной. И он отвел-таки от них беду.
– Ну, слава богу, хоть Наталью и Ларису больше не тронули! – от души вздохнула Алёна. – Я, знаете, за них как-то ужасно волнуюсь. Вы так трогательно рассказываете! Значит, им удалось отсидеться в нижегородской глуши…
– Точнее, в горьковской, – усмехнулась Наталья Михайловна. – Ведь Нижний как раз в то время переименовали в город Горький. Однако для того, чтобы в самом деле отсидеться в тишине и покое, моя бабушка возвела очень мощные фортификационные сооружения. Судьба тому благоприятствовала. В пути Наталья и Лариса познакомились с молодым человеком по имени Михаил Желтков.
– Желтков… – задумчиво пробормотала Алёна, которой фамилия показалась знакомой.
– Совершенно верно. В то время начальником НКВД Горьковской области назначили Павла Павловича Желткова, а Михаил был его сыном.
– Михаил Павлович Желтков! – сообразила Алёна. – Герой Советского Союза! В его честь еще улица названа.
– Совершенно верно, – кивнула Наталья Михайловна. – Михаил Желтков – мой отец. В поезде он влюбился в Ларису с первого взгляда. И проходу ей не давал, пока она не согласилась выйти за него замуж. Надо сказать, что Наталья всячески поощряла его ухаживания. Ну еще бы! Вот это и называется – найти убежище: спрятать дочь в семью начальника НКВД! Под свечой всего темнее. Слышали такую поговорку?
Алёна кивнула. Ей хотелось спросить, влюбилась ли Лариса в Михаила Желткова так же сильно, как и тот в нее, но она постеснялась. Впрочем, Наталья Михайловна в своей манере немедленно на невысказанный вопрос ответила:
– Боюсь, сначала мама не слишком-то любила отца. Но она слепо повиновалась Наталье, и скоро сыграли свадьбу.
– Погодите-ка, – прервала Алёна. – Вы говорили, что Ларисе исполнилось только семнадцать. Какая могла быть свадьба?!
– Да самая простая! – усмехнулась Наталья Михайловна. – Изобретательная бабушка представила дело так, будто Ларисины метрики пропали, утеряны. По одному звонку старшего Желткова, который в сыне души не чаял и готов был ради него на все, Ларисе были выданы новые, в которых значилось, что ей не семнадцать, а восемнадцать лет и что фамилия ее Селезнева. Мама потом раньше на год вышла на пенсию, но речь сейчас не о том. Селезнева – девичья фамилия бабушки. Наталья наплела, будто муж ее, Ларисин отец, бросил их давно, что она не желает носить фамилию подлеца… Миша уговорил отца, тот еще раз поднял телефонную трубку – и Наталья Конюхова вновь стала Натальей Селезневой. Впрочем, под этой фамилией ни мать, ни дочь не задержались. Что и говорить, моя бабашка виртуозно умела заметать следы! На свадьбе Ларисы она познакомилась с дальним родственником Желткова – инженером с Автозавода, вдовцом Николаем Лапшиным, – и вскоре вышла за него замуж. Ведь Наталье в ту пору было всего лет тридцать пять – совсем девочка, если судить по нынешним меркам. К тому же она была удивительная красавица! Теперь отыскать Наталью и Ларису было совсем непросто. Года четыре они прожили относительно спокойно и даже, наверное, счастливо в своих новых семьях, в тридцать восьмом родилась я…
– Как же так? – растерянно перебила Алёна.
– А что такое? – удивилась Наталья Михайловна.
– Нет, не может быть… Вам что – семьдесят лет? Семьдесят?! – переспросила Алёна с выражением неописуемого удивления. – Извините, конечно, но… Вы выглядите… вы просто вообще…
– Спасибо, – с достоинством поблагодарила Наталья Михайловна. Видно было, что подобные комплименты она слышит часто, привыкла к ним, но все же они ей очень приятны. – Это у нас семейное. Мама и бабушка были красавицами до последних дней жизни. Жаль, мы с мамой пошли не в бабушку… у нас более спокойный тип внешности, ну а та была очень яркая красавица. Они прожили обе до глубокой старости, порадовались внукам и правнукам. Отец мой погиб под Сталинградом и не увидел ни нашего сына, ни его детей. Я его почти не помню, но хотя бы могу им гордиться. А мой дед… Повторяю: бабушка Наталья так и не сказала о нем ни единого слова ни дочери Ларисе, ни мне, своей внучке. Так и умерла, унеся с собой в могилу тайну его имени и преступления, тайну того страха, который она испытывала перед прошлым, тайну, в конце концов, той женщины, которую и сама бабушка, и Гаврила Конюхов называли «она»… Бабушка умерла в семьдесят пятом году, а те времена не слишком располагали к откровенности. Вообще о тех старых событиях я узнала не от нее, а от мамы, уже в позднейшую, более свободную пору. Тогда же мы с мужем начали искать все, что могло иметь отношение к истории моей семьи. Собственно, основываться нам приходилось только вот на этом. Взгляните…
Наталья Михайловна открыла свою сумку – простенькую такую, из серо-голубой змеиной кожи, – и вынула довольно пухлый органайзер (в обложке из аналогичной рептилии, только желто-зеленого колера). Между страницами была заложена четвертушка, вырванная из какой-то старой газеты, но «одетая» в ламинат.
– Наша семейная реликвия, – пояснила Наталья Михайловна. – Мама нашла листок среди немногочисленных бабушкиных вещей, оставшихся со старых времен… Она убеждена, что в списке значится фамилия ее отца. Посмотрите.
Алёна взяла желтоватый листок, и несмотря на то, что он был покрыт гладкой пленкой, у нее чуточку запершило в горле, как бывало всегда, когда она работала в библиотеке или архиве и касалась шершавых, пропитанных пылью лет и даже веков газетных и книжных страниц. Текст почти стерся, и на одной стороне листка можно было с трудом прочесть список фамилий без конца и без начала, причем некоторые вообще стерлись, потому что оказались на сгибах. Абрикосов, Берлянт, Москвитин, Николаенко, Орлов, Переверзев, Ростовский, Столбов, Учкасов, Федоров, Феоктистов, Фофан, Харитонов, Хмельницкий, Цверидзе, Чекалин… – Алёна пробежала по списку глазами, потом прочла несусветное стихотворение какого-то Митрофана Голодаева, бывшее на той же страничке:
- Революция смотрит мне в очи
- И сурово гласит: «Защити!»
- Мне не спится в осенние ночи,
- Громко сердце стучится в груди.
- Не отдам тебя на растерзанье,
- Не тревожься, великая новь!
- Пусть мы все испытаем страданье,
- Но попьем мы буржуйскую кровь!
Ужаснувшись, Алёна перевернула листок и увидела какое-то воззвание – опять же без начала:
«…переполнили чашу терпения революционного пролетариата. Рабочие и деревенская беднота требуют принятия самых суровых мер к буржуям, эсерам и меньшевикам, чтобы отбить охоту к подлым заговорам, которые загоняют острый нож в сердце революции. Вся обстановка начавшейся борьбы не на живот, а на смерть побуждает отказаться от сантиментальничанья и твердой рукой провести диктатуру пролетариата.
В силу этого губернская комиссия по борьбе с контрреволюцией расстреляла вчера 41 человека из вражеского лагеря. Список фамилий помещен на второй странице газеты.
Да здравствует революция!
Да здравствует диктатура пролетариата!
Да здравствует товарищ Ленин!»
– Ну и ну… – пробормотала Алёна, протягивая листок Наталье Михайловне. – Кошмар!
– Вы обратили внимание на фамилии? – спросила та, не принимая листок.
– Нет, а что?
– Да всего-навсего то, что я тоже убеждена: в списке расстрелянных находится фамилия моего деда.
– И вы до сих пор так и не знаете, кто он? – Алена снова перевернула листок и прочла вслух:
– Абрикосов, Берлянт, Москвитин, Николаенко, Орлов, Переверзев, Ростовский, Столбов, Учкасов, Федоров, Феоктистов, Фофан, Харитонов, Хмельницкий, Цверидзе, Чекалин…
– Представления не имею, – вздохнула Наталья Михайловна. – Никакого представления! Но точно знаю, что он – не Абрикосов, не Москвитин, не Николаенко, не Переверзев, не Ростовский, не Столбов, не Федоров, не Феоктистов, не Харитонов, не Цверидзе и не Чекалин. И, кстати, не Фофан.
– Почему вы так уверены?
– Ну я же говорила, что мы с мужем очень серьезно работали в архивах и спецхране. И нам удалось найти данные о тех людях, фамилии которых я назвала. Ни один из них не мог быть моим дедом. Например, купцы Переверзев и Цверидзе, а также фабрикант Абрикосов оказались людьми весьма преклонных лет, они Наталье сами годились в деды, а не в мужья, Фофан – это фамилия женщины-доброволки, в смысле, добровольно пошедшей служить в так называемый Женский батальон смерти, составлявший личную охрану Керенского, потом, после Октябрьского переворота, попытавшейся, как и многие из них, укрыться в провинции, но схваченной революционными, так сказать, сознательными массами и поставленной к стенке. Николаенко – тоже женщина, эсерка. Федоров и Чекалин были крестьяне, пришедшие возмущаться порядками новой власти, Москвитин, Харитонов и Столбов, в прошлом офицеры царской армии, были женаты, и сведения о судьбе их семей нам удалось раздобыть, они тоже весьма печальны…
– Понятно, – вздохнула Алёна.
– Вот именно, – кивнула Наталья Михайловна. – Итак, остаются неизвестными судьбы и личности Берлянта, Орлова, Хмельницкого и Учкасова. И, честно говоря, до последнего времени я просто не верила, что удастся хоть что-то выяснить, тем более что муж мой умер и теперь мои возможности доступа к закрытым архивным материалам резко, ну очень резко сократились! Но вот буквально в последние дни…
Она умолкла и так многозначительно поглядела на Алёну, что той стало страшновато от сваливающейся на нее ответственности.
– Наталья Михайловна, – забормотала она панически, – но я, ей-богу, просто не вижу, чем же я в силах… Мои возможности, как я уже говорила, вообще никакие… Что я могу?!
– Вы можете очень многое, – последовал ответ. – Например, просто пойти и спросить.
1918 год
Товарищ Полетаева? Аглая слышала имя знаменитой комиссарши. В очередях говорили, что она приехала из Москвы, от Ленина, излишки золота у буржуев отбирать. А какие у кого излишки и где они вообще, буржуи-то? Давно всех, кто был, к стенке поставили!
Ну, наверное, еще не всех, если Полетаева приехала из самой Москвы.
Боже мой… Так вот чью одежду позаимствовала Аглая, поддавшись мгновенной одури! Да за такое заимствование ее…
Она была от страха на грани обморока и вряд ли соображала, когда «самокатчик» подхватил ее под руку и вывел на площадку. Матрос заботливо притворил дверь и последовал позади.
Аглая шла как во сне, иногда шевеля губами, чтобы признаться в обмане, но тут же сжимая рот покрепче и понадежней пряча язык за зубами.
Может, на улице удастся от них как-нибудь сбежать?!
Стало легче, когда свежий воздух коснулся лица. Он и в самом деле был удивительно свежий, с тонким ароматом осеннего увядания, едва уловимо прошитый дальней бензиновой струей и ближней – с отчетливым навозным оттенком. Раздалось ржание, и Аглая увидела рыжую лошадь, которая стояла посреди мостовой и таращилась вокруг недовольными глазами. Лошадь была впряжена в воз с дровами. Вид у нее был изрядно заморенный. Такое впечатление, что коняга предпочла бы быть впряженной в воз с сеном, но… Уж такая выпала ей судьбина! Под ногами у нее валялись свежие катышки.
Аглая озиралась вокруг, словно впервые видела мир. Вернее, в последний раз. Она не сомневалась, что обман сию минуту раскроется, а потому, прощаясь с жизнью, смотрела и смотрела по сторонам.
– Не беспокойтесь, товарищ Полетаева, – сказал «самокатчик», встретившись взглядом своих небольших карих глаз с ее расширенными от ужаса и потрясения серыми глазами. – Я ваш новый охранник. Прежнего пришлось сменить, так как он оказался неблагонадежным элементом, сомкнувшимся с врагами революции. То же и с шоффэром. Садитесь в авто, товарищ Хмельницкий приказал срочно доставить вас к нему.
Вдруг раздался странный треск, и словно бы несколько пчел пролетели над головой Аглаи. Она изумленно повела глазами налево-направо и увидела, что немногочисленные прохожие кинулись врассыпную.
– Скорей в автомобиль! – крикнул «самокатчик». – Подстрелят в два счета!
Только сейчас до Аглаи дошло, что треск – не просто треск, а выстрелы, и не пчелы летают вокруг, а пули свистят.
Да, в городе часто вот так, ни с того ни с сего, вспыхивали перестрелки, и даже убивали в них порою совершенно случайных людей. И никого это особо не удивляло, не возмущало. Люди привыкли. Такое уж время!
Черный запыленный автомобиль со всего хода подкатил прямо к Аглае и остановился, резко затормозив. У него был довольно широкий нос, приплюснутый спереди решеткой, и огромные фары. Может, самый настоящий «Кадиллак»? Аглая где-то слышала такое название… Никакого тента, и стекла впереди тоже нет, алый флажок трепыхается на носу автомобиля. Или нос бывает у корабля? А у авто как штука, которая выступает вперед, называется?
За рулем уже сидел матрос. Сейчас он был в огромных очках, которые, кажется, называются «консервы». Они защищали от ветра глаза шоффэра.
– Садитесь! – крикнул «самокатчик».
Аглая растерянно огляделась. Честное слово, она готова была подчиниться, но никак не могла найти дверцу, через которую предстояло сесть в кабину. И ни шоффэр, ни «самокатчик» не делали попытки эту дверцу обнаружить и как-то помочь Аглае сесть в автомобиль.
Наконец, спохватившись, они помогли, но очень своеобразно: один подхватил ее и подпихнул снизу, второй схватил за плечи, в результате чего Аглая была весьма бесцеремонно втащена в авто, которое немедленно сорвалось с места.
Некоторое время Аглая пыталась устроиться так, чтобы ноги не торчали выше головы, но тут ей почему-то никто не помогал. Ну, с водителем все понятно: он всецело был занят, все же скорость у авто («Кадиллака»?) оказалась просто головокружительная: верст тридцать в час, не меньше! – а «самокатчик» просто сидел рядом с Аглаей и смотрел на нее с откровенным презрением.
Наверное, глаза у нее были очень уж вытаращенные, потому что он сказал скучающим тоном:
– Не извольте беспокоиться, товарищ комиссар, мы в два счета доставим вас к товарищу Хмельницкому.
И тут наконец до Аглаи вполне дошло, к чему привело ее любопытство, до чего довела страсть к переодеваниям.
– Послушайте, товарищи… – начала было она, однако прикусила язык. Ну и что она скажет этим двоим? Что она вовсе не комиссарша Лариса Полетаева, а Аглая Донникова, забредшая к доктору Лазареву в кухарки наниматься?
Спасибо, если мрачный человек, которого про себя она называла самокатчиком, станет ее слушать. А то выхватит револьвер да просто пристрелит, как белогвардейскую шпиёнку. Судачили бабы в очереди: мол, красные, которые нынче у власти, особо никого не слушают, сначала пистолет выхватывают и пуляют почем зря, а потом уже думают, в того ли стреляли; да только что толку мозги трудить, человек-то уже умер.
Умирать Аглае не хотелось. Во всяком случае, пока.
Но что делать? Что можно сделать?
Продолжать молчать и отдаться на волю рока?
Похоже, больше ничего ей не оставалось…
Пока Аглая пребывала в нервической задумчивости, автомобиль мчался вперед. Вот проехали базарную площадь, которая называлась Новая… Вот мелькнул Вдовий дом, единственный каменный и внушительный среди множества деревянных купеческих, напрасно пытавшихся пыжиться рядом со строгими и благолепными очертаниями Вдовьего дома.
Не было сомнений, что автомобиль держит путь в сторону Щербинок или Дубенок. Город кончился. С обеих сторон дороги потянулись домишки и огороды.
Интересно, куда они едут? В какой-нибудь штаб красных, что ли?
– Застава впереди, – вдруг проговорил водитель, полуобернувшись и блеснув своими «консервами». – Что делать?
– Да ничего, – спокойно, словно бы даже с ленцой, ответил «самокатчик». – Сам видишь, кого везем. Отбрешемся.
Застава представляла собой две телеги, поставленные поперек дороги. Обочь горел костерок, над которым что-то варилось в подвешенном на рогульку котелке. Водитель повел носом:
– Ушицу гоношат… Как пить дать плотвишка да пескарики. Юшка небось жидковата, зато духовита, аж слюнки текут! Может, реквизнем в пользу революции, а? Как мыслишь, Костик?
– Заткнись, – сквозь зубы буркнул «самокатчик» Костик. – Все б тебе жрать! Сначала вот ее доставим, потом все остальное.
– Схимник ты, Костик, схимник и монах, – недовольно проворчал водитель. – Что ты, что Гектор, оба вы угрюмые да злые, а таких удача не любит, понял? Удача легких любит, вон как Хмельницкий!
– Заткнись! – рявкнул «самокатчик», и его темные глаза отчетливо посветлели от ненависти. – Застрелю!
– Меня-то? Бей своих, чтоб чужие боялись? – огрызнулся водитель. – Ладно, молчу, угомонись, товарищ Константин!
Он притормозил и крикнул грубо, адресуясь к двум замороченным солдатикам, сидевшим у костра:
– А ну, пропустите! Чего нагородили тут?!
Солдатики и ухом не повели, продолжая наблюдать, как варится ушица. Но из-за телеги выскочил худенький востроносенький паренек в невообразимо революционном кожане.
– Пропуск и пароль! – выкрикнул он.
– На что тебе пароль? – скучающим голосом протянул «самокатчик» Константин, игнорируя требование предъявить пропуск. – Ты ж небось отзыва не знаешь!
– Как не знаю? – обиделся парнишка. – Я начальник караула, должен знать. Отзыв – «Максим».
– Тогда пароль «пулемет», – небрежно предположил Константин. Однако начальник караула рассердился:
– Неправильно! Говори пароль, не то!..
Он сделал угрожающий знак, солдатики у костра вяло отложили ложки и потянулись к винтовкам, лежавшим подле, на земле.
– Не то что? – хамским тоном поинтересовался Константин. – Стрелять в нас станешь? Да ты что, товарищ, не видишь, кого везем?
– А кого? – насторожился парнишка, уставляя свои небольшие, покрасневшие от усталости и революционной сознательности глазки в Аглаю.
– «Кого…» – возмущенно передразнил Константин. – Да ведь это ж товарищ Полетаева! Неужто вы не получили декрет оказывать ей всяческое содействие?
Маленькие глазки парнишки стали большими-пребольшими, и он запищал восторженным дискантом:
– Неужто сама товарищ Полетаева?! Та самая?! Да я ж только и мечтал, чтоб на нее поглядеть!
– Ну вот погляди малость да убирай телеги, нам спешить надобно, – велел Константин. Однако парнишка молитвенно сложил руки на груди и пялился на пассажирку авто так, словно она была не она, а революционные попугаи-неразлучники Маркс и Энгельс.
– Товарищ Полетаева… Миленькая, родненькая… Да вы ж для нас… Вы для нашей партячейки в Дубенках все равно что красная революционная икона! – строчил что твой «максим» паренек. – У нас же организация – вашего имени, так и зовется – «Партийная ячейка красной Полетаевой»! Мы ж ваш декрет «Дорогу летучему Эросу!» проштудировали от корки до корки, законспектировали досконально и прорабатывали на практических занятиях. Жена секретаря ячейки у нас акушерка, так что она производила телесный осмотр всех сознательных присутствующих мужского пола вымериванием через тарелку. У кого конец перевесится через тарелку, тому бутылка самогонки…
– Что? – пробормотала Аглая, не веря ушам и оглядываясь на своих спутников. – Что это значит?!
Ответа не последовало: молчание, воцарившееся в автомобиле, можно было не только услышать, но и потрогать.
А парнишка из Дубенок, коему, собственно, и адресовался вопрос, ничего не слышал и продолжал самозабвенно трещать:
– Как видите, народ у нас политически грамотный, относится к проработке директив с огоньком! Я вот однажды вечером шел из Нардома, завернул в чей-то предбанник, чтобы оправиться, чтоб на улице, значит, не гадить некультурно, – смотрю, идут двое. Я притаился и вижу: женщина и мужчина, Фанька-пишбарышня[1] и инструктор райкома Мануйлов. Смотрю, в баню заходят, уселись на полок, стали друг другу объясняться в любви и так далее. Потом Фанька говорит: «Сколько я перебрала мужчин, но на тебя нарвалась по моему вкусу». Потом Мануйлов говорит: «А вы когда-нибудь пробовали раком?» Фанька говорит: «Давай по-конски. Вот я стану раком, а ты… Только тебе с разбегу не попасть». Мануйлов говорит: «Попаду». Мануйлов отошел немного и побежал на нее. Она немного отвернулась – он мимо! Я грянул хохотать. Они выскочили без ума… У нас, конечно, есть еще несознательные – прослышали об этом, стали заявления в ячейку писать, но секретарь не дал ходу, говорит: «Мы по Полетаевой живем или нет?!»
– Я не… я не…
Ничего более не могла выговорить Аглая, а Константин посмотрел искоса и сказал:
– Вы – «не»? Разве не вы пропагандируете на всех углах свободу любви? Вы же во всех своих статьях, которые активно печатает даже «Правда», утверждаете: семья при социализме будет не нужна, она – давно отмерший пережиток, закабалявший женщину и мешавший ее гармоничному развитию!
– Да-да! – подхватил полетаевский адепт из Дубенок. – Я сам читал: «В свободном обществе, которое вскоре воцарится в России, удовлетворить половую потребность будет так же просто, как выпить стакан воды!» Это вы писали. И мы твердо и неотступно идем всей нашей ячейкой намеченным вами курсом.
– Верной дорогой идете, товарищи! – с непроницаемым выражением подвел итог Константин. – А сейчас завершаем диспут, нам ехать пора. Товарищ Полетаева спешит. Убирайте телеги, не то я сейчас вам такое вымеривание через тарелку устрою, что мерить нечего будет!
Водитель выразительно хрюкнул, а сознательный полетаевец отчаянно замахал своим солдатикам:
– Пропустить машину! Честь и слава комиссару свободных половых отношений товарищу Полетаевой!
За треском мотора не слышно было, как отозвался на его призыв Константин, однако как-то все же отозвался, ибо губы его шевелились довольно долго.
Аглая сидела ни жива ни мертва. Сказать, что сгорала со стыда, значило просто ничего не сказать! Хотя, наверное, глупо было чувствовать себя оскорбленной, ведь все говоренное адресовалось комиссарше, а не ей. Последняя мысль несколько успокоила, хотя все равно – стыдо-о-о-обища…
Но это, строго говоря, мелочи жизни. Главное – другое. Ни мальчик из Дубенок, ни Константин, ни водитель не знают настоящую Полетаеву. А как насчет Хмельницкого, к которому ее, собственно, везут? А что, если он лично знаком с пресловутой Ларисой? Нет, нужно немедленно прекратить мало того что оскорбительный, так еще и опасный «фарс с переодеваниями и метаморфозами», как писали в старинных театральных афишках!
Автомобиль между тем свернул с ужасной, колдобистой дороги и заковылял – другого слова не подобрать! – между садами, огородами, пустырями и рощицами, среди которых изредка мелькали крыши уединенно стоявших домиков.
– Послушайте! – испуганно проговорила Аглая. – Я хочу вам сказать, что я…
– Заткнитесь, товарищ комиссарша! – рявкнул в ответ Константин. – Мне даже голос ваш слушать тошно, так что лучше не злите меня! Понятно?
И… и вслед за этим он выхватил из кобуры револьвер и направил его на Аглаю.
Она испуганно откинулась на сиденье и болезненно ойкнула – кобура «маузера», пристегнутого к ее поясу, немилосердно уперлась в спину.
Да ведь у нее тоже есть оружие! Как она могла забыть? Причем ее «маузер» выглядит куда как значительней револьверчика Константина. Нужно достать его из кобуры и потребовать остановиться. Мало того – заставить отвезти ее в город. Мол, иначе она будет стрелять. Надо полагать, ее поведение не слишком удивит «самокатчика» и водителя в «консервах»: они ведь убеждены, что везут подлинную Полетаеву, а от этой дамы, конечно, всего можно ждать. Даже выхватывания оружия и стрельбы в упор.
Похоже, Константин именно так и думал, поэтому вдруг толкнул Аглаю, отчего она нелепо повернулась на бок, и резко сдернул с ремня кобуру. А потом грубо, как куклу, посадил девушку в прежнюю позу. Сидеть стало удобней, спору нет. А на душе – страшней.
И в ту самую минуту, свернув за какой-то старый сад, авто остановилось.
– Выходите! – приказал Константин. – Ах да… – вспомнил он об отсутствии дверцы и повернулся к шоффэру: – Федя, прими товарища комиссара!
– Это мы в два счета! – посулил Федя и небрежно, грубо выволок Аглаю из машины.
– Вы что… – крикнула было она, потирая ушибленную коленку, однако слова «себе позволяете» пришлось проглотить, потому что пудовый кулак оказался у ее губ, и Федя рыкнул:
– Молчи, сука! Щас ты у меня своими зубами подавишься!
– Угомонись, Федор, – остановил его Константин. – Сначала пусть комиссарша скажет Гектору то, что он хочет знать. А потом делай с ее зубами и с ней все, что захочешь.
– Да нужна она мне, кляча старая! – оскорбительно хохотнул Федя.
Аглая так и обмерла от оскорбления.
Конечно, ей уже за двадцать, многовато для незамужней девушки, но еще не старость. Неужели по ней так виден возраст?
В этот момент ее сильно толкнули в бок.
– Н-но, мертвая! – прикрикнул Федя, видимо, мигом почуявший, чем сильнее всего оскорбил Аглаю, и продолжавший резвиться: – Шевели копытами!
Матрос почти втащил ее на высокое крыльцо, но руки распускать перестал, только командовал: «Сюда поверни!», или «Прямо иди!», или «По лесенке!», и Аглая, наконец-то сморгнув злые слезы, смогла обратить внимание на дом, в котором оказалась.
В нем было множество комнат и комнатушек, лестниц и лесенок, коридоров и коридорчиков. Очень чисто и тихо, сквозь окошки с разноцветными стеклами проникал разноцветный свет: там синий, там зеленый, там нежно-розовый или медово-желтый. Аглая вспомнила осколки витражей в подъезде доктора Лазарева. Наверное, там тоже было когда-то очень красиво, до того, как пережитки старого мира разнес вдребезги революционный пролетарский приклад, булыжник или просто кулак. Как хорошо, что здесь еще живы чудесные, завораживающие пережитки! Кто был человек, построивший дом, словно терем сказочный? Сколько в нем красоты и тайны! Модерн здесь чередовался с приметами русского мещанского уюта: венские стулья, кружевные занавески на окнах, белизна которых подчеркивалась многочисленными цветущими фуксиями, там ковры, а тут домотканые половики, на стенах изысканной формы зеркала, по углам небольшие кушетки, стоячие часы в мощных футлярах, а кое-где бодро тикающие ходики с тяжелыми гирями, иконы в нарядных киотах, горки с посудой, изящные этажерки с книгами и журналами. А одна комната, через которую провели Аглаю, явно служила библиотекой, потому что вся была заставлена большими книжными шкафами. Аглая мельком заметила множество выпусков «Архитектурного журнала», а еще – новехонькие, отливающие темной зеленью и сверкающие позолотой корешки энциклопедии Брокзауза и Ефрона и синие тома «Русского биографического словаря» Половцева.
Само присутствие книг всегда действовало на Аглаю умиротворяюще, а потому в просторную столовую она вошла почти спокойной.
Константин поставил на середину комнаты стул и посадил Аглаю лицом к стене. Сбоку была небольшая дверь, не та, через которую ее привели, а другая.
– Не оглядывайся, а то пулю получишь, – пригрозил Федор, и, хотя Константин промолчал, у Аглаи создалось впечатление, что он не только повторил угрозу, но и в любую минуту готов подтвердить ее выстрелом.
Она сидела и смотрела в беленую стену, на которой висели несколько застекленных рам. Под стеклом на белой ткани были пришпилены бабочки. Удивительно красивые, разноцветные, просто сказочные, каких рисуют только в самых ярких и волшебных детских книжках. Однако Аглаю их красота не восхитила. Ведь бабочки мертвые! Она и гербариев не любила именно потому, что в них собрались мертвые цветы и травы. Бабочки были такие прекрасные, такие живые, так весело трепетали крылышками, а их кто-то взял да и пришпилил к ткани, да и накрыл стеклом. Вот так и Аглаю какой-то Гектор возьмет да и пришпилит к смерти…
«Почему он Гектор? – подумала вяло. – При чем тут герой «Илиады», брат Париса? Наверное, чья-то партийная кличка, или как это у них, революционеров, называется».
Что-то забрезжило в памяти: шлемоблещущий Гектор великий… блистательный Гектор… пастырь народа, советами равный Крониду… А, ну да, Гектор же предводитель этих, как их… похитивших Ларису Полетаеву. Но в «Илиаде» он вроде был благородный, а здесь… Какое благородство в том, чтобы похитить женщину?
Аглая вздрогнула от ужаса, когда раздался звук открывшейся за спиной двери, а потом неспешные мужские шаги, остановившиеся рядом.
– Не бойтесь, – прозвучал незнакомый голос. – Вам не причинят вреда, если вы ответите на все вопросы, которые я вам задам.
Голос был молодой, холодный, бесстрастный. Вернее, он очень старался быть бесстрастным, но что-то звенело, что-то дрожало в его глубине… Человек явно волновался. А впрочем, Аглае было совершенно не до его волнения. Если она не убедит незнакомца, что попала сюда случайно, то, может статься, погибнет, ибо совершенно понятно: Аглая Донникова не сможет ответить на вопросы, адресованные Ларисе Полетаевой.
– Послушайте, послушайте, Гектор! Умоляю вас… – начала было она с жаром, однако незнакомец с досадой перебил:
– Нет, это я вас умоляю, товарищ Полетаева: ведите себя достойно. Вы ведь умная женщина, должны понимать: если уж вы начали играть в мужские игры со всеми их мужскими приемами, то неужто вы надеетесь, что ваши противники станут относиться к вам как к слабой женщине? Напрасно. Мы играем на равных.
– Да чего вы от меня хотите?! Я ведь не…
– Вы прекрасно знаете, чего я хочу.
– Даже не догадываюсь, потому что…
– Мне известно об истинной цели вашего столь внезапного визита в Нижний. Россказни о необходимости инспектировать изъятие у буржуазии культурных ценностей – именно что россказни, пустая болтовня. Вы добились назначения в комиссию, чтобы контролировать действия ее председателя – Хмельницкого. Мне ясно: вы не верите ему. Надеюсь, вы не станете отрицать?
Аглая пожала плечами. Лично ей было ясно только одно: человек, который говорит с ней, Гектор, – явно не Хмельницкий. Невозможно ошибиться относительно интонации, с какой он произносит эту фамилию. Он не Хмельницкий, а враг Хмельницкого. Константин и Федор должны были обмануть Ларису Полетаеву, чтобы привезти ее сюда, к этому Гектору.
А ведь, пожалуй, повезло комиссарше Полетаевой, что нынче в приемную доктора Лазарева ввалилась Аглая Донникова. Правда, не повезло Аглае Донниковой…
– Молчание – знак согласия, – констатировал незнакомец. – И вы совершенно правы, что не доверяете Хмельницкому. Он давно расстался с теми идеалами, за которые когда-то боролся и благодаря которым был так высоко вознесен новой властью. Он думает только о себе. Вы прекрасно понимаете, что он пытается набить прежде всего свои карманы, что как минимум десять, а то и все двадцать процентов из всего конфискованного уйдет в его тайники. Думаю, то же самое понимали и те ваши товарищи в Москве, которые помогали вам войти в состав комиссии. Тем паче что Хмельницкий – человек Троцкого, а предводитель большевиков не может не опасаться соперничества со столь сильной личностью, вот и пытается ставить ему палки в колеса где может и как может. И вы стали одной из таких палок.
«Предводитель большевиков», – сказал он. В интонации, с которой были произнесены эти слова, тоже нельзя ошибиться: она была самая что ни на есть враждебная. Получается, Гектор – не большевик. А кто? Может, анархист? Или эсер? Хотя, насколько слышала Аглая, эсеров вроде бы всех уже разгромили…
– Если Хмельницкий узнает о вашей тайной миссии, вы лишитесь его доверия и будете отправлены в Москву. Однако если Хмельницкий проведает, что вы по-прежнему связаны и с Орловым, он вас просто пристрелит. А ведь именно для Орлова вы сейчас стараетесь. Для него и для себя! Вы втираетесь в доверие к Хмельницкому, подделываете списки реквизированных ценностей, помогаете Хмельницкому замести следы его откровенного грабежа «родной Советской власти», но на самом деле вы с Орловым просто заметаете собственные следы!
– Что вы говорите, я не понимаю! – в ужасе воскликнула Аглая. – Еще и какой-то Орлов…
– Уверяю вас, Лариса, я не собираюсь взывать к вашей совести, – перебил Гектор. – То, что у вас ее нет, мне известно давно, еще с тех пор, как вы, шестнадцатилетняя гимназистка…
Гектор на миг умолк, и Аглая всем телом ощутила, что он пытается подавить захлестнувшие его ярость и ненависть. Потом заговорил снова:
– Нет смысла напоминать вам события прошлого. Вы и сами все отлично помните. Мне известно, что у вас феноменальная память. Отчасти именно поэтому Хмельницкий радостно принял ваше назначение – вы могли стать ему отличной помощницей. Вы можете спокойно подделывать любые списки и описи, не опасаясь сбиться или запутаться. Поэтому я требую, чтобы сейчас вы призвали свою память на помощь и прямо здесь, при мне, составили полный реестр ценностей, утаенных от Советской власти: тех ценностей, которые осели в карманах Хмельницкого и в ваших лично.
Аглая, как ни была напугана, искренне озадачилась. Какой странный человек… Вроде бы с неприязнью говорит о Ленине, злую иронию его слов о «родной Советской власти» не заметил бы только глухой, а между тем так заботится об утаенных от нее ценностях. Что все это может значить? Просто вот такой благородный разбойник? Да нет, вряд ли тут можно говорить о благородстве… Ах, да ей-то какая разница!
– Послушайте, – заговорила Аглая слабым голосом, потому что у нее и в самом деле не осталось сил разгадывать тайны, с которыми она случайно, по глупости, столкнулась, – я никак в толк не возьму, что значит все происходящее и чего вы ко мне пристали. Вы меня путаете с…
– Я вас ни с кем не путаю, не надейтесь меня обмануть, – резко ответил Гектор. – Итак, я требую ответа на мои вопросы. Мне нужны списки, вы поняли?
– Нет! – заорала Аглая, у которой вдруг, в один миг, иссякли и терпение, и силы, и даже страх. – Я ничего не понимаю! Как вы мне все надоели! Вы что, с ума тут все посходили?! Наделали невесть что, увезли невесть куда, невесть кого, невесть зачем! Нет у меня никаких списков! Нет и никогда не было!
– Да и черт с ними, – с неожиданной покладистостью усмехнулся Гектор, и Аглая, которая порядком перепугалась своей внезапной вспышки, перевела дух с неким подобием облегчения. – Вы всегда были чертовски умны, Лариса. И уже догадались, конечно, что судьба ценностей, утаенных от Советской власти, так же как и судьба самой власти, меня волнует мало. За ваши с Хмельницким и Орловым делишки всех вас рано или поздно поставят к стенке, что меня тоже не волнует. А волнуют меня только бабочки Креза и их судьба.
– Бабочки Креза? – слабым голосом повторила Аглая, снова вперив взор на бабочек под стеклом.
Что за удивительная страсть к бабочкам припала вдруг этому человеку?! И при чем тут Крез, древний царь Лидии, прославленный своим баснословным богатством? Неужели он ловлей бабочек увлекался? И неужели могло статься, что его коллекция до сих пор сохранилась? Да ну, чепуха какая. И вообще, неизвестно, жил ли Крез на самом деле, может, он просто-напросто выдуман.
«А не слишком ли много мифологии, – угрюмо подумала Аглая. – Крез, Гектор… Какие-то детские игры!»
– Именно бабочки Креза, – подтвердил Гектор. – И только они. Вы сами знаете, что они – не только баснословные ценности, но прежде всего моя…
Мужчина не договорил. Послышался топот ног, потом звук распахнувшейся двери и крик Константина:
– Гектор! Приближается патруль. Они напали на наш след. Наверное, их навели те часовые, которые остановили нас на заставе.
– Чепуха, – быстро ответил Гектор. – Откуда на заставе могли узнать, куда вы едете? Ведь за вами не было слежки?
– Не было, точно! – уверенно подтвердил Константин.
– Об этом доме не знал никто, кроме своих, – задумчиво проговорил Гектор. – Кроме своих. Значит, нас кто-то предал!
– Там целый отряд всадников! – в комнату вбежал Федор. – Не патруль, а… Я не пойму кто. Но если мы не уйдем прямо сейчас, придется отстреливаться. Нас мало, не отобьемся!
– Хорошо, уходим, – спокойно сказал Гектор. – Седлайте лошадей. Нас трое и две женщины. Автомобиль придется бросить, к нему нужно горючее, а его больше нет.
Константин и Федор выбежали.
– Наташа, принеси ей что-нибудь из одежды! – крикнул Гектор. – Мы должны уходить, а ее куртка за версту видна.
Маленькая дверь, видная Аглае, открылась, и в комнату вбежала девушка. Ей было не более восемнадцати. С огромными голубыми глазами, с длинной пепельной косой, одетая в простенькую юбку и голубую ситцевую кофточку со сборками на талии и рукавчиками буф, она была невероятно красива, только очень испугана. Девушка держала очень бандитский и очень странно смотревшийся в ее руках обрез. При виде Аглаи испуг на ее лице сменился крайней степенью изумления. Она пробормотала:
– Что вы тут…
Но тут же осеклась, умолкла, мгновенно согнала с лица всякое выражение, положила на пол обрез, кинулась к шкафу и выхватила оттуда большой клетчатый черно-белый платок:
– Скорей! Снимите куртку и косынку! Ну!
– Наташа, возьми обрез и, если она начнет кричать или ослушается тебя, пристрели ее, – скомандовал Гектор, а потом звук закрывшейся двери возвестил о том, что он оставил женщин одних.
Аглая медленно расстегнула ремень, стащила куртку и косынку. Пальцы плохо слушались, она была испугана, причем даже не угрозой Гектора. В его голосе не было особой злости, к тому же для него слишком много значило то, что могла ему сказать Лариса Полетаева, чтобы он вот так, запросто, решился застрелить ее. Однако в голубых, потемневших от напряжения глазах Натальи таилось нечто, что подсказывало Аглае: девушка-то в любую минуту готова угрозу претворить в действие… причем с удовольствием, только дай ей малейший повод. Вот она взяла обрез на изготовку, держа его весьма умело… Мгновенно вскинет к плечу, и…
Наконец Аглая сняла куртку и накрылась платком. Но если она ожидала, что Наталья хотя бы кивнет одобрительно, то ошибалась. Ее голубые глаза были по-прежнему полны ненависти. Интересно, что ж такое комиссарша Лариса Полетаева сделала Наталье, чтобы заслужить с ее стороны столь неистовые чувства? Она же ненавидит, ох как ненавидит Ларису Полетаеву!
Аглая почти не удивилась, когда раздался выстрел, удивилась только, что пуля попала не в нее. И вообще стреляла не Наталья… Ах да, стрельба за окном!
Выстрелы там трещали один за другим. В комнату ворвался Константин:
– Уходите! Гектор велел вам уходить! Наташа, уведи ее!
Голос его вдруг прервался. И вообще он был почему-то очень бледный… В следующую минуту Аглая поняла почему. Константин рухнул на пол, и кровь хлынула из его рта, а ноги задергались…
Наталья дико взвизгнула, а Аглая от потрясения ни звука не смогла издать.
Да, умер! Его убили!
* * *
Сказать, что у Алёны после ответа Натальи Михайловны язык прирос к гортани, – значит сказать очень мало, а то и почти ничего.
«Пойти и спросить…» Как это следует понимать? Пойти – в смысле, переместиться в тысяча девятьсот восемнадцатый год, найти неведомого (ни имя, ни фамилия его неизвестны!) человека и спросить у него, какое такое преступление против Советской власти он намерен совершить: преступление, за которое его поставят к стенке?
То есть машина времени все же сгодилась бы?
Неслабая оперативная задачка! Неслабый такой заказец! А с другой стороны, кабы знать дорожку, по которой в прошлое можно пройти, Алёна непременно направилась бы по ней… Непременно!
Она растерянно хлопнула глазами. Наталья же Михайловна сохраняла редкостно невозмутимый вид.
– Видите ли, – проговорила она, – мы с мужем начинали поиски моего деда с областного архива, потом копались в государственном, а к спецхрану подобрались далеко не сразу. И вот когда – помнится, это произошло в тысяча девятьсот девяносто пятом году – нам удалось, так сказать, приобщиться к документам этой таинственной организации, мы наткнулись на фамилию Шведова.
– Шведова? – ахнула Алёна. – Того самого, который написал донос на Гавриила Конюхова? Вы нашли его донос?
Наталья Михайловна покачала головой:
– Я уже говорила, что доноса мы не нашли, он был кем-то изъят. А во-вторых, Шведов оказался не тем же самым. Его фамилия значилась не среди фигурантов архива, то есть людей, упомянутых в его материалах, а явно была случайно написана хранителем на этакой почеркушке, какие делаются, чтобы не забыть сделать то-то и то-то. Написал он, да и оставил нечаянно в одной из папок! На той почеркушке значилось: «Заказать В. К. Шведову матер. о Полет. + №№№№… на 21.09.94». Не стану обременять вашу память перечислением номеров единиц хранения, они не имеют значения. Но обратите внимание на год! Конечно, это другой Шведов. Но почти сто процентов – потомок предыдущего. Причем потомок, обладающий возможностями не только проникнуть в спецхран, но и изъять оттуда некоторые документы.
– Вы думаете, именно Шведов произвел зачистку архива? – спросила Алёна. – Он уничтожил всякую память о тех событиях?
– Совершенно убеждена, – кивнула Наталья Михайловна. – Убеждена прежде всего потому, что упомянутые единицы хранения исчезли.
– Да… – пробормотала Алёна. – Мощно!
– Что и говорить! – согласилась Наталья Михайловна.
– Наверное, тому, первому, Шведову так понравилось писать доносы, что он постоянно сотрудничал с НКВД, а потом и сына своего туда служить пристроил, – предположила Алёна.
– Мы с мужем тоже сначала решили именно так, – кивнула Наталья Михайловна. – И он специально проверил нашу версию. Среди сотрудников органов не было, вообразите, ни одного с фамилией Шведов, хотя сама по себе фамилия не столь уж редкая. Но – не было. Зато некоторое время назад во Франции начали публиковать материалы некоего Владимира Кирилловича Шведова. Они касались судьбы ценностей, конфискованных у нижегородцев после революции. А конфискацией занималась в тысяча девятьсот восемнадцатом году некая Лариса Полетаева, пламенная, так сказать, революционерка.
– Лариса Полетаева?! – так и ахнула Алёна. – Да ведь я о ней что-то читала… забытые героини революции и все такое. Вроде бы сначала была в окружении Ленина, работала в Гохране, а потом, году этак в восемнадцатом, то ли погибла в случайной перестрелке, то ли свои же ее и шлепнули – за избыточное революционное рвение. Словом, с тех пор история о ней умалчивала. Надо же, какое совпадение, она тезка вашей мамы. Неужели в честь Ларисы Полетаевой ее так назвали? Да нет, не может быть!
– Конечно, не может! – На лице Натальи Михайловны мелькнула обида. – Чтобы в честь какой-то кроваво-красной комиссарши маме имя дали? Как вам вообще такое в голову пришло! Просто-напросто бабушка очень любила пьесу Островского «Бесприданница», а фильм Якова Протазанова, снятый в тридцать седьмом году, с Ниной Алисовой в роли Ларисы, был ее любимым фильмом. Жаль, что она не дожила до выхода «Жестокого романса», он бы ее позабавил. Однако вернемся к нынешнему Шведову. Его зовут Владимир Кириллович. Инициалы человека, для которого заказывались материалы в спецхране, – тоже В. К. Я не имею возможности уточнить, для чего он приезжал из Франции и как вообще там оказался. Однако все меня интересующее может рассказать он сам. Рассказать вам!
«Она что, хочет отправить меня в командировку в Париж? – закружилась голова у Алёны. – Я согласна! Да! Конечно, только в том случае, если мадам оплатит поездку, ведь у меня сейчас нет на нее денег…»
И дивные картины Сакре-Кёр, Тюильри, Шампс-д… Элизе, авеню Опера, Лувра и прочих парижских красот, виденных Аленой не единожды и незабываемо пребывающих в памяти, так и поплыли, так и поплыли перед глазами, и голова пошла кругом от возможности, даже самой гипотетической, почти невероятной возможности увидеть вновь неземную красоту – увидеть вдруг, неожиданно…
– Причем вам не придется даже в Париж ехать, – развеял мечты голос Натальи Михайловны. – Потому что Владимир Кириллович Шведов находится сейчас в Нижнем.
– В самом деле? – пробормотала Алёна, падая на землю если и не с небес, то с высоты Эйфелевой башни и потирая место морального ушиба. – Откуда вы знаете?
– Я с ним виделась.
– Ого!
– Вот вам и ого, – Наталья Михайловна довольно уныло усмехнулась. – О его приезде я узнала совершенно случайно. Он прибыл в составе группы французских журналистов в наш Лингвистический университет. О гостях рассказывалось в новостях по какой-то программе телевидения. Я его увидела – высокий, элегантный, лет за шестьдесят. На француза не похож, на русского тоже. Вид у мужчины несколько англизированный. И я решила с ним встретиться. Я вообще, честно говоря, человек непредсказуемый. Мама говорила, что и бабушка была совсем такая, что мы с ней очень похожи. Я узнала, что группа французов остановилась в гостинице «Октябрьская», что на площади Нестерова, и просто пошла туда. Всю жизнь передо мной почему-то трепетали все администраторы… И в «Октябрьской» произошло то же самое – мне мгновенно сообщили, в каком номере проживает Шведов – в 534-м. Я поднялась на пятый этаж, постучалась. Он сначала решил, что я с факультета, где ему предстояло читать какую-то лекцию, но тут я развеяла его заблуждения. Мне не раз приходилось наблюдать, как прямой вопрос, заданный в лоб, выбивает почву из-под ног у людей, ну я и решила взять Шведова врасплох. Просто спросила, известно ли ему, что его отец писал доносы в НКВД и погубил мою семью.
– О господи! – не удержалась от реплики Алёна.
– Вот именно, – усмехнулась Наталья Михайловна. – Надо было видеть его лицо…
«Можно представить, – подумала Алёна. – Таким вопросиком и впрямь можно почву из-под ног выбить! Это ж все равно что в лоб человеку с порога выстрелить! А ведь крепкая дама эта Наталья Михайловна, очень крепкая… С другой стороны, не зря же ее мужем был кагэбист. Небось чему-то научилась от него!»
– А Шведов пистолет не выхватил и вас не пристрелил на месте? – невинно спросила Алёна.
– В каждой шутке есть доля шутки? – засмеялась Наталья Михайловна. – Пожалуй, выхватил бы точно, если бы у него пистолет был. А так он просто выкинул меня в коридор.
– Выкинул?!
– Ну, в моральном смысле. Весь побелел и бросил – вот натурально бросил мне в лицо: «Кирилл Владимирович Шведов был благородным человеком. Потрудитесь удалиться, мадам!»
– Красиво, – пробормотала Алёна.
– Красиво, – согласилась Наталья Михайловна. – Что значит иностранное воспитание! Но я бы сказала иначе: хорошая мина при плохой игре. Все-таки он выдал себя именно своей реакцией. Конечно, по-человечески она понятна, Шведов защищал честь семьи, честь своего отца, но теперь я ни в коем случае не могу рассчитывать получить от него хоть какую-то информацию о своем деде. Понимаете, я ведь ни с кем не хочу сводить никакие счеты. Ничье имя не намерена порочить. Что бы ни сделал в то время тот Шведов, все произошло именно в то время. Меня интересует лишь информация, и ничего более. В чем вы и должны убедить этого Шведова. Убедить – и получить у него всю информацию о моем деде, какая у него только есть.
– Ох, – пробормотала Алёна. И если в ее голосе кому-то послышался бы страх, то он не ошибся бы, потому что ей и в самом деле стало страшно. – Неужели вы думаете, что если вам, – она так выделила голосом последнее слово, что получился как бы полужирный курсив, – не удалось, то удастся мне? Чем я от вас отличаюсь в лучшую сторону?
«Кроме того, что еще не успела оскорбить русского француза Владимира Кирилловича Шведова», – чуть не добавила она, однако, конечно, промолчала.
– Ну, вы его еще не успели оскорбить, – проговорила Наталья Михайловна, и Алёна едва сдержалась, чтобы не хихикнуть самым неуместным образом. – Кроме того, у нас с ним вообще с первого взгляда возникла жуткая антипатия. Даже если бы мы просто в трамвае рядом стояли, мы бы непременно поссорились. К тому же он как раз в таком возрасте, когда седина в голову, а бес в ребро. Такие павианы, бонвиваны, папильоны на женщин своих лет и тем более старше не могут вообще смотреть, зато молоденькие красотки все, что угодно, с ними смогут сделать.
Алёна несколько мгновений поразмышляла, сколько процентов в словах Натальи Михайловны откровенной лести, а сколько – подобия правды. Потом решила определить для себя соотношение пятьдесят на пятьдесят и не шибко занудствовать, тем паче что в глубине души была совершенно согласна с определением своей внешности: молоденькая красотка. А то, что ей несколько за сорок, можно и в секрете придержать, ведь больше тридцати пяти ей в жизни никто не давал.
– Вообще-то мужчины такого типа западают на юных девчонок, а не на женщин бальзаковского и даже постбальзаковского возраста, – сказала она. – И вообще, ситуация двусмысленная, вам не кажется?
– Да, кажется. Но что делать? – беспомощно посмотрела на нее Наталья Михайловна. – Вы поймите, я же в безвыходном положении, совершенно в безвыходном! У меня появился единственный, просто уникальный шанс разгадать тайну моей семьи, какую-то страшную тайну. Я должна получить от Шведова информацию – или признать, что все наши с мужем труды пропали даром. Мы уперлись. Знаете, есть такое сленговое выражение? Все, стенка, дальше ходу нет. И никто не откроет наглухо запертую дверь, кроме вас. Да вы не думайте, работа ваша будет вознаграждена! Поверьте, я не бедная женщина, мой сын преуспевающий бизнесмен, ни в чем мне не отказывает, кое-что осталось и от мужа… Я вам заплачу пятьсот евро за один лишь визит к Шведову. Независимо от результата! Только за то, что вы сходите к нему и поговорите об интересующем меня деле. В случае любого результата я приплюсую пятьсот евро. Если же результат окажется весомым и будет подтвержден документами, вы получите сверх всего еще тысячу евро. Итак, вы вполне можете заработать от тысячи до двух за какие-то полчаса. Понимаете? И вот вам, кстати, аванс.
Наталья Михайловна опустила руку в сумку и вынула конверт, в котором что-то похрустывало, причем весьма приятно.
– Здесь ровно пятьсот евро. Десять бумажек по пятьдесят. Можете не пересчитывать.
И мыслей у нашей детективщицы таких не было!
Алёна кивнула, приняла конверт и, от потрясения забыв поблагодарить, сунула его в свою сумку.
– Что, прямо сейчас ехать? – только и спросила она.
– Сейчас, сейчас! – Наталья Михайловна схватила ее за руку. – Делегация нынче вечером московским поездом уезжает, в том-то и дело! Времени всего ничего осталось! Давайте, поехали, у меня автомобиль рядом…
И не успела Алёна ахнуть, как ее словно бы вихрь понес. Она была подхвачена под руку и увлечена через дорогу, а потом засунута в стоявший там автомобиль. Автомобилем оказался не «Роллс-Ройс», как почему-то ожидала Алёна, а всего лишь фиолетовая «Мазда», которая совершенно уникально подходила к сиреневато-серой норковой шубке Натальи Михайловны. Вела grand-dame великолепно – небрежно, элегантно, стремительно. И когда через пять минут – домчали с неправдоподобной скоростью! – Алёна неуклюже выползла из приземистой «Мазды», она вдруг почувствовала себя ужасно неуклюжей, никчемной, а главное – неопрятной. И голова-то у нее теперь почти лысая, и накраситься-то она сегодня забыла, и мутоновая шубка, отороченная ламой, которая ей так нравилась и, на ее взгляд, необыкновенно ей шла, казалась сейчас тяжелой, грубой и… провинциальной. Узкие джинсы выглядели нелепо в еще вполне зимнюю пору, а сапоги оказались испачканы в какой-то строительной грязи. Ну вот откуда было взяться этой грязи? Не ходила Алёна по стройкам, она побожиться готова, что не ходила!
Впрочем, Наталье Михайловне, понятно, божба Алёны и даром была не нужна! Она так и подталкивала растерянную писательницу к высокому крыльцу прелестного белого здания, стоявшего на одной из красивейших площадей города, да еще и на высоком берегу Волги. Зимой здесь тоже было очень мило, и даже галки, истошно оравшие в старых липах, окружавших площадь, казались уместными и необходимыми. Лишней себя чувствовала только Алёна…
«Ничего у меня не получится! – твердила она себе, уныло косясь на носки не самых казистых в мире, к тому же и запачканных своих сапог. – Со мной этот англизированный русско-французский эмигрант и разговаривать не станет. Даст от ворот поворот, и все. Вообще для начала меня просто не пустят в гостиницу, придется тамошним церберам-охранникам что-то объяснять. А что объяснять-то?! Решат еще, что я проститутка, которая тут клиентов ловит… Хотя нет, не решат. Не похожа я на проститутку. На меня ни один порядочный клиент не клюнет – с такой-то головой, в смысле – с черепом. Тем паче – клиент русско-французский. Ладно, сделаю физиономию топором и пойду с деловым видом. Авось испугаются топора и не остановят!»
Алёна вошла в холл и только собралась сделать эту самую физиономию этим самым топором, как вдруг обнаружила, что никто из гостиничных аргусов и церберов на нее не обращает ровно никакого внимания. Около стойки рецепшн происходил какой-то негромкий и даже вежливый, но очень выразительный скандал администрации с группой иностранцев. Похоже, вышла какая-то накладка с номерами: кто-то то ли недоплатил, то ли переплатил, а может, загвоздка была вовсе в другом. Алёна не стала вдаваться в подробности, да они ее и не интересовали нимало. Как говорится, мухой метнулась она к лифту и вскочила, вернее, влетела в него. Пятый этаж. Номер, какой номер? Ах ты, черт, нужно мимо столика дежурной проходить… Сейчас начнутся разные-всякие объяснялки…
Нет, ничего такого не началось – дежурной не оказалось на месте. Повезло… А вот и номер 534. А почему дверь открыта? Понятно, горничная меняет постель. Значит, хозяина на месте нет, надо смыться. А зачем? Не лучше ли спросить, когда он будет? Может, он в буфет вышел и вот-вот вернется, к концу уборки.
– Извините, я могу видеть господина Шведова? – спросила Алёна самым строгим и официальным голосом.
– Да он только что съехал, – отозвалась несколько запыхавшаяся горничная – хорошенькая девушка с тем деловым, смышленым и несколько хищным личиком, какие бывают у провинциалок, явившихся завоевывать крупные города. – Они все, французы, съехали. Решили не поездом в Москву ехать, чтобы там на самолет пересесть, а сразу из Нижнего лететь, «Люфтганзой». Неужели вы их не видели? Они там с администрацией разбираются, какие-то проблемы у них с оплатой-переплатой-недоплатой, с возвратом денег, что ли…
– Так это они там были?! – так и ахнула Алёна. – А мне и в голову не пришло, что это они! И что, Шведов тоже там?
– Может быть, – пожала плечами горничная. И вдруг спросила: – А вы не Наталья Михайловна Каверина будете?
Алёна растерянно хлопнула глазами:
– Наталья Михайловна Каверина? – Да ведь она наверняка имеет в виду ее неожиданную клиентку! – Нет, я не она, однако я… А почему вы решили?
– Потому что мсье Шведов, – сказала горничная («Ах ты, господи, вот уж поистине смесь французского с нижегородским!» – чуть не взвыла от смеха Алёна и даже закашлялась, чтобы замаскировать неодолимый порыв захихикать), – оставил для нее письмо. И уверял, что она обязательно придет и будет его спрашивать. Лучше бы он его у администратора оставил, конечно, а то мне только хлопоты лишние.
«Письмо? Письмо!» – замелькало в мыслях Алены.
– Но я как раз от нее! От Натальи Михайловны! От Кавериной! – вскричала писательница Дмитриева. – Я могу передать ей это письмо!
1918 год
Аглая тупо смотрела на неподвижное тело Константина, а Наталья между тем уже очнулась. Сдернула домотканый половичок, лежавший у порога, и Аглая увидела крышку люка с железным кольцом.
– Подними! – скомандовала Наталья сдавленным голосом. – Подними крышку и спускайся вниз.
Аглая покорно сдвинула тяжелую крышку, но, когда внизу открылась темная ямина, из которой пахнуло сырой землей, как из могилы, отпрянула:
– Не полезу. Не хочу!
– Что?! – взвизгнула Наталья и вскинула обрез. – А ну быстро… пошла!
Аглая, конечно, была трусиха, а обрез в руках Натальи выглядел очень страшно. Наверное, пришлось бы подчиниться, но Аглая просто не успела.
Дверь в комнату распахнулась, и появился высокий худой человек, весь с невероятной тщательностью одетый в черную, похрустывающую то ли от новизны, то ли от плохой выделки кожу. Вдобавок он и сам был жгучий брюнет с черными глазами, усами и бородой, круглые очки тоже оказались в черной оправе.
Алый бант в петлице куртки – единственное пятно, нарушающее вопиющую мрачность его внешности. А вот револьвер с дымящимся стволом мрачность усугублял…
– Где она? – выкрикнул он, озирая замерших девушек. – Удрала? Вот те на…
Какие-то люди вбежали за ним в комнату. В основном матросы, и Аглая мельком поразилась, как много их развелось в Нижнем. Впрочем, в свите кожаного человека были и солдаты, и столь же кожаные и хрустящие, как он, люди, наверное, сплошь комиссары. В комнате мигом стало тесно. Наталью отпихнули к стене, а Аглая оказалась неподалеку от маленькой двери. Каждый вновь вбегавший считал своим долгом заглянуть в подпол и крикнуть:
– Удрала? Ай да молодчина!
Аглая прекрасно понимала, кого они ищут. Видимо, люди спешили на подмогу Ларисе Полетаевой, да считают, что опоздали: она уже успела сбежать через подпол. Конечно, они знают Ларису Полетаеву в лицо, вот почему не обращают на Аглаю никакого внимания.
Ну и хорошо. Значит, в случае чего есть надежда незаметно сбежать… если Наталья не выдаст, конечно.
Но Наталья помалкивала – стояла, закрыв лицо руками, плечи ее тряслись. Плачет, что ли? Надеется взять кожаную банду на жалость? Ох, непохоже, что они могут кого-то пожалеть… «Лучше надеяться только на себя и на свою удачу», – думала Аглая и медленно перемещалась все ближе и ближе к двери.
– За ней! – кричал черный человек, и вот уже, повинуясь приказу, двое или трое матросов спрыгнули в темный провал подпола.
На пороге появился еще один человек с револьвером и крикнул, обращаясь к кожаному брюнету:
– Товарищ Хмельницкий! Двоих мы подстрелили, а кто-то, может, сам Гектор, засел на чердаке амбара с винтовкой, и подобраться к нему невозможно: бьет без промаха по всем, кто высовывается!
Так вот он, значит, какой, Хмельницкий!
– Бьет по всем, кто высовывается? – повторил он. – Значит, надо высовываться почаще. У него там не арсенал, небось парочка обойм, расстреляет все патроны – тут-то мы его и возьмем. И что здесь за толпа собралась? Идите оцепите амбар, чтобы Гектор не ушел, а мне с пленной нужно побеседовать. Вон отсюда!
И он повернулся к Наталье. Дисциплина в его кожаном отряде была отменная – все так и кинулись вон, и Аглая воспользовалась суматохой для того, чтобы выскользнуть в маленькую дверку. Воспоминание об испуганном лице Натальи так и ужалило ее, но что Аглая могла сделать?
Ладно, авось Наталья как-нибудь сама выпутается, а Аглае нужно вернуться в город. Как? Ладно, об этом можно подумать потом, когда она найдет способ выбраться из дому.
Девушка стояла в узких сенях с маленьким окошком, выходившим во двор. Оттуда слышны выстрелы, туда нельзя. А куда можно?
Впереди виднелась дверь, и Аглая устремилась к ней. Еще один коридор, лестница, дверь, переход, лестница, дверь… Куда она попала? Лабиринт какой-то. Здесь ничто не напоминало об уюте, наверное, нежилая часть дома – сплошные двери да лесенки. Аглая сообразила, что, повинуясь их причудливым изгибам, она все время поднимается куда-то, а ей нужно выбраться наружу. Выход внизу. Не повернуть ли? Но вдруг Наталья рассказала о ней Хмельницкому? Тогда она попадет в ловушку. Нет, только вперед!
За стеной раздалась частая стрекочущая стрельба – частил пулемет. Значит, у Гектора на чердаке настоящий арсенал. Что ж, пусть стреляет: пока он отвлекает людей Хмельницкого, у Аглаи есть надежда выбраться из дома незамеченной, ни с кем не столкнувшись. Пока ей определенно везет…
Ну вот не любит, не любит судьба таких слов и самонадеянных заявлений! И Аглая не замедлила в том убедиться, потому что стоило ей так подумать, как незаметная, низенькая дверца сбоку лестницы вдруг распахнулась, и оттуда выскочил какой-то высокий мужчина. Он был одет в вылинявшее хаки – похоже, офицерская гимнастерка без погон, галифе, на ногах сапоги. Плотный, русоволосый, ни бороды, ни усов, но щеки чуть тронуты щетиной. В руке он сжимал револьвер и, такое ощущение, лишь чудом удержался, чтобы не нажать на спусковой крючок и не выпалить в упор в Аглаю.
– Какого черта! – воскликнул яростно. – Вы кто такая?
Она так и замерла, глядя на него изумленно. Он-то ее не узнал, а вот она узнала его мгновенно – по голосу. Перед ней был тот самый человек, который ее допрашивал – вернее, не ее, а комиссаршу Ларису Полетаеву! – желая знать о конфискованных ценностях, о каких-то там бабочках… Гектор, вот кем был мужчина!
И Аглая осознала, что пулеметный стрекот прекратился. Значит, у него кончилась лента и он удрал с чердака, готовый убить каждого, кто встанет у него на пути.
– Погодите! – хрипло выкрикнула Аглая, вытягивая руки. – Не стреляйте!
Охрипла она от страха, но тотчас поняла, что в изменившемся голосе ее спасение. Она-то узнала его по голосу, а он ее не узнает.
– Я тут случайно, – забормотала она какую-то чушь, что только в голову взбредало. – Наш дом сожгли, я искала себе жилье, хотела снять комнату, забрела нечаянно сюда, а тут стрельба, я испугалась… вбежала в дом…
Ой, какое убожество! Не могла придумать что-нибудь поинтересней?
– Я вас где-то… – начал было Гектор, и Аглая поняла, что он сейчас скажет: «видел», и все, все с ней будет кончено, как вдруг со двора раздался вопль:
– На чердаке никого! Он удрал!
– Ищите в доме! – послышался голос Хмельницкого.
Гектор метнулся было к тому коридорчику, через который прошла Аглая, но навстречу ему выбежал какой-то матрос – и тут же отлетел обратно, отброшенный пулей в грудь.
– Он где-то здесь! – заорали снизу, и опять отозвался голос Хмельницкого:
– Стреляйте без разговоров! Стреляйте во всех чужих, может быть, тут еще есть его люди!
У Аглаи подкосились ноги. Пропала! Ей не дадут времени на доказательство того, что она не из людей Гектора – ее просто пристрелят, и все.
Кажется, то же самое понял и Гектор. Что-то мелькнуло в его глазах – они были зеленовато-желтые, как у хищной птицы, и эта посторонняя, ненужная мысль поразила Аглаю своей дикой неуместностью, – потом он досадливо поморщился и пробормотал:
– Убьют вас как пить дать… А ну, давайте за мной!
И ломанулся, как сначала померещилось Аглае, сквозь стену, а на самом деле – еще через одну неприметную дверцу, которых, как через минуту выяснилось, им предстояло открыть еще не одну, пробежать не по одной узкой, крутой лестнице. Гектор мчался саженными прыжками, Аглая едва поспевала за ним, и если бы он не тащил ее за руку, не раз уже упала бы и отстала. Правда, она никак не могла понять, почему Гектор ведет ее вверх по лестнице. На крышу, что ли? Но зачем? Оттуда прыгать во двор? Да ведь ноги можно переломать, если раньше не подстрелят!
В то самое мгновение они вбежали в небольшую комнатку, в которой из мебели было два громоздких платяных шкафа, а между ними стояли стол да стул. Здесь царил нежилой запах и было прохладно. Потолок сходился кверху острым углом-башенкой. Окна были узкие, стрельчатые.
Странное место. Зачем тут такие большие шкафы? Что в них хранят, старье какое-то, что ли?
И, словно услышав ее вопрос, Гектор распахнул дверцу одного из шкафов, который оказался… пуст. И подтолкнул туда Аглаю:
– Быстро! Ну!
Вот глупец! Да ведь если преследователи начнут обыскивать дом, они обязательно заглянут в шкаф, неужели он не понимает?
Она заупрямилась было, но Гектор с силой пихнул ее в шкаф и вскочил следом. Нажал на заднюю стенку – и открылась какая-то узкая, как пенал, каморка, в которой можно было только стоять, вытянувшись по стойке «смирно». А если вдвоем – то прижавшись друг к другу. Мгновение – и Аглая оказалась в пенале, а Гектор, сдвинувший стенку шкафа на место, стоял, прильнув к ней всем телом.
Откуда-то сочился слабый свет, довольный для того, чтобы разглядеть, как покраснело лицо Гектора под светлой щетиной. Он тяжело дышал, запыхался от быстрого бега. Наверное, и Аглая выглядела не лучше.
Кое-как справившись с дыханием, она прислушалась – почти полная тишина, голоса слышатся еле-еле, похоже, они все же оторвались от преследователей, – и спросила испуганно:
– Мы в тайнике?
– Да, – кивнул Гектор, и его подбородок – мужчина был чуть выше Аглаи – коснулся ее носа. – Прошу прощения, – усмехнулся он.
– Да ничего, – пробормотала Аглая, чувствуя, что тоже краснеет.
Как-то слишком близко они стояли. Никогда в жизни она не была так близко к мужчине! Ужасно неприлично, а куда же деваться?
– Какой странный дом, – пробормотала она смущенно. – Тайники, переходы какие-то… Кто его так хитро строил?
– Я и строил, – ответил Гектор. – Дом мой. Я архитектор, то есть раньше был… до четырнадцатого года. Как раз успел дом построить, а тут меня призвали в действующую армию. Вернулся по ранению, а обратно на фронт уже не попал – сначала одна революция, затем другая… Я здесь почти не жил, то в Питере, то в Москве, то в Нижнем у отца. А потом, когда отцовский дом сожгли, когда отец умер, сюда перебрался. Но, похоже, мне и отсюда придется ноги уносить.
– Если нас тут не найдут, – пробормотала Аглая. – Мы же тут, в шкафу, как в ловушке. Отсидимся – хорошо, а если нет… Тогда и уносить нечего будет.
– Видели второй такой же шкаф, напротив? – спросил Гектор. – В нем в полу люк. Очень узкий, только для того, чтобы прыгать, как в воду. Солдатиком, знаете?
Аглая растерянно моргнула. Она плохо плавала и боялась воды, а уж прыгать в нее, тем паче солдатиком, никогда не решилась бы.
– Главное – не бояться, – сказал Гектор, словно поняв, о чем она думает. – Просто прыгнуть, но ноги не вытягивать, а самую малость поджать. Внизу мягко, не ушибетесь, я проверял, а то какой смысл бежать, если бежать будет не на чем, если ноги переломаешь? – Он усмехнулся, и волосы на голове Аглаи мягко шевельнулись от его дыхания. – Ну а потом сразу налево довольно длинный ход, чуть ли не к обрыву над Окой. В тех местах уже легко затеряться, никакая погоня не найдет. Так что в случае чего…
– Погодите, я что-то не пойму, – нахмурилась Аглая. – Если отсюда так легко уйти, почему же вы полезли сюда, где мы с вами, как в западне? Почему не вбежали в другой шкаф, не прыгнули солдатиком – и ищи ветра в поле?
– Потому что я не могу оставить Наталью, – сказал Гектор.
Аглая чуть откинулась назад и посмотрела ему в глаза. Да, в самом деле – глаза зеленовато-желтые, как у хищной птицы. И нос хищный – чуточку, самую чуточку загнут книзу, словно у ястреба. Нижняя губа вывернута надменно. Сильный круглый подбородок. В профиль лицо Гектора ярче и сильнее, чем анфас. Смотришь прямо – просто красивый парень, а вот в профиль… жестокость, хитрость, отчаянность в этом профиле. И еще что-то, от чего у Аглаи неровно заколотилось сердце.
– Наталью? – переспросила зачем-то и услышала, как жалобно дрогнул ее голос. И тотчас вспомнила, что она, случайно зашедшая в дом женщина, не может, не должна вообще ничего знать о Наталье. – А кто она такая?
Гектор в замешательстве кашлянул, и его дыхание снова шевельнуло растрепанные волосы Аглаи.
– Она… она… Наталья Селезнева моя давняя знакомая, которая рискнула всем, чтобы помочь мне. Я не могу ее оставить. Я должен ей помочь.
– Вот как… – пробормотала Аглая, у которой совершенно необъяснимым образом отлегло от сердца. – А я-то думала, вы ее любите.
Господи, да она что, спятила, говорить такие вещи незнакомому человеку, так бесцеремонно болтать с мужчиной? Вот дура! Сейчас он рявкнет: «Не ваше дело!» – и будет прав.
Однако, к ее изумлению, Гектор не рявкнул, а покачал головой:
– Ответ, который я могу вам дать, недостоин порядочного человека.
Аглая задумалась. Загадочные слова. А впрочем, что в них такого загадочного? Наверное, раньше что-то было у них с Натальей, но теперь…
Странным образом в тесной клетушке стало легче дышать. И, несмотря на полную безнадежность положения, у Аглаи улучшилось настроение.
Гектор вдруг насторожился:
– Послушайте, вы долго в доме пробыли?
– Да нет, я только что вошла… – забормотала Аглая. – А тут вдруг крики, стрельба… я сначала отсиживалась в каком-то углу, потом поняла, что пора спасаться бегством…
– А вы никого в доме не видели, какую-нибудь другую женщину?
– Нет-нет, – быстро сказала Аглая. – Никого-никого.
Так, понятно, он вспомнил о Ларисе Полетаевой, вернее, о той, которая казалась ему Ларисой Полетаевой.
– Ничего не понимаю, – пробормотал Гектор. – Неужели она все же убежала через подвал?
– А как она была одета, та женщина? – спросила Аглая и тут же прикусила язык, да поздно. Глупо! Какая ей разница, как была одета та женщина, если она никого в доме не видела?
Но Гектор, похоже, не заметил нелепости ее вопроса и ответил с досадой:
– Да жутко! В красной куртке и красной косынке. Словно вся кровью вымазанная.
Аглаю даже передернуло:
– И правда жуть!
– Она всегда любила красный цвет, – задумчиво проговорил Гектор. – Вообще любила подчеркнуто яркие цвета. Всегда была очень красивая, но совершенно лишенная вкуса. И склонная к эпатажу. Например, она первая в нашем городе остриглась, отрезала косы. Тогда это казалось невыносимо вульгарно, а теперь… – Мужчина покосился на недлинные волосы Аглаи, и та с трудом подавила желание пояснить, что постриглась, потому что коса вспыхнула огнем, когда она пыталась хоть что-то из вещей спасти, когда дом ее горел… Зачем ему ее объяснения?
Хотя он сказал, что и его дом сожгли. Вот странное совпадение!
– Теперь многие так ходят, – продолжал Гектор. – Многим даже весьма к лицу… Так вот о Ларисе. За это ее из гимназии исключили, из выпускного класса.
– Так вы знакомы с той женщиной? – удивленно спросила Аглая.
Получается, он знает Ларису Полетаеву? Но почему же принял за нее Аглаю?
– Был знаком – лет пятнадцать тому назад.
Так вот оно что… Понятно. К тому же он не смотрел в лицо пленницы, принял на веру слова Константина и Федора, что привезли комиссаршу. И Гектор явно не хотел, чтобы та его узнала, поэтому и посадил лицом к стене, а сам оставался за ее спиной. И она ведь была в косынке… Что же за отношения у них такие странные? И вообще – что же Гектор за человек такой?
– Тогда, много лет назад, ее звали Ларисой Проскуриной, – снова заговорил мужчина. – Мы, собственно, мало друг друга знали – ну, иногда танцевали на вечеринках, возможно, я даже был в нее слегка влюблен, в нее все подряд влюблялись. Но она на меня не обращала никакого внимания. Я был такой смешной, тощий, картавый… Знаете, я почему-то даже в юности упорно говорил «л» вместо «р», даже имени своего не мог толком произнести. К каким только докторам меня не возили! Никто не мог помочь. А на фронте попал под обстрел, был легко контужен, и когда очнулся – картавость прошла, точно рукой сняло. Смешно, да?
– Смешно, – слабо улыбнулась Аглая. – То есть нет… Не знаю.
– Смешно, – сказал Гектор убежденно. – Так вот я о Ларисе. Один мой друг из-за нее совершенно лишился рассудка. У него была какая-то неистовая страсть. Он признался в своих чувствах Ларисе – написал очень откровенное письмо и сделал ей предложение. А она взяла да и прочла его письмо вслух на вечеринке. И так хохотала – закидывала голову, ее лоснящиеся, черные, крашеные кудри колыхались… Никто не смеялся вместе с ней, всем было страшно неловко. Люди глупо улыбались, отводили глаза. Я крикнул: «Стыдись!» – и самому стало стыдно… А она все хохотала. Тогда мой друг вышел из бальной залы, отправился домой, нашел в письменном столе отца лежавший там револьвер да и застрелился. Конечно, все понимали почему… После этого от Ларисы все отвернулись, даже самые преданные ее поклонники. Родители ее были очень богаты, имели дом в Москве, ну и мгновенно переехали туда. Мой отец был дружен с отцом Ларисы. Надо сказать, она пошла в своего папеньку, во Владимира Иосифовича… Тот был известен своими похождениями и в молодые, и в зрелые годы, у него вечно были в любовницах и молодые, и немолодые, и красивые, и некрасивые. Поговаривали, у него даже были побочные дети. Но все оставалось досужей болтовней, дело никогда не доходило до скандалов. Мой отец был поверенным его тайн (они учились вместе в гимназии, были тезки, вроде бы даже побратимы). Они и потом переписывались, и я так или иначе оказался в курсе всех приключений Ларисы. Знал, что сначала она вышла замуж в Варшаве за какого-то чуть ли не люмпена и сбежала от него, потом – за несчастного инженера Полетаева, чью фамилию носит по сю пору, надо думать, из-за ее звучности. Бросила его тоже, вышла за кого-то еще, но и того человека постигла та же участь. Очередной ее любовник оказался большевиком, и благодаря ему она вошла в их организацию, а там ощутила, что заниматься разрушением страны куда интересней, чем быть разрушительницей обычных семей. Ее преследовала полиция, она уехала за границу, а потом вернулась – после того, как Ленин прибыл в Россию в запломбированном вагоне, привезя с собой несметные деньги для уничтожения России… Мне даже трудно, вернее, противно представить, что я когда-то с симпатией относился к большевикам!
– А вы к какой партии принадлежите? – с любопытством спросила Аглая.
– Я эсер, – сказал Гектор.
Аглая вздрогнула. Какие опасные вещи говорит Гектор о себе случайной женщине!
А впрочем, в чем опасность? Здесь, в тесном шкафу-тайнике, Аглае некому на него доносить. При малейшей попытке крикнуть Гектор ее просто придушит – вон какие у него мощные плечи, какие сильные руки. Даже пулю тратить и поднимать шум не придется… Так что он ничем не рискует, откровенничая.
А может быть, он просто почувствовал, что она его не выдаст? Догадался, что…
Что – что? О чем он мог догадаться?
– Да, я понимаю теперь, почему вы скрываетесь от этих… с красными бантами, в кожанках, – пробормотала Аглая, пытаясь замаскировать ужасное замешательство, которое ее вдруг охватило, и снизу косясь на его губы. – Понимаю, почему вы скрываетесь от большевиков!
Красивый у него рот. Почему-то во всех романах пишут только о красивых женских ртах. Но ведь, оказывается, у мужчин тоже бывают… Вообще она никогда в жизни не засматривалась на мужские губы, может, сейчас смотрит потому, что больше просто не на что смотреть? Или в глаза Гектору, или на его губы…
Аглае вдруг опять стало жарко, а пальцы похолодели. Как странно…
– Мне не привыкать скрываться, – ответил Гектор угрюмо. – За мной охотятся давно. И вовсе не большевики, и совершенно не за то, что я эсер. Хотя… не принадлежи я к их партии, не попал бы в историю, из-за которой все это началось и которая неведомо чем закончится.
Аглая подняла голову и посмотрела в его желтовато-зеленые коршунячьи глаза. В них замерло растерянное выражение.
– У меня такое ощущение, – проговорил он напряженно, – что я вас где-то видел. Уже говорил с вами! Но где, когда?
Аглая пожала плечами, приняв самый независимый вид:
– Да нет, мы точно незнакомы.
– В вас есть что-то странное, – продолжал Гектор. – Такое ощущение, что вы очень многое скрываете.
– Да и вы скрываете немало, – слабо усмехнулась Аглая.
– Я вынужден, – тихо сказал Гектор, и Аглае почудилась в его голосе нотка вины.
– Я тоже, – кивнула она. – Тоже вынуждена. Мы с вами чужие люди, случайно оказавшиеся рядом. Зачем нам знать друг о друге больше?
– Вы… Вы мне не чужая! – Голос его изумленно дрогнул. – Я это всей душой ощущаю. У меня есть женщина, близкая женщина, которая совершенно посторонний мне человек, хотя родила моего ребенка. Я прекрасно понимаю свой долг и свои обязанности по отношению к ней. Но – только долг. А вы, с которой я провел рядом несколько минут, почему-то гораздо ближе мне.
Странно, Аглаю ничуть не ранили слова о женщине, которая родила ему ребенка. Может быть, он говорит о Наталье? Ну и что? Сейчас для Аглаи это не имело ровно никакого значения. А то, что он сказал об их близости… Девушка попыталась уверить себя, что его слова ничего не значат. Все просто потому, что у мужчины… ну, когда он рядом с женщиной, да еще так неприлично близко… пробуждаются всякие темные желания. Так в романах пишут. Наверное, они и у Гектора пробудились.
Но в романах пишут, что они пробуждаются также и у женщин…
Аглая откинулась к стене, чтобы лучше видеть его странные, не то хищные, не то растерянные глаза. Гектор склонялся ниже, ниже… Аглая покорно опустила ресницы, покорно приоткрыла губы – и невольно застонала, когда Гектор с силой прижал ее к себе. «Так вот что такое – целоваться!» – мелькнула мысль и пропала. Думать Аглая больше не могла – только чувствовала.
Сеном пахло от него, ветром, диким степным огнем… птичий клекот доносился откуда-то издали… Она не могла оторваться от него. Даже если бы он разжал руки, ничего не изменилось бы, она не нашла бы сил от него оторваться. Что-то горело меж их неистово прильнувших друг к другу тел, что-то сжигало их дотла, заставляло рваться друг к другу снова и снова, прижиматься еще крепче…
И вдруг резкий свист долетел откуда-то издалека – словно бы кнутом хлестнул обоих, заставил отпрянуть друг от друга, смущенно отвести глаза, зашарить бестолково руками, поправляя волосы, одежду. Снова свист, а потом крик:
– Гектор! Слышишь меня? Я знаю, что слышишь!
Гектор с трудом оторвал взгляд от губ Аглаи, с силой провел рукой по лицу, словно пелену наваждения сдергивал, а потом пошарил по стене и отодвинул какую-то планочку. Открылась длинная узкая щель примерно на уровне глаз Аглаи, ну а ему пришлось нагнуться, чтобы смотреть во двор.
Он взглянул – и тихо выдохнул сквозь стиснутые зубы. Аглая взглянула – и подумала, что от этой картины вообще можно перестать дышать.
Посреди двора, около мертвого человека, в котором Аглая, не веря своим глазам, узнала того самого Федора, который сидел за рулем автомобиля, привезшего ее сюда, стояла Наталья. Ее качало, и, чтобы не упасть, она иногда пыталась удержаться за единственную доступную опору – за руку Хмельницкого. Что и говорить, Хмельницкий стоял поблизости, однако в руке, за которую женщина хваталась, он держал направленный на Наталью револьвер…
– Гектор! – вновь закричал человек в черной коже. – Я знаю, что ты здесь! Затаился в каком-нибудь из своих проклятущих тайников, которых натыкал в этом доме там и сям!
Аглая вздрогнула – и ощутила, как вздрогнул Гектор.
– Даю тебе пять минут! – крикнул Хмельницкий и демонстративно отвернул край рукава куртки. Наручные часы его были размером с кофейное блюдце. Почему-то Аглая подумала, что они, наверное, ужасно громко тикают и не дают Хмельницкому спокойно спать. – Пять минут, чтобы выйти сюда, во двор. Если тебя не будет, через пять минут я пристрелю твою девку, а дом подожгу. Спалю его дотла, мне не привыкать, но тебя все равно выкурю. Понял? Или хоть на косточки твои обгорелые полюбуюсь. Так что вылезай, Гектор, не то… И выкинь к черту все оружие, которое у тебя есть, выходи с поднятыми руками! Если увижу хоть намек на ствол, в тебя будут стрелять без предупреждения!
Аглая всхлипнула от ужаса – и задохнулась.
Гектор, очень бледный, вытащил из-за спины из-под ремня «маузер», посмотрел на него, мрачно усмехнулся и положил на пол, у самых ног Аглаи. С другого боку ремня снял другой револьвер – тот самый, который был у него в руках, когда он столкнулся с Аглаей. Подумал, вздохнул с сожалением, покачал головой – и его тоже положил на пол.
Посмотрел Аглае в глаза, пожал плечами… легко коснулся ее губ, улыбнулся – и ушел. Она еще пыталась схватить его за рукав, но потом отдернула руки, как обожглась. Нельзя было. Он должен был уйти! Но как сердце разрывалось, как больно было, а слезы не лились… И долго ловила его удаляющиеся шаги, скрип лестничных ступенек…
* * *
Алена не сомневалась, что придется как-то убеждать горничную, что-то ей доказывать, удостоверять свою личность и предъявлять некие верительные грамоты, которых у нее, понятное дело, не было и быть не могло. Однако девице, видимо, и в самом деле ничуточки не хотелось возиться с каким-то письмом, поэтому она отдала Алёне длинный белый конверт с явным облегчением и торопливо включила пылесос, как бы демонстрируя, что более к этому делу отношения не имеет и иметь не будет.
Наша героиня вышла в коридор и жадно оглядела конверт. Он был заклеен. «M-me Каверина Наталья М.» было написано на нем по-русски, но в почерке неуловимо присутствовало нечто иностранное. Алёна повертела конверт так и сяк, зачем-то попыталась поддеть ногтем уголок заклеенного края, да спохватилась, что письмо как бы совсем не ей адресовано. Но любопытно, до ужаса любопытно было прочесть, что ж в нем такое написано!
«Да почему я тут стою? – спохватилась она. – Нужно поскорей спуститься и отдать конверт Наталье Михайловне. Может быть, Шведов там во всем признался… А если даже и нет, я его успею около администратора перехватить».
Алёна вскочила в лифт и нажала нижнюю кнопку. И только тут заметила, что на ней стоит не цифра 1, а 0, то есть это не первый этаж, куда ей нужно, а нулевой, подвал. Нажала на единичку, но лифт уже тронулся. Пожалуй, менять этажи поздно. «Да ладно, сначала спущусь, потом поднимусь, невелика беда», – утешила она себя и стала смотреть на светящееся окошечко, в котором менялись цифры. 4, 3, 2, 1…Движение лифта замедлилось, однако 0 что-то никак не появлялся. Ну же…
До нулевого этажа лифт шел как-то ужасно долго, словно подвал гостиницы «Октябрьская» располагался в центре Земли, подобно шахтам миллионера Роллингса по добыче оливина. Или что там в них добывали-то, в романе графа Толстого «Гиперболоид инженера Гарина»?
Наконец-то остановился! Алёна, не дожидаясь, пока откроются дверцы, поспешно нажала на единицу – и тотчас пожалела об этом, потому что ни дверцы не раскрылись, ни лифт не двинулся с места.
Вот зараза, а? Замкнуло что-то, не иначе. Нашло время, когда замыкаться!
Она нажала на кнопочку с изображенным на ней колокольчиком, однако никакой монтер или дежурный и не собрался ответить. Тогда Алёна принялась давить на все кнопки подряд, поочередно, в произвольном порядке, вместе и короткими аккордами, но результат был равен номеру этажа, где она находилась, то есть оставался нулевым.
А время-то шло! Французы вполне могли уладить свои дела на рецепшн и уехать восвояси. А Наталья Михайловна безмятежно ждет в своей «Мазде» и даже не подозревает, что от нее уходит последний шанс узнать хоть что-то о том, чему она, можно сказать, жизнь посвятила.
«Стоп! – ахнула Алёна. – У меня же мобильник в сумке, и я могу позвонить Наталье Михайловне, объяснить, что…»
Ага, теоретически идея была замечательная, но практически осуществить ее было невозможно, потому что, хоть мобильник и впрямь находился в сумке, однако сумка-то осталась в машине.
Просто цирк… Нет, наоборот, ужас что такое! А если Наталье Михайловне надоест ждать и она, разобидевшись на медлительную расследовательницу, уедет? Вот финт будет… В сумке Алены не только телефон, но и ключ от квартиры, где деньги лежат… в ничтожном, конечно, количестве, а все же как-то худо-бедно лежат. И карта банковская в сумке, и дисконтные из магазинов «Спар» и «ХХI век», из универсама «Нагорный», а также из аптеки «36,6». Да мало ли еще что там есть полезного! В косметичке, опять же, много всякого добра. А как и где искать Наталью Михайловну, чтобы свое добро вернуть, Алёна представления не имела.
«Да погоди ты! – сказала она сама себе с досадой, потому что вся ее паника начала сильно напоминать панику умной Эльзы из одноименной сказки братьев Гримм, тем паче что и тут и там действие разворачивалось в подвале. – Не дергайся! С чего бы Наталье Михайловне уезжать? Она во мне заинтересована, вернее, не во мне, а в том, что я ей сообщу. Она не уедет. А я рано или поздно выберусь же отсюда и все объясню. Скажу, что Шведов уже отбыл, что я его не застала… Ведь это же правда! Стоп. А если Наталья Михайловна его увидит? Будут французы выходить из гостиницы, она и увидит Шведова. И поди потом объясни ей, что я с ним не встретилась не потому, что прозевала или вовсе не захотела искать его, а потому, что просидела, как дура, в пошлом застрявшем лифте!!!»
Исполняясь жуткой ярости на «пошлый застрявший лифт», Алёна в ярости ударила кулаком по панели. Ну и напрасно она так сделала, конечно. Мало того, что ее слегка тряхнуло, словно бы слабым разрядом тока прошило – оно еще ладно, терпимо, – главное, что в кабинке погас свет.
– Тьфу ты, пропасть, – растерянно пробормотала Алёна. – Вот же угораздило меня…
Ну и порядки в этой как бы фешенебельной гостинице – уже несколько минут не работает лифт, а никто и в ус не дует! Дежурный электрик на обеде, что ли? Или в баню пошел? Говорят, здесь, в «Октябрьской», знатная сауна для постояльцев, ну и обслуга небось туда контрабандно шастает время от времени.
И сколько Алёне тут сидеть, скажите на милость? Неужели никто не придет в подвал? Никто не включит лифт?
– Есть тут кто-нибудь? – что было сил закричала Алёна. Закашлялась и затаила дыхание, вслушиваясь в окружающую тишину и всматриваясь в полную темноту. – Я в лифте! Выпустите меня!
Вторая попытка вышла хриплой и невыразительной – Алёна сорвала голос при первой. У нее даже слезы на глаза от злости выступили. Кое-как отерев их, наша героиня несколько раз вздохнула, пытаясь успокоиться, и решила не сдаваться: колотить в дверь. Она набралась сил и ка-ак шарахнула по дверце ногой…
И вообразите – лифт тронулся! Начал подниматься!
От радости Алёна выронила конверт и какое-то время простояла на коленях, пытаясь его найти. Кое-как нащупала, встала на ноги – и в ту минуту лифт остановился. Но дверь не открывалась. Алёна, оскалясь от злости, снова шарахнула по ней ногой – и та, представьте себе, открылась. Очевидно, этот лифт, как и некоторые женщины, понимал только грубое обращение.
Мгновение Алёна стояла неподвижно, не веря, что выйти на свободу удалось так примитивно просто, а затем вылетела из лифта с невероятной скоростью. Ведь дверцы могли снова закрыться!
– Толцыте, и отверзется, – пробормотала Алёна, озираясь.
Она находилась на первом этаже, и на нее с изумлением таращились с десяток людей. Но у стойки никого не было. Уехали! Французы уехали! И Владимир Шведов тоже!
К Алёне подскочила дама с внешностью классической гостиничной администраторши совкового периода, схватила за рукав:
– Вы задержали лифт в подвале! Вы заставили ждать…
– Я бы сказала, что это меня задержал лифт в подвале, – перебила ее Алёна.
Стоявший неподалеку молодой человек в серой замшевой куртке необычной степени элегантности засмеялся:
– Однако у него недурной вкус!
Может быть, в другое время Алёна восприняла бы его слова как комплимент и даже улыбнулась бы в ответ, тем паче что парень был весьма недурен, да и высоченный, и широкоплечий, и волосы русые, и глаза зеленоватые, блудливые такие – все как надо, словом, – однако сейчас ей было не до кокетства. Она вырвала рукав из цепких пальцев администраторши, заявив:
– Техника в вашем отеле в безобразном состоянии. У вас же иностранцы останавливаются! Так и до международного скандала недалеко. А теперь, извините, я должна идти.
На самом деле она не пошла, а побежала, да еще с какой скоростью! Оглядываться и реагировать на звучные призывы: «Девушка! Девушка! Подождите!» – у нее не было времени. Выяснять отношения с совковыми администраторшами – ну что может быть глупее и бессмысленнее?
Выскочила на крыльцо… А, черт! Никого и ничего, кроме одинокой «Мазды» Натальи Михайловны. Эх, она там, наверное, извелась от нетерпения… Сейчас ворчать начнет. Или Снежные королевы не ворчат? А что они делают? Обдают ледяным молчанием? Или холодно и высокомерно отчитывают провинившихся?
Ну ладно. В конце концов, главное – письмо. Его нужно передать, и все. Может быть, Шведов в нем во всем признался и все рассказал, так что вопрос снят.
Ага… значит, гонорар сведется к пятистам евро. Не бог весть что, но тоже очень даже неплохо. Вполне достойное искупление тем моральным страданиям, которые Алёна претерпела в лифте.
Торопливо пересчитав ногами ступеньки, она подбежала к «Мазде».
Наталья Михайловна опустила стекло и обратила к ней спокойный взор:
– Долго же вас не было… Неужели все это время разговаривали со Шведовым? И как? Удалось что-то узнать?
– Я его не застала, – покаянно призналась Алёна. – Мы разминулись на несколько минут. Вся группа уже уехала в аэропорт.
– А, черт! – пылко воскликнула Снежная королева. – Значит, мне не показалось, что я видела его среди людей, которые садились в автобус, но глазам не поверила. Но они уехали минут пятнадцать назад. Вы-то где были все это время?
– Да в лифте застряла, вы представляете? – с тоской призналась Алёна. – Сначала он меня в подвал завез, потом в нем свет погас, потом я выйти не могла. А ведь надеялась перехватить Шведова до отъезда… Не судьба! Но горничная передала мне письмо для вас. Вот оно. – Она подала письмо в приоткрытое окно. – Ведь ваша фамилия – Каверина?
Наталья Михайловна изумленно уставилась на конверт:
– Вот как? Значит, он предполагал, что я снова приду. И что там, в том письме?
– Не знаю, – растерялась Алёна. – Я не читала.
– Конверт открыт, – с холодком сообщила Снежная королева. – И помят.
– Я его уронила в лифте, никак не могла нашарить на полу в темноте, но не открывала. Я не читаю чужих писем!
– Хм, это радует, – кивнула Наталья Михайловна. – Тогда я взгляну на письмо. Вы позволите?
– Конечно, – сказала Алёна. – Само собой.
Наталья Михайловна вынула из конверта листок – Алёна обратила внимание, что он исписан русскими буквами, но каким-то нерусским почерком. На самом деле не только выговор, но и почерк имеет акцент, причем очень характерный! Вот и почерк Владимира Шведова был с акцентом.
Она взялась за ручку, чтобы сесть в машину, но та не поддавалась. Дверца оказалась закрыта. Наталья Михайловна сосредоточенно читала письмо, и Алёне было неловко беспокоить ее и напоминать, что надо открыть дверцу. Стояла и стояла себе – и заодно наблюдала, как меняется выражение лица Снежной королевы. Куда девалось ледяное спокойствие? Теперь на его месте было олицетворение гнева.
– Негодяй! – внезапно воскликнула Наталья Михайловна и скомкала конверт. – Подлец! Да он что, рехнулся, писать такое? Нет, просто немыслимо!
– Не волнуйтесь, Наталья Михайловна, – Алёна нагнулась к окну. – Что там такое? Он написал, кто был ваш дед?
Вопрос был, может, и несколько бесцеремонным, однако вполне закономерным. В конце концов, рассказ мадам Кавериной очень сильно раздразнил любопытство писательницы Дмитриевой.
Наталья Михайловна резко перевела дыхание и холодно улыбнулась:
– Здесь не более чем его собственные измышления. Я так поняла, что он и сам ничего толком не знает. Кроме того, оказалось, что яблочко от яблоньки очень недалеко падает. Кирилл Шведов писал измышленные доносы, его сынок тоже изощряется в выдумках и клевете. Отвратительно! Кстати, он упоминает тут о некоем списке. А списка в конверте нет.
– Что за список? – изумилась Алёна.
– Да какая разница? – досадливо мотнула головой Наталья Михайловна. – Важно, что его нет. Мне не хочется быть бестактной, но…
Она умолкла, причем весьма выразительно.
– Вы хотите спросить, не взяла ли список из конверта я? – обиделась Алёна. – Но я даже не понимаю, о чем речь идет!
Снежная королева испытующе взглянула на нее снизу вверх. Глаза ее были сделаны из колючего льда.
– В конце концов, Шведов мог ошибиться и забыть положить список в конверт! – воскликнула Алёна уже возмущенно.
– М-да? – с сомнением переспросила Наталья Михайловна. – Вы полагаете? Ну что ж, возможно. А впрочем, все уже совершенно неважно, в самом-то деле. Шведов уехал, ну и скатерью дорога. От души надеюсь, что больше никогда в жизни о нем не услышу.
Она скомкала письмо и сунула его в сумку. Отбросила ее на соседнее сиденье и повернула ключ в стояке.
«Она что, уезжает?» – изумилась Алёна.
– Ах да, – спохватилась Наталья Михайловна, – я чуть не увезла ваши вещи.
Она перегнулась к заднему сиденью, подхватила Алёнину сумку (отнюдь не из змеиной кожи, а, честно признаемся, из кожзама: Алёна любила часто менять сумки, к каждым сапогам и туфлям была своя, ну а иметь десяток сумок из натуральной кожи – это не с ее гонорарами, извините!) и протянула в окошко. Растерянная писательница приняла свое имущество.
– Ну что ж, все получилось весьма забавно, – сказала Наталья Михайловна. – Разумеется, на половину из того, что Шведов тут понаписал, нужно наплевать и все забыть, но кое над чем есть смысл поразмыслить. Я вам, конечно, признательна, голубушка, – взглянула она на Алёну с видом барыни, которая благодарит горничную за вовремя поданную гребенку, или булавку, или еще что-нибудь такое, – но вам не кажется, что ваше участие в данной истории было достаточно скромным, чтобы претендовать не то что на две тысячи, но даже и на пятьсот евро? Может быть, ограничимся сотней?
Алёна молча вынула из сумки хрустящий конверт и подала ей.
– Ну, сотню все же возьмите, – промолвила Наталья Михайловна уже добродушнее.
Алёна все так же молча покачала головой. Говорить она не могла. Да и сказать было нечего. Ее бывшая подруга Жанна в таких случаях восклицала: «Просто душит смех!»
Черт его знает, может, и в самом деле это было смешно. Сейчас, сейчас, вот только немножко придет в себя одуревшее от неожиданности чувство юмора, и Алёна тоже сможет рассмеяться…
– Ну, нет так нет, как угодно, – безразлично проговорила Наталья Михайловна. Взяла конверт и подняла стекло, шевельнув губами на прощанье. Наверное, их шевеление означало: «До свидания!» Или: «Всего доброго!» Или: «Я вам весьма признательна, а теперь, милочка, ваше место в буфете!»
Несравненная «Мазда» умчалась вдаль по Верхне-Волжской набережной, а Алёна только и могла, что покачать головой.
– Вот тебе и сюжет! – пробормотала она уныло и пошла домой, уверенная, что никогда в жизни не увидит больше ни Натальи Михайловны, ни ее обворожительных серег.
Однако, как любили писать романисты былых веков, рок судил иначе…
1918 год
Наконец Аглая разогнулась – все это время она стояла скорчившись, глуша боль в груди. Припала было к смотровой щели, но тотчас же отвернулась – нет, не станет она смотреть, как Гектор выйдет и как его убьют… Потом все же не выдержала, снова устремила взор во двор, где Наталья так и стояла, скорчившись под прицелом Хмельницкого.
– Чтоб ты пропала! – с тихой ненавистью прошептала Аглая. – Все из-за тебя! Век бы тебя не видать!
Что-то произошло в ее сознании, какая-то мысль мелькнула по самому краю разума, что-то, касаемое ни в чем не повинной, столь бурно ею проклинаемой Натальи… просвистело, пролетело, как ветер, как пуля… как всадник, который вдруг ворвался во двор… За ним несся целый отряд всадников, и все сплошь матросы. Во дворе резко почернело. Впрочем, форма не спасала от того впечатления, которое эти люди производили. А впечатление было – анархистской вольницы…
Среди толпы выделялись двое. Один был высоченный рыжий матрос – без бушлата, в одной тельняшке, которая треснула на его могучих плечах и груди. Вокруг шеи матроса было обмотано голубое страусовое боа, под которым виднелись промельки массивной золотой цепи. Причем золото отдавало в красный оттенок. Значит, цепь из самого дешевого золота с большой примесью меди, из него делали внушительно толстые и вульгарно массивные часовые цепочки, а называлось оно – самоварным. Бескозырка рыжего матроса была украшена огромным шелковым алым цветком. В одном ухе качалась большая золотая серьга-кольцо – на манер тех, которые носили пираты в романах Роберта Льюиса Стивенсона. Аглая даже не подозревала, что в таком виде нормальный человек на люди может выйти.
На седле впереди матроса сидела женщина… При виде ее Аглая просто-таки забыла, где находится и что вообще творится вокруг.
У женщины были яркие голубые глаза, чудные пепельные, коротко остриженные волосы, великолепная бело-розовая кожа, точеные черты – она показалась бы красавицей, когда б не буйное, свирепое выражение ярости, искажавшее ее лицо. Какая-то Беллона, фурия, эриния – словом, кто-то из этой греко-римско-античной воинственной компании. На ней был тяжелый бушлат (ага, наверное, рыжий матрос галантно отдал своей даме), черная и без того короткая юбка высоко задралась, открыв ногу, обтянутую кружевным черным чулком и обутую в короткий кавалерийский сапожок.
Аглая мигом узнала и чулок, и сапожок. Она видела их в приемной доктора Лазарева.
Так вот она какая, Лариса Полетаева…
Что она здесь делает? Примчалась в поисках украденных вещей? Но как, каким образом комиссарша узнала, куда ехать?
Да нет, глупости, просто случайность!
Тут, словно отвечая ей, Лариса слетела с коня, кинулась к Наталье и принялась хлестать ее по щекам. Наталья отворачивалась, загораживала лицо, но разве спасешься от фурии, которая работала руками, как ветряная мельница – крыльями, и истошно кричала:
– Где Гектор? Говори, где он!
– Я здесь, – послышался спокойный голос.
Хмельницкий и матрос, и их отряды, и Лариса Полетаева – все, как по команде, повернулись к человеку, которому он принадлежал. Только Наталья так и стояла согнувшись, закрывая лицо руками.
– Я здесь, – повторил Гектор. – Отпустите ее, Лариса. Она ни в чем перед вами не виновата. Она помогла вам бежать…
– Бежать? – вытаращила глаза Лариса. – Да вы тут все с ума посходили! Она меня раздела, ограбила, предала! Где мои вещи? Я хочу мои вещи!
По знаку рыжего матроса несколько человек кинулись в дом.
Хмельницкий стоял молча и неподвижно, словно в землю вбитый. Вид у него, надо сказать, был совершенно ошалелый. Взгляд его перебегал со спокойного, даже как бы небрежно улыбающегося Гектора на озверевшую Ларису Полетаеву. Иногда его темно мерцавшие очки обращались на матроса, и тогда тени еще сильнее сгущались на его лице. Отчего-то Аглае показалось, что приезд рыжего в тельняшке обеспокоил Хмельницкого всего сильнее, и даже появление покорно сдавшегося Гектора не могло рассеять обуявшего его беспокойства.
Тем временем из дому выбежал матрос с красной курткой и кумачовой косынкой. Лариса сбросила бушлат и торопливо напялила ее на себя, застегнула ремень, повязалась косынкой, распрямила плечи. Погрозила Наталье кулаком:
– Я тебе покажу! Будешь знать, как воровать! Где мой «маузер»? «Маузер» ищите. Ну!
Аглая несколько поежилась от угрызений совести. Неужели комиссарша собирается застрелить Наталью из-за дурацкой куртки? Но странно, почему она убеждена, что именно Наталья каким-то образом проникла в приемную доктора Лазарева и украла вещи? Впрочем, кто ее знает, Наталью, может, она воровка с богатым прошлым…
Воровка с богатым прошлым и благородный эсер Гектор… Ревность так и ужалила!
«А откуда ты знаешь, что он такой уж благородный? – угрюмо саму себя спросила Аглая. – Разве благородные люди вот так, ни с того ни с сего, целуют незнакомых дам?»
– А ну хватит! – Рыжий матрос покачал в воздухе могучими веснушчатыми кулачищами. – Учкасов! Обыщи Гектора!
Хмельницкий так и дернулся: видимо, не по нраву пришлось, что рыжий так тут раскомандовался. Но все же промолчал.
Невысокий тщедушный матросик с узким мышиным личиком неохотно вышел вперед и опасливо двинулся к Гектору. Тот усмехнулся, поднял руки, давая себя обыскать.
– У него ничего нет! – через минуту крикнул матросик.
– Что так зыркаешь? – спросил рыжий, подходя к Гектору. – Не ждал меня увидеть, а, хитрец?
– Не ждал, – спокойно кивнул Гектор. – Да еще в такой компании.
– А чем плоха компания? – повел глазами рыжий. – Народ давно знакомый, надежный…
Гектор ехидно вскинул брови.
– Нет, – покладисто кивнул матрос. – Ты прав. Не надежный тут народ. Доверия не стоящий. А пуще других скользкий и ползучий Оська Хмель.
«Оська Хмель? – мысленно повторила Аглая. – Неужели он о Хмельницком этак запросто?»
– Однако как же ты, Гектор, вышел к такой шобле безоружным? – продолжал матрос. – На слово Хмеля понадеялся? Зря… Ты же понимаешь, что его слову верить нельзя.
– Да из вашей компании ничьему слову верить нельзя, – размеренно произнес Гектор. – И ее слову – тоже, – небрежно кивнул он в сторону Ларисы.
– А твоему – можно? – насторожился матрос.
– Конечно, можно, – кивнул Гектор. – Я всегда говорил, что коллекция Креза будет доставлена тем, ради кого я в свое время ее украл. И я по-прежнему пытаюсь ее вернуть. И верну, чего бы мне это ни стоило.
– Значит, ты знаешь, где она? – быстро, жадно спросил рыжий.
Гектор усмехнулся:
– Я знаю, у кого надо о ней спросить.
Матрос настороженно обежал глазами окружающих.
– Ладно, хватит болтать! – внезапно вмешался Хмельницкий («Оська Хмель», – вспомнила Аглая и только головой покачала). – Будет еще время. Слушай, Гектор… У нас с тобой давние счеты, и вот наконец-то настало время их свести. Помнишь, ты меня на дуэль вызывал, потому что, по-твоему, большевики предали интересы русского народа?
– А ты отказался, – кивнул Гектор. – Мол, до победы мировой революции не имеешь права размениваться на буржуазные предрассудки.
– Мировая революция победила! – возвестил Хмельницкий. (Аглая в своем укрытии в ужасе перекрестилась: неужели во всем мире такое творится?) – Так что, если хочешь, я готов с тобой стреляться.
Тощий Учкасов коротко хохотнул, но под коротким, острым взглядом рыжего матроса умолк, словно проглотил смешок – да и подавился им. У матроса сделалось такое же настороженно-сумрачное лицо, каким оно было только что у Хмельницкого. Да, теперь настала его очередь не понимать, что происходит.
– Стреляться готов? – переспросил Гектор. – Ну что ж, дело хорошее. И как ты себе нашу дуэль представляешь? Когда?
– Да хоть сейчас, – небрежно отозвался Хмельницкий. – Отойди вон к той стенке – и начнем.
– Ты дашь мне оружие? – недоверчиво, настороженно спросил Гектор.
– Зачем? – удивился Хмельницкий. – Ах да, ты оставил свое в доме… Ну и глупец же ты! Разве на дуэль выходят безоружным? Значит, исход можно легко предсказать. Но я разрешаю тебе выбрать секунданта.
«Скотина! Подлая скотина!» – чуть не простонала Аглая, с ненавистью глядя на Хмельницкого. Еще и куражится над безоружным противником… Так бы и пристрелила его своими руками…
У нее вдруг пересохло во рту. Повернула голову и посмотрела на «маузер» и револьвер, лежащие на полу. У отца были такие. Оставались с прошлых времен. Он научил Аглаю стрелять после того, как сожгли школу. Тогда он понял, что от народа, за счастье которого он отдал молодость и здоровье, всего можно ожидать. Стрелять-то она умела, но оружие отца сгорело вместе с домом. Аглая и не вспоминала о нем. А сейчас вспомнила.
Почти не осознавая, что делает, она подняла «маузер», проверила патроны в магазине. Их там оказалось шесть – лежали аккуратным шахматным порядком. Осмотрела револьвер. В барабане «нагана» было только три патрона. Ладно, его оставили на потом, сначала «маузер».
На какое-то мгновение Аглае показалось, что ствол «маузера» не просунется в узкую смотровую щель, но потом дело пошло лучше. Она старательно прицелилась в Хмельницкого, начала взводить курок… покачала головой и дернула стволом чуть выше. Нет, невозможно это – выстрелить в человека, даже в такого гада!
Грянул выстрел. Аглая припала к щели.
Хмельницкий стоял без фуражки и держался за голову. Выражение лица у него было совершенно очумелое…
– О господи! – в ужасе пробормотала Аглая. – Я, что ли, в него все же попала?
От испуга у нее дернулась рука, и «маузер» самопроизвольно выстрелил еще пару раз. Да что же он сам-то пуляет, никак не может остановиться? Аглая едва успевала задирать ствол повыше, чтобы, не дай бог, ни в кого не попасть.
Наконец она умудрилась снять палец со спускового крючка и выдернуть ствол из щели. Припала к ней – и отпрянула, когда совсем рядом брызнули стекла. Ага, во дворе очухались. Поняли, что стреляют откуда-то с этой стороны – решили, что из окна, которое совсем рядом с Аглаей. Щель, разумеется, со двора неразличима. Разве что случайная пуля залетит – но на то ведь она и случайная, чтобы залетать туда, куда вроде бы и невозможно попасть…
Но даже мысль о подобном не смогла охладить любопытства Аглаи, и она снова припала к щели. Как раз вовремя, чтобы увидеть Гектора, который бежал через двор к гнедому коню, бестолково мечущемуся у ворот. Понятно, конь испугался стрельбы, а всадника на нем не было. И вот Гектор в седле! Вот ловкий – только что на земле стоял, потом вдруг словно прилип к гнедому боку, чуть коснулся ногой стремени – и уже верхом! Конь вздыбился, Гектор приник к его шее, мощным рывком развернул – конь перелетел через забор, и до Аглаи долетел крик:
– Беги, беги! Жди меня у камня!
И все, Гектор исчез из глаз.
Только сейчас до матросов дошло, что добыча улизнула. Кинулись было толпой к воротам, кто-то пытался забраться в седла, но перепуганные животные метались по двору, и мало кто из анархистов смог оказаться таким ловким всадником, как Гектор. Да еще Аглая добавила переполоху, расстреляв оставшиеся патроны «маузера» и схватившись за «наган».
Она вошла в такой раж, что еще несколько раз жала на спусковой крючок, когда уже стихли выстрелы, не в силах понять, что патроны кончились. Стекла разбивались во всех окнах поблизости, и Аглая не смела больше смотреть в щель. Однако у нее хватило ума понять, что скоро матросам надоест пулять абы куда, не слыша ответных выстрелов, и они наверняка ринутся в дом, чтобы найти сообщника Гектора. Хмельницкий знает о тайниках, он не успокоится, пока не обшарит все шкафы, все закоулки! Аглае не отсидеться здесь. Значит, надо бежать, как велел Гектор. Путь к спасению ей известен.
Но разве его совет – бежать, ждать у камня – относился к ней? Она представления не имеет ни о каком камне. Наверное, Гектор кричал Наталье, она-то прекрасно знает все окрестности.
Конечно, о ком ему еще заботиться, как не о Наталье!
Можно было только удивляться, что сейчас, на краю смертельной опасности, находясь на волоске, по сути дела, от гибели, Аглая еще была способна на такую ерунду, как ревность, причем ревность лютую, до слез.
Ну вот ревновала. Ревновала и плакала…
Зло вытерев глаза, Аглая дернула за планку, выбралась из тайника в шкаф, выскочила наружу.
Вовремя! Снизу по лестнице уже поднимались, пыхтя и топоча. А что будет, если второй шкаф не откроется?
Он открылся. Господи, сколько тут всякого барахла навалено! Понятно – для маскировки. Аглая продралась через какие-то узлы, некоторое время с ужасом шарила по задней стенке. Она не сдвигалась! И внезапно, когда Аглаю уже в жар бросило от страха, с легкостью отошла.
Девушка шмыгнула в щель и оказалась почти в таком же тайнике, как первый, только еще уже, явно рассчитанном на одного человека. Подгребла повыше узлы в шкафу и старательно задвинула стенку. Осмотрелась. Так, под ногами – люк, как и говорил Гектор. Оттолкнула крышку ногой и увидела глубокое отверстие, словно в колодец заглянула. Некогда было раздумывать – возбужденные крики слышались уже в комнате.
«Как в воду, солдатиком…» – вспомнила Аглая – и шагнула вниз.
Неизвестно, чего Аглая ждала, только не того, что полет так быстро закончится. Чудом вспомнила совет Гектора поджать ноги, и как только подогнула колени, так сразу ощутила толчок снизу, от которого завалилась на бок и упала во что-то мягкое и немножко колючее. Сильно пахло сеном. Да она упала в мешки, набитые сеном! Гектор правду сказал: здесь и впрямь невозможно ушибиться.
Она поднялась и ощупала стены. Гектор говорил: как спрыгнешь, потом сразу налево, там довольно длинный ход, чуть ли не к обрыву над Окой.
Гектор говорил, что будет довольно длинный ход, а обнаружился наконец очень длинный лаз. Аглая ползла долго, и ей в сырой земле стало даже жарко, а конца пути не было видно в самом полном смысле слова. Но вдруг воздух стал мягче, сумрак словно бы потеплел и поредел. Впереди забрезжил свет, и Аглая довольно скоро выбралась на косогор, густо заросший высокой, чуть пожухлой травой.
Внизу лежала сизая река, правее впереди открывалась Стрелка, поблескивали купола храма Александра Невского. Ни души вокруг. Везде дикие, заброшенные, пустынные поля, изредка украшенные зарослями дубняка или боярышника да остатками садов.
Куда же теперь идти? На всякий случай Аглая внимательней посмотрела по сторонам – никакого камня и в помине нет. Тяжело, разочарованно вздохнула – точно, не ей назначал встречу Гектор, на судьбу Аглаи ему было наплевать. А ведь она спасла ему жизнь своими выстрелами!
Нет, зря она так. Гектор подсказал ей путь к спасению, надеялся, что у нее хватит ума его советом воспользоваться. Она и воспользовалась. Так что благодарить его нужно, а не винить.
А что толку благодарить? Они все равно больше никогда не увидятся…
Ветер с Оки шевелил и перебирал траву. А почему вон там, сбоку, трава примята сильнее, чем в других местах? Едва заметная тропинка!
Путь вел к рощице в небольшой ложбине. Здесь совсем не было ветра, осеннее солнце пригревало так ласково, что Аглае захотелось отдохнуть и понежиться под его лучами. И вообще – надо было подумать, что делать дальше. Ну вернется она в город, а там? Снова к доктору Лазареву идти – в кухарки наниматься?
Усмехнувшись, Аглая рассеянно опустилась на какой-то плоский камень, вросший в землю.
Камень? Да нет, она ведь случайно на него наткнулась, не может быть, чтобы он был тем самым, о котором крикнул Гектор. И все же она с надеждой огляделась, а потом и вскочила, заслышав топот копыт.
Гнедой конь… Тот самый гнедой конь! И всадник… Гектор!
Она ринулась вперед, потом остановилась, прижав руки к груди. Не верила глазам, не знала, что делать, боялась своего острого желания кинуться к нему на шею. Он спешился, забросил поводья на куст. Конь опустил голову к траве, бока его тяжело вздымались.
Гектор шел к Аглае медленно. Лицо его было отрешенным, почти равнодушным. Он словно сдавался в плен, беспощадный плен тому необоримому, что влекло его вперед. И Аглая тоже почувствовала себя безвольной и обреченной, когда вскинула руки, чтобы обнять его, когда приблизила губы к его губам.
Они целовались, как безумные, как умирающие от жажды. Не то стоны, не то рычание рвалось из его груди. Аглая не противилась его поцелуям, его грубости и нежности, его неудержимой, словно бы пьяной страсти. Закрыла глаза – и как будто ураганным ветром ее понесло, повалило, ударило о землю, превратило в неведомое, бездумное существо, живущее только алчным желанием и утолением его. И земляное ложе нежило, баюкало, укачивало их неистово сплетенные тела.
* * *
– Это вы Алёна Дмитриева? – недоверчиво спросил мужской голос в трубке. – Писательница? Правда вы?
Алёна вздохнула. Она уже привыкла к тому, что внешность ее производила очень странное впечатление. Услышав, что она пишет книги, причем детективы, люди, как правило, реагировали весьма непосредственно, а именно восклицали:
– Быть того не может!
Алёна уже и перестала размышлять о том, выглядит ли она всего лишь легкомысленно или вовсе глупо. Но голос ее вроде бы звучит достаточно интеллектуально… Откуда же сейчас такая недоверчивость у собеседника? И вообще, странный человек: набирал ведь телефон Алёны Дмитриевой, а теперь удивляется, что отвечает как раз она…
– Очень может быть, что я вас разочарую, – с ехидной любезностью заговорила Алёна, – но я и есть Алёна Дмитриева. Писательница. Да.
– Очень рад! – произнес мужчина весьма воодушевленно. – А скажите, это вы…
Он сделал крохотную паузу, и Алёна усмехнулась, убежденная, что он сейчас спросит: «Это вы написали…» – и назовет пару из бессчетного количества романов и романчиков, принадлежавших перу неутомимой беллетристки Алёны Дмитриевой. Однако мужчина снова ее удивил:
– Это вы были позавчера в гостинице «Октябрьская» и застряли в лифте?
«Боже ты мой! – испугалась Алёна, вспомнив, как истерически колотила ногами в двери злополучного лифта. – Неужели я там что-нибудь сломала и мне намерены предъявить иск?!»
Вот только иска ей сейчас не хватало, при практически пустом кармане-то…
Она уже представила себе, какую речь произнесет на суде в ее защиту подруга Инна, адвокат по гражданским делам (надо знать, с кем дружить, люди добрые!), когда мужчина сказал:
– Ну так вы потеряли там один листочек. А я его подобрал. И готов вернуть, если это что-то нужное.
Какой еще листочек?! Ах, листочек… Не тот ли самый, хищение которого пыталась приписать Алёне мадам Каверина? Ну конечно, как же ей сразу в голову не пришло, что бумажка просто выпала из конверта, когда Алёна шарилась там в темноте!
– Я вам кричал-кричал… – продолжал мужчина. – И администратор кричала. Я догнал бы вас, но уйти не мог – я фотограф, видите ли, для гостиницы рекламные постеры делал, и меня как раз директор ждал, чтобы новые снимки посмотреть. Я и так опаздывал, ну и просто не мог задерживаться. К тому же вы убежали и не оглянулись, я подумал, может, что-то не слишком важное.
Было дело, вспомнила Алёна, кричала администраторша. Но Алёна тогда решила, что ее ждет лишь продолжение скандала, и умчалась со всех ног. А помедлила бы – и получила потерянный листочек, список там какой-то, и не возникло бы проблем с работодательницей, и конверт с пятьюстами евро, глядишь, остался бы в ее сумке, а не был бы горделиво возвращен скупой мадам Кавериной.
Кстати! Надо же, ходить в таких серьгах и в такой шубке, ездить на такой машине – и быть такой скупердяйкой! А впрочем, может быть, она именно потому и ходит и ездит во всем таком, что скупердяйка. Денежки счет любят, что известно всем, кроме одной малоизвестной писательницы.
А впрочем, зря она так о себе. Все же мужчина-то ее узнал, значит, не такая уж Алёна Дмитриева и малоизвестная…
– А как вы меня узнали? – не удержалась наша героиня от соблазна нарваться на комплимент.
– В прошлом году случайно зашел в «Дирижабль», а там проходила ваша встреча с читателями, – последовал ответ. – Помните? Вы еще загораживали стенд, к которому мне нужно было подойти, и я от нечего делать слушал и смотрел, пока ждал. А у меня зрительная память хорошая, поэтому я вас сразу узнал.
Да, пожалуй, комплиментом ответ собеседника можно считать весьма условно. Нет чтобы ему оказаться восхищенным читателем… Да ладно, что слава, в конце концов? Яркая заплата… ну и так далее, см. «Разговор книгопродавца с поэтом» А. С. Пушкина.
– Так вам листочек нужен или нет? – спросил мужчина.
Алёна пожала плечами. Зачем он ей? Поезд ушел, к тому же Наталья Михайловна тоже выразилась в том смысле, что все это уже не имеет значения. Она собралась было пылко поблагодарить неизвестного за хлопоты и сказать, что более хлопотать не стоит, как тот заговорил снова:
– Я сначала его выбросить хотел. А потом прочитал и подумал, может, это какие-то наброски к очередному роману. Там, на той встрече, вы вроде бы говорили, что любите романы с шифрами писать, а тут самая настоящая шифровка, ей-богу.
– Шифровка? – удивилась Алёна.
– Ну да! – засмеялся мужчина. – Шпионская такая. «Ап. – АлРжБяИчШАм». Буквы А, Р, Б, И, Ш прописные, л, ж, я, ч, м – строчные. Дальше – «Мен. – САлчШ». С, А, Ш – прописные, л, ч – строчная. И все в таком же роде, в два столбца. В левом – Ап., Мен., Мн., Пр., Агл., Гек., Кр., Ип., Сф., Атр., Зеф. А в правом буквы большие и маленькие, их перечислять – язык сломаешь. Ну, разве не шифровка?
Алёна растерянно моргнула. Список, сказала Наталья Михайловна. Ничего себе список. В самом деле шифровка какая-то. Любопытно бы на него посмотреть, конечно…
Любопытство было основным качеством, сокрытым движителем, альфой и омегой, сильной и слабой стороной нашей героини. Оно вело ее по жизни, иногда заводя совершенно не туда, куда она вообще-то направлялась. Алёна Дмитриева очень часто повторяла две поговорки: «Любопытство погубило кошку» и «Любопытной Варваре на базаре нос оторвали». Не раз ей приходилось убеждаться в их точности, но искушения любопытством она никогда не могла преодолеть.
– Слушайте, как здорово, что вы нашли этот листок! – воскликнула она с самым искренним воодушевлением. – Я и представить не могла, где его посеяла. Как бы мне его заполучить?
– Да легко! – засмеялся мужчина. – Давайте где-нибудь пересечемся сегодня. Скажем, через час. Около парикмахерской, что ли.
– Ну, за час я до Покровки как-нибудь доберусь, – согласилась Алёна.
– Погодите, при чем тут Покровка? – удивился мужчина. – Я про ту парикмахерскую говорю, которая на Республиканской.
Вообще-то Алёна всегда ходила стричься на Покровку – в «Фэмили». И маникюр там же делала. На Республиканскую ее занесло единственный раз в жизни, и именно там она рассталась со своими кудрями. Голове при одном упоминании о той парикмахерской стало зябко, несмотря на то что в комнате у Алёны было тепло и совершенно ниоткуда не дуло. На Республиканской находилась «Мадам Баттерфляй», а в «Мадам Баттерфляй» служил злокозненный экспериментатор Сева.
– Я про ту парикмахерскую говорю, где бабочки на стене, – пояснил мужчина. – Я вас там вчера видел, как раз перед тем, как вы в гостинице появились. Вы стояли и смотрели на бабочек, а я мимо пробегал, не удержался и сфотографировал их несколько раз. Ну и вы в кадр попали. Я, собственно, тогда и вспомнил, где вас видел первый раз, а потом в гостинице подумал: ну и ну, бывают на свете совпадения. Если хотите, я вам по электронке фотографии пришлю или на диск сброшу.
Точно, вспомнила Алёна, пробегал мимо парикмахерской какой-то бородатый с фотоаппаратом. Заснял бабочек, ну и писательница Дмитриева в кадр попала невзначай. Экий папарацци оказался проворный! Однако иметь свою фотографию в обскубленной прическе у Алёны не было ни малейшего желания. Она и в зеркало-то лишний раз теперь старалась не смотреть, утешалась только мыслью, что рано или поздно голова обретет прежний легкомысленно-пышноволосый вид. А увековечиваться в таком виде… Нет уж, спасибо, не надо. Даже странно, что фотограф ее узнал, в новой-то прическе! Что значит профессиональная память и профессиональный взгляд…
– Конечно, спасибо большое, я вам визитку дам, – сказала Алёна с искусственным воодушевлением в голосе, совершенно точно зная, что визиток у нее в сумке при встрече с фотографом не окажется, – и вы мне пришлете фотографии. Значит, через час около бабочек? Вас зовут-то как?
– Андрей Овечкин, – представился мужчина. – Кстати, туда еще две бабочки прилетели. Правда, не такие красивые, как прежние. Тех-то, прежних, кто-то стер, а рядом вот новых нарисовали. Какие только забавы люди себе не находят, да? Ну, до встречи!
Фотограф Андрей Овечкин положил трубку.
То же сделала и Алёна Дмитриева, писательница. Потом она еще немножко потыкала пальцами по клавиатуре, но дело не шло… Уже который день дело не шло – роман не писался, сюжет вырывался, как строптивый мустанг из рук ковбоя… Очень плохо, конечно, но она порадовалась, когда появилась приличная причина выключить компьютер и отправиться кормить того ненасытного зверюшку, имя которому было – Любопытство.
Алёна пришла первой и не замедлила убедиться, что Андрей Овечкин оказался прав. На месте первых двух бабочек на стене сейчас находилось размазанное сине-зеленое мутное пятно, однако рядом красовались две другие нарисованные летуньи. Одна была желто-красная, с черными, сиреневыми и белыми пятнами, полосками и овалами на крыльях. Другая оказалась мертвенно-голубовато-белая, с черными пятнами и голубовато-серой каймой крыльев. Прямо скажем, невыразительная бабочка. Первая еще ничего, но вторая убогонькая какая-то. Интересно, как она зовется? Может, Сева знает? Разве что пойти в «Мадам Баттерфляй» и спросить?
За спиной вдруг раздался щелчок, потом другой. Алёна оглянулась и увидела человека с фотоаппаратом, который деловито снимал стену и бабочек.
– Здрасьте! – оживленно воскликнул бородатый фотограф. – Вот и я! Как вам новые бабочки?
– Да так себе, – пожала плечами Алёна, поняв, что перед ней Андрей Овечкин. – Зачем первых стерли, не пойму. Как они там назывались… Зефир бриллиантовый и морфидей Менелай, он же сапфировая бабочка. Я еще вчера подумала, что эту серую стену не худо было бы всю расписать, куда веселей смотрелась бы.
– Точно, здорово было бы, – кивнул Андрей. – Кто знает, может, завтра и новых сотрут.
– Кто знает, – согласилась Алёна. Затем достала мобильник – недавно купленный, с фотоаппаратом, видеокамерой и еще разными всякими примочками, даже с выходом в Интернет! – и на всякий случай тоже сфотографировала бабочек.
– Да я пришлю вам фото, если хотите, – сказал Андрей. – Только вечером, у меня днем работы полно. Кстати, вот ваш список, в целости и сохранности.
Алёна развернула белый листок, сложенный вчетверо. Посмотрела – и аж в глазах зарябило!
Ап. – АлРжБяИчШАм
Кр. – крРчШИГржБ
Мн. – АлОбАк
Мен. – САлчШ
Гар. – АлИчШГр
Агл. – ПлтрАлжБчШорРкрР
Гек. – АлчШкрР
Ип. – чШжБорРГртИАл
Сф. – АмчШАлгСТур
Атр. – чШАлжБорРТоп
Зеф. – ИчШ
Да уж небось зарябит!
– А вы хоть понимаете, что все это значит? – усмехнулся Андрей, и Алёна подумала, что ее новый знакомый оказался мужчиной не без проницательности.
– Ни слова, – честно призналась Алёна. – И даже ни буквы. Но ничего, листок-то не мой, я его должна была одной даме передать, да обронила. Наверное, он ей нужен. Штука в том, что я не знаю ни где она живет, ни какой у нее телефон.
– Фамилию знаете? Имя-отчество? – деловито осведомился Андрей.
– Ну, знаю.
– А в адресное бюро не хотите съездить?
– Честно? – усмехнулась Алёна. – Не хочу. Та дама не слишком порядочно со мной обошлась, поэтому сильно бить ноги ради нее я не стану. Вот упал странный список с неба, в смысле, вы его принесли, – и очень хорошо. Теперь, если даме и впрямь судьба его получить, значит, получит. И я, кажется, придумала, как его передать.
– Как? – спросил Андрей, и Алёна подумала, что он тоже относится к особому подвиду людей, название коему «Варвара Любопытная». Ну и здорово!
– А пошли со мной – и узнаете, – усмехнулась она и направилась ко входу в парикмахерскую.
В холле перед высоким застекленным шкафом со множеством лосьонов, шампуней, кремов, лаков, бальзамов, красителей, гелей, пенок и прочих парикмахерских примочек стоял Сева и придирчиво разглядывал какой-то флакон. При виде Алёны он высоко поднял свои невероятные брови:
– Привет. Что, нового клиента к нам привели? – Затем экспериментатор повернулся к мужчине: – Вас постричь, побрить, сделать художественное обрамление бороды?
Услышав его слова, Андрей испуганно схватился горстью за подбородок и не слишком внятно пробормотал:
– Ничего мне не надо обрамлять. Я вообще здесь случайно. Сопровождающее лицо, так сказать.
– Слушайте, Сева, помните, дама здесь такая была, Наталья Михайловна? – взяла бразды правления в свои руки Алёна. – Ну, вы нам с ней еще про бабочек рассказывали…
– Конечно, помню, – кивнул Сева. – Кстати, вы видели новых бабочек на стене? Теперь там появились парусники – Аполлон и Мнемозина.
– Парусники? – изумился Андрей. – Вы про бабочек говорите? Или, может, там еще кораблики где-то нарисованы?
– Кораблики тут совершенно ни при чем. Парусники, морфиды, павлиноглазки, перламутровки, бражники, бархатницы – это виды бабочек. Внутри каждого вида есть еще подвиды. Ну вот, например, вид – парусники, подвиды – Аполлон и Мнемозина. Понятно?
– Уже понятно. Странно только, что у них у всех мифологические имена, – сказала Алёна.
– Так ведь очень многие бабочки называются по именам мифологических персонажей. Кого только нет! Прометей, Артемида, Эвриала, Медуза, Циклоп, Гектор, Парис, Приам, Менелай, те же Аполлон и Мнемозина, а еще Гарпия, Аглая…
– А Аглая – она чего богиня? – нахмурился Андрей, и Алёна посмотрела на него с симпатией: если не спросил, кто такая Эвриала, Гарпия и Медуза, значит, знаком с мифологией. Нечасто сейчас таких людей встретишь, тем более вот так, на улице.
– Аглая – одна из трех харит, или граций, – пояснила она.
– Точно, – кивнул Андрей. – Забыл. А еще были три сестры, которые пряли нить жизни, парки. Их звали Атропос, Клото, Лахесис.
– Ну и ну, – сказал Сева. – Уважаю! Вы, может быть, тоже бабочками интересуетесь? Я вот специально читал мифологический словарь, чтобы в их названиях разбираться.
– Да нет, я про бабочек ничего не знаю, – усмехнулся Андрей. – Я просто люблю картины, где древние боги и герои нарисованы. Ну и почитывал на досуге, кто есть кто.
– А я филфак заканчивала, – сообщила Алёна. – У нас там с мифологией строго было, зачет по античной не сдашь, если, не дай бог, перепутаешь Аталанту с Атлантом, Бризеиду с Гесперидами, Подалирия с Подаргой или имя какой-нибудь музы забудешь. Вот и въелось в память на всю жизнь. Впрочем, мы отвлеклись. Значит, вы помните Наталью Михайловну? Где она живет? Может быть, телефон ее знаете?
– А вам зачем? – Голос Севы стал подозрительным, и Алёна с горечью подумала, что, видимо, производит на людей впечатление не только легкомысленного, но и глубоко порочного, криминально опасного существа.
– Да мне кое-что передать ей нужно. Она некий список искала. Так вот он у меня.
– А… – сказал Сева, слегка успокаиваясь насчет преступных замыслов Алёны. – Ну, если передать, тогда конечно. Только я вам ничем помочь не могу, к сожалению. Мне лишь фамилия, имя и отчество клиентки известны – она же записывалась ко мне.
– Ясно, – огорченно протянула Алёна. – Знаете что, Сева? Если Наталья Михайловна один раз к вам записалась, то, может, и еще раз придет. – Сомнение, которым была пронизана эта фраза, она постаралась, как говорится, спрятать в самый глубокий карман. – И тогда вы передадите ей мою визитку и скажете, что я нашла список и прошу ее мне позвонить. Хорошо?
Она протянула Севе визитку, и тот легчайшей гримаской сопроводил впечатление от ее более чем скромного вида. В самом деле, это был просто жемчужно-серый прямоугольничек, по краю обрисованный тонкой извилистой линией, в центре которой курсивом было напечатано: Елена Дмитриевна Ярушкина, а также телефон домашний, телефон мобильный и e-mail. На обороте можно было прочесть: Алёна Дмитриева, писатель, и те же самые телефоны и e-mail. Сева прочел текст с одной стороны визитки, потом с другой и вслед за тем произвел умозаключение, делающее честь его умению мыслить логически:
– Если визитка ваша, то вы, значит, писательница, что ли?
– Типа да, – скромно сказала Алёна.
– Подтверждаю, – солидно изрек Андрей. – Детективы пишет. Неслабые, между прочим!
– Детективы я люблю, – томно сказал Сева и вздохнул.
Алёна отреагировала адекватно: сунула руку в сумку и достала две предусмотрительно прихваченные из дому книжки. Это были покеты ее довольно пикантного романа «Игрушка для красавиц», который – редкий случай! – нравился в равной степени как читательницам, так и читателям. Действие происходило в Париже, на фоне тамошних пейзажей, которые были хорошо знакомы Алёне Дмитриевой: три преуспевающие дамы (две француженки, одна русская) со страшной силой домогались молодого русского красавца, а кругом мерцали бриллианты, плелись интриги, звучали выстрелы, лились вино и кровь, соперником молчела в любви был крутой русский миллионер… Честно, хорошая книжка получилась, а потому Алёна подписала ее Севе и Андрею с чувством законной гордости.
– Детективщица, значит, – снова заговорил Сева, уже чрезвычайно приветливо. – Здорово! Тогда взяли бы да и написали детектив про бабочек.
– Про каких? – удивилась Алёна.
– Да про тех, которые на стене! Вот смотрите, и название уже есть: «Бабочка на стене».
– Название есть, – согласилась Алёна. – Но что же в них детективного?
– Как что? – воскликнул Сева. – Почему на стене рисуют бабочек? Кто рисует? Зачем? Почему именно на этой стене? Почему именно этих бабочек? Разве не детективные загадки?
– По-моему, самое тут детективное другое – вопрос: зачем их стирают! – усмехнулась Алёна. – Кому они мешают?
– А может быть, их стирает тот, кто рисует? – азартно спросил Сева, постепенно входя в роль Гастингса и доктора Ватсона в одном лице.
– Вряд ли, – с таким же азартом ответил вместо Алёны Андрей, явно готовый войти в роль Пуаро и Холмса. – Зачем губить плоды своих же усилий? Все-таки там не просто какое-то схематичное граффити, а очень тщательно нарисованная картинка, там каждое пятнышко так вырисовано, оттенки так подобраны!
– А я думаю, что рисунки – просто ерунда, на которой не стоит зацикливаться, – рассудила наша детективщица, взяв на себя роль инспектора Лестрейда, скептика из скептиков. – Ну, стерли, ну, нарисовали…
Сева только собрался заспорить, как к нему явился клиент – молоденький блондинчик с великолепными волосами цвета меда. При виде его Сева часто задышал, и глаза его повлажнели. Алёна попыталась напомнить о визитке и мадам Кавериной, однако было уже поздно: Сева явно ничего и никого не видел и не слышал, кроме нового клиента. Оставалось только надеяться на то, что, когда красавчик уйдет, он слегка опомнится.
1918 год
Спустя какое-то время (немалое, судя по тому, что солнце перекатилось на склон небосвода) она лежала головой на его плече, пахнущем жаром и солью, и думала, что, конечно, погубила себя. Да и ладно! Аглая не жалела, ни о чем не жалела, она была счастлива… и несчастна одновременно. Некое безошибочное чутье, родственное чутью животного или зверя, подсказывало, что ничего подобного больше не будет, что просто невозможно повторить такое… И слезы наворачивались на глаза не то от тоски (ведь больше не случится!), не то от благодарности судьбе (ведь случилось все же!).
Гектор чуть повернул голову, и губы его коснулись ее волос.
– Ты… ты одна такая…
Голос его звучал хрипло, загнанно, он тоже никак не мог отдышаться.
– Я даже не знал, что возможно такое… Я упал со звезд или вознесся на них? Ты спасла мне жизнь, ты… Если бы не ты… Я давно забыл слова молитв, но вспомнил их все, когда молился, чтобы ты спаслась. Я кружил тут, ждал. Когда увидел тебя – рассудка лишился от счастья. Кто ты, почему все – так? Откуда у меня чувство доверия к тебе, безоглядного доверия, хотя знаю, что ты мне солгала?
Аглая вздрогнула. Гектор почувствовал, как напряглось ее тело, и успокаивающе улыбнулся (улыбку она расслышала в его голосе):
– Я не обвиняю тебя. Я знаю, что уже видел тебя, говорил с тобой прежде, чем ты выскочила на меня на лестнице, а я только чудом удержал палец на спусковом крючке. Все, что ты тогда там говорила, мол, ты пришла в мой дом искать себе жилье, ведь была просто торопливая выдумка, верно?
Аглая помолчала. Она не могла больше врать Гектору, не могла оскорблять его недоверием. И начала почти с самого начала:
– Мой дом сгорел. Отец умер. Жить мне было негде, деньги кончились, работы нет. Я услышала случайно, что доктору Лазареву нужна кухарка, потому что его прежняя… – Она вспомнила востроносенькую Глашу и ее возмущенную реплику, которую и повторила слово в слово: – Потому что его прежняя кухарка сбежала с красной матросней.
– С красной матросней? – изумленно повторил Гектор. – Что, правда? Именно так?
– Не знаю, так говорили, – подала плечами Аглая. – И вот я пошла к доктору Лазареву наниматься. Поднялась к двери и вижу, что она не заперта. Я вошла. В прихожей никого, одни шубы на вешалке громоздятся да зеркало мерцает. – Аглая сморщила нос, вспомнив тяжкий нафталиновый дух. – Слышу, разговаривает кто-то: «товарищ комиссарша» да «товарищ комиссарша». Потом открылась дверь в какой-то комнате и пробежала маленькая такая горничная, как птичка, в наколочке кружевной и передничке. Меня она не заметила, а я не успела ее окликнуть. И взяло меня любопытство: что ж там за комиссарша такая? Заглянула в ту комнату, а там пусто. На стенах картинки висят, а на стуле – вещи. Необыкновенные, яркие! Я таких не видела никогда. Все красные. Я не удержалась. «Дай, – думаю, – примерю такое великолепие. Комиссарша у доктора в кабинете, горничная на кухне посудой гремит… Примерю, посмотрю на себя в зеркало – и положу обратно». Клянусь, я не собиралась ничего красть! Хотела только на минуточку…
Гектор снова коснулся губами ее волос, издав какой-то поощрительный звук, означающий, что он, как мужчина, вполне может понять некоторые невинные женские слабости, особенно касаемые нового платья.
Аглая приободрилась и продолжала:
– Я переоделась и побежала к зеркалу в прихожую. И тут вдруг звонок дверной затрезвонил. Я испугалась, что горничная прибежит и увидит меня, и открыла сдуру. А там – этот, в кожане, Константин: «Товарищ комиссарша, ваш автомобиль подан, а мы – ваша новая охрана!» Я хотела им объяснить, что они ошиблись, но они меня просто-таки вытащили на улицу, затолкали в авто, и мы понеслись. Честное слово, я пыталась им сказать, что я не комиссарша, но они меня не слушали. Потом, по разговорам, я поняла, что меня принимают за Ларису Полетаеву. Попыталась объясниться с Константином, но он выхватил револьвер. Я испугалась, что он меня просто пристрелит, поэтому и замолчала. Из-под прицела меня не выпускали до тех пор, пока не привели в твой дом и не посадили лицом к стене… Потом появился ты. Я не видела тебя, но потом, когда мы столкнулись на лестнице, сразу узнала твой голос. И стала плести всякую чушь: боялась, что ты убьешь меня, если сообразишь, что я – не Лариса Полетаева.
– Хоть ты и хрипела очень старательно, я все равно смутно чувствовал что-то знакомое, – сказал Гектор. – Однако ты стала совершенно неузнаваемой без куртки.
Он умолк. Брови сошлись к переносице… Он словно вмиг забыл об Аглае – лежал и думал, мучительно думал о чем-то своем.
Вернее, о ком-то, решила Аглая. Конечно, о Наталье! Та была ему – своя, а Аглая – чужая, случайно встреченная женщина. Он даже имени ее не знает – так же, как она не знает о нем ничего, кроме клички Гектор. Как его зовут на самом деле? Проще всего спросить, но еще не факт, что он ответит. С чего бы ему открывать свои тайны какой-то незнакомой женщине, пусть даже она спасла ему жизнь, пусть даже отдала ему всю себя? Да ну, пустяки, в романах пишут, что для некоторых мужчин забрать у девушки ее девичество – самое обычное дело. Для Гектора это тоже мало что значит, вот почему он так мгновенно ушел в себя, замкнулся отчужденно. И Аглая должна понять его настроение, должна встать и уйти первой, чтобы избавить себя от унизительной сцены, когда он скажет: «Мне пора!» – а она не сможет удержать горя и, не дай бог, слез. Нет, надо уходить, и уходить первой!
Но куда? Как она доберется до города? Донесут ли ее ноги? Ужасно хочется есть…
– Слушай, – вдруг заговорил Гектор, – да ведь ты, наверное, есть хочешь? Я и сам с голоду умираю. Только неизвестно теперь, когда поесть удастся. Да и удастся ли вообще, – криво усмехнулся он. – Ты замерзла? Дрожишь вся.
Она задрожала, когда он сказал: неизвестно, удастся ли поесть вообще. Она ведь и забыла, что за ним идет охота! И красные, и анархисты – все его ищут. А она тут со своей внезапной любовью…
«Я его люблю! – изумленно поняла Аглая. – А он… Он любит Наталью или не любит? Неважно. Она его жена, у них ребенок. Мне в его жизни места нет».
Гектор встал, обошел тот самый серый камень и дернул за чахлый куст, росший у его острого края. Куст очень охотно вылез из земли, и открылась ямина, в которой лежало что-то, завернутое в облезлую кухонную клеенку. Гектор развернул ее – внутри оказался вещевой мешок. Весьма убогий холщовый мешок, перетянутый у горловины той же веревкой, которая служила и лямкой. Такие мешки назывались «сидоры».
Гектор развязал веревку и вытряс из сидора простую черную тужурку, которой мигом накрыл плечи Аглаи, вытащил ковригу хлеба и большую бутылку с водой. Достал из кармана нож, ловко нарезал хлеб, подал Аглае огромный ломоть.
– Можно было бы костер развести, пошукать по ближним огородам картошки да напечь, но у меня спичек нет. Обронил где-то коробок, а жаль… Придется хлебушком обойтись. Не бог весть что, но можно подкрепиться. Здесь неподалеку сады. Хочешь, я пойду поищу тебе яблок?
Аглае хотелось яблок, но было страшно хоть на миг расстаться с Гектором. Поэтому она только покачала головой – не хочу, мол, – и с наслаждением откусила хлеба. Он был черствый, но очень вкусный. Или так с голоду кажется? В романах пишут, что любовные волнения должны лишать аппетита, но у Аглаи все было наоборот. И вода какая-то… особенная.
– Жаль, соли нет, – сказал Гектор. – Хлеб с солью – совсем другое дело. Куда вкусней!
И зевнул. Аглая не смогла удержаться и немедленно начала зевать тоже.
– Знаешь, как говорят – хлеб спит, – засмеялся Гектор. – Да, сейчас поспать бы… – Он покосился лукаво, но тотчас помрачнел: – Нет, нам пора. Я отвезу тебя в город. Верхом быстрей, чем пешком.
– Что? Тебе нужно в город? Мы поедем вместе? – обрадовалась она.
– Только до окраины. Там расстанемся. Я еще не нашел то, что должен найти, не узнал то, что должен узнать.
– Бабочки Креза? – с горечью спросила Аглая. – Ты ведь их должен найти?
Гектор так и вскинулся:
– Откуда ты знаешь?
– Да ты меня сам сегодня о них спрашивал, когда думал, что я – Лариса Полетаева, – вздохнула Аглая.
– Ах да, – виновато кивнул Гектор, – я и забыл… Глупо как. Я все-таки ужасно тупой. Бабочки Креза, бабочки Креза… Правда, все дело в них.
– Что ж за бабочки такие?
– А ты раньше о них когда-нибудь слышала?
– Нет, никогда.
– Тогда лучше тебе о них не знать. Мне кажется, они приносят несчастье всем, кто не только прикасается, но и узнает о них.
– Они ядовитые? – испугалась Аглая. – Кусаются?
– Это не настоящие бабочки, – усмехнулся Гектор. – Они… они лежат себе в шкатулке, и шкатулку ищут все. Я, Хмельницкий, Гаврила Конюхов – так рыжего матроса зовут. Еще и другие ее ищут. Думают, будут счастливы, если найдут. Нет, счастья она не приносит, только горе.
– Что-то вроде шкатулки Пандоры, что ли?
– Гораздо хуже, – покачал головой Гектор. – Один только слух о том, что в ней скрыто, сводит людей с ума, заставляет их идти на преступление, предавать самых близких людей.
Глаза Гектора были мрачны, тени шли по лицу. Аглая подумала, что он говорит о себе. Как он сказал там, во дворе? «Бабочки Креза будут доставлены тем, ради кого я в свое время их украл». Он пошел на преступление ради этих бабочек, ради них пытался похитить Ларису Полетаеву, ради них бросил у Хмельницкого Наталью и сейчас должен расстаться с Аглаей… Наверное, навсегда!
– Ну, видимо, бабочки и в самом деле великие сокровища, если они заставляют людей терять рассудок! – пробормотала она с горечью.
– Сокровища… – повторил, небрежно передернув плечами, Гектор. – В самом деле, их стоимость около миллиона золотых рублей. Но главное не в том. Главное, что в бабочках заключена моя честь.
– Твоя честь? – изумленно переспросила Аглая. – Как такое может быть? Ты говорил, что украл их, но какая же честь в том, чтобы…
– Чтобы украсть? – испытующе поглядел Гектор. – Ты слышала когда-нибудь слова о том, что цель оправдывает средства?
– А то! – обиделась Аглая. – Макиавелли фраза, кто же ее не слышал?
– Думаю, не слышали многие, – усмехнулся Гектор. – Но столь же многие живут по его принципу, не подозревая о нем. Знаешь… мы сейчас расстанемся и, наверное, не увидимся больше никогда. Но… Ты значишь для меня так много! Пусть только сейчас, только сегодня… однако что делать, если вся моя жизнь сведена к словам «сейчас» и «сегодня»! И я не хочу, чтобы ты подумала, будто я обыкновенный воришка, грабитель и убийца. Поэтому расскажу все, как было, а ты суди сама… Еще лучше – не суди, а попытайся понять.
…На рубеже прошлого века жил человек по кличке Крез. Он и в самом деле был очень богат, потому что был невероятно удачливым вором. Крал он только драгоценные камни. Крал сам и скупал краденые. И постепенно накопил их немалое количество. А еще он любил бабочек. Собрал огромную коллекцию, платил огромные деньги, чтобы купить редкий экземпляр. Но ему приходилось скрываться, жить под чужими именами, а потому свои коллекции он не мог с собой возить. И очень страдал от разлуки с ними. Тогда он велел одному нижегородскому ювелиру – к тому времени Крез тайно перебрался в Нижний – сделать бабочек из драгоценных камней, но не просто как тому в голову взбредет, а строго по рисункам из энтомологических энциклопедий. Наконец коллекция была готова, в ней было одиннадцать бабочек. Очень больших – каждая величиной в четыре-пять дюймов в размахе крыльев! Причем это были бабочки, названные по именам мифологических персонажей – Крез решил составить достойную компанию своему имени. Там были бабочки Крез, Аполлон, Сфинкс, Ипполита, даже Гектор! – Он усмехнулся. – И еще разные другие. Парусники, перламутровки, павлиноглазки, махаоны, бражники… Вообрази, сколько драгоценностей на них ушло. Каждая бабочка – целое состояние! Постепенно о них распространились слухи, слова «бабочки Креза», «коллекция Креза» стали нарицательными, как бы синоним баснословной красоты и богатства. Крез был пожилым человеком, но авторитетен между ворами. Его уважали, к его советам прислушивались. Слухи о нем шли по России, но никто не знал, где он хранит свою коллекцию. Шло время, он сделался стар и болен, почти обезножел – у него развилась такая подагра, которая порой лишала его возможности двинуться с места. И вот в четырнадцатом году, когда началась война с Германией, в Нижний во время последней ярмарки, куда, чтоб ты знала, собирались не только торговцы, но и воры со всей России, приехал из Варшавы некий человек, которого звали Витя Офдорес. Так его все и называли – не Виктор, а Витя. Приехал он как коммивояжер – продавать на ярмарке образцы некоего средства от подагры. Только это было чистое шарлатанство, он просто грабил своих пациентов и клиентов. Говорили, Витя необыкновенный артист, мгновенно входил в доверие к каждому, потому что с ворами был вор, с купцами – купец, с офицерами – офицер. Женщины за ним бегали как сумасшедшие, потому что он был красавец. Но еще больше, чем женщины, за ним охотилась полиция. Но в Нижнем Офдорес залег на дно. Потом стало известно, что он каким-то образом подобрался к Крезу и вкрался к нему в доверие. Якобы его шарлатанское снадобье, которое было просто смесью керосина и лампадного масла, приносило облегчение больным ногам старика. Будто бы тот даже начал снова ходить. И вот прошел слух, что Крез умирает. Воры собрались на свою сходку и постановили: поскольку Крез одинок, ни семьи у него, ни детей, он должен оставить своих знаменитых бабочек кому-то из воров, а еще лучше – поделить между всеми…
– Не иначе, среди них были большевики! – засмеялась, перебив рассказчика, Аглая. – Все взять и поделить – как раз их идея. Смех, да и только!
– Ничего смешного, – продолжил повествование Гектор. – Когда начались такие разговоры, встал Витя Офдорес и сказал, что нечего талалы разводить, Крез уже выбрал себе наследника – его. И показал собственноручно написанное Крезом письмо, где тот это подтверждал. Кто-то смирился с волей Креза, кто-то – нет. Начались разборки. На Витю Офдореса пошла охота, но добраться до него оказалось практически невозможно, прежде всего потому, что он вел дружбу с большевиками. Причем с давних времен! В их партии много откровенных люмпенов, вот и Витя Офдорес был таким. Уже шел февраль семнадцатого, ты помнишь то кошмарное время.
– Да, конечно, помню! – кивнула Аглая с горечью.
– В стране царило почти полное безвластие, – продолжал Гектор. – В Нижнем, естественно, тоже. Полиция действовала из рук вон плохо, да еще ей мешали различные комитеты и партийные ячейки, которыми был наводнен город. Сормово кипело. Рабочих словно дикий, бешеный хмель обуял. Не зря нынче прозвучало имя Оськи Хмеля! Ведь именно в Сормове делал свою гнусную большевистскую карьеру Хмельницкий. Но однажды его чуть не схватили. Помог ему скрыться некий господин, а может, и гражданин, то есть товарищ, Орлов. Это был не кто иной, как Витя Офдорес. Он, видишь ли, решил выправить себе новые документы на русскую фамилию. Трудностей у него не было никаких, изготовителей фальшивых бумаг он знал множество.
– Красивую, однако, выбрал фамилию, – сказала Аглая. – Она бы тебе подошла. Ты в профиль на орла похож. Или на коршуна. На хищную птицу, словом.
– Станешь тут похожим на хищную птицу, от такой жизни! – криво усмехнулся Гектор. – И все же я не Орлов. У меня другая фамилия. Но она тут неважна. Знаешь, лучшим другом моего отца был адвокат-еврей. Он часто шутил: в этой жизни, мол, везет только тем, кто носит фамилии Голд, Берлянт или Шмок! Голд по-еврейски золото, берлянт – бриллиант, шмок – то же самое на идиш. Если учитывать, что я столько сил и жизней положил ради чертовых бабочек Креза, мне бы очень пристало зваться Берлянтом. Или Голдом. Ведь золота в них тоже много – лапки, каркасы крылышек…
– А все же почему именно Орлов? – спросила Аглая.
– Ну, с одной стороны, все очень просто объясняется, а с другой – хитро, – усмехнулся Гектор. – Оф дорес по-еврейски значит – хищная птица. Конечно, хищных птиц много. Витя выбрал именно орла потому, что унаследовал бабочек Креза, в которых было много уникальных бриллиантов. А в царском скипетре был укреплен знаменитый бриллиант «Орлов», некогда подаренный Григорием Орловым императрице Екатерине. Он ведь тоже был помешан на драгоценностях, так же как и Крез. Вот такая связь. Впрочем, новая фамилия Вити не играет никакой роли.
Рассказчик умолк на минутку.
– Итак, Орлов… Нет, я не могу называть его новым именем. Офдорес – он и есть Офдорес! Итак, Офдорес спрятал Хмельницкого. Очень странный шаг, да? Но Витя вообще непростой человек. О нем ходили самые невероятные слухи: то говорили, что он был осведомителем полиции, то что сотрудничал с большевиками и даже финансировал какие-то их аферы… Я в то время мало бывал дома, тоже был опьянен грядущим переворотом… – На лице Гектора мелькнул стыд. – Тогда мы не знали, во что большевики превратят Россию. Я проклинаю себя за то, что наша партия помогала им! Но вот настал Октябрь, и воцарилась новая власть. Хмельницкий оказался в числе самых значительных лиц губернии. И первое – первое! – что он сделал, это устроил облаву на Офдореса. Витю травили, как бешеного пса. Я был тогда в Нижнем и все видел. Думаю, несколько тысяч человек участвовали в операции, преимущественно отряды рабочих боевиков, пригнанные из Сормова. Были также красноармейцы, преданные Хмельницкому красные латыши, которые орудовали тут вовсю, были матросы. Офдорес просто не мог уйти! И не ушел. Его схватили, а при нем были бабочки Креза.
Аглая тихо ахнула.
– Офдорес ожесточенно сопротивлялся и был застрелен. Тело его сбросили в Волгу. Хмельницкий мог торжествовать победу. Он жил тогда в доме одного из бывших нижегородских воротил на Верхне-Волжской набережной, ел и спал, не выпуская из рук шкатулки с бабочками. Дом находился под самой строгой охраной, семью хозяина, разумеется, выселили. Хмельницкий находился в доме один – он никому не доверял. Могу себе представить, какие его одолевали муки! Ведь весь город знал, что он завладел знаменитыми драгоценностями. Стало о том известно и в Москве, и в Петрограде. Хмельницкий попался в ловушку собственной удачи и теперь никак не мог утаить бабочек для себя. Он метался по дому, как зверь в клетке, и тень его металась по занавескам.
– А ты откуда знаешь? – остро глянула на него Аглая.
– Наблюдал за ним, – просто сказал Гектор. – Видишь ли, дом моего отца стоял по соседству с тем зданием. Я знал, что утром особая комиссия ювелиров должна приступить к описи бабочек, я и не сомневался, что Хмельницкий непременно попытается обокрасть свое любимое государство рабочих и крестьян и утаить для себя хотя бы часть сокровищ. Но я не дал ему такой возможности. Перед рассветом, около четырех утра, я забрался на крышу и проник в дом через каминную трубу.
– Только не говори, что дом того богача строил тоже ты! – всплеснула руками Аглая.
– Хорошо, не скажу, – усмехнулся Гектор. – Я и в самом деле не имел к его строительству никакого отношения. Но мой отец был самый знаменитый в Нижнем инженер-печник и знаток каминного дела. У него хранились чертежи отопительных систем очень многих домов. Я нашел то, что мне нужно, и сделал то, что был должен сделать.
– А Хмельницкий видел тебя?
– Разумеется, нет, хотя это угнетало меня. Ведь я хотел конфисковать у него драгоценности как представитель своей партии! А поступил как обычный вор: вылез из камина, оглушил его, связал, забрал шкатулку с бабочками и исчез тем же путем, каким пришел. Правда, я оставил записку, мол, сокровища пойдут на борьбу против большевиков. Я хотел отвезти камни в Москву, Марии Спиридоновой, нашим товарищам, чтобы закупать оружие, организовывать отряды сопротивления режиму, который становился все более пугающим и жестоким. Драгоценности должны были обеспечить успех нашего переворота. Но мне не повезло. В ту минуту, когда я спускался с крыши, меня заметил охранник и подстрелил. Я убил его и смог добраться до дому, но рану мою было не скрыть. Отец… отец пришел в ужас, и мне пришлось довериться ему. Но он не мог оставить меня в доме раненого, потому что опасался предательства прислуги, и тайком увез в деревенский дом, ты помнишь его. – Гектор усмехнулся. – О его существовании мало кто знал. Однако мы боялись, что на нас набредут патрули, какие-то красные отряды, которые шатались ночью по городу и окрестностям, грабя все, что попадалось на пути. Мы не взяли с собой коллекцию, а спрятали ее в нашем городском доме (там было меньше тайников, чем в загородной усадьбе, но тоже немало, преимущественно в двойных стенках печей и каминов – отец любил устраивать их, от него я и унаследовал эту любовь). Мы не сомневались: никто не узнает о том, что я замешан в ограблении Хмельницкого, поскольку находился в Нижнем на нелегальном положении.
Настало утро. По городу разнесся слух о том, что на представителя Советской власти совершено нападение бандитами, то да се. Хмельницкого не поставили к стенке только потому, что он в свое время оказал очень ценные услуги Троцкому, вот тот и приложил все усилия, чтобы приглушить шум. Распустили слухи, будто стоимость украденного не столь уж велика, так что беспокоиться не о чем. Прошло несколько дней. Мы с отцом носу не показывали в город, он уволил всю прислугу и распустил слух, что уехал в Арзамас, где у нас тоже был дом. На самом же деле мы отсиживались в деревне. Кроме нас, там жили старая кухарка Ольга Трофимовна Селезнева и ее внучка Наташа.
Аглая подавила вздох. «Наташа…»
Гектор между тем продолжал:
– Двум женщинам мы доверяли безоговорочно, они были почти родные нам люди. Ольга Трофимовна помнила еще моего деда, обожала и отца, и меня. Наталья была незаконнорожденной, мать ее, так же как и моя, умерла от родов. Она была мне в детстве вроде младшей сестры, потом я заметил, что она влюбилась в меня.
– А ты? – не удержалась от вопроса Аглая. И тотчас отругала себя за неуместное любопытство.
Гектор угрюмо смотрел в медленно меркнущую голубизну небес.
– Я не знаю. Она была такой смешной и тощей девчонкой… а потом стала красавицей. Разумеется, я не без глаз и видел, как она хорошела с каждым днем. Но мне было… честно говоря, мне было не до нее! За Наташей ухаживали какие-то молодые люди, даже господа, а я… Меня вечно не было дома. Я тонул в своей работе, в своей борьбе. Нужно было нечто большее, чем просто смазливое личико, чтобы обратить меня к мыслям о любви, о женщине. Мои друзья, Костя и Федя, – он перекрестился, – называли меня схимником, монахом. Я не монах, ты знаешь, но Наталью не замечал очень долго… Но сейчас речь не о том. Из города до нас с отцом доходили только слухи, поэтому уж потом, через несколько месяцев, я восстановил примерную цепочку событий.
К Хмельницкому однажды тайно явился… не кто иной, как Витя Офдорес. Да-да, он самый! Оказывается, он не погиб, не утонул, а выплыл и выжил. Подозреваю, что Хмельницкий и помог ему спастись, что облава с самого начала была сложной интригой. Очень может быть, что у них были какие-то планы относительно того, как все же спрятать бабочек Креза от загребущих лап новой власти, но им помешал я, украв коллекцию. И вот сошлись два интригана, два очень хитрых человека, которых я ограбил, сошлись – и стали думать, кто мог устроить им такой афронт. Витя Офдорес был большим мастером дурачить полицию, а еще он кое-чему научился у следователей. И конечно же, он умел мыслить логически. Витя перечел мою записку и спросил у Хмельницкого, кого из эсеров Нижнего он знает. Тот назвал нескольких человек – в том числе и меня. Офдорес начал выспрашивать про каждого – и узнал, что мой отец живет по соседству, что он инженер отопительных систем. А грабитель-то появился из камина… Офдорес сделал единственный правильный вывод. В ту же ночь наш городской дом был подвергнут самому тщательному обыску. Ничего не нашли. Нас там не было – иначе убили бы, конечно. Тогда дом подожгли. Хмельницкий поджег, о чем я узнал только сегодня.
– Почему? – не поняла Аглая. – То есть я хочу спросить, как ты узнал.
– Когда он требовал, чтобы я вышел, он крикнул: «Если тебя не будет, через пять минут я пристрелю твою девку, а дом подожгу. Спалю его дотла, мне не привыкать!» Я видел его гнусную ухмылку. Этих слов, этой ухмылки мне было вполне довольно… Раньше-то я думал, что этот поджог – дело рук Вити Офдореса, сиречь Орлова. А впрочем, неважно. Итак, наш дом сожгли. А потом Офдоресу пришло на ум, что печник непременно устроит тайник в печной трубе. Посреди пепелища торчали закопченные камни да трубы. Их разрушили – и шкатулку с бабочками Креза нашли…
Гектор перевел дыхание.
– Это известие привез мне отец. Он сам видел разрушенную трубу – ту, в которой была спрятана шкатулка. Отец не выдержал зрелища спаленного дома, где жили его отец, дед, он сам, моя мать, я… Он слег и через несколько дней умер. И я понимал, что отчасти виновен в его смерти, что если бы не моя одержимость…
У Гектора прервался голос.
Аглая потянулась было к нему, но он выпрямился и встал:
– Не говори ничего, ладно? Не утешай меня. Довольно того, что в одну из таких минут слабости меня взялась утешать Наталья, и я… И я захотел утешиться. А потом бабушка ее умерла от тифа, ну и так вышло, что ближе меня у нее никого не осталось. А у меня – никого, кроме нее. Впрочем, у Натальи есть еще тетка в Нижнем, у нее и живет сейчас наша дочь.
– Как ее зовут? – спросила Аглая, стараясь говорить как можно безразличней.
– Ларисой. Наталья очень любит «Бесприданницу» Островского. А мне имя напоминает о Ларисе Полетаевой. Черт ее дери!
Гектор резко махнул рукой, и Аглая ощутила, что ее сковал холод. Нет ничего более глупого, чем ревновать этого человека, но все же она ревновала. До боли.
– Дело не в моих переживаниях, – продолжал Гектор, – а в том, что все жертвы оказались напрасными. Время шло, а Хмельницкий по-прежнему сидел в Нижнем. Я следил за ним и понимал: шкатулки Креза у него нет. Сокровище исчезло вместе с Витей Офдоресом. Где он, куда уехал – неведомо. До последнего времени я был убежден, что шкатулка пропала вместе с ним. Но вот уже месяц, как в Нижний перебралась Лариса Полетаева. Мои люди следили за ней и за теми местами, где она бывала. Она вела себя, как светская дама из того самого «мира насилья», который она и ее подельники так неистово разрушали: парикмахерская, домашние ателье, кабинеты лучших дантистов и косметологов, кабаки, танцзалы… Последних в городе один или два, не запрещены они только потому, что их посещает Лариса Полетаева. Она заставила снова открыть водяную лечебницу и ездила туда принимать грязевые ванны. Всю грязь извела, сутками в ней сидела! У нее какое-то врожденное тяготение к любой грязи… – с изумлением развел руками Гектор. – Потом в городе обосновался модный массажист Лазарев, и Лариса зачастила к нему. Собственно, мне неважно ее времяпрепровождение. Важно другое: я убежден, что она знает, где шкатулка с бабочками Креза, поэтому…
– Почему? – перебила Аглая. – Если бы сокровища оставались у Хмельницкого, ясно, он мог бы сказать ей. Ну а если их забрал Офдорес? Какая связь между ним и Ларисой?
– Именно такая, что Лариса испытывает инстинктивную потребность не только в лечебной грязи, – жестко ответил Гектор. – С каким только отребьем не общалась она в Москве, в Питере, за границей! Кроме того, она немалое время прожила в Варшаве, налаживала там какие-то дела по печати. Офдорес явился из Варшавы. Помнишь, я говорил, что он был связан с большевиками? Очень может быть, что они знакомы с Ларисой… Да я почти уверен! Что-то подсказывало мне: Лариса должна знать и об Офдоресе, и о бабочках. Я видел единственный способ узнать все: похитить Ларису. Однако здесь она все время находилась под охраной анархистов… Ты видела компанию, которая явилась с ней?
– Хм, их трудно было не заметить.
Гектор холодно усмехнулся:
– Теперешний любовник Ларисы – Гаврила Конюхов, главарь нижегородских анархистов. Он с нее глаз не спускал, всюду таскался за ней, – продолжал Гектор. – Как верный пес караулит хозяйку у порога лавки, так Конюхов караулил Ларису в приемной парикмахера, врача, портного, дантиста… И только в квартиру доктора Лазарева он не поднимался никогда, оставаясь ждать в автомобиле. Черт его знает почему. Наталья говорила, что вроде бы у Ларисы с Лазаревым роман… неведомо, только ли массаж он ей делал или порою просто… – Гектор выразился очень коротко и грубо, однако Аглая не обратила на его слова никакого внимания, так была удивлена.
– Наталья говорила? А она тут при чем? Как она попала к Лазареву?
– Наталья откуда-то узнала, что массажист ищет кухарку. Он страшно привередлив в еде, вечно меняет кухарок – то одно ему не так, то другое не эдак… И по моему заданию Наталья пришла к нему наниматься. Лазарев ее принял на работу, она следила за Ларисой, все шло хорошо, мы узнали, в какие дни и в какое время появляется Лариса, как надолго остается в кабинете. На сегодня было назначено похищение. Накануне Наталья сообщила доктору, что увольняется, потому что замуж выходит. Мне нужна была ее помощь в деревне. Откуда пошел слух, что она с красной матросней спуталась и сбежала, я уж не знаю, может быть, сам доктор его распустил, может, горничная. Да это не суть важно. Сегодня Константин и Федор напали на Гаврилу сзади – ведь лицом к лицу с ним не больно сладишь! – оглушили и связали его, спрятали в подворотне. Я нарочно дал приказ – не убивать его. Анархисты не союзники большевикам, а только их временные попутчики, они могут быть полезны нам, эсерам, если провести с ними подобающую работу. Самое трудное состояло в том, чтобы убедить Ларису сесть в авто с другой охраной… мы решили в случае чего связать ее. Однако связывать не пришлось, – усмехнулся Гектор, – потому что вместо нее…
– Потому что вместо Ларисы появилась я? – покачала головой Аглая. – Бог ты мой, только теперь я понимаю, как же я тебе навредила, как все испортила!
– Не вини себя, – легко сказал Гектор. – Беда в том, что Константин и Федор раньше не видели Ларису в лицо. Накануне в случайной перестрелке с патрулем погибли двое наших товарищей, которые следили за ней и хорошо знали ее. Пришлось послать других, которые… приняли оперение за птицу. Ошибка оказалась роковой. Я не понял подмены сразу, потому что старался не попасться пленнице на глаза – не хотел, чтобы Лариса вспомнила меня. Но…
Гектор вдруг осекся, в глазах мелькнуло мучительное выражение.
И Аглая поняла, о чем он подумал. Сама она догадалась только что, но ведь он не мог не думать об этом с тех самых пор, как узнал, что в его дом привезли не Ларису Полетаеву! Может быть, ей следовало пожалеть его и промолчать. И, может быть, она пожалела бы его и промолчала, если бы… если бы не догадалась, что он стал жертвой самого подлого и самого низкого предательства. Ведь предал его, как поняла сейчас Аглая, человек, о котором он сказал: «Так вышло, что ближе меня у нее никого не осталось. А у меня – никого, кроме нее».
– Ты старался не попасться пленнице на глаза… – заговорила девушка и сама поразилась, как хрипло, страдальчески звучит ее голос. Она страдала оттого, что принуждена причинить Гектору боль, но должна была остеречь его. А может быть, даже и спасти. – Ты старался не попасться на глаза пленнице, которую считал Ларисой, – повторила Аглая. – Константин с Федором не видели ее раньше и клюнули на комиссарскую обертку. Но среди вас был человек, который совершенно точно знал Ларису Полетаеву в лицо, который встречался с ней не раз, который следил за ней по твоей просьбе. Этот человек должен был с первого взгляда понять, что я – не она. Этот человек должен был предупредить тебя!
Гектор опустил голову.
Значит, и правда думал о этом же…
– Теперь я вспомнила, как Наталья смотрела на меня в первую минуту, – тихо сказала Аглая. – Она еле удержалась, чтобы не вскрикнуть: «Что вы тут делаете?» Но все же удержалась. Так почему она не предупредила тебя?
– Ну, может быть, ей стало тебя жаль? – глухо сказал Гектор, отводя глаза. – Она побоялась, что я убью тебя, если узнаю, что ты не Лариса.
– А ты убил бы?
Он вскинул голову:
– Нет. Я и Ларису-то не собирался убивать, клянусь.
– Верю, – отозвалась Аглая. – Однако ты велел Наталье держать меня на прицеле. И она послушалась. Под дулом ее обреза я переодевалась. У Натальи так и плясал палец на спусковом крючке, я чувствовала, что при малейшей попытке с моей стороны ослушаться она выстрелит, выстрелит в меня! На ее лице была такая ненависть…
– Она ненавидела тебя за то, что ты сломала нам весь наш замысел, – сказал Гектор, но в голосе его не было уверенности.
– В самом деле? – зло бросила Аглая. – И все же она сдержалась, не выстрелила. Думаю, вовсе не из жалости ко мне. А потому, что тогда ты, увидев меня мертвой, сразу догадался бы: я не Лариса. Даже если бы она выстрелом изуродовала мне лицо до неузнаваемости, нас не перепутаешь. У Ларисы волосы другие. И сложение у нас разное. Ты догадался бы, если бы присмотрелся к трупу. Наталья наверняка убила бы меня, но в подполье, когда мы должны были бежать. Там, в темноте, ты не разглядел бы подмены.
– Но потом-то я все же узнал бы, что Лариса жива, – глухо возразил Гектор, но глаз не поднял.
И опять Аглая поняла, что он думает о том же, о чем думает она.
– Потом? – с горечью повторила она. – А ты уверен, что у тебя было бы это потом? Откуда, каким образом Хмельницкий мог узнать, куда доставили Ларису? Почему он явился так быстро? Я знаю, ты можешь предположить, что кто-то из тех часовых на городской заставе сообщил Хмельницкому, в каком направлении проехал автомобиль Ларисы. Ну и что? Проехал да и проехал. Никакой вести о похищении комиссарши Полетаевой не разнеслось – ведь она не была похищена. А Хмельницкий заведомо явился спасать ее! Он не сомневался, что Лариса должна быть в доме, и даже удивлялся, что она бежала. Выходит, Хмельницкий знал о твоем плане. От кого? Если бы на него работали Федор или Константин, их не убили бы. Предатель думал бы прежде всего о своем спасении, а они погибли, пытаясь спасти тебя. Тогда кто сообщил Хмельницкому?
Гектор вскинул на нее глаза, словно молил о пощаде, но Аглаю в ее ревнивом обличительном раже было уже не остановить.
– Ой, только не говори мне, что Хмельницкий собирался застрелить Наталью, если ты не выйдешь! – Она даже ладони выставила вперед, как бы защищаясь от его возможных слов. Но тут же испуганно прижала их к груди, потому что Гектор вдруг надвинулся на нее и рявкнул:
– Хватит! Довольно! Замолчи! Я все уже и сам понял! Понял, какой был идиот! Понял, что меня предали! Помнишь, Хмельницкий крикнул: «Я знаю, что ты здесь, затаился в каком-нибудь из своих проклятущих тайников!» Никто не знал о тайниках в доме. Ни одна живая душа. Кроме Натальи. Еще тогда у меня мелькнуло подозрение. А потом появилась Лариса с анархистами…
– Вот именно! – не выдержала молчания Аглая. – Как они все могли догадаться, куда ехать? Только если заранее знали путь. И потом, помнишь, ты сказал Ларисе, чтобы она отпустила Наталью, ведь та помогла ей бежать. Ты все еще предполагал, что Ларисе удалось уйти через подпол. А она вытаращила глаза и закричала: «Бежать? Да вы тут все с ума посходили!» Она ничего не понимала. А потом закричала: «Она меня раздела, ограбила, предала!» Я еще тогда подумала: вот странности, почему Лариса убеждена, что ее вещи из приемной доктора Лазарева украла именно Наталья? Ведь знает, что кухарка ушла от доктора некоторое время назад… И слово «предала» прозвучало не случайно. Лариса страшно озлобилась против Натальи, а такое могло произойти только в одном случае: если Наталья по какой-то причине была с Ларисой заодно. Ты находился в убеждении, что используешь Наталью, дабы похитить Ларису, а на самом деле Лариса была в курсе всей интриги и ужасно разозлилась, что дело не так пошло. Она плела свою интригу. И какова была ее цель, как ты думаешь?
Гектор молчал. Страдание и боль исчезли с его лица. Оно было ледяным.
– Какой страшный у тебя ум, – заговорил он наконец. – Ледяной и безжалостный. Кто сказал, что женщины слабы и беззащитны?
Аглая уставилась на него испуганно. У нее – ледяной и безжалостный ум? До сей минуты она и не подозревала, что у нее вообще есть хоть какой-то ум!
Губы Гектора искривились в сардонической ухмылке:
– Человек, который так сказал, ничего не понимал в женщинах. Я – как несчастный, неопытный фехтовальщик, против которого вышли три сильных противника, причем совершенно невозможно ни предсказать выпад хоть кого-то из них, ни понять причины, по которым они бьются именно так, а не иначе. И самое смешное, что все они – вроде бы как беспомощные женщины… Значит, мне не спастись.
– Погоди-ка, – сказала Аглая. – Против тебя вышли три противника-женщины? А ты уверен, что хорошо посчитал? Одна – Лариса, другая – Наталья, а третья-то кто же? Или я о ком-то просто еще не знаю?
– Ну отчего же, думаю, ты о ней знаешь, – невесело усмехнулся Гектор. – Потому что третий мой противник – ты.
Он сунул руку в сидор и достал оттуда револьвер.
– Да, ты, – повторил Гектор со вздохом.
* * *
– Ну, мне пора, работа ждет, – сказал Андрей на улице, когда они с Алёной вышли из парикмахерской. – И, между прочим, не где-нибудь, а в Музее живых бабочек.
– О господи, вот так совпадение! – изумилась наша героиня. – Неужели и такой музей есть?
– Открылся недавно рядом с Покровкой, напротив парикмахерской «Фэмили». Знаете, на Пискунова…
– Да что вы говорите? – вскричала Алёна. – Я же туда каждую неделю хожу маникюр делать, но никакого музея не видела.
– Он в подвале находится, почти не разглядишь, вот о нем никто и не знает. Они и попросили меня постеров им наделать, чтобы себя разрекламировать. Хотите, пойдемте со мной? Там красиво. Цветы, растения тропические, а среди них летают огромные бабочки…
– Да нет, спасибо за приглашение, – отказалась Алёна. – На самом деле я к бабочкам совершенно равнодушна. И вообще, мне не до них, мне работать надо!
Они простились, причем Андрей выпросил-таки у нее визитку и пообещал отправить фотографии по электронной почте сегодня же, когда вернется из музея. Алёна пошла домой, однако от мыслей о бабочках почему-то никак не могла отвязаться. Может, и правда написать на эту тему романчик? Хотя, если честно, ее, как детективщицу и отчасти как доморощенного детектива, куда больше заинтересовала история, рассказанная Натальей Михайловной: история любви, благородства, преданности и предательства.
Может быть, лучше написать исторический детектив о робкой и трогательной Наталье, которая была влюблена в неизвестного человека, погибшего во время революционных бурь? Написать о добродушном увальне Гавриле Конюхове, который принял ее с дочерью, а потом пожертвовал собой, спасая семью? Написать о предателе и доносчике Кирилле Шведове… Неприятное какое имя – Кирилл, никогда оно не нравилось Алёне!
А все же интересно, какова должна быть фамилия главного героя? Кто именно был дедом Натальи Михайловны? Что-то помнится из перечисленных ею фамилий… Хмельницкий? Отличная фамилия, удалая такая. Орлов? Еще лучше, но немножко книжно. Учкасов – ну нет, какой-то комедийный персонаж. Берлянт? Нет уж, такая фамилия для шулера и совершенно отрицательного персонажа, главный герой никак не может ее носить. Впрочем, только в пьесах Островского сплошь говорящие фамилии, которые сразу обрисовывают характер персонажей, в жизни-то все иначе. Вон какая миролюбивая фамилия у Алёны – Ярушкина. Тихая такая фамилия, а в жизни ее носительница – ого, настоящей фурией-фуриозо бывает! А кстати, ярка, ярушка – это то же, что овечка. Вот смех, они же с новым знакомцем, фотографом Андреем Овечкиным, практически однофамильцы! Ну не ирония ли судьбы, что именно он притащил ей в клювике оброненный в лифте листок? Хотя слово «клювик» здесь явно ни при чем. Что вообще наличествует у ярок и овец? Пасть? Рот?
«О какой ерунде ты думаешь! – укорила себя Алёна. – А все от безделья. Займись каким-нибудь упражнением для тренировки мозга. Ну хоть список несчастный попытайся расшифровать!»
Правда, это не ее дело… Да и ни к чему во всякой невразумительной ерунде пытаться разбираться. Но что такого в том списке? Почему именно из-за него так разъярилась Наталья Михайловна? Почему так переменилось ее настроение после того, как мадам узнала, что списка в конверте нет, и решила, что его прикарманила Алёна? Хотя, возможно, настроение у нее изменилось от того, что она прочла в письме Владимира Шведова.
Конечно, он пытался оправдать отца (судя по возрасту Владимира Шведова – ему за 60, – Кирилл Шведов родил сына уже в весьма немолодые годы!). Но как можно оправдать доносчика, погубившего целую семью? Конечно, трудно судить, глядя через годы…
Может, это была месть! Кому, за что? Не узнать. Легче разгадать загадочный список, чем проникнуть в суть поступков и замыслов Кирилла Шведова! Интересно, список как-то связан с содержанием письма?
Письма у Алёны не было, а список был. Она вернулась домой, достала его из сумки и стала читать.
Ап. – АлРжБяИчШАм
Кр. – крРчШИГржБ
Мн. – АлОбАк
Мен. – САлчШ
Гар. – АлИчШ
Агл. – ПлтрАлжБчШорРкрР
Гек. – АлчШкрР
Ип. – чШжБорРГртИАл
Сф. – АмчШАлгСТур
Атр. – чШАлжБорРТоп
Зеф. – ИчШ
Абракадабру, расположенную в правом столбце, лучше не трогать. А вот то, что в левом, можно попытаться расшифровать. Наверное, не так уж много слов начинается на ап. Апорт, апломб, аппликация, аппетит, апология… Что же еще?
Устыдившись скудости собственного лингвистического запаса, Алёна взяла с полки «Большой энциклопедический словарь», открыла на «ап» – и… и честное слово, если бы Сева не состриг все ее кудряшки, они непременно поднялись бы сейчас дыбом, потому что на ап начиналось ровно 134 слова. Среди них оказались позорно забытые Алёной апартаменты, апатия, апачи, апелляция, аперитив (ха-ха!), апогей, апокалипсис (ну это как можно было забыть?), апостол, апостроф, апофеоз, аппарат, Аппассионата, апрель (а он ведь уже на носу!), априори, апробация, аптека. Имело место быть также немалое количество имен собственных, среди которых нашелся, опять же, Аполлон, на сей раз не бабочка из вида парусников, а бог света в Древней Греции (он же Феб), Апис – священный бык Древнего Египта, Апулей – автор скандального «Золотого осла», Аполлинер – французский поэт («уродзоны шляхтич» Вильгельм Аполлинарий Костровицкий, антр ну суа дит) и многие другие. Алёна, как и подобает человеку с филологическим образованием, который знает все обо всех, хотя и самую чуточку, немедленно вспомнила крохотное четверостишие из «Бестиарий» Аполлинера – под названием «Гусеница»:
- Трудись, поэт, не предавайся сплину —
- Дорога к процветанью нелегка!
- Так над цветком гнет гусеница спину,
- Пока не превратится в мотылька.
Надо же, и здесь про бабочек!
Даже если отмести географические названия, трудно понять, какое из слов, начинающихся на ап, может быть, по мнению автора списка, эквивалентным буквосочетанию АлРжБяИчШАм. А если теперь пошарить на кр? Что там нам известно? Красота, крест, круг, крутой и круто, а также крутяк, край, краюха, кранты, кринолин, кривизна, кромка, крестословица… ага, ага, ффтему, как пишут на интернетовских форумах! Что же сообщит «Большой энциклопедический словарь»?
«БЭС» на замедлил информировать, что на кр начинается бессчетное количество слов. То есть сосчитать их, конечно, можно было, но Алёна прекратила заниматься ерундой, перевалив за 250. Цифры тут явно не имеют значения! В списке идут в счет только буквы. В безумном перечне на кр Алёна обнаружила такие слова, как краб, кравчий, краеведение, кран, кракелюр (помнится, во время своих странных и опасных приключений в местном художественном музее[2] Алёна очень хорошо усвоила это слово, да жаль, память у нее девичья, уже все давно забыла), крапива, краковяк, краска, красный, кредит (а также кредитная карточка), крем (м-ммм!), кремний, крепеж, крестины, крепостное право, креолы, кривичи, кризис (ну, например, бывает кризис жанра…), критика (плохое слово, очень плохое слово!), кристаллы, критический (например, критический возраст), кровь, крона, кроссворд (когда-то Алёна Дмитриева обожала их разгадывать, потом сама стала загадывать – читателям), крот, кружка, кружево, кручина («Извела меня кручина, подколодная змея!»), крыша и крышка, крыло, крюшон, крякать и наконец – кряж. Среди имен собственных встретились К. Р. – Константин Романов, великий князь, дядюшка последнего царя и очень недурной поэт, Крамер (Стэнли, кинорежиссер), Кранах Лукас Старший, Красин Леонид Борисович, пламенный революционер, Крез, царь Лидии и мифологический символ непомерно разбогатевшего человека, Крестовский (вернее, два Крестовских и оба Всеволоды, причем один был всамделишный автор «Петербургских трущоб», а второй на самом деле звался Надеждой Хвощинской-Зайончковской), Кржижановский Глеб (еще один пламенный революционер!), Крижанич Юрий, первый панславист, человек, весьма Алёной Дмитриевой уважаемый, Кронин Арчибальд, романами которого Лена Володина (будущая Ярушкина) некогда зачитывалась до слез, – и еще неимоверное количество народу, как известного, так и никому особо не ведомого. Никто из них, опять же, никак не сопрягался с буквосочетанием крРчШИГржБ.
Честно говоря, возня с этим кр Алёну изрядно утомила. Может, вообще бросить заниматься ерундой? Исключительно из свойственной ей инерционности мышления она открыла словарь на мн и вяло принялась водить пальцем по словам: Мнемозина, мнемоника, мнимый, Мнишек Марина, многозначность, многословие (вот уж воистину!), многогрешный (аз многогрешный, писал о себе великий государь Иван Грозный), многолетники, многомужество (хм…), многосторонность, многочлен (да-а?!), множество. Слов оказалось всего лишь пятьдесят, и Алёна, приободрившись, решила еще немножко пострадать с мен. Итак: мена, Менандр (древнегреческий поэт), Менделеев, Менелай (ага, привет, и ты здесь, обманутый супруг Елены Троянской!), менестрель, мениск…
Стоп. Менелай? Бабочка Менелай была нарисована на стене. Сегодня там появились бабочки Аполлон и Мнемозина. Но ведь оба имени встречались в списке слов, которые прошерстила Алёна на ап и мн. А может быть, все слова в правой колонке – названия бабочек?!
Да ну, у нее сдвиг по фазе, только и всего. Просто-напросто совпадение. Какая связь может быть между бабочками и Натальей Михайловной, которая сама сказала, что их терпеть не может, потому что они сучат лапками?
Ерунда, само собой. Но если все же просто так, от нечего делать (та-ак… а роман писать – это вам что, нечего делать?!), взять и проверить, существуют ли названия бабочек на Гар., Агл., Гек., Ип., Сф., Атр., Зеф.? И еще у Алёны есть слово Крез, тоже из области мифологии. Существует ли бабочка Крез? Пока неизвестно. А вот что такое Зеф.? Не Зефир ли бриллиантовый, виденный вчера Алёной (в компании с Натальей Михайловной, между прочим!) на некоей серой стене? Итак, предположим: в наличии Аполлон, Мнемозина, Менелай, Зефир. Крез – под вопросом. Что делать с остальными сокращениями? Алёна на всякий случай включила компьютер, вышла в Интернет, открыла любимый безотказный «Google» и набрала в поисковике «Бабочка гар».
Осечка. Ответы оказались весьма невразумительные. Ну что ж, получено свидетельство того, что «Google» знает не все на свете. А какое мифологическое имя начинается на гар? Первыми приходят на ум злобные крылатые сестрицы гарпии. Почти не надеясь, Алёна набрала «бабочка гарпия» – и наткнулась на великолепный сайт, который так и назывался – «Бабочки».
О Интернет, великий и могучий! Нет бога, кроме Интернета, и «Google» пророк его! Воистину так!
Так вот. Бабочки гарпии относились к семейству хохлаток (какое милое, безобидное название!) и выглядели не слишком симпатично. Черно-белые с серым. Что-то вроде Мнемозины, только крылья узкие, а туловище большое. Такие же уродины, как настоящие гарпии.
Теперь проверим бабочку Крез. Алёна опять попросила «Google» потрудиться – и по ссылке «Бабочка Крез Валлас» попала на сайт некой Валентины Чуваевой, художницы, которая делала из бисера заколки и броши в форме бабочек. На заглавной странице обнаружилась фотография этой художницы, и Алёна испытала легкий шок, узнав лицо той самой Валентины, которую она видела не далее как вчера у Севы. Ну той, на Медузу Горгону похожей!
Алёна нашла среди поделок Валентины необычайно красивую и разноцветную бабочку Крез (вот уж в самом деле богатство красок!), изготовленную из бисера. Надо надеяться, Валентина не погрешила против истины. Наверняка нет, ведь и Аполлон, и Мнемозина, и Менелай в ее коллекции почти один в один совпадают как с рисунками у Брема – Алёна уже и до «Жизни животных» добралась! – так и с картинками, появившимися сегодня на стене. Картинки наша детективщица снова посмотрела, перебросив свои фотографии с мобильника на компьютер и похвалив себя за предусмотрительность: догадалась ведь запечатлеть!
Ну что ж, оживленно потерла руки Алёна, теперь осталось выяснить, кто такие Агл., Гек., Ип., Сф., Атр. Неужели тоже бабочки?
Стоп… что такое говорил сегодня Сева? Уверял, что многие бабочки называются по именам мифологических персонажей, и перечислял: Прометей, Артемида, Эвриала, Медуза, Циклоп, Гектор, Парис, Приам, Менелай, Аполлон, Мнемозина, Гарпия, Аглая…
Андрей Овечкин в ту минуту спросил, что за богиня с именем Аглая, и Алёна просветила его, что так зовут одну из трех граций. А фотограф тогда возьми да и вспомни еще трех сестриц, парок, одна из которых звалась Атропос. Вот это сокращение Атр. в списке – не значит ли оно Атропос? А Агл., может быть, Аглая? Гек. – Геката? Или Гектор? Проверка, проверка!
Проверка с помощью Брема и «Google» помогла выяснить, что где-то над полями летом начнет летать перламутровка Аглая, бражник мертвая голова, иначе – Атропос (на спинке у бабочки некий рисунок, и впрямь напоминающий череп, а расцветка красоты необыкновенной, очень яркая; правда, «фигура» у нее так себе – туловище толстовато, крылья узковаты), а также парусник Гектор – невероятно благородных очертаний и окраски, черно-красный, с белыми проблесками… Никакой Гекаты, к счастью, среди бабочек не отыскалось. Да и ну ее, зловещую такую!
Ну, кто из героев мифов и легенд античных времен приходит на ум при упоминании каких-то Ип. и Сф.? Ипполит и Сфинкс. А вот и бабочка Сфинкс – тоже бражник, мохнатый, бело-черно-коричнево-сиренево-розовый, красивый и зловещий. Насчет юноши Ипполита Алёна чуть-чуть пролетела, такой бабочки не отыскалось, зато нашлась его мать, Ипполита, жена героя Тезея, в прошлом царица амазонок. Бабочка звалась бархатницей: вся коричневая с черной каймой крыльев, с очень яркими желто-красными полосами.
Наша детективщица откинулась на спинку своего расшатанного донельзя стула, который был уже настолько ею выдрессирован, что Алёне иногда казалось, что он уже забыл о своих классических очертаниях и по ее воле готов принять любую угодную ей форму. Ну что ж… В левый столбец, таким образом, вполне можно поставить следующие слова: Аполлон, Крез, Мнемозина, Менелай, Гарпия, Аглая, Гектор, Ипполита, Сфинкс, Атропос, Зефир. Путаница букв противоположного столбца по-прежнему оставалась загадкой, и ее неразрешимость вызвала у Алены внезапное чувство острой и сосущей тоски в желудке. Обычно такое ощущение называется голодом…
Алёна прошла на кухню и наелась салата из кальмаров – чистый белок, минимум калорий. Правда, там примешались понемножку горошек, лук, соленые огурцы и чуточка майонеза, отнюдь не постного. Да ладно, однова живем! Затем заела салаты апельсином, который, говорят, уничтожает избыток жира, попавшего в желудок. Но даже если про него и вранье, все равно при весеннем авитаминозе сочный фрукт самое то, так же как и кипяточек с протертой смородиной (летние заготовки, вот молодец Алёна Дмитриева!). Вернулась писательница к компьютеру с новыми силами. Конечно, девушка, перманентно худеющая, а тем паче далеко не девушка, должна после обеда отправиться совершать моцион, чтобы калории не отложились во всех мыслимых и немыслимых проблемных зонах, однако Алёна сочла, что интенсивный мозговой штурм вполне может быть приравнен к променаду.




















