Читать онлайн Записки ящикового еврея. Книга четвертая: Киев. Жизнь и работа в НИИГП 1975-93 гг бесплатно
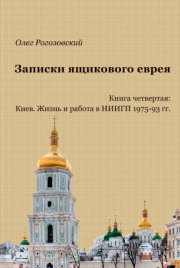
Вместо предисловия
Каким бы отвратительным ни было ваше
положение, старайтесь не винить в этом
внешние силы: историю, государство,
начальство, расу, родителей, детство…
В момент, когда вы возлагаете вину на
что – то, вы подрываете собственную
решимость что – то изменить.
Иосиф Бродский
Понять и принять высказывание Бродского нетрудно. Гораздо труднее осознать его применительно к себе и своим обстоятельствам. Тем более, что обстоятельства меняются, а ты, к сожалению, не всегда поспеваешь в такт с этими изменениями.
В 1973 году случилась война Судного дня. До зубов вооруженные Советским Союзом Египет и Сирия напали на Израиль в самый строгий еврейский религиозный праздник, когда солдат отпускают домой, транспорт не ходит. Коварство и внезапность принесли первоначальный успех; израильтяне понесли большие потери.
После сокрушительного поражения египетской и сирийской армии, бегства советских советников и их семей без нажитого добра, возврата кораблей со снабжением и вооружением и отмены высадки уже находившегося на кораблях советского десанта, в СССР поднялась очередная, самая большая после Сталина, волна антисемитизма. Пока эта волна дошла до Киева, наступил 1974 год. Я ее сначала не заметил – ну только пришлось таким как я писать внеочередную анкету в первый отдел. Организованные или опытные люди сохраняли все анкеты, начиная с самых первых, но я к таким не принадлежал.
Но все же меня достали. И чем дальше укреплялся «развитый социализм», тем больше рос государственный антисемитизм и его воздействие, в том числе и на меня. Насколько я помню, я вообще об этом как – то не думал. Принимал ограничения как данность. Работать, хоть и не по главным проектам института, было можно. В начальники я не рвался, давно понял, что подчиненным начальников моего начальникаК5 я быть не хочу. И не могу, в силу действующих на Украине до конца советской власти ограничений.
Больше угнетал прогрессирующий брежневский застой. Главная мудрость эпохи выражалась тезисом: «Никогда не упускай возможность промолчать», что Галичем формулировалось как: «Промолчи – попадешь в первачи! Промолчи, промолчи, промолчи!» Это было для меня недоступно, так что жаловаться было не на кого.
Должен извиниться перед читателями четвертой книги, которые помнят содержание предыдущих. Решил не отсылать их к ним по каждому поводу, а коротко излагать суть написанного ранее, если это имеет значение в контексте или хочется повторить удачное выражение или эпизод.
Общеизвестные гарики, и парафразы из них, если они не в эпиграфах, не всегда имеют ссылки на имя Игоря Губермана. Хотя, вообще говоря, известное известно немногим.
Предисловие к книге четвертой
То вже, мабуть, отак я і умру,
а діло справжнє так і не сподвигну.
Бо хоч горілку рідко в рот беру,
останню книгу написать не встигну[1].
Одна из главных претензий читателей – коллег к книге третьей о ящике была в том, что я, проведший лучшие производительные годы в нем, не высказываю если не преданности ему, то верности и признательности судьбе за годы, проведенные в нем и людям, с которыми я работал.
События на Украине после развала СССР привели к аберрации взглядов у многих успешных людей, награжденных за свою работу в ящике во времена Союза. Они отторгли и постарались забыть все связанное с ящиком. Встречаются и те, у кого всегда все было хорошо, как бы на самом деле оно ни было. Возникает потребность в объективизации частного мнения отдельного человека. Даже если оно такое субъективное, как у меня.
По работе мне приходилось иметь дело с различными фирмами. Иногда эти контакты позволяли понять структуру управления и взаимодействия в фирме, ее атмосферу и взаимоотношения в ней. Так что мне было с чем сравнивать наш ящик. Кроме того, поспудно сказался и последующий западный опыт.
Еще одной стороной был образовательный бэкграунд. Большинство моих коллег были выпускниками КПИ, значительная часть из них заканчивала кафедру электроакустики профессора Карновского. Сотрудничество с кафедрой и ее влияние (как и кафедры профессора Воллернера) сильно ощущалось в жизни отдела и института.
Мне же довелось учиться в Ленинграде у профессора (позже членкора) Лурье [Рог15] и, хотя это была другая научная область, невольно возникали сопоставления, может быть и неправомерные.
Кроме Ленинграда и Киева, мне пришлось вместе с родителями жить и в других регионах: Вологодчине, Татарии, Башкирии. Это тоже добавляло различий в восприятии жизни, в отличие от тех, кто сформировался в школьные или институтские годы в Киеве и продолжал жить в нем.
Так что разность восприятия жизни, в том числе производственной, была объяснима. Ну и конечно, личные особенности, которые проявляются в описании событий и выявляют автора, часто не в выгодном для него свете. Мой опыт индивидуален, хотя как всякий личный опыт он отражает более широкие и разветвленные процессы, а не только мой жизненнный путь.
- Как нелегко в один присест,
- колеблясь, даже, если прав,
- свою судьбу – туманный текст —
- прочесть, нигде не переврав.
После защиты кандидатской
Я душевно вполне здоров,
Но шалею, поймав удачу;
Из наломанных мною дров
Мог легко бы построить дачу
И. Губерман
Казалось бы, после защиты диссертации (18.10.74) можно было передохнуть, осмотреться и наметить дальнейшие пути развития. Все к этому располагало – снятие напряженности, отдельная квартира, ожидание второго ребенка. Но для меня лозунг «Время, вперед!» был, к сожалению, модусом вивенди.
После защиты нужно было выполнить необходимые формальности. Написать и оформить протокол защиты, подготовить остальные документы и отправить все в ВАК (Высшую Аттестационную Комиссию). Протокол по магнитофонной записи написать было затруднительно по двум причинам: во – первых, трудно было разобрать запись, во – вторых, нужно было выполнять новые требования ВАКа о дискуссионном характере обсуждения работы.
Если с первой трудностью справиться было легко – я помнил ход защиты и кто что говорил, то со второй пришлось помучиться – трудно было выдумать и изложить то, чего не было (настоящей дискуссии с изложением замечаний и других мнений и ответов на них) на основе записи защиты. С трудом справился. Дальше предстояла техническая работа, к которой команда первого отдела Института Кибернетики была привычна. Занималась мною симпатичная молодая женщина, которая была на сносях, но обещала, что отправить диссертацию успеет. Конфеты и букеты для ускорения оформления я не носил (кроме всего, она избегала сладкого) не приняв во внимание, что остальные – то цветам и конфетам нашли бы применение. От старших ее сотрудниц получил совет поменьше ее беспокоить. Я им доверился, а зря, забыв, что каждую официальную бумагу в Союзе должны сопровождать ноги.
Освобожденная после защиты потенциальная энергия требовала выхода. Меня охватила жажда просветительства. Хотелось рассказать о возможностях цифровой обработки сигналов в гидроакустике. В ней все – от излучаемых сигналов до отображения было аналоговое и непрерывное. До сих пор считали, что ее можно применить только для вторичной обработки обнаруженных сигналов и в системах информации и управления, да и то, при условии создания соответствующих бортовых ЭВМ – с нужным быстродействием и массогабаритами.
Существующие ЭВМ, в которые удавалось вводить гидроакустические сигналы, с обработкой в реальном времени не справлялись. Достижением считалось даже введение сигналов в ЭВМ[2].
Быстрое преобразование Фурье (БПФ) и его реализация на спецпроцессорах открывала новую эру в обработке сигналов – работу в реальном масштабе времени. Для линейных и плоских антенн («Бутон») такая обработка включала и пространственную. Учитывая быстрое развитие вычислительной техники, «цифровой коммунизм» был не за горами[3].
Освободившуюся после защиты энергию, кроме развития прорыва в обработке сигналов, я использовал в двух направлениях: распространении технических знаний и приобретении гуманитарных.
Первую задачу должен был решить семинар по цифровой обработке сигналов, который я, ничтоже сумняшеся, организовал в институтском масштабе, при благосклонном отношении Алещенко.
У меня был предшественник в просветительской миссии: семинар по элементам и устройствам цифровой техники вел некоторое время начальник сектора из 16 отдела, к. т. н. (редкий тогда, особенно в специализированных отделах, остепененный кадр) Алексей Мялковский. Он пришел из Института Кибернетики, не сработавшись с Глушковым. Количество слушателей в семинаре убывало по экспоненте – гидроакустики не видели возможности применения цифровых устройств в разрабатываемых ими приборах. Я тоже посещал этот семинар, но, кроме линий задержек на сдвиговых регистрах, не помню каких – то значимых применений элементов цифровой техники для обработки сигналов.
Планировалось, что в «моем» семинаре примут участие все заинтересованные сотрудники нашего института, кафедры электроакустики, Института Кибернетики и все, кого пропустит первый отдел. Первые заседания проводились в конференц – зале с вводным словом Алещенко (предполагалось, главного инженера). Присутствовали приглашенные из ИК В. И. Чайковский, В. Н. Коваль, кто – то был из КПИ (кажется, В. А. Геранин и В. Пасечный). Вел семинар я, и на первых слушаниях мне хватило материала моей диссертации и наших работ по «Ромашке» и «Бутону». Не помню, кто выступал из кибернетиков – Дидук, кажется, отказался. Семинар тоже затухал по экспоненте – и по той же причине, что и у Мялкововского – комплексники еще не видели возможности одеть на непрерывные акустические сигналы цифровые костюмы. Виноград еще был зелен.
Вторым направлением выхода энергии стало удовлетворение проснувшегося интереса к истории Киева. Тогда даже хороших экскурсий по Киеву не существовало. От вокзала ходил какой – то автобус для пассажиров турпоездов. Уровень и заинтересованность экскурсоводов ненамного превосходили интерес пассажиров – тогда явственно проявлялось, что «все вокруг советское, все вокруг мое». К тому же еще не знали, что уже говорить можно, а что нет.
В БАНе (Библиотеке Академии Наук) я случайно попал[4] на закрытую для общего пользования книжку Сементовского «История Киева». Это было одно из 11 ее дореволюционных изданий. В ней красной нитью проходит тема многочисленных погромов и изгнаний евреев из Киева. Они производились по требованию «народа» (на самом деле купцов и торговцев). Князья, наоборот, евреев в Киев приглашали – с них можно было снимать больший «урожай», чем со своих.
Книжку я истребовал в научном зале как бы для работы. Специальность у меня была «Кибернетика», а тогда она была магическим словом, особенно для гуманитариев.
Сестра Таня разделила мой интерес к истории Киева. После окончания ровенского Института инженеров водного хозяйства, работая инженером – нормировщиком, в 1977 поступила на курсы экскурсоводов, в 1978 году их закончила, стала хорошим экскурсоводом, пока не прикипела к дому Булгакова.
Тане подарили путеводитель под редакцией Федора Эрнста «Київ. Провідник[5]» 1930 года издания. Ей сделали три копии в НИИ «Квант» и одна из них досталась мне.
В книге третьей я писал, как меня, в качестве политинформатора, спускали «вниз по лестнице, ведущей вверх», после доносов благодарных слушателей (в т. ч. Белецкого). Не помню, был ли я уже тогда на нижней ступени (культура) или пребывал на ступеньку выше. (Всего было четыре ступени, по нисходящей: внешняя политика, внутренняя политика, экономика и культура). Раз в неделю проводились политинформации. Так как я прошел все четыре, то не должен был ограничивать себя только культурой или экономикой, но с культурой было легче и, казалось, безопаснее всего. Некоторые сведения из книжки Эрнста я рассказывал слушателям обновившейся при Коле Якубове лаборатории 131. После чего Репухова, пересказав в семье информацию, передала просьбу папы хотя бы коротко познакомиться с книгой. Я знал, что папа у Лоры непростой, но книга, изъятая, по видимому, из библиотек в тридцатые годы, никакой крамолы не представляла, и я решил ее на короткое время дать почитать. Знал бы я, что папа Лоры – военный прокурор, может быть, и подумал бы о последствиях. Однако, помня о том, что кирпич может свалиться на голову из ниоткуда, книжку дал. Думаю, без последствий.
В лаборатории я рассказывал не все, что меня удивляло в книжке, например про изменения национального состава. Как видно из нижеприведенной таблицы, с 1920 по 1926 год украинское население Киева в процентном отношении возросло в три раза, в то время как русское уменьшилось более чем в полтора раза, а польское практически исчезло.
Изменения в национальном составе населения Киева по годам переписи в процентах к общему числу киевлян выглядят следующим образом:
| Роки | Українці | Росіяни | Євреї | Поляки |
| 1897 | 22 | 54,5 | 13 | 7,7 |
| 1920 | 14,31 | 43,56 | 31,94 | 3,77 |
| 1923 | 25 | 34 | 27 | З |
| 1926 | 43 | 25 | 28 | 0,26 |
Это была вторая волна украинизации, после введенной Центральной Радой. Она также была провалена основной массой украинского населения, не желавшего учить литературный украинский.
В знак протеста против запрета публиковать на русском языке научные работы ушли из созданной с их решающим участием в 1918 году Академии Наук Украины и покинули страну профессора Вернадский и Тимошенко[Тим].
Винниченко по поводу насильственной украинизации и других решений ЦР признался: «Будем честны с собой и другими: мы воспользовались несознательностью масс. Не они нас выбирали, а мы им навязали себя» [В]. Это высказывание можно отнести, увы, и ко многим последующим, не только украинским правительствам.
Но пропаганда второй волны украинизации свою роль сыграла – русских не уничтожили и не выслали, а просто записали украинцами. Свое отношение к проявлениям украинизации выразил «лучший поэт» советской эпохиК15. Евреи украинский выучили, а украинцам хватало своего для повседневной жизни, а для обращения с учреждениями все равно нужен был кто – то грамотный. Этот кто – то знал русский и мог объяснить его термины, а как это будет на канцелярском украинском он не знал – его еще во многих областях предстояло создать. В результате вторая волна схлынула и только третья (довоенная) была сравнительно успешной благодаря массовому переводу школ на обучение на украинском языке (воспоминания академика Халатникова [Хал], [Рог17]).
Показалась мне интересной и история памятника Богдану Хмельницкому.
З доручення київського комітету, на чолі якого стояв відомий реакціонер М. Юзефович, художник М. О. Мікєшін склав проєкта пам’ятника, за яким монумент повинен був являти собою скелю з кінною постаттю Богдана, який гетьманською булавою показує на Москву. Кінь топче постаті польського пана, єзуїта i єврея. На чільному боці монумента повинні були стояти постаті «великоруса, малоруса й білоруса», перед ними – постать сліпого кобзаря з бандурою у руках. Нижня частина п›єдесталю мала бути прикрашеною барельєфами з видображенням бою під Збаражем, ради у Переяславі, та зустрічі Богдана в Києві на майдані перед Софійським собором. Цей проект «височайше» затверджено 1869 року, але після завваження київського ген. — губернатора про незручність видображати поляків та євреїв під копитами Богданового коня («названные национальности, хотя и попраны, но еще существуют»), ухвалено всі постаті з п›єдесталю прибрати. Постать Богдана на коні вилито в кол. Петербурзі тільки року 1879, і після того перевезено до Києва. Через відсутність коштів, постать тимчасово поставлено у дворі старокиївського поліцейського району, і її помалу завалили купами гною[6].
Макет памятника Б. Хмельницкому
Мне довелось видеть макет памятника в музее истории архитектуры Ленинграда (сейчас он в Русском музее). Макет производил внушительное впечатление. Удивило и отношение к высочайше утвержденному проекту – генерал- губернатор, оказывается, мог возразить императору.
Хотелось бы видеть того, кто возражал в наше время против утвержденного постановлением ЦК КПСС и Совмином проекта.
Мои просветительские и краеведческие потуги прервались вызовом к Алещенко.
«Вот, решили Вам повысить зарплату. В старшие научные сейчас перевести не могу – у нас перестройка, полностью меняется система аттестации и назначения на научные должности – все будет только по конкурсу. Но ставку ведущего мы Вам повысим… до 180 рублей». У меня было 170. Получив подтверждение степени и будучи снс, я бы имел бы 250 рублей не со дня утверждения, а со дня защиты. Но эта должность ушла к Саше Москаленко, что не принесло ему дополнительных денег. Мы с Колей Якубовым до его отъезда обсуждали возможные ситуации, и он сказал, что 190, как снс или ведущему инженеру мне дадут. Еще весной мы с группой успешно защитили первый этап НИР «Ромашка», начали выдавать первые задания по «Звезде». Думаю, что Коля согласовывал сумму с Алещенко. Я не сомневался в повышении и спокойно его ждал. Но тут я был огорошен. Сказав, что Якубов обещал мне больше, я, не сдержавшись, спросил: «Так что, мне из – за десятки увольняться»? Никогда ни до, ни после о деньгах с начальством я не говорил. И по «правилам» мне нужно было промолчать и проглотить. Не то, чтобы десятка решала проблемы, хотя оставались долги за кооператив, и мы еще многие годы выплачивали ссуду. Появилось и еще одно обстоятельство, которое обнаружилось сразу после защиты – в ближайшие годы нам предстояло жить на одну зарплату. Но в разговоре с Алещенко все это осталось за кадром. О. М. обиды, вызванные принуждением, не забывал. 190 я получил, но потом потерял сумму, равную годовой зарплате…
«Из наломанных мною дров мог легко бы построить дачу».
Ждем Васю
На следующий день после защиты мы провели целый день на Выставке (достижений народного хозяйства) и в дубовом лесу за ней по дороге, ведущей в Феофанию. Хотя на импровизированном домашнем банкете пили мы не много, но на следующий день мне, по крайней мере, хотелось «поправиться». Нина как – то неадекватно реагировала на спиртное, особенно на коньяк. Оказалось, не беспричинно: она была беременна.
Ожидание старшего сына Димы (1964 г.) проходило в «эпоху перемен». Мы не знали, где будем, и чем будем заниматься. Да и само его рождение ознаменовалось переменой власти – сняли Хрущева, пришел Брежнев. Васю ждали в спокойный период.
Это было лучшее время в нашей семейной жизни. Заботы о Димином здоровье (у него были частые простуды, ангины, бывали и воспаления легких) остались позади – вылечил, как я и надеялся, бассейн. Безуспешные попытки улучшить Димину успеваемость мы оставили до его сознательного возраста.
Работала Нина на кафедре микробиологии в Институте пищевой промышленности (КТИПП), куда ее взял небезызвестный профессор Шестаков (бывший проректор университета). Числилась она в научно – исследовательском секторе (НИС), но Шестаков привлек ее и к лабораторным занятиям. Студенты Нину любили и стремились попасть на занятия и зачеты к ней.
Если кафедра и лаборатории размещались в главном корпусе КТИППа на улице Владимирской, то НИС, по мере расширения его деятельности ютился в «выселенных» домах позади и вокруг нашей бывшей 45‑й школы, тоже отданной институту. Для жилья здания не годились, а для науки – пожалуйста. Снова подвели отключенный свет, газ и отопление – и вперед. Выселить из домов удалось не всех – кошки там остались. Жили они большей частью на чердаках.
Когда окотилась очередная кошка, девушки НИСа решили разобрать котят. У котенка, которого принесла Нина, еще разъезжались ноги. Молоко стал пить не сразу, а следы своей жизнедеятельности оставлял везде. Но самое главное, когда все укладывались спать, он начинал орать. Перед третьей ночью я попросил Нину отнести его обратно, если он не прекратит кричать. То ли Нина провела с ним разъяснительную работу, то ли так совпало, но орать он перестал. Потом быстро научился ходить в туалет. Полюбил купаться (а сначала брыкался). Становился воспитанным и забавным котом. Его папаша, видимо, был персидских кровей, и хвост у него по длине и толщине был сравним с телом. Позже появились и «штаны», похожие на меховые запорожские шаровары.
Лежа на телевизоре и смотря на картинку сверху – т. е. вверх ногами (коньками), смотрел все хоккейные матчи и пытался ловить шайбу. Иногда ему это удавалось лучше, чем вратарям.
Его вальяжная поза на телевизоре напоминала картинку из «Маугли», и его назвали Ширханом.
Нина не могла смотреть, как он, стоя на задних лапах на круглых трубах, окружающих эркер 16‑го этажа и передними опираясь на стекло, подпрыгивал, чтобы поймать ползущую по стеклу муху или комара.
В субботу и воскресенье ждал, когда проснемся и проделывал свой тур: вышибал дверь спальни, пробегал по кровати, запрыгивал в форточку, пробегал по трубчатым перилам балкона и эркера 16‑го этажа, через кухню и коридор снова появлялся в спальне и продолжал следующие круги, пока его не останавливали.
Кот был домашним и боялся кошек. Неохотно лез на деревья – в случае опасности – собаки и т. д.
С наступлением весны мы с Ниной почти каждый вечер перед сном гуляли по опустевшей к вечеру Красноармейской. Кот сидел у меня на плече и очень неохотно покидал его, когда я для разминки спускал его на асфальт. При малейшей опасности (появление кошки, не говоря уже о собаке) забирался обратно.
Чувствовал присутствие развивающегося живого существа и очень любил сидеть или лежать возле живота Нины и ей приходилось чаще стирать домашний халат, так как он его лизал на животе.
Носила Нина ребенка хорошо.[7]
Подошли летние каникулы. Диму отправили в пионерский лагерь. Дима в лагерях бывал с удовольствием. В этот раз это было в хорошем месте, но далековато – возле лагеря «Красного резинщика».
8 июня в воскресенье я поехал в лагерь один. Дима с трудом оторвался от лагерной жизни. Но с удовольствием гулял со мной по лесу, ел домашнюю еду, и мы с ним собирали цветы и первую землянику для Нины.
Когда я к вечеру приехал домой, Нины дома не было. На столе лежала записка от мамы – мы на Лабораторной. Это значит, они с Ниной поехали (скорее всего, пошли) в роддом, расположенный в двух кварталах от нас, на улице Ульяновых. Нина позвонила маме через час после моего отъезда к Диме, и успела только сказать: «Здравствуй, мама…», как услышала: «Все, я уже еду». Маму я встретил по дороге в роддом и она, несмотря на уговоры, пошла со мной туда еще раз. Успели передать собранные букеты цветов и земляники и получить записку, что все в порядке.
Не помню, дозвонились ли мы до полуночи или узнали уже утром, но на следующий день Нина передала записку.
Вася грудной
У новорожденного рост и вес были такие же, как у старшего брата Димы: 51 см и 3500 г, но он был кругленьким. Не знаю, почему Нина спраши – вала про имя, и так было ясно, что он родился Васей[8]. Его курносость быстро прошла.
Молока у Нины было много, и вскоре у Васи появился молочный брат – Сережа Москаленко. У его мамы Иры молока не хватало. Саша приезжал к нам в обеденный перерыв и забирал стакан сцеженного молока. В обеденный перерыв я не укладывался, но у меня был т. н. «свободный выход» – я был научным руководителем НИР. У Саши такой выход тоже был, но его официального статуса в то время я не припомню.
Олег с Васей 1975 год
«Братьями» Вася с Сережей оставались месяца два – Сереже Нинино молоко не подходило.
Ходить самостоятельно Вася начал в год. Добравшись до кухонного стола, на краю которого стояла тарелка с только что разлитым супом из щавеля с яйцом и сметаной, Вася вдохнул запах и сказал: «Дай это»![9] С тех пор ел только взрослую пищу, включая борщ, жареную картошку, мясо, твердый сыр (хотел написать сыры, но тогда был только один сорт – какой удавалось купить). К этому времени у него уже было больше 12-ти зубов, включая премоляры. Овощи, фрукты и каши тоже входили в наш, а значит и его рацион.
С появлением Васи нас стало четверо (включая кота Ширхана). Но кот в тот же день стал персоной «нон грата». Накормив и запеленав Васю, как тогда было принято, с руками, Нина оставила его в кроватке в спальне и ушла к нам, ждавшим ее в кухне с обедом. Что – то меня через некоторое время подняло, и я заглянул в спальню. Вася не спал и моргал глазенками. Рядом с кроваткой стоял на задних лапах Ширхан. Одной из передних лап он опирался на кровать и внимательно следил за глазами Васи. Вторая лапа Ширхана была приподнята. Я тут же вспомнил его «вратарские» способности, когда он «ловил» шайбы во время хоккейных матчей чемпионата мира. Кот был удален, дверь в спальню закрыта. Но мы забыли, что он умел проникать в спальню и при закрытой двери – через форточку. Застав его там почти в той же позе через некоторое время, мы приняли решение с Ширханом расстаться. Оказалось, что это не простая задача – его никто не хотел брать. Наконец, мне удалось уговорить Галю Симонову, о чем она, а еще больше Ширхан, вскоре пожалели. Его вторая, счастливая жизнь началась у Светы Бондарчук, но об этом позже.
Рассказ о Васе придется прервать и вернуться в декабрь 1974 года. В этот день у папы случился инсульт. Вообще – то папа уже был на пенсии, но его время от времени призывали на работу для расшивки проблем, которые не знали, как решать.
В этот раз дело касалось взрыва на газораспределительной станции с человеческими жертвами. В ее строительстве принимал участие Минмонтажспецстрой Украины. Министр попросил папу разобраться (расследовать это происшествие). Папа разобрался, следствие подтвердило невиновность строителей. Министр пригласил папу к себе, вручил премию и выпил с ним по стакану водки. Молодой и здоровый, как бугай, но в то же время интеллигентный, министр мог себе это позволить, а папа – нет. Ночью случился инсульт. Отнялась левая половина. Лежал папа в Октябрьской больнице. Постепенно, в течение месяцев, папа пришел в себя. Мог ходить, почти все восстановилось, кроме левой руки. Что только не делали, чтобы восстановить ее подвижность. Я заказал деревянный футляр, похожий на футляр для музыкального инструмента, в который полагалось руку класть и что – то вместе с футляром проделывать.
Добились, чтобы его проконсультировала старая профессорша Динабург. Она была одна из немногих, уцелевших в профессии евреек, после дела врачей в Киеве. Она уже не работала и не преподавала официально, но ее консультации очень ценились. Посмотрев папу, изрекла: перестаньте заниматься глупостями – рука работать не будет. Мама доверяла ей и, к сожалению, ее последний совет (через три года) привел к тяжелым последствиям.
Папа стал самостоятельно гулять – недалеко. Встречал Васю, которого чаще всего Нина привозила утром к родителям. Умилялся до слез, когда Вася, переваливаясь, бежал к нему, крича: дедушка! Говорил, что только с Васей понял, какое это счастье, иметь ребенка и видеть, как он растет. Мы с Ниной тоже полностью осознали это чувство при появлении Васи.
Увы, согласно второму закону Чизхолма, когда дела идут хорошо что – то должно случиться в ближайшем будущем.
Гибель Коли Якубова
Не будущее замкнётся смертью,
а длящееся настоящее. Не завтра
будет смерть, а когда – нибудь сегодня.
Григорий Ландау
Зимой 1967/1968 года из лаборатории 131, созданной «под него», ушел Резник и с ним несколько человек [Рог17]. После этого некоторое время мы жили без руководителя. И вдруг стало известно, что нашим начальником будет Коля Якубов – недавно появившийся в отделе старший инженер, работавший в секторе 133. До этого меня познакомил с ним Лёпа Половинко. Он работал в Таганроге в одной лаборатории с Колей и дружил с ним. Редкие коридорные контакты оставили у меня (скорого на оценки[10]) приятное впечатление о Коле. Поэтому, когда стало известно о новом назначении, я в кругу коллег выразил мнение, что вот, Алещенко умеет удивлять всех и принял нестандартное и, по всей видимости, удачное решение. Кто – то посчитал это выражением подхалимажа по отношению к О. М.[11]. Как – то остро прореагировал Чередниченко. Думаю, он считал, что оценивать Колю (даже положительно) я не имею права, в отличие от него, знавшего Колю дольше.
В Киев Колю переманил Алещенко. Он познакомился с ним на конкурсной защите по НИР «Парус – Платина», где, благодаря Коле, КБ таганрогского «Прибоя» опередило НИИ гидроприборов, выиграв второе место в конкурсе. Руководителем «Паруса» в Киеве был Сергунов, докладывал Иванов. Алещенко осуществлял общее научное руководство. Правда, оба конкурсанта (Киев и Таганрог) уступили ленинградскому «Морфизприбору», но этот результат был известен заранее, еще до начала конкурса.
Коля произвел на всех большое впечатление и Саша Разумова, по ее словам, подначила Алещенко – что вот, таких, как он, у нас нет. Ему тоже Коля очень понравился, и он решил добиться выполнения одной из главных своих «установок»: превратим наши недостатки в наши достоинства. Он, с участием Лёпы Половинко, увлек Колю перспективами интересной работы, а Коля сумел уговорить жену Лорину пережить временные трудности: с квартирой, несмотря на обещания, было до конца неясно.
Роль Лёпы была большой еще и потому, что он фактически был главным конструктором ГАС «Шексна», хотя формально на этой должности числился Шклярский. Тогда еще в обеспечение Постановлений ЦК и Совмина разрешалось дополнительно набирать штат с предоставлением прописки, а затем и жилья. На «Шексну» разрешалось взять 25 человек Лёпа воспользовался этой возможностью для пополнения Института кадрами из Таганрога. У нас появились киевляне Зубенко (о чем Лёпа позже имел основания пожалеть), Прицкер, Старов, ну и сам Коля.
Будучи в 133 секторе, Коля рассказал всем девушкам, занимавшимся гидролого – акустическим обеспечением и расчетами энергетической дальности станций, как пользоваться номограммами, разработанными для этой цели в «Морфизприборе» совместно с АКИНом. Необходимость в вечно «бастовавшей» ЭВМ «Проминь» отпала.
О нашей с Колей работе в феодосийской экспедиции и на «Бутоне» написано в книге третьей [Рог17]. Лаборатория 131, которую Алещенко хотел сохранить, нуждалась в пополнении. Вместе с Колей в лабораторию пришли все «расчётные» девочки (Пасечная, Репухова, позже Ковалюк), группа Юденкова (все еще шумопеленгования) и нарождающаяся группа Чередниченко с Роговским. Лаборатория была очень разнородной и требовала постоянного внимания Коли.
Пожалуй, только Юденков и я работали автономно, хотя к работам с Институтом Кибернетики привлекался и Коля. Особенно много внимания требовали девушки. Коля хотел их «зажечь» и сделать самостоятельными. Ему это, на удивление многих, удалось, хотя и потребовало титанических усилий.
Все вместе мы работали на «Бутоне» и могли оценить выдающиеся Колины качества как руководителя работы. Он был не только генератором идей, но после обсуждения принимал и развивал идеи исполнителей, иногда не совпадающие с его первоначальными. Он делал это так, что их авторы не считали себя обойденными, а чувствовали благодарность, становясь соавторами разработки.
Алещенко решил вознаградить Колю за его достижения заграничной экспедицией, тем более, что Коля хотел завершить экспериментом давно пишущуюся и откладываемую из – за глубокого погружения в дела лаборатории диссертацию.
Кроме того, надвигались «Звезды» и нужно было почувствовать океан, его условия и особенности для выработки требований к аппаратуре.
Всю необходимую аппаратуру в короткие сроки изготовить не удалось, и пришлось довольствоваться тем, что успели сделать и собрать.
Подробно о XIV-й экспедиции на НИС «Лебедев» и «Вавилов» рассказано в путевом дневнике Сережи Мухина [60лет].
Результаты экспедиции Колю не удовлетворили, но пришлось довольствоваться тем, что было – принцип обработки, который он назвал пространственно – частотным, работал. За время его отсутствия сначала я, а потом мы вместе с Юрой Шукевичем связали его метод с двумерным преобразованием Фурье. Для этого пришлось ввести в запись сигналов скорость их коммутации с выходов приемников. В зависимости от скорости коммутации происходил сдвиг всего веера диаграмм направленности на определенный угол. Это позволило по – другому взглянуть на Колин метод пространственно – частотного преобразования, вторым этапом которого уже и так было преобразование Фурье. То есть он являлся частным случаем двумерного преобразования Фурье, в который введена коммутация. Я решил отложить разговор с Колей об этом на более позднее время, может быть после защиты его диссертации. Юра со мной согласился, хотя и не до конца понял, зачем такая задержка.
Алещенко любил благодетельствовать и устроил торжественную встречу экспедиции в Ленинграде. Ему удалось выбить жене Коли Лорине командировку в Ленинград, хотя она была в декретном отпуске: сыну Боре было полгода.
Коля Якубов после экспедиции
С окончанием экспедиции (февраль 1975) на Колю навалилось сразу много задач. Извлечь уроки из экспедиции и начать готовить следующую. Про прошедшую он рассказывал не много. Среди другого: Юденков больше с ним не пойдет, да и Москаленко тоже. Если про Юденкова он, приложивший немало усилий, чтобы пробить его в экспедицию через КГБ, ничего рассказывать не хотел, то про Сашу как – то мимоходом сказал, что пора ему своим делом заняться. Сашины интересы, по крайней мере, научные, остались в вертолетной тематике.
Коля хотел включиться по – настоящему в новую большую тему «Ритм», в которой он намеревался развить результаты готовящейся диссертации, а я наши результаты по НИР «Ромашка» и «Бутон», связанные с БПФ применительно к «Звездам».
Коля хотел завершить и защитить диссертацию. Ее одобрил руководитель – М. И. Карновский, она прошла апробацию в «Морфизприборе». Он хотел успеть сделать это до надвигающегося вала «Звезд». «Звезда» беспокоила Колю больше всего. Думал, как правильно определить свое и лаборатории место в ней, рамки ответственности. Он говорил, что с наукой с приходом «Звезд», может быть, придется «завязать».
Уговорил меня отдать руководство (сопровождение) работами ИК под эгиду Лазебного, который считал, что он быстрее «приведет их к знаменателю». А мы (и я в том числе) будем больше уделять внимания пространственной обработке. Лазебный быстро понял свой промах – работами ИК он управлять не смог, а Мазур, которого он предназначал в руководители работ, нашел на долгие годы синекуру.
Коля еще не знал, какой подарок приготовил ему Алещенко. За год до начала «Звезд» начальник десятого главка Минсудрома Николай Николаевич Свиридов передал выполняемую в ленинградском «Морфизприборе» НИР «Момент – МСП – Н» (гидроакустические средства надводных кораблей) в КНИИГП, ознаменовав готовящуюся передачу разработки гидроакустических станций для всех надводных кораблей в наш ящик. До этого институт разрабатывал ГАС для малотонажных кораблей (до 500 т. водоизмещения, т. е. кораблей четвертого ранга).
Колю уже назначили руководителем большой НИР «Ритм», а руководителем «Момента» был Алещенко. В середине года была сдача этой НИР, специальные подразделения работали, а у комплексников еще и конь не валялся. Алещенко все взвалил на Колю.
После изматывающей экспедиции (раньше Коля плохо переносил качку, что я помнил еще по Феодосийской экспедиции, но потом, по словам Москаленко он «прикачался») и груза невыполненных, как хотелось, задач (даже в дневниках Мухина отмечалось необычная для Коли потеря внимательности и работоспособности на высоком творческом уровне), разгребания возникших в его отсутствие проблем в лаборатории, решение которых многие, особенно девушки, оставили до его возвращения, навалившийся в последний момент «Момент» был каплей, переполнивший чашу физических возможностей Коли. Сидел над отчетом на работе до ночи. Уставал настолько, что падал в обморок. Один раз при Саше Москаленко.
Наконец, отчет был закончен. Можно было выдохнуть. Я к «Моменту» имел косвенное отношение, но ждал окончания страды, чтобы обсудить с Колей работы по «Ритму» – я был его заместителем и надеялся, что удастся откорректировать ТЗ в свете новых полученных мной и Юрой результатов.
В понедельник, четвертого августа, я надеялся поговорить с Колей. Не получилось. Хотя спустя месяцы мы с ним много раз разговаривали. Но это было уже в неоднократно повторяющихся снах.
Второго августа, в субботу, Якубовы отпраздновали годовщину сына Бори. Его Коля оставил, уходя в экспедицию, двухмесячным, а вернулся, когда ему было уже больше семи месяцев. Очень радовался сыну, не обделяя вниманием и любовью дочку Лену.
Борю и Лену Якубовы отправили бабушкам – Коле предстоял финиш перед защитой диссертации. Лариса уговорила Колю хоть один день отдохнуть и не дописывать плакаты, которые он делал сам, пообещав помочь после выходных. В воскресенье, третьего августа, в первый раз за лето, поехали на пляж вместе с коллегой Ларисы по конструкторскому отделу, ее мужем Леней и их сыном.
Поехали пораньше и место выбрали, если я правильно помню, подальше от людей – где – то на Венецианском острове, на спуске к Днепру, за Метромостом.
Женщины, не доходя до берега, устроились на скамейках. Пока они обустраивались, мужчины пошли к Днепру. Потом Леня привел сына к женщинам, а сам вернулся к Коле, который бродил по мелководью у днепровского берега ниже Метромоста. Колю он не нашел и пытался поднять тревогу – его не слушали.
Случайно, в этом же месте раньше утонул мальчик, и его искал какой – то катер. Был там и водолаз. Они знали, где искать. Еще раньше краном выдернули опору для недействующей линии электропередачи, и она осталась лежать на берегу. На месте бывшей опоры образовалась глубокая воронка. Может быть и водоворот. Опора была всего в двух – трех метрах от уреза воды. Мальчика не нашли. Нашли Колю. Он «стоял» на дне воронки. Леня сообщил Алещенко, а тот всем.
Похороны состоялись в среду, 6 августа. Мы, Колины сотрудники, участвовали в организации похорон, но я, как и многие, был подавлен и ничего не помню. Кроме одного момента. Я был возле гроба, когда Колю выносили из центрального входа в главное здание. И тут грянул духовой оркестр. Шопен. Траурный марш. Слезы непроизвольно брызнули у меня из глаз и потекли ручьем. С детских лет не помню себя плачущим. И только через сорок лет я обнаружил себя рыдающим, когда пришлось идти за гробом Нины [Рог17], хотя слезы на глазах до этого бывали (когда уходили папа и мама).
Похороны Коли
На фотографии у могилы Коли в центре Лора, поддерживаемая Колиными институтскими друзьями. Рядом мама Коли. Она скажет позже, что у нее уже не осталось слез, и она держалась. Слева, с портретом Коли, стоит Инна Малюкова с окаменевшим лицом.
Из коллег заметнее других переживал Алещенко. Он приходил домой к Лоре и плакал. Говорил, что теперь не знает, как он сможет без Коли, что делать со «Звездами» – он их сначала предлагал Коле, как Главному конструктору[12]. Коля отказался, но обещал «впрячься» и был назначен первым замом. «Момент» тоже повис на Коле, но он был уже закончен, и Олегу оставалось только выучить доклад. Кроме того, Коля был назначен научным руководителем большой НИР «Ритм», которая была в основном посвящена цифровой обработке, включая БПФ, Колин метод пространственно – частотной обработки и работы кибернетиков. Они остались в ТЗ, несмотря на то, что мы передали их в другой сектор.
Осталась без руководителя и очень разнородная и разнонаправленная лаборатория 131. Там были и активный режим (эхолокация), которой занимался сам Коля, Лёпа Половинко, частично Чередниченко, который переходил постепенно от активного режима к классификации, большая группа пассивного режима Юденкова, группа гидролого – акустического обеспечения и расчета дальности (Катя Пасечная и Ковалюк), наша группа цифровой обработки информации и несколько человек, замыкавшихся на Колю: Москаленко, Малюкова, Дендебера, Лысенко, Сергей Якубов, Борисов [Рог17].
После похорон мама Коли рассказала о его бэкграунде. Его деды и родители были дворянами Смоленской губернии. Причем родовитыми. Фамилия Якубов указывала на то, что кто – то из татарских предков был пожалован дворянством давно.
А мы – то (я) удивлялись воспитанности и интеллигентности Коли, он ведь вроде был из семьи простых советских служащих. Ленинградский микроб культуры не мог бы так быстро его изменить – у него это было природное и воспитанное с детства – глубже, чем в третьем поколении (см. книгу третью, приложение об интеллигенции [Рог17]).
Совесть, благородство и достоинство – вот оно, святое наше воинство – написал Окуджава как будто про Колю.
Отец и мать Коли были двоюродными братом и сестрой, чем отчасти может объясняться его не очень большая физическая стойкость – в пристрастии к спортивным занятиям он замечен не был.
Кроме того, он остерегался плавать в незнакомых местах. На летних каникулах в Рославле, между вторым и третьим курсом, ему довелось вытаскивать тонувшую девочку из омута. Ее он успел вытолкнуть на поверхность, но сам стал погружаться, и его пришлось вылавливать из глубины. Обоих привезли в больницу, а мама Коли работала там врачом и их выхаживала.
Нелепые и случайные обстоятельства гибели Коли имели и регулярную составляющую – колоссальную нагрузку, которую ему пришлось принять на себя и истощившую его физически и ментально. Витя Чередниченко прямо сказал, что в этом виноват Алещенко. Не думаю, что он говорил это тем, кто мог передать это Алещенко, но Лора это слышала. Я был и остаюсь того же мнения, но, кроме жены Нины, никому, кажется, об этом не говорил.
После похорон кто – то из друзей и Лора рассказывали о Ленинградском периоде его жизни. Коля закончил школу в Рославле с золотой медалью и мечтал стать врачом, как и мама. Поехал в Ленинград, в Первый медицинский (бывший Женский медицинский, мужчин до революции медицине учили в университете и Военно – медицинской академии). С золотой медалью поступить можно было без проблем, но общежития не обещали. Коля не хотел нагружать родных и знакомых своими проблемами и отказался. Рядом находился ЛЭТИ, где общежитие обещали. Он подал документы туда и был зачислен. А общежития не дали – он получил его только на втором курсе.
Специализация у него была проектирование гидроакустических приборов. В 1961 году несколько выпускников, в том числе товарищей Коли по комнате в общежитии, направили в Таганрог, в КБ завода «Прибой».
Коле повезло: он попал в лабораторию Г. Я. Гольдштейна, занимавшуюся новыми разработками. Он успел у него поработать, и тот, оценив Колю, покидая лабораторию и «вверх сходя, благословил». На большие дела, в главные конструкторы (Коля отказался), а позже в руководители разработок. Гольдштейн это сделать мог, так как он уходил не куда – нибудь, а в главные инженеры КБ. Под его руководством КБ стало самостоятельной и серьезной организацией – ОКБ «Бриз»[13].
В поезде ребята познакомились с девушками из ленинградского приборостроительного техникума, тоже направленными в «Прибой». По прибытии Таганрог удивил их оркестрами и демонстрациями. Правда, приветствовали не их, а Юрия Гагарина, в этот день взлетевшего в космос. Знак был благоприятный.
Среди девушек – попутчиц была и Лора, ставшая через два года Якубовой.
Дочь Якубовых Лена была старше нашего Димы на девять месяцев, а сын Боря старше Васи на десять. Наши дети приятельствовали – особенно много они общались в Ракитном. До сих пор интересуются – как там у них?
Для меня потеря Коли имела особое значение. Он был как бы камертоном в вопросах этики и взаимоотношений с другими. Как вскоре выяснилось, вместе с ним я потерял озоновый (защитный) слой своей атмосферы. Коля фильтровал жесткую радиацию непонимания и безразличия (в лучшем случае) начальства и некоторых коллег. Без Колиного фильтра я почувствовал, что ее воздействие на меня усилилось.
Коля был лучшим начальником, с которым я когда – либо работал. Думаю, не только для меня. Хотя «добреньким» он никогда не был. Указывал мне на логические скачки в отчетах и статьях (мои «привычные» ошибки). Убеждал брать новые работы, которые мне не нравились, и отдавать другим те, к которым я привык. Вообще при нем круг моих обязанностей быстро расширялся – группа росла и готовилась вести приемные тракты новых разработок, включая временную и пространственную обработку сигналов и их отображение.
Две последние строчки строфы из песни Окуджавы «совесть, благородство и достоинство…» заканчиваются призывом: «Протяни ему свою ладонь, за него не страшно и в огонь».
Отсутствие того, кому можно было так довериться, существенно повлияло на мое развитие, в том числе научное, которое, казалось, мало зависело от Коли.
Слова «Бог забирает лучших» никого утешить не могли.
«Ритм» и другие заботы
Коля ушел от нас. Остался НИР «Ритм». Работа была большая, сложная и… дорогая. Например, на контакты в микросхемах и разъемах выделялся один килограмм золота, так как требовались большое быстродействие и надежность цифровых устройств.
НИР была одной из первых, всецело посвященной алгоритмам обработки гидроакустических сигналов и цифровой технике, их реализующей.
Как первый заместитель научного руководителя я выполнял его обязанности. Высокому (выше институтского) начальству нужен был ответственный, с которого можно спросить.
Тех, кто занимался «Ритмом», пригласили к Алещенко. Кроме меня, там присутствовали Галя Симонова, Юра Шукевич, Сережа Якубов, почему – то Игорь Горбань и, вероятно, Лёпа Половинко.
Алещенко сообщил, что нужно принять решение о о научном руководителе «Ритма». Мне эта постановка показалась странной, я как – то не мог представить кого – нибудь со стороны, кто мог бы выполнять эти обязанности. Юра и Галя тоже удивились, но высказались в том смысле, что это должен быть я. Поддержал и Сережа Якубов, хотя с некоторой заминкой. Игорь Горбань – студент – практикант, до этого рта не открывавший, оказывается, тоже имел возможность высказаться, но и сейчас этой возможностью не воспользовался. Не помню, был ли при этом «консильере» Кошембар. Алещенко согласился с тем, что руководителем буду я и тут же перешел ко второму вопросу, что делать с наследием Коли Якубова. Нужно как – то если не увековечить, то как – то продлить память о нем. Может быть, развить его результаты. И защитить его диссертацию. По поводу первого высказывания я собирался объясниться с Алещенко отдельно, по поводу второго я даже не знал что сказать. Возможность защиты за умершего человека диссертации (а она уже была переплетена, и плакаты тоже были готовы) как – то трудно было представить. Оказывается, я ошибался. Как и в цели всего спектакля, устроенного О. М.
Но об этом я расскажу позже, как и об Игоре Горбане. Он был не первым «сыночком», с которым пришлось сталкиваться за время работы в ящике (первым был Юра Хрущев), но самым «проникновенным», наподобие нейтрино. Про дочек и сыночков читайте в приложении А.
«Благословение» Алещенко было не последним этапом в моем назначении. Вскоре состоялся партком, на котором рассматривался вопрос о возможности моего назначения на должность научного руководителя НИР «Ритм».
Никаких вопросов о науке там не было. Интересовались моим морально – политическим обликом. Не знаю, было ли ознакомлено руководство парткома с выписками из папки доносов на меня в режиме, или все ограничилось одной «объективкой», но мне устроили форменный допрос с пристрастием. Одним из вопросов, доставших меня, был вопрос, хожу ли я в театры. На что я ответил, что после того, как оперных звезд забрала Москва, в киевские театры я не хожу. Кто – то чуть не задохнулся от возмущения. «Как же Вы будете нести культуру в вашу группу и в подразделения, которые будут выполнять ваши задания»? Про книги, журналы и другую «культуру» не спрашивали. Совсем некстати в голове стал крутиться гэг: «Де тепер Руденко Б., хто її тепер …?
И тут неожиданно на помощь пришел Гриша Коломиец. Он сказал, что в театре я разбираюсь, более того, широко пропагандирую передовые театры страны и патриотические пьесы в них. Гриша был не просто членом парткома, но молодым и перспективным замом секретаря (еще Илларионова). Кандидатом в большие начальники. Партком как – то на скаку остановился – вразнос тачанка не понеслась. А по внешнему облику и проявлениям многие члены этого парткома напоминали других – из анекдота.
Когда в двадцатых принимали в партию скрипача из Каганов, один из членов бюро решительно возразил, с мотивировкой, что тот играл на махновской свадьбе. «А ты – то откуда знаєшь»? — «Так я ж сам на ней дружкой был».
Одним из живых свидетелей той эпохи был завхоз, бывший чекист Коцюбенко. Он любил рассказывать, как трясли буржуев, а потом и нэпманов. «Сразу волыну (лучше всего маузер) к шнобелю трясущегося Рабиновича и кричишь: Котлы, желтизну, побрякушки, бимбары – всё на стол! Да не щелкай хлебалом, а не то сверну штифт[14]… Однажды промахнулись. В ответ на угрозы, нэпман сказал, что он уже все сдал, вот и справки имеются с печатями». «Остался я только с моим золотцем Сагой». — «Много? Сколько граммов»?» – «Да пудов шесть». — «Где»?! — «Да в соседней комнате. Сага, золотце, пойди, покажись господам чекистам».
Рабочие отношения у меня с Коцюбенко были почему – то хорошими. Без отказа выдавал для нужд растущей группы дефицитные стулья, столы и даже книжные шкафы.
Выручивший меня на парткоме Гриша имел в виду гастроли в Киеве Театра на Таганке в 1971 году. Актёры Таганки, с которыми была знакома сестра Таня, жаловались, что из зала нет отзыва, не чувствуется «дыхания зала», все уходит как в вату. Публика была «отборная» – почти все билеты распределялись, и партер театра Оперетты заполняли ответственные товарищи, жены которых чуть ли не насильно привели их в театр. Поэтому контрамарки, лишние билетики и просто проводка мимо вахтёров актерами поддерживались. Я поделился с моими коллегами своим студенческим опытом, и они, иногда с помощью актеров, в театр проникали. Среди других были Эля Коломиец, Катя Пасечная, Люба Кришталь.
Кстати, тогдашняя подруга сестры Тани – Зина Славина – познакомила меня с Володей Высоцким. Он был не в настроении, но обещал, что выступит у нас, если не будет сложностей и будут соответствующие бабки. Я только заикнулся даже не в парткоме, а в профкоме, как на меня буквально зашикали: ты что, под монастырь нас хочешь подвести? Так что Володя так и не увидел нашого шикарного актового зала.
После утверждения научным руководителем меня вызвали в 10‑е Главное управление Минсудпрома для корректировки ТЗ. У меня возникли трудности. Мы с Колей и так собирались корректировать ТЗ, но тут требовалась существенная корректировка. Колина идея «пространственно – частотной» обработки полностью укладывалась в двумерное БПФ как частный случай с одной формируемой диаграммой направленности. Когда Коле пришла в голову идея ПЧП, одной из основных проблем было аналого – цифровое преобразование. Коля заменил его коммутацией и при сложении дискретных сигналов с выходов приемников формировалась одна диаграмма направленности, повернутая на определенный градус от нормали к антенне зависящий от скорости коммутации. После чего все равно нужно было сигнал оцифровывать и подвергать обработке – лучше всего БПФ. Но это была уже как бы временная (частотная) обработка. Коля мог бы развить свою идею в других направлениях. Например, мы обсуждали с ним идею увеличения апертуры антенны за счет ее движения (синтезированная апертура). Это потом было реализовано в других приложениях – для поиска мин и картографирования дна. Но без Коли заниматься этим я не хотел (да и просто мог не потянуть, и возможности такого приложения ни в «Звездах», ни в других темах, вплоть до «Кентавра», не было). Юра Шукевич после армии остыл, положиться на Горбаня я боялся – он «косил» в очную аспирантуру КПИ, да еще не на кафедре Карновского. С другой стороны, хотелось оставить часть этих работ – уже была запланирована антенна для следующей экспедиции, которую можно было использовать не только для ПЧП. Не помню, говорил ли я с Алещенко, но для себя решил так: работы делать, но в ТЗ их, как обязательные, не вписывать.
Приехав в главк, обнаружил, что заниматься со мной некому. Начальник 10 ГУ Николай Николаевич Свиридов назначил время, я должен был рассказать о работе и подготовить сформулированные изменения, но его вызвали наверх, и он передал меня своему помощнику Сиводедову. Уволенный с флота офицер лет сорока (может быть, политработник по сокращению штатов), Виктор Максимович грыз гранит гражданской науки (учился в заочном ВУЗе). На мои вопросы как именно должна проходить процедура корректировки, ответил, что на экземпляре главка я впишу от руки новые формулировки (их не должно быть много), подписываюсь под каждой и… «гуляй, Вася». Ему лично все равно, что я там напишу. Такой Витя – пофигист. Но начальство считало его полезным работником.
У него была просьба – помочь в решении задачек по физике, у него контрольная. Задачки я решил, пришел на следующий день, чтобы отметить командировку и отбыл в Киев. Печаталось, согласовывалось с флотом и подписывалось новое ТЗ без меня.
Недели через две в институт пришло новое ТЗ, я должен был подписать три экземпляра, один остался в первом отделе, и по одному ушли в главк и в 5‑е Главное Управление Флота (радиотехническое управление – РТУ), наш заказчик. Пишу об этом подробно, потому что через некоторое время пришлось разгадывать ребус – откуда пришло предписание явиться к заместителю Котова.
Адмирал П. Г. Котов[15] являлся заместителем Главнокомандующего флотом С. Г. Горшкова по кораблестроению и вооружению. Так как заместителей заместителя на флоте не бывает, то вызвавший меня адмирал был заместителем только один раз – заместителем начальника кораблестроения и вооружения флота – все того же Котова. Одновременно заместителем и начальником на флоте быть разрешается.
Вызвавший меня И. И. Тынянкин недавно получил новое назначение. Ему, наверное, дали время осмотреться и наметить перспективы. Он оценивал состояние дел с учетом имевшихся недостатков, накопившихся претензий флота и к флоту, знакомился с новыми подходами и идеями. Одним из них и была цифровая обработка сигналов.
Из – за стола обширного кабинета встал высокий, молодой, красивый адмирал, сделал пару шагов мне навстречу, пожал руку и предложил сесть.
Справа налево: И. И. Тынянкин, С. Г. Горшков, П. Г. Котов в Морфизприборе в 1967 г. Тынянкин еще каперанг
После моего краткого доклада стал задавать вопросы, которые адмиралы обычно не задают. Пришлось рассказывать о тонкостях БПФ, оптимальности процедур обнаружения на основе его применения, сохраняющейся практически при всех распределениях сигнала и помехи. Потом я перешел к вторичной обработке, работам Института Кибернетики. Он стал спрашивать, какие принципы заложены в основу алгоритмов. Услышав, что кроме статистического накопления по предполагаемым траекториям еще и эвристические процедуры, сказал, что есть и другие алгоритмы. Прерывали нас редко. Вообще – то подчинялся он по вертикали только двум начальникам: Котову и Горшкову. Возможно, что оба его и продвигали.
Беседа продолжилась до перерыва на обед. Адъютант отвел меня в столовую, где быстро, дешево и вкусно удалось пообедать в его компании. Я удивился, что сразу три дважды полных (по комплекции и по звездам) адмирала обедают в какой – то части столовой, находившейся на небольшом возвышении.
Погон старшего мичмана
Он посмотрел и улыбнулся – это же старшие мичманы! Где обедают не такие полные, но тоже трехзвездочные адмиралы я выяснять не стал.
После обеда Тынянкин меня отпустил и попросил встретиться с ним завтра у главного подъезда в Большом Комсомольском переулке 6. Пропуск он закажет. Я старался не опоздать к назначенному времени и не помню, успел ли пообедать. На проходной меня удивило, что часовой – молоденький матрос, после того, как довольно медленно проверил мой пропуск и паспорт, глядя то на меня, то на фотографию в нем, так же внимательно и долго рассматривал пропуск Тынянкина, переводя глаза с него на адмирала и обратно. Иван Игнатьевич стоял спокойно – он к этим играм привык.
Второй день был не таким напряженным. Говорили о приложениях «Ритма». Среди других проектов затронули и «Бутон», и я понял, что Тынянкин в курсе дела. От него я и узнал, что первоначальный комплект «супербуев» «Бутона» стоил бы больше, чем весь жилищный фонд Киева [Рог17]. Судя по его тону, он не был горячим сторонником «Бутона», как его предшественник на посту командира в/ч 10729 С. П. Чернаков.
Много времени подряд он уделить мне не мог, и мы задержались. Когда я захотел поставить печать на пропуск, оказалось, что в 5 ГУ печать уже была в сейфе и единственная возможность отметиться осталась в 1‑м ГУ – ГУКе (Главном Управлении Кораблестроения). Добираться туда пришлось, как по лабиринту. Не было ни одного коридора, по которому можно было бы пройти прямо туда из 5ГУ. Приходилось спускаться и подниматься в лифтах начала века – красное дерево (уже без зеркал), но с металлической вязью в стиле модерн, выбирать то левый, то правый поворот в коридорах и т. д.
Здание в/ч 87415 – угол Большого Комсомольского и Лугинецкого (справа) переулков
Вообще – то днем ходили с сопровождающими, но офицеры, которые задерживались допоздна, были заняты срочной работой.
Сложность переходов объяснялось тем, что в/ч 87415 – служба кораблестроения и вооружения, включавшая все специальные Управления ВМФ, занимала здание Большой Сибирской гостиницы, построенной в стиле модерн в 1900 г. с электричеством, лифтами, рестораном, славившимся своими пельменями.
В приемной пришлось ждать. Сначала я устроился на диване, по виду старом, но недавно заново обитым. Но мне предложили пересесть на стул. Дежурный офицер куда – то пропал, мне сказали, что в случае чего, разрешат прикорнуть на диване. «Он не простой – на нем Катюша Маслова спала, поэтому бережем». Действительно, Толстой обозначал Сибирскую гостиницу как место действия Воскресения. Наконец, пришел нужный дежурный, и меня отпустили. Не пришлось мне мучиться кошмарами после ночи на диване Кати.
Яркое описание одного рабочего дня в соседнем ГУ – минно – торпедном – приведено в книге [Гусев].
Больше мне с Тынянкиным встречаться не довелось. Пару раз я был на совещаниях в «актовом зале» в/ч 87415 – службы кораблестроения и вооружения, где он сидел за столом президиума. Эти совещания были мне не по чину. Об одном из них, посвященном комплексным проблемам классификации с докладом академика Александрова я писал в [Рог17]. Только позже я догадался, мой вызов без руки Тынянкина не обошелся.
Может быть и хорошо, что я про его предыдущую службу ничего не знал. Карьера у него была стремительной.
В 1941 поступил в ВМУ им. Фрунзе. Будучи курсантом, успел повоевать в Ленинграде и оборонять Апшеронский полуостров в составе курсантской роты. После выпуска в 1944 году командовал БЧ ПЛ на Черном море, принимал участие в захвате румынского флота. После учебы в ВМА в 1954 г. оказался в РТУ (5ГУ) флота под руководством А. Л. Генкина, и прошел там все служебные ступени до зам. начальника. В 1964 году Генкин направил его в в/ч 10729 начальником I Управления, где он прослужил до 1970 года, получив за ГАК «Керчь» для АПЛ пр. 670 («Скат») Госпремию в 1967 году. Научным руководителем разработки «Керчи» был Ю. М. Сухаревский [Рог17]. В 1970 г., перед отставкой Генкина, вернулся в 5ГУ его заместителем, но начальником не стал – им стал М. Я. Чемерис. В 1974 году внезапно умирает в возрасте 57 лет начальник в/ч 10729 С. П. Чернаков. Тыянкин возвращается туда командиром части – за «мухой» – адмиральской звездой на погоны.
Он нравился Горшкову и Котову. (Злые языки Курзенев, [Кур] называли его «царедворцем»).
Через полтора года, получив «муху», Тынянкин перепрыгнул Чемериса – был переведен в заместители начальника кораблестроения и вооружения флота. Котов планировал его в свои преемники. Но вышло так, что сам он, вместе с Горшковым, пересидел предельный срок службы (до 60 лет) на 15 лет (из них пять – законное продление по запросу вышестоящего начальства с утверждением Совмином). Когда Котов ушел в отставку (в 1986 году), Тынянкин уже отслужил три дополнительных года после 60 и назначать его на два года заместителем Главкома никто из новых начальников не собирался.
Адмиралы, о которых речь шла выше, за исключением Чернакова, были долгожителями.
Генкин скончался на 93‑м году, проработав после отставки в 60 лет (ему службу не продлили) заведующим лабораторией в Институте океанологии (ИО) АН до 90 лет.
Чемерис прослужил до 63 лет, прожил до 87 лет.
Котов ушел в отставку в 75 (!) лет. После отставки написал книгу – про деятельность академика Александрова как научного руководителя программы атомного подводного флота и ответственного в АН за решение проблем ВМФ. Умер Котов в 96 лет.
Тынянов ушел в отставку в 65 лет, проработал завлабом в ИО до 90 лет, до сих пор (2018 г.) активно участвует в общественной жизни, является членом редколлегии Морского сборника (в 95 лет).
Еще одна защита
В предыдущей главе я забежал вперед, чтобы не разрывать рассказ о начале «Ритма». Вернемся в 1975 год. Прошел год со дня защиты кандидатской (18.10.74) — из ВАКа (Высшей Аттестационной Комиссии) известий не было. Меня это не беспокоило, но слухи о ее реформе и последствиях приобретали все более зловещий оттенок. «Не приведи господь жить в эпоху перемен» говаривал Конфуций.
Не помню, кто мне добыл «правильный» телефон ВАКа, по официальному номеру не отвечали. Я спросил, как продвигается диссертация. Назвал фамилию, дату и место защиты – Большой Совет ИК. Попросили перезвонить позже и второй раз ответили, что такой диссертации у них нет. «Как нет»? — «Не поступала». Поехал в Институт Кибернетики, к начальнику первого отдела. Тот вызвал сотрудниц и сообщил, что у них диссертации тоже нет. Мне стало даже смешно. «Потеряли сов. секретную диссертацию»? — «Разберемся». По их виду они не очень – то обеспокоились. Попросил нашего начальника первого отдела Снежко прозондировать там обстановку и напомнить им, что за утерю такого 300-страничного документа можно (хотя и маловероятно) получить от 8 до 13 лет. Через день диссертацию нашли. Вызвали из декрета ставшую молодой мамой сотрудницу, год назад оформлявшую стенограмму и протоколы защиты. Она нашла готовую год назад к отправке диссертацию. Чуть ли не с нарочным отправили ее в Москву.
Сочли возможным извиниться. Да, год назад нужно было носить конфеты и надоедать каждый день.
Лет в 12 я прочел знаменитые мемуары А. Н. Крылова [Кр]. Там описывался случай, когда по совету опытного юрисконсультанта отправили какое – то предписание или судебное решение, не устраивавшее ответчика, в котором упоминался г. (господин) Петропавловский, «по принадлежности» в г. Петропавловск – Камчатский. Обратно оно не вернулось.
О поступлении моей диссертации в ВАК мне сообщили открыткой. Через два месяца меня туда вызвали. Оказалось, диссертация будет рассматриваться на экспертном совете. Такой чести «удостаивались» обычно только соискатели докторской степени (да и то не все). Я терялся в догадках – что же могло произойти? Кляузы, случавшиеся в 11 отделе, когда восемь лет назад косяком пошли защиты по буёвой тематике? Тогда у многих были персональные претензии к тем, кого допускали к защите. Об этом не хотелось думать – на материал диссертации никто, кроме меня, претендовать не мог. В нашем отделе такого вроде бы не водилось. Обиженная Таня М. из ИК? — Об этом расскажу позже.
Может быть неверно понятая «инсценировка» защиты, где с несколько неуклюжим юмором обыгрывалась защита, выставлявшая диссертанта, как, впрочем, и оппонентов, в сомнительном свете? Эту сценку под две бутылки «Киндзмараули» мы разыграли с Инной Малюковой в лаборатории на следующий день после защиты. Туда пришли и те, кого я не приглашал. И им могло что – то не понравиться.
Реформа ВАК строжайше запрещала банкеты – были случаи отмены решений о присуждении степени.
Но, по присловью Жени Тертышного, в жизни все не так, как на самом деле. Причиной оказалась реформа ВАКК53.
Для подготовки к разбирательству в ВАК нужно было искать в Москве спокойное жилье. Не хотелось повторять опыт Саши Резника, готовившегося к защите в АКИНе, когда ему приходилось освобождать номер на несколько часов под вечер, чтобы его сожитель мог поразвлечься с очередной девушкой [Рог17].
Родители попросили жену папиного друга по институту Макса Ритова – Валентину Васильевну принять меня. Макс умер несколько лет назад, не дожив до 60. Не помогла и профессия жены – она была доктором медицинских наук, профессором. Квартира была недалеко от центра, в отличие от купавинского пристанища, где жили родственники Нины. Кроме того, папа надеялся, что В. В. сможет рассказать мне о ваковских обычаях. Этого не случилось, хотя процесс общения ее диссертантов с руководителем мне довелось увидеть. Я очень благодарен В. В. за приют и заботу. Она заботилась обо мне, как могла. Я никак не мог понять смешочков круга ее знакомых, включая папу, которые называли ее «эталоном» К53.
Об обстановке в ВАКе коротко рассказал мой руководитель Борис Григорьевич Доступов. До этого общался я с ним редко – он почти сразу переехал в Москву, профессором кафедры вычислительной техники и кибернетики Академии Генштаба. Помню, как удивлялся, видя его полковничью шинель, сиротливо висевшую среди генерал – лейтенантских, и генерал – майорских, принадлежащих даже не профессорам, а старшим преподавателям других кафедр.
К сожалению, наше общение с Борисом Григорьевичем не было интенсивным, даже на последнем этапе перед защитой. После переезда в Москву он хотел отказаться от руководства, но я его уговорил – он мне был нужен и полезен при любой степени участия. Кроме того, я получал удовольствие от общения с ним.
Борис Григорьевич являлся для меня примером порядочности и интеллигентности. Хотя я для него являлся скорее обузой, хотя и необременительной, он остался «руководить» мной, так как понял, что иначе мне будет хуже. Руководителя в Киеве я найти не мог – чего стоили попытки найти «ученых», которые хотели бы разобраться в тематике диссертации [Рог17]. Проблемы я решил сам, но, как говорил наш заваспирантурой Хобта, соискатель без руководителя, как дама без шляпки (вариант – без чулков).
Главной проблемой с Б. Г. был его отказ от каких либо положенных за научное руководство денег. Это составляло около 400 рублей, которые лежали на его депозите в бухгалтерии нашего института, но он их не брал. Он говорил, что раз я сделал все сам, то деньги получать ему не за что.
Хобта пообещал вопрос решить. Мне Б. Г. запретил что – либо предпринимать.
Жаль, что мне не пришлось с ним работать, хотя он был крупным специалистом в моей институтской специальности – у него были результаты в статистическом анализе нелинейных автоматических систем. Правда, он во время моего общения с ним занимался уже другими проблемами.
Из бесед с ним запомнились несколько, может быть, и известных истин, но хорошо и мягко им артикулированных, так что они моментально и на всю жизнь усваивались.
Так, он говорил, что книгу, статью или доклад, особенно присланные на рецензию, следует читать три раза: первый – верхом, второй – пешком, а третий – ползком.
Можно различить три стадии понимания материала. Первая – когда находишь ошибки. Вторая – когда сможешь увидеть достоинства. И третья – когда можешь найти место результата в сложившейся структуре области рассмотрения.
Доступов был из поколения мальчиков двадцатых, которых Окуджава просил: «постарайтесь вернуться назад». Их поколение было выкошено войной. И тут судьба – редкий случай – помогла отличникам. Их призвали и вместо передовой послали в военные училища. Доступова после 4 курса мехмата Саратовского университета перевели в ВВИА им. Жуковского. Его соавтору И. Е. Казакову дали закончить пятый курс МГУ, и он тоже попал в эту академию. Они успели окончить академию в 1944, но уже до этого были в действующей армии техниками, а потом инженерами авиаполков. Сходная судьба была и у Тынянкина.
В отличие от Казакова и Тынянкина Доступов высоких чинов не достиг – мешала интеллигентность и мягкость. Он окончил адъюнктуру, защитил кандидатскую, потом докторскую, стал профессором и начальником кафедры. Должность генеральская, но за верным назначением его послали в Киев заместителем начальника КВИАВУ по учебной и научной работе. Но начальника училища Максимова такой заместитель не устраивал. Ему нужен был другой – грубо говоря, «деловар».
Б. Г. Доступов выпускник ВВИА
Такой, хорошо знакомый с киевскими обычаями, нашелся – Петр Иванович Чинаев, которого мне довелось наблюдать в действииК61.
Главным из его дел была организация защиты кандидатской диссертации дочери маршала Якубовского. После чего на погонах Чинаева засверкала генеральская звезда. Если для кадров минобороны благосклонность генерала армии, командующего Киевским военным округом, может быть, была недостаточной, то даже намек первого заместителя министра обороны и маршала Советского Союза (с 1967 г.) исполнялся мгновенно.
В нашем ящике для Чинаева первыми и главными защитившимися в 1967 г. были директор Н. В. Гордиенко и главный конструктор предприятия И. М. Горбань. За четыре года (1967–1971) у него защитилось восемь человек, а всего под его руководством столько же, сколько под руководством Карновского и Воллернера вместе взятых.
А Борис Григорьевич был уволен из армии, стал председателем секции прикладных проблем АН УССР и зав. отделом надежности в ИК. Затем уехал в Москву, в Академию Генштаба.
Н. П. Бусленко
Встречались мы у него дома. Сам он при перестройке ВАКа к нему был не близок, сказал только, что обстановка там тяжелая. При мне он позвонил Н. П. Бусленко и договорился о моей встрече с ним.
Тогда про Николая Пантелеймоновича я знал только, что он автор книги «Метод статистического моделирования Монте – Карло» и член экспертного совета, рассматривавшего диссертации в т. ч. и по технической кибернетике.
Встречу он мне назначил в институте нефти и газа им. Губкина («керосинке») на проспекте Энтузиастов. Там он заведовал кафедрой прикладной математики и компьютерных технологий, на которой работало довольно много сотрудников. В большой преподавательской я обнаружил своего школьного товарища Леню Острера, с которым мы вместе поступали в Физтех в 1958 году. Он тогда поступил, я – нет [Рог13]. Со времени окончания института прошло уже больше десяти лет, и многие физтеховцы того призыва к этому времени уже написали докторские диссертации, включая моего друга Женю Гордона, а Леня был ассистентом без степени. Но с приходом Бусленко на кафедру у него появились надежды продвинуться.
Николай Пантелеймонович принял меня в кабинете, расспросил о диссертации – задавал короткие и направленные вопросы. Сказал, что с наукой все в порядке – остается выстоять при перекрестном допросе на экспертной комиссии. Постарается успеть на заседание, хотя на это время у него назначено какое – то совещание. Попросил проводить его в другой корпус, чтобы продолжить беседу. Она приняла неформальный характер. После вопроса о моих планах он (на ходу) сказал, что вообще – то, согласно заветам Филиппа Староса, направление работ нужно менять каждые пять лет, а жену – каждые десять. Так я впервые услышал фамилию Староса. Тогда мне было не до анализа этого экстравагантного высказывания, но я его запомнил и потом вспоминал[16].
У меня оставалось еще дня два на подготовку. В ВАК меня ознакомили с моим делом – все вроде было в порядке. Недостатком, как сказали в отделе закрытых диссертаций, было то, что у ведущей организации (в/ч 10729) было слишком много замечаний – штук пять или шесть.
То, что основным недостатком для нового ВАК, и в первую очередь его председателя, являлось отчество диссертанта, секретарь отдела умолчал, а я еще не позволял себе в это верить.
Так как сам отзыв был весьма положительный – «открывает новые горизонты» и т. д., то ни я, ни Большой Совет Института Кибернетики не придал им значения – по сути, они были мелкими придирками. Составлял и подписывал отзыв кавторанг Марк Лазуко, но «вникал», писал замечания и оформлял отзыв каплей Грызилов, известный своей дотошностью и мелочностью. Боюсь, что Лазуко не видел окончательного текста. Может быть, подписи Грызилова и не было – не помню[17].
Непонятно было к чему же готовиться. Доклада могло и не быть – иногда комиссия ограничивалась вопросом типа: «назовите три главных результата вашей работы». А потом уже, в зависимости от интересов и настроения своих членов, «раздевала» диссертанта. Но иногда, судя по времени пребывания соискателя степени у нее, видимо удовлетворялась ответом на вопрос.
Нужны ли были плакаты, если все – таки попросят рассказать о содержании – даже на этот вопрос я не получил внятного ответа. Понял, что в случае необходимости буду писать формулы на доске, тем более, что плакаты быстро не придут, а с нарочным присылать их мне никто не будет. Один из самых эффектных, по «Бутону», с многомерным БПФ для пространственно временной обработке с формированием веера диаграмм направленности в вертикальной и горизонтальных плоскостях был отчужден – висел в зале постоянной выставки институтских достижений.
Больше всего меня мучил вопрос, что находится в запечатанном конверте, который мне сказали ни при каких обстоятельствах не открывать. Что там было: бюллетени для голосования (20 – за, недействительных – два) или кляузы (доносы) на диссертанта так и осталось неизвестным. Несмотря на то, что я оставался иногда подолгу в комнате один, вскрыть пакет я не решился. Так никогда я и не узнал, что в нем. Надеюсь, что кляуз все – таки не было.
В комнате и во время прогулок по коридорам довелось слушать интересные вещи. Результаты сов. секретных работ по оборонке не были наиболее охраняемыми сведениями. Гораздо более чувствительными для неразглашения оказались история и современное состояние межнациональных отношений. Кто – то из партийных органов (м. б. идеологического отдела ЦК) внушал кому – то из КГБ, что не только публикация, но даже закрытая защита диссертации на тему армяно – азербайджанских отношений может привести к взрыву не только эмоций, но и вооруженных столкновений. Через десять лет (в 1985 году) я прочел книжку на эту тему (всего лишь со стертым грифом для служебного пользования, оказавшуюся в библиотеке турбазы Нового Афона). В ней доказывалось, что Сталин лично заложил бомбу в карабахскую проблему (увы, не только в нее), и эта бомба может взорваться в любую минуту.
Еще одна беседа партийного товарища с другим соискателем докторской из ВПШ заканчивалась настоятельной рекомендацией снять диссертацию с рассмотрения, чтобы сохранить возможность ее защиты позже. Одним из аргументов был тот, что во введении диссертант написал «Как указал XXIV съезд партии». Осведомленный товарищ сказал, что через месяц будет XXV съезд и в тезисах к съезду по этому поводу будет указано другое.
Надо сказать, что там я понял, что еще актуальны слова из песни «партия – наш рулевой», хотя некоторые считали, что хвост (КГБ) уже давно вертит собакой (КПСС), хотя по определению он должен быть спереди (передовой отряд партии). Но тренд был налицо, а на идеологию КГБ не претендовало.
Наконец настал час Х. Соискатели, проходившие чистилище (человек пять – семь), собрались как студенты перед дверью экспертной комиссии. Вызывали по одному. Результатов не объявляли – обещали прислать по почте. Порядка кто за кем, ни по алфавиту, ни докторские вначале, не было – выходил секретарь Совета и приглашал очередную жертву.
С удивлением обнаружил среди ожидающих Мишу Чаповского, начальника 151 сектора нашего ящика. Миша (Михаил Захарович) был электронщиком. Он первым начал использовать новые малошумные транзисторы в усилителях для радиогидроакустических буев. Довольно рано защитил кандидатскую диссертацию под руководством тогдашнего киевского гуру в радиоэлектронике И. Н. Мигулина, д. т. н., профессора КВИАВУ. Мигулин же благословил его на докторскую.
По работе мы с Мишей не пересекались – во – первых, я еще только начал выходить с техническими заданиями на спецов из отдела 15, который занимался предварительными усилителями и фильтрами, и, во – вторых, он работал в основном на задачи 10, 11 и 12 комплексных отделов нашего ящика (отделы по буям и автономным станциям). Вежливый, улыбчивый, казавшийся несколько замкнутым, не отвлекавшийся разными культурными манками от работы и науки человек. После двух прошедших комиссию (одного красного и растрепанного и другого улыбающегося) настала очередь Миши. Дверь в «чистилище» была прикрыта неплотно, и кто – то приник к щели, чтобы услышать, что говорилось. Пока я среагировал и попросил меня пропустить к щели – коллега! — прошло какое – то время. Миша говорил тихо. Вопросы задавались погромче. Их тон и громкость нарастали – комиссия «заводилась». Не помню формулировок вопросов, но они больше касались не аппаратуры, а теоретического обоснования ее применения.
Согласно теории такого – то…, из экспериментов таких – то, описанным там – то…
Аппаратура, разработанная Мишей и его лабораторией, уже работала. И на Севере при низких температурах и торошении льдов, и на юге при 3‑х балльном волнении. Методика проектирования усилителей на транзисторах была опубликована в монографии, написанной совместно с Мигулиным, уже выдержавшей два издания. Но Миша вместо того, чтобы отвечать по существу, начинал свои ответы словами: «Я не знаю этой теории, но…» – или – «Я не знаком с этими экспериментами, но…».
Единственное, что я еще помню, это мнение одного из членов комиссии: «Что же Вы, претендуете на докторскую степень и не знаете того, что делается в вашей области и в смежных дисциплинах?». Ни второй, ни третьей ступенью в понимании работы, которому меня учил Доступов, никто не озаботился. Было ясно, что Миша был «заказан». Оказалось, что следуя антисемитским установкам партии и лично Кириллова – Угрюмова, первое рассмотрение диссертации закончилось отказом от присуждения степени.
Флот возмутился и потребовал диссертацию по специальности радиоэлектроника к себе, на экспертную комиссию по «вооружению и снабжению» флота, на которой рассматривались работы, сделанные в интересах флота. Там решили, что Миша достоин степени. Тогда назначили согласительную комиссию, которая вынесла положительное решение о присуждении степени. Когда это решение утверждалось на Президиуме ВАК, то Кириллов – Угрюмов, обладавший хорошей памятью на фамилии и лица, спросил: «Чаповский – это такой черненький»? К несчастью, он видел Мишу во время апелляции. Да, подтвердил секретарь и показал фотографию в личном деле. «Помню, помню. Что это за безобразие – сначала отклоняют, потом снова присуждают – послать ее на другой экспертный совет». И Миша «попал». Было ясно, что решение будет отрицательным, что и было исполнено. Документы у Миши вроде были «справные», но Кириллов – Угрюмов (К. У.) носом чуял – «есть в нем не наше».
В похожей ситуации Н. Г. Гаткин повел себя по – другому, о чем расскажу ниже – и выиграл.
Миша вышел убитый. Я пытался его утешить. К нам подошел каперанг и сказал: «Что вы выпендриваетесь, радиоэлектроника вам нужна, техническая кибернетика – вы же на флот работаете, так и защищайтесь по «вооружению и снабжению» – хоть на физмат, хоть на технаук – и попадете сразу в нашу экспертную комиссию, которая знает, что вы сделали и для чего. Кто вам потом в дипломы будет заглядывать – все равно темы секретные».
Кто же знал, когда готовил диссертации, что Софья Власьевна поставит Малюту Скуратова (он же Кириллов – Угрюмов) в качестве председателя ВАК и мобилизует опричников для проведения своей национальной политики в науке. Я уже писал, что после войны Судного дня градус государственного антисемитизма сильно повысился.
Миша ушел, вызвали еще кого – то. Тут из комнаты комиссии куда – то вышел один из ее членов. Возвращаясь обратно, он остановился возле оставшихся, и сказал: «Что вы стесняетесь? Это ваш последний рубеж и защищаться нужно до последнего, не выходя за рамки приличий». Что это были за приличия, он не уточнил.
Наступила моя очередь. Председатель предложил мне вкратце рассказать о работе. После доклада (минут пять) спросил насчет реализации. Начались вопросы. Всех не помню, но отвечал вроде бы удовлетворительно. Бусленко я не видел – не хватало внимания всех рассмотреть. Зацепился с вопросами несколько расплывшийся мужичок форме полковника, по поводу оптимальности дискретного преобразования Фурье для обработки сигналов. Я объяснил. Он сказал, что для цифровой обработки больше подходят преобразования типа Уолша. Пришлось напомнить, что я занимаюсь обработкой гидроакустических сигналов, имеющих в основе колебания, и что в условиях помех здесь крайне важен динамический диапазон. Он стал говорить что – то еще, но тут его прервал председатель, насколько я помню, С. А. Майоров: «Георгий Акимович, я вижу у вас интересная дискуссия с диссертантом, не могли ли бы Вы перенести ее в другое место»? Георгий Акимович (как выяснилось позже, Миронов) согласился «прервать» дискуссию. У остальных членов вопросов больше не было. Меня отпустили. Проторчал в коридоре еще какое – то время, пока еще один вышедший «на перекур» член комиссии не сказал, что решений сейчас не будет – уведомление придет по почте – не ждите напрасно. С тем я и отбыл в Киев. Это произошло в конце 1975 года. Я опять завис.
Что там мои волнения, по сравнению с драмами тех, кто защищал докторские диссертации.
Миша впал в депрессию, ушел с фирмы. Он смог защититься только через десять лет.
Если антисемитская линия в ВАКе обрела в 1975 году партийно – государственный статус, это не значит, что «отдельные» проявления ее не случались раньше.
Один из друзей папы с техникумовских времен, Юзик Улицкий, через несколько лет после войны написал весьма нужную и полезную книгу по железобетонным конструкциям. Диссертацию на ее основе Ученый Совет послал на оппонирование одному из известных профессоров – антисемитов. Отзыв был отрицательным, хотя и не разгромным. Юзик подготовился к нейтрализации этого отзыва – было много не только положительных, но и признательных отзывов. Отзывы строителей и проектантов высоко оценивали диссертацию.
За несколько дней до защиты, оппонент умре. Никаких замен Ученый Совет не позволил. Но и мертвый человек в качестве оппонента действовать не мог. Все это длилось долго, Юзик получил инфаркт и отказался от защиты.
По его книге потом учились несколько поколений студентов, в том числе сестра Оля в Воронежском строительном. Юзика в живых уже не было (Оля родилась во время написания книги, двадцать лет назад).
Во времена описываемой ВАКовской перестройки характерный случай произошел с Марком Гальпериным, защищавшимся в ВМА по первой в стране БИУС «Узел». После успешной защиты положительный отзыв черного оппонента «опоздал» на несколько дней к последнему заседанию старого Пленума ВАК. Чуть ли не через год состоялось заседание нового Пленума.
Секретарь ВАК доложил о работах, успешно прошедших защиту и черное оппонирование. Среди них и о работе Гальперина, черным оппонентом которого был А. И. Губинский. Поднимается академик (Дородницын – О. Р). «Кто догадался отправить работу Гальперина Губинскому? Мне это не нравится, не стоит ли нам еще вернуться к этому вопросу»?
Академик Дородницын, по свидетельству хорошо его знавшего и работавшего у него в ВЦ АН СССР профессора Ушакова [Уш2] был биологическим антисемитом.
Дальше Гальперин пишет:
«И началась какая – то затяжная процедура. Я сейчас не помню её сути, но пошёл процесс, в который вмешались и командование военно – морского флота, и министр электронной промышленности. Они взяли этот вопрос под личный контроль. В конце концов, окончилось всё благополучно, и диссертация была утверждена.
Уже после того, как мне прислали официальное извещение о том, что весь процесс успешно закончился, я совершенно случайно встретился на очередном Учёном Совете, на какой – то защите в Ленинграде, с моим «чёрным оппонентом» профессором Губинским. Мы отошли с ним в уголочек, и я ему говорю: «Слушай, что ж ты, «жидовская морда», соглашаешься оппонировать диссертации порядочных людей, чего ж ты чуть не завалил мою диссертацию». На что он отвечает: «Ты знаешь, почему я Губинский? Я архангельский мужик. Когда производились первые переписи населения, то почти все жители нашей деревни Губа получили фамилию Губинские. Из – за этой фамилии я не смог получить адмирала. Вот такая смешная история».
Такие «смешные» истории встречались нередко. Одна из них про то, как завернули докторскую диссертацию по кибернетике Д. А. Поспелову. Так как она была, по определению Дородницына, «talkative cybernetics», то через год он представил другую, и успешно защитился.
Еще раньше завалили патриарха вычислительной техники и программирования И. Я. Акушского. С формулировкой: использован текст американской статьи. (Выдержки из нее были приведены в обзоре со ссылкой и не касались текста диссертации). Диссертация по физмат наукам осталась незащищенной, но он успел к тому времени (в 1965 году) стать доктором «тех» наук – разработав самую быстродействующую ЭВМ в СССР, с быстродействием более одного млн. оп/сек и наработкой на отказ более 1000 часов. ЭВМ работала в системе остаточных классов.
Только через десять лет с подачи В. И. Чайковского из ИК и при содействии его аспирантов, в том числе сотрудников ящика, мы смогли в НИР «Ритм» разработать процессор БПФ, работающий в системе остаточных классов, а потом внедрить его в ОКР «Камертон».
Кстати, сетования Губинского на кадровиков не совсем понятны. Акушский долго работал в подчинении у Юдицкого, к которому никаких претензий в кадрах из – за фамилии не было, а его должности превышали адмиральские. Правда, в отличие от Израиля Яковлевича, Юдицкий именовался Давлет – Гирей Ислам – Гиреевич, и поэтому охрана не хотела пускать его на полигоны, где работали его и Акушского ЭВМ. А Акушского туда пускали, но не пускали в начальники и в Академию Наук.
Израиль Яковлевич в начальники и не хотел и симбиоз Юдицкого (начальник, главный конструктор) и Акушского (идеолог, руководитель разработки) функционировал отлично и много лет. Таких примеров можно привести много, они имеют давнюю историю, начиная от официальных должностей «евреи при губернаторе». Самым ярким примером является семейство самолетов МиГ, которые так назывались до самой смерти Микояна (после они тут же превратились в Миги при живом Гуревиче). Микоян знал, кто их на самом деле проектировал и строил. Но он их «продавал», проталкивал, что тоже являлось необходимым для успешного проекта и, особенно, серии, а Гуревич этим заниматься не любил. Это устраивало обоих. Наград у Микояна было намного больше, но Гуревича это не волновало, главное, что ему не мешали работать. Можно в таких случаях привести слова Гафта по поводу выступления в Америке дуэта Ширвиндта с Державиным: «… все, что ни сделают – олл райт. Вот дружба русского с евреем – не то, что ваше блэк энд уайт». Правда Микоян и Юдицкий больше советские, чем русские, но в первом приближении…
Гальперину и Акушскому повезло. Сотням (м. б. тысячам) евреев – нет. Они первыми сделали ручкой Софье Власьевне. Наконец, Кириллова – Угрюмова «ушли», но вовсе не из – за евреев. Уехавшие на Западе получили признание в соответствии с их научной ценностью (и, увы, пробивной способностью).
Хотелось бы вкратце рассказать о людях, встреченных мной при защите или связанных с ними.
С Борисом Григорьевичем Доступовым мне довелось встречаться в Москве не раз. Ко времени моей чистки в ВАКе он в Академии Генштаба уже не работал. Он пострадал за кибернетику.
В Академию Генштаба его пригласил ее командующий, генерал армии Иванов. Уволил его тоже Иванов, генерал армии, но другой. Первый, был современным генералом, остро чувствующим потребность армии в вычислительной технике и системах автоматизированного управления, на ней основанных. Второй был противников всяких кибернетических штучек, вскрывающих всю дурь, которую совершали генералы, единолично принимающие решения по доступной им и не сохраняемой потом информации. Он был не одинок – ему было за кем следовать, таким же был его главный начальник – министр обороны маршал Гречко. Красочный эпизод описан в воспоминаниях Г. А. Миронова [Мир08], пристававшего ко мне на Экспертном Совете ВАКа[18].
Автор воспоминаний – Миронов – работал тогда под руководством отца советской кибернетики А. И. Китова, в первом созданном в Союзе вычислительном центре ВЦ‑1 Министерства обороны. Китову приходилось водить маршалов по машинному залу, в котором была установлена первая серийная ЦВМ «Стрела» за № 6 (быстродействие 2000 операций в секунду, занимаемая площадь более 500 кв. м). Маршалу Гречко (тогда командующему Сухопутными войсками СССР) Китов показывал систему отображения текущей военной обстановки на купленной через третьи страны (по сути – украденной у американцев) электронной трубке типа Характрон.
«В процессе объяснений Китов несколько раз повторял: «А сейчас на экране дисплея можно видеть…». Внезапно Гречко закрыл своей фуражкой экран и самодовольно сказал: «А вот теперь ничего нельзя видеть». И вообще всю информацию доклада об использовании ЭВМ для информирования о военных действиях и моделировании военной обстановки воспринимал скептически».
Прошло 13 лет, и генерал армии Иванов‑1й (Вл. Дм.) пригласил Бориса Григорьевича решать задачи автоматизированного управления боем, хотя ГречкоК65 еще оставался министром обороны.
Обещаны были самые современные вычислительные средства, штаты и, думаю, звание генерала.
Ничего этого Иванов‑2й (С. П.), сменивший внезапно умершего Вл. Дм., давать не собирался, но сразу закрыть тему не мог.
Борис Григорьевич ушел, как только смог, и распрощался с армией. На него косо смотрели коллеги – генералы – кандидаты и генералы военных наук – у него – то, в отличие от них, на гражданке работа была.
Но прежде чем начать заведовать кафедрой в МАИ, он некоторое время работал в Институте США и Канады АН, заведующим сектором в отделе военно – политических проблем, о чем в биографиях Доступова почему – то умалчивается.
Спустя пару лет я приехал летом в Москву, и мы встретились с Б. Г. в этом институте. Он был практически пуст, а в секторе и отделе вообще никого не было. «Неужели все сразу в отпуске»? — удивился я. «Нет, они в Штатах, в командировке». Там открылась выставка новых вооружений (она проходит ежегодно в Вашингтоне). Поехал весь отдел, включая машинисток, а начальника – Борис Григорьевича – не выпустили. Вроде бы он слишком много знал.
Борис Григорьевич рассказал, что недавно в их институт – академический, изучающий США – приезжал Гарольд Браун, министр обороны США. Его интересовало, какими же проблемами и как занимаются в институте. Гарольд Браун был ученым. В 18 лет получил в Колумбийском университете бакалавра, через год – магистра, еще через три года (в 22) доктора философии в области физики. Занимался ядерной физикой, читал лекции в Колумбийском университете, работал в радиационной лаборатории в Беркли. У него проявились и административные таланты, и он в 33 года стал директором Ливерморской Национальной лаборатории. Работал на Пентагон и в 38 лет стал министром ВВС, затем президентом знаменитого Калтеха, а в 1977 году – министром обороны США.
В качестве информационного взноса в исследования Браун привез многотомный бюджет Пентагона. Чем взорвал информационную бомбу в КГБ и ГРУ. Ведь за «добывание» сведений из этого бюджета получали внеочередные звания и ордена. А он был доступен в библиотеке Конгресса.
У нас такой министр (даже не обороны) в то время был малопредставим. Выше я писал, что Доступов познакомил меня с БусленкоК67. Николай Пантелеймонович был не только проводником в СССР метода статистических испытаний Монте – Карло, но и создателем теории сложных систем. И все это он сделал на военной службе. После Артиллерийской Академии он попал в ВЦ‑1 к Китову и вырос там до начальника управления. После снятия Китова ушел в ЦНИИ‑45 МО замом по науке, а потом вернулся уже начальником в ВЦ‑1, ставшим к тому времени ЦНИИ‑27. Должность была генеральская (м. б. даже генерал – лейтенантская) — заместителями у него были генералы. Вот они – то и погубили военную карьеру своего командира. Правда, вначале они одобрили его кандидатуру в члены – корреспонденты АН СССР по отделению математики. Была одно время такая кратковременная тенденция: производственников – в Академию. Имелись в виду, прежде всего Главные и Генеральные конструкторы. Но и генералов – научников, выдающих (подписывающих) ТЗ этим конструкторам (Агаджанов), причислили туда же.
Ну а потом заместитель Бусленко по политчасти и другие генералы из Политуправления МО стали вмешиваться не только в кадровую политику, кого выдвигать и кому что поручать, но и в то, чем заниматься следует, а чем нет. Они уже уничтожили создателя ВЦ‑1 Китова (слава Богу, не физически). Для них еще был актуален гимн Артиллеристов, который они интерпретировали по – своему[19]. По легенде, после одного такого случая Бусленко вызвал генералов – заместителей и, после того, как они продолжили настаивать на своем праве «поправлять» его технические решения, обозвал их неучами, долбо*бами и послал к ближайшей родственнице. Генералы обиделись. Был ли Бусленко тогда генералом или только был представлен к этому званию, в легенде не уточняется, по официальным данным он оставался полковником. Где – где, а в науке о доносах, подсиживании и проведении правильной линии партии эти генералы были специалистами высокого уровня. И подали в суд чести – младший по званию похабно, нецензурно обозвал не просто старших по званию, а генералов, блюдущих партийную линию. Суд чести состоялся. После чего Бусленко был отправлен (ушел) в отставку.
Следует сказать, что на XXIII съезде партии (1966 г.) готовилась реабилитация Сталина. Письмо 25, затем 13, затем еще 3‑х (Александрова, Харитона и Семенова) в адрес Брежнева и съезда остановили это действие. Но политические и военно – политические генералы не унимались.
Примерно в это же время началась травля Е. С. Вентцель в ВВИА им. Жуковского за повесть «На испытаниях». Ее блестящие лекции по теории вероятности и по исследованию операций, учебник «Теория вероятностей», ставший настольной книгой для многих тысяч инженеров, также являлись раздражающим фактором для политиков в погонах. Да и прижившихся в Академии профессоров тех еще наук, остепенявшей в Академии таких «ученых», как адъюнкт Чинаев.
Не нравилась генералам, например, открытая лекция по теории вероятностей, которую она читала для «широких кругов» офицерства и гражданских специалистов. Я про нее знал, но лучше передам ее в изложении И. А. Ушакова [Уш2].
«Профессор Вентцель оглядывает зал и спрашивает:
— Нет ли среди вас генералов?
Зал, похихикивая, отвечает, что нет.
Тогда я начну лекцию с небольшого примера. После учебного бомбометания по мосту, начальник испытаний докладывает генералу:
— Товарищ генерал! По результатам испытаний вероятность попадания в мост равна 0.9.
— А ты не можешь попроще, без этой вероятности?
— Товарищ генерал! 90 % бомб попало в мост.
— Да ты что, бомбы бросал или проценты? Никак от тебя вразумительного ответа не добьешься!
— Товарищ генерал! Из каждых десяти бомб девять попали в цель, а десятая – нет.
— Так зачем же вы, болваны, десятую – то бомбу бросаете?»
Зал так и лег. После этого пошла нормальная лекция. Претензий к профессору Вентцель не было. Но вот писатель И. Грекова (игрекова) опубликовала книгу «На испытаниях». Там правдиво описывалась жизнь людей, проводивших испытания техники на военных полигонах. Но именно это возмутило Главное Политуправление Минобороны, поскольку задело за живое. Оттуда было написано письмо в Союз советских писателей с требованием исключить Грекову (Вентцель) из оного. Союз отказался в резкой форме, высмеяв генералов.
Разъяренный генералитет потребовал тогда от Академии Жуковского уволить Вентцель с кафедры Теории вероятностей, где она работала вольнонаемным профессором. Просто так взять да и уволить даже гражданского и беспартийного профессора нельзя. Поэтому собрали Ученый совет для внеплановой переаттестации профессора Елены Сергеевны Вентцель. Состоялся Ученый совет. С гневными обличительными речами выступили секретарь партбюро факультета, начальник факультета, начальник кафедры… Все они призывали «прокатить» «товарищЬ» Вентцель при голосовании ее на должность профессора кафедры. Подвели итоги тайного голосования. Все «за» профессора Вентцель и ни одного против.
Высшее начальство спустило собак на «обличителей», которые и сами тоже проголосовали «за»! Каждый из них получил по «строгачу» за «неискренность перед партией».
А Елена Сергеевна на следующий же день подала заявление «по собственному желанию». Ее тут же с распростертыми объятииями, принял Г. В. Дружинин, бывший тогда деканом и заведующим кафедрой в МИИТе, сам бывший выпускник ВВИА.
Вернемся к Бусленко.
Еще до отставки, в ЦНИИ‑45, занимая должность зам. начальника управления (тоже генеральскую) он был рекомендован в Академию Наук. Рекомендация от армии в Академию была даже не отозвана, а заменена на отрицательную от Политупра, где говорилось, что такого человека в Академию принимать нельзя, так как он не соблюдает партийную дисциплину и возражает начальству. Обычно этого хватало с лихвой, чтобы завалить кандидата.
Но тут «нашла коза на камень». Какой – то старорежимный академик, которому уже ничего было не нужно ни от Академии, ни от Софьи Власьевны, заслушав отрицательную характеристику, сказал: «Уж если принимать военных в Академию Наук, то именно таких, у которых и свое мнение, независимое от начальства имеется, и труды за границей переводят». Николай Пантелеймонович прошел в членкоры АН по прикладной математике на ура.
Бусленко был неординарным человеком во всем. Одним из главных его достижений является созданная в соответствии со сформулированными им принципами и разработанными методами система контроля космического пространства, функционирующая более 50 лет. Много сил и времени отдавал теории и моделированию сложных систем. Создал и возглавил кафедру в Физтехе (МФТИ) по этому направлению – «Физика сложных систем». «Всего, что знал еще Бусленко, мне перечислить недосуг» – об этом можно прочесть, например в [Бусл2]. Его любили студенты, слушатели и преподаватели. На язык был остер. Знал множество оригинальных анекдотов, говорят, что некоторые сам выдумывал.
На банкете после защиты второй докторской у И. Н. Коваленко (моего неофициального оппонента в Институте Кибернетики, [Рог 17]) поправил другого знатока анекдотов – И. А. Ушакова.
Игорь Николаевич, переехав из Киева в Москву в 1960 году по приглашению Бусленко, работал у него в ЦНИИ‑45 МО в Бабушкине. Через четыре года, в двадцать девять лет, он стал доктором технических наук. В диссертации исследовалась надежность сложных систем (противоракетная оборона). Знавший его как ученика своего ученика Гнеденко, Колмогоров как – то мимоходом сказал, что настоящему математику «неудобно» быть доктором технических, а не физмат наук. Через семь лет, на основе работ по совместительству в НИИ Связи («НИИ Автоматика») Минрадиопрома (Марфинская шарашка, описанная Солженицыным в «Круге первом»), И. Н. защитил докторскую диссертацию по физмат наукам. Там он решил серию вероятностных задач по криптографии для создания устойчивых шифров в интересах безопасности страны, дипломатов, КГБ и ГРУ.
На банкете Ушаков и Бусленко сидели рядом. Дошло дело до анекдотов. Ушаков рассказал следующий анекдот. «Идут по улице Лондона Джон и Билл, видят, лежит дохлая лошадь. Джон говорит: „Билл, помоги мне отнести эту лошадь домой“. Билл без вопросов помогает затащить лошадь на энный этаж по лестнице, поскольку лошадь в лифт не входит. В квартире Джон просит Билла помочь ему положить лошадь вверх копытами в ванную.
Садятся пить виски и джин с тоником. Билл спрашивает: „А зачем все это “—„А ты еще не догадался?“ Сейчас придет с работы Мэри и скажет: „Мальчики, я пью джин с вами, вот только вымою руки. А потом она выскочит из ванны с криками „Ой, в ванной дохлая лошадь!“. А я ей отвечу: „Ну и что“? — „Ха – ха…“. Все смеются. После небольшой паузы Бусленко рассказал продолжение. Приходит Мэри и, действительно, говорит: „Мальчики, я пью джин с вами. Вот только вымою руки“. Она вскоре возвращается и спрашивает: „Ну, где мой джин“? Ей наливают, она его не спеша потягивает. Джон ерзает от нетерпения и удивления. Он спрашивает: „Мэри, а неужели ты не видела, что в ванной лежит дохлая лошадь?! “ Мэри, вскинув невинные глазки, отвечает: „Ну и что?“…
Вскоре после банкета приехавший в Москву Глушков уговорил Коваленко переехать в Киев, возглавить отдел математических методов надежности, пообещав большую квартиру и звание члена – корреспондента АН УССР.
Так я получил неофициального оппонента по кандидатской, защищенной в Институте Кибернетики 1974 году.
Люди, о которых я писал в этой главе, были для меня чем – то вроде высшей касты. Некоторые сведения о них я почерпнул из уже упоминавшихся воспоминаний Игоря Алексеевича Ушакова. Его записки стали для меня особенно интересными не тогда, когда я писал первые книги воспоминаний, а когда добрался до описания своих встреч, пусть мимолетных, с людьми, с которыми он сотрудничал и дружил.
А дружил и работал он со многими. Его воспоминания «Записки неинтересного человека» рассказывают о множестве интересных людей, начиная с Бусленко, Коваленко, Вентцель, переходя к Гнеденко, Колмогорову и генералам от науки Дородницыну, Глушкову, Семенихину и американским ведущим профессорам в теории надежности и теории эффективности.
Не могу удержаться, чтобы не рассказать о нем самом. Дело в том, что, во – первых, не сразу все полезут в интернет к его книжке, во – вторых, за последнее время из интернета пропало очень много тех сайтов, на которые я ранее ссылался. В его воспоминаниях можно увидеть другой срез советской действительности – верхний слой советского пирога.
Игорь Алексеевич Ушаков был, по моим впечатлениям «sоnny boy». Не проявляя никаких выдающихся способностей в институте (МАИ) и в первые годы после его окончания, он встретил людей, которые зарядили его интересом к нарождающейся науке о надежности систем. Он искренне уважал и любил своих начальников и научных руководителей, а они всячески помогали ему и дружили с ним, даже расставаясь с ним, как с сотрудником.
Был он необыкновенно трудолюбивым и «писучим» человеком. Его первым начальником был Исаак Михайлович Малёв, «Исачок», в ОКБ Лавочкина. Он полюбил Ушакова и помог ему осознать себя. Он научил его всегда излагать мысли на бумаге. «Если ты хочешь, чтобы тебя поняли, пиши объяснительные записки. Я прочитаю их, когда мне будет удобно, если нужно, смогу и перечитать. Да и вообще, когда пишешь на бумаге, то самому становится видно, что и говорить – то было не о чем».
Как указывал Петр первый:
«Изволь объявить всем министрам, чтоб они всякие дела, о которых советуют, записывали и каждой бы министр своею рукою подписывал, что зело нужно, ибо сим всякого дурость явлена будет» К85.
Следуя совету Исаака Михайловича все идеи, как бы они мелки не казались, Ушаков записывал, а все отчеты писал с такой степенью отточенности, что их в виде статей потом без доработки принимали в научно – технические журналы. За два года своей второй работы в отделе надежности у Я. М. Сорина в Минрадиопроме, он сделал (он пишет «сляпал») диссертацию. Писал, как и многие тогда, в ванной по вечерам. Сорин был его начальником, а консультантом отдела был Б. В. Гнеденко. Он и стал, по сути, руководителем Ушакова по теории надежности, а также теории массового обслуживания и эффективности. Практически все его работы были напечатаны в открытом виде. А дальше методом «ре – кле» (т. е. резать – клеить) на газетные листы размером А4 наклеивались вырезки. После перепечатки оказалось около 300 страниц. К Гнеденко Ушаков пойти не рискнул, а попросил еще одного консультанта отдела – Я. Б. Шора – посмотреть работу и, если все в порядке, стать его научным руководителем. Шор отказался. Сказал, что работа готова, он будет вторым оппонентом, а хорошего первого он найдет.
В результате первым оппонентом стал Б. В. Гнеденко. Через месяц после защиты ВАК утвердил решение о присуждении ему степени к. т. н. Для работающего в ящике соискателя защитился довольно рано, в 26 лет.
Потом, после проведенных им консультаций по эффективности в ЦНИИ‑45 (где зам. начальника по науке был Бусленко) получил приглашение на работу в НИИ АА с существенным повышением оклада и поддержки.
Несмотря на то, что НИИ АА было оч – чень секретным институтом, ездил в зарубежные командировки – в ведущие в научном отношении капстраны. Благодаря хорошим отношениям с прикрепленным к институту кагебистом, избегал светиться в слишком секретных совещаниях. Он приводит пример необычного поведения прикрепленного, удивительного для сотрудников ящиков.
«В НИИ АА тогда, по – моему, толком даже не понимали разницы между словами «автоматический» и «автоматизированный». Проектировали мы секретную – пресекретную систему автоматизированного управления нашими миролюбивыми МБР. (МБР – это, для непосвященных межконтинентальная баллистическая ракета).
Кто из инженеров военно – промышленного комплекса, работая над проектом, думает о его каннибальской сущности? Кто из военачальников, передвигая цветные фишки по карте стратегических действий, думает о реальных смертях? Никто! Так уж устроена жизнь…
Проект был, действительно, с технической точки зрения очень интересным: сложнейшая система с массой инженерных находок. Только что закончились испытания: в большом зале на демонстрационном табло, представлявшем собой огромный экран, составленный из маленьких люминесцентных панелек, сменялись карты различных районов США, на которых электронным путем высвечивались различные военные цели – объекты будущих ответных или превентивных ударов славных советских ракетных войск. На отдельном табло светились номера подземных пусковых установок с номерами целей, на которые они были нацелены…
Кстати, у каждой ракеты было по три возможных направления удара: одно, естественно, на логово мирового империализьма, второе – на англичан, немцев и разных прочих шведов, а третье …
Угадайте с трех раз. Нет, нет и нет! Конечно же, на наших бывших лучших друзей – коммунистический Китай!
Вечером намечалось ужасно секретное совещание с представителями Генштаба, на которое был приглашен и я – надежность рассматривалась очень важным фактором.
Подхожу к кабинету директора, где собирается совещание. У двери – начальник Первого отдела со списком: отмечает приходящих и забирает для регистрации справки допуска к секретной работе. Я встал в небольшую очередь. И как раз почти в тот момент, когда я собирался протянуть свой допуск для регистрации, подходит ко мне ко мне наш институтский кагебешный куратор и обращается ко мне:
— Извините, вы – товарищ Ушаков?
— Да
— Можно вас на минуточку?
— Конечно, сказал я, выражая почти искреннее удивление. Дело в том, что у нас с этим куратором была такая игра. Поскольку я был выездной, я был на поводке у КГБ: каждый раз перед очередной поездкой, в отличие от простых смертных, которых вызывали только в Выездной отдел ЦК, со мной встречались также и «представители» КГБ. А может и всех таскали туда же?
— Давайте отойдем, чтобы не мешать регистрации – сказал мне Валера.
Мы отошли в конец коридора, и Валера мне сказал:
— Игорь, ты что, очумел? Тебе завтра лететь в Америку, а ты идешь на это совещание! Да тебя после него не выпустят даже за пределы Садового Кольца! Скажись больным: мигрень, сердце, понос – что угодно. Уезжай домой!
Я послушался и по сию пору глубоко благодарен Валере за совет, да и вообще за нашу добрую дружбу. Последнее, видимо, вызовет вопрос: как же это так – дружба с кагебистом? А вот так! Жизнь есть жизнь. Она раскидывает нас не всегда по тем местам, где бы мы хотели оказаться. Просто в любом месте, в любой должности можно оставаться порядочным человеком».
По этому поводу у каперанга Бобкова из НИИ‑24 ВМФ (Петродворец) был стишок:
- С годами мы судим о людях все строже
- Есть люди постарше, а есть помоложе.
- Есть тёти, как тёти и дяди, как дяди.
- Есть люди как люди, есть бляди как бляди.
- Но помни всегда, справедливости ради
- Есть бляди – как люди, а люди – как бляди.
После кандидатской Ушаков, не снижая темпа, полез по трещинам в граните науки все выше и выше – как говорил, это было что – то вроде азарта альпиниста.
Видимо, дело даже не в комплексе неполноценности, которым, как он пишет, страдал с детства, а в том, что он все это время был в команде, которая была на голову выше его профессионально. Он чувствовал себя все время учеником. Следуя чьим – то советам, решил защищать докторскую по совокупности работ. Написал к тому времени пару книжек и сотни две статей. Пошел к новому директору НИИ АА, тогда еще к. т. н. В. С. Семенихину. Тот его поддержал – редкий случай, когда директор выпускает подчиненного на защиту раньше себя. Попросил двухмесячный вместо положенного тогда трехмесячного отпуска на написание диссертации. Семенихин дал один месяц, сказав, что ему и этого много.
«Владимир Сергеевич оказался прав: сляпал я доклад для защиты страниц на 100 недели за две. Настало время получать разрешение в ВАКе на защиту по совокупности. Пришел я к соответствующему начальнику какого – то отдела. Тот полистал мои бумаги, посмотрел список трудов и спросил:
— Сколько вам лет?
— Тридцать три…
— Так, значит, возраст Христа… Пора, пора уже и на крест… А кто вы по должности?
— Начальник лаборатории.
А все эти статьи и книги вы сами написали?
— Конечно.
— Так вот, молодой человек, у нас защищают по совокупности только большие начальники, которые не могут диссертацию написать. Да и защищают они по совокупности чужих трудов – хи – хи, — а не своих! Забирайте – ка свои документы и пишите диссертацию.
Ушло еще месяца два, написал я диссертацию.
Действительно, это было несложно: известный метод «резать – клеить» с использованием оттисков статей при уже готовой структуре подготовленного доклада по совокупности сработал удачно».
После уже почти реализованного предложения дополнить Совет НИИ АА до докторского, ВАК направил его защищаться в Артиллерийскую Академию им. Дзержинского. По звонку Семенихина работу туда взяли. Там он должен был обойти всех 29 членов Совета, показывая работу, отвечая на редко возникающие вопросы и получая подписи на опросном листе.
«Сложности у меня возникли только в связи с марксистско – ленинским учением. Заведующие трех кафедр: Основ марксизма – ленинизма, Истории партии и Политэкономии потрошили меня втроем. Просмотр диссертации начался по арабско – иудейскому принципу – с последней страницы.
— А где у вас ссылки на работы по марксистской философии?
Я радостно показал им свою статью, которую напечатали аж в «Вопросах философии» – совершенно партийном журнале. Но не тут – то было!
— Где у вас ссылки на классиков марксизма – ленинизма?
— Но ни Маркс, ни Ленин не занимались вопросами надежности аппаратуры…
— Марксизм – ленинизм – это всеобъемлющее учение! Учтите, что мы все трое будем голосовать против вас! Замечу, что так оно и случилось: счет был то ли 26, то ли 27 «за» и 3 «против».
Через некоторое время Ушаков стал начальником теоротдела, а начальником лаборатории работал у него уволенный в отставку Н. П. Бусленко, принесший с собой в НИИ АА физтеховскую базовую кафедру «Физика больших систем». И. А. стал профессором – совместителем этой кафедры.
Он был доверенным лицом директора и Главного конструктора В. С. Семенихина – возил разные научно – деликатные документы в разные заведения и учреждения. Семенихин к тому времени защитил докторскую по совокупности, предъявив ту самую систему АСУ МБР. Ему теперь по должности в иерархии оборонного комплекса «положено» было академическое звание[20].
Ушаков привез сов. секретное личное дело Семенихина Ученому Секретарю Президиума Академии Ноздрачеву. На следующий день тот звонит и сообщает, что с документами Семенихина вышел казус.
Ушаков взял директорскую машину и через 10 минут был у Ноздрачева.
«Тот встретил меня, давясь от смеха чуть не до слез: «Прочитайте!» – и тычет пальцем в одну из бумаг.
Это была анкета, где в графе «Научные труды» было отчетливо написано «Не имею». Ноздрачев продолжает: – Ну, ладно бы только написано это было в анкете! Но ведь к делу список трудов и не подшит! Отвезите это Семенихину срочно, пусть подпишет и пришлет со списком трудов! Срочно!»
Я мчусь к Семенихину. Наплевав на какое – то важное (а какое же еще?!) совещание, вхожу в кабинет, переполненный важными чинами, и шепчу Владимиру Сергеевичу на ухо новости. Он извиняется перед всеми и ведет меня в бытовочку, маленькую комнату позади кабинета, где можно отдохнуть и покемарить.
(… Семенихин работал, как ломовая лошадь: во время одного ответственного проекта он не выходил с работы дней пять, ночуя у себя в кабинете.)
Владимир Сергеевич читает анкету и начинает ржать: дело в том, что заполняла анкету секретарша с его предыдущей анкеты. Быстренько перепечатали, вставив «Список трудов прилагается». За самим списком трудов дело также не встало: был вызван Главный инженер, который получил указание подготовить список проектов, утвержденных Семенихиным как Главным конструктором института.
Через пару часов я уже отвез «отремонтированные» документы в дело Семенихина в Президиум АН СССР. Замечу, что прошел Семенихин выборы с блеском и в первом же туре … имея солидную поддержку и ЦК, и Совмина. Да и академиком его выбрали на следующих же выборах в первом же туре – случай довольно редкий даже в заблатненно – коррумпированной Академии Наук СССР. Правда, не быть выбранным на выделенное целевым образом место, честно говоря, довольно трудно.
По своему опыту могу сказать, что Семенихин был человеком щедрым на помощь в таких ситуациях, в которых большинство проявляют жлобство и зависть» К93.
Обращают на себя внимание две вещи. Оказывается, можно стать академиком, не имея научных трудов – а только подписанные Главным конструктором отчеты. Давнее существование в Академии мафиозных кланов, регулирующих выборы (правда, с учетом мнения ЦК). Мой друг Женя Гордон неоднократно баллотировался и однажды, чуть ли не во второй раз, ему предложили баллотироваться сразу в академики, его поддержала бы мафия Сибирского Отделения АН. А он должен был заручиться поддержкой их кандидата мафией Химфизики. Женя был наивным и считал, что у него достаточно результатов, чтобы его избрали без всяких мафиозных гешефтов. Увы, он стал «шансонеткой» по классификации Шкловского (шансов нет).
Расскажу еще, что у Ушакова один раз было предложение, от которого трудно было отказаться. Он по поручению Семенихина участвовал в создании Информационно – вычислительного центра ЦК КПСС.
Главным конструктором был сам Семенихин, а ведущими по подсистемам были академики Глушков, Гермоген Поспелов и … сам Ушаков. После полугода ежедневной и напряженной совместной работы директор центра Ильин предложил Ушакову перейти к нему в замы.
При этом упор делался на материальное обеспечение: цековская квартира в «Царском селе», госмашина по вызову в любое время дня и ночи (что было важным для Ушакова – он не водил, и машины у него не было), ежегодное санаторное обеспечение (Форос и т. д.) всем членам семьи… Зарплата – 300 руб.
«Я сказал, что при моих докторских 500 плюс полставки на Физтехе 250 плюс квартальные премии до 30–40 % у меня выходит под тысячу. На это мне Ильин, буквально заржав, сказал, что я не умею считать деньги: за 60 рублей «кремлевский паек» по ценам чуть ли не 1924 года способен обеспечить семью и всех ближних родственников продуктами на месяц, а в четвертой секции ГУМа можно на рубли покупать по ценам валютного магазина любые вещи. С учетом дешевой 100‑метровой квартиры, машины и санатория все это подкатывалось к двум с половиной тысячам рублей!
Но меня пугала номенклатурная должность: высоко сидишь – низко падать. Нажим был сильный, но я сказал Ильину, что мне нужно посоветоваться с Семенихиным. Владимир Сергеевич сказал: «Не для тебя эта работа. Молчать ты не умеешь. Галстук носить не любишь. Придется и друзей пересмотреть. Среди твоих друзей много евреев? Да? Так забудь о них. Но главное – ты там не удержишься из – за своего характера: не умеешь ты не говорить правду».
Как не послушать совета, который почти совпадает с твоим собственным мнением. Я отказался».
С друзьями и аспирантами – евреями у Ушакова была богатая история, когда их принимали к нему на работу в НИИ АА и в ВЦ АН только после того, как он угрожал, что иначе уйдет сам.
Случай с Щаранским был полегче. Тот был студентом у него на базовой физтеховской кафедре в НИИ АА. Ушаков, поговорив с ним, понял, что лучше, если Щаранский в НИИ АА диплом писать не будет. С трудом его удалось устроить на диплом в Институт проблем управления, в команду Арлазорова, готовящую программы для ЭВМ к чемпионату мира по шахматам среди машин. Щаранский блестяще написал подпрограмму для ладейного эндшпиля в качестве дипломной работы, оставаясь на кафедре Ушакова. ЭВМ чемпионат мира выиграла. Но партию с КГБ Щаранский проиграл – там играли в другие шахматы. Через пару лет его обвинили в госизмене – он оформлял анкеты евреям, желающим выехать в Израиль, а некоторые из них указывали свои рабочие телефоны в ящиках. Если бы он был допущен к работам в НИИ АА, то «так скоро» – через семь лет – его бы из лагеря строгого режима не выпустили.
Был у Ушакова и любимый аспирант – антисемит. В МАИ над их группой шефствовал старшекурсник Пурыжинский. Несмотря на красный диплом, в аспирантуру его не взяли, и Ушаков писал у него диплом в ОКБ Лавочкина. Потом они встретились в НИИ‑17. Пурыжинский вводил его в технику самолетных бортовых РЛС, которые разрабатывал НИИ. А Ушаков его – в теорию надежности, которой тот заинтересовался. После скорой защиты Ушакова, Пурыжинский попросился к нему в аспирантуру. Он был женат и имел детей. Диссертацию он писал, продолжая рожать детей. Когда диссертация была закончена, в ней было четыре главы, а у Пурыжинского – четыре ребенка. Ушаков бывал у него в гостях и непременно с чаем сервировался детский концерт – старшая шести лет аккомпанировала, второй пел «Интелнационал», третья, крохотная, танцевала, держа одной рукой кончик юбочки, четвертый еще не сходил с маминых рук, но уже аплодировал.
«Провожая меня однажды после домашнего концерта, Володя вдруг сделал странное признание: «Знаешь, Игорь, а я ведь страшный антисемит!» У меня, как говорится, челюсть отпала – что может быть омерзительнее еврея – антисемита? И вдруг Володя, породистый еврей – брюнет с ярко голубыми глазами, с вечно доброй ироничной улыбкой на лице, а к тому же страшно остроумный (чем – то похожий на героя нашего отрочества – Остапа Бендера), Володя, которого я любил буквально как старшего брата … Наверное, увидя мою растерянность, он, со своей обычной иронической улыбкой продолжил:
«Ну, разве мог нормальный еврей наплодить четырех детишек, зная, какая им предстоит жизнь?»
Этот эпизод является в некотором роде возвращением из клоаки ВАКа и академических высот на бренную киевскую землю.
1976
Магазин «Чай» на ул. Кирова
К Новому году я приехал из Москвы с гостинцами: ананасом, недосvтупным в Киеве, мандаринами – которые у нас нужно было «доставать», ну и привычными уже дефицитами – кофе в зернах и индийским чаем. Если последние, как правило, бывали в чайном доме на ул. Кирова (теперь опять Мясницкой), то первые удалось случайно поймать в ГУМе – там на первом этаже был гастроном. Дефицитов с каждым годом становилось больше, и я помню, как пару лет случалось привозить из Москвы картошку, пока я не поставил на балконе ящик для нее с обогревом в виде лампочки накаливания. Тут же картошка появилась в магазинах.
В отделе начиналось бурление относительно «Звезд» – еще не было ясно, как строить мост – вдоль реки или поперек. Мы занимались «Ритмом», и к нам пока претензий не было, но и мы начали готовить ТЗ на разработку процессоров БПФ. Где – то на февраль запланировали НТС отдела, на котором должны были решить, как строить «Звезды». Их тогда надеялись построить масштабированием – чем больше противолодочный корабль и требуемая дальность, тем больше антенна и ниже частот[21].
Но тут вдруг пришло приглашение на конференцию чуть ли не по системотехнике в Карпатах на начало февраля. Туда отправились мы с Сашей Москаленко, а потом там неожиданно оказалась и Эдит Артеменко. Мы с Сашей приехали с лыжами, про Эдит точно не знаю.
Семинар был межведомственный. В нем участвовали люди из ящиков и ВУЗов, работающих по хозтемам ящиков или прямо на военных. Тематика была открытой, но специфической. Поразила разница в уровне выступлений ящиковых и вузовских специалистов. Два молодых доцента из МГУ свободно переходили из области абстрактной алгебры и теории автоматов к проблемам надежности и эффективности систем.
Время от времени они упоминали министерства девятки – их особые требования и специфику. Можно было догадаться, что имеются в виду министерства, работающие на оборонку, но какие еще шесть кроме Авиапрома, нашего Судпрома и Радиопрома туда входили, я представлял нечетко. Со временем их названия, а иногда и конкретные области их разработки стали ясны, немало открылось для меня недавно К93. Лекции были только с утра, потом работали секции.
Семинар был, кажется, в Славском. Не помню, где мы жили, может быть в каком – то общежитии, там еще была довольно большая и неуютная столовая.
Рядом была гора Тростян и даже какой – то подъемник на нее. Каким – то образом мы выкраивали время, чтобы покататься. Помню огромные бугры, становящиеся с каждым днем больше, пока их однажды не накрыло снегопадом. Через день они снова начали расти. Темнело еще довольно быстро, и мы до темноты не успевали накататься. Однажды, когда выпало побольше времени покататься и мы, усталые и голодные пошли, не раздеваясь в столовую, кто – то нашел меня и передал открытку, пересланную с кем – то из знакомых Ниной. Открытка (копия, наверное) была из ВАКа и сообщала, что Президиум ВАК (!) согласился с решением Ученого Совета Института Кибернетики от 18 октября 1974 года о присуждении мне степени к. т. н. по специальности «Техническая кибернетика». Ни сил, ни желания радоваться у меня не оставалось. Саша и Эдит увидели мое непонятное состояние и поинтересовались – что случилось? Я понял, что это событие все равно нужно как – то отметить, купил в буфете две бутылки какого – то местного вина в дополнении к нашему, уже принесенному обеду, и предложил выпить не за успех, а за удачу. С обоснованием – на «Титанике» плыли успешные люди, но удача их покинула. Правда и там виноват был кто – то из евреев первых двух ступеней (см. Рог17) — то ли Вайсберг, то ли Айсберг. Про мое прохождение через ВАКовское чистилище ни Саше, ни Эдит я не рассказывал – им все это не грозило.
Приехал я на семинар больным и уезжал больным, а в понедельник нужно было быть в хорошей форме – был запланирован НТС отдела. Рассматривались предложения по построению «Звезд».
Основной доклад делал Лазебный. Мне отводилась роль содокладчика – о возможном внедрении цифровой техники в комплексы.
Исходных данных не хватало. Не были до конца определены даже размерения кораблей. Флот решил начать со сторожевого корабля проекта 1135, который собирались модернизировать под задачи ПЛО с учетом размещения нового гидроакустического комплекса. Они хотели сделать из сторожевика большой противолодочный корабль, только маленький, водоизмещением вдвое меньше, но чтобы он был кораблем второго ранга, что ему по тоннажу не полагалось. Почти удалось – его перевели во второй, но тут же вернули обратно в третий ранг. А это, кроме других привилегий, означало на звездочку меньше на погонах офицеров на многочисленных сторожевиках проекта 1135.
Витя Лазебный сделал довольно подробный доклад, в котором заранее была выбрана конфигурация антенны – цилиндрическая. Про ее размещение и величину бульба тогда не говорили – в бульб проекта 1135, в котором стояла антенна ГАК «Титан» антенна не вмещалась. Много внимания уделялось предварительному усилению и фильтрации. Формирование характеристик направленности предлагалось проводить аналого – дискретным способом, который давал возможность учитывать качку корабля (изобретение Лазебного и Прицкера). Гораздо меньше внимания уделялось временной и вторичной обработке.
Я как раз начал с конца – тракта отображения и вторичной обработки. Дело в том, что еще Коля Якубов принял на работу и поместил в мою группу Гришу Аноприенко, уже опытного специалиста по тракту отображения. (Коля планировал, что группа со временем будет вести весь приемный тракт, кроме предварительных усилителей и предварительных фильтров). Пришлось мне вникать в эти вопросы. Я понял, что почти ничего подходящего еще нет, но вот прямо на глазах появляется. На совете я предлагал трубку с запоминанием на основе разработок Фрязино. Вторичная обработка выполнялась на основе алгоритмов Института Кибернетики. Специально отметил, что начинал эти работы Алещенко с Рабиновичем. Говорил, что алгоритмы требуют структуризации и оптимизации с точки зрения вычислительных затрат, но что имеются уже имеются подходящие бортовые ЭВМ в которую они должны «влезть».
По поводу временной обработки, сказал, что сейчас это наиболее проработанный вопрос благодаря «Бутону» и НИР «Ромашка». Многоканальная обработка гармонических и сложных (ЛЧМ) сигналов, благодаря отработанным алгоритмам с применением БПФ, займут одну – две типовых стойки. При этом автоматически реализуется доплеровская фильтрация, а обработка сложных сигналов производится когерентно. Причем в НИР «Ромашка» (на самом деле в диссертации) показано, что это процедура оптимальна по критерию апостериорной вероятности обнаружения сигналов.
Если по временной обработке мне все было ясно, то в пространственной – т. е. формированию диаграммы направленности я чувствовал себя еще неуверенно. Сказал, что вопрос с цилиндрической антенной пока не проработан, а вот с большими плоскими антеннами по бортам и небольшой в носу, можно использовать задел «Бутона», опять же с БПФ.
Не желая акцентировать внимание на сравнении цилиндрической и плоских антенн, я, для сравнения с тем, что говорилось в основном докладе, применял, и не один раз, словосочетание «вариант Лазебного» и «вариант …» – нет, конечно, не Рогозовского, а «наш вариант».
Это вызвало резкую реакцию Алещенко, который не сдержался и сказал: «Какие – такие именные варианты – у нас может быть только один вариант!» Он имел в виду, и это было ясно для всех, что этот один вариант – это вариант Алещенко, независимо, от того, кто что предложил. Меня вычеркнули из ведущих разработчиков и близких сотрудников.
Олег Михайлович немного погорячился. Он, может быть, и знал, но забыл золотое правило: «Главное, не кто первый сказал, а кого первым услышали». Впоследствии он сам демонстрировал неоднократно это правило, умело создавая фон, на котором меня на техсоветах не «слышали», а вот когда то же самое говорили правильные люди: Гаткин, например, и, даже Игорь Горбань (много позже), то их вдруг слышали, особенно после «предварительной фильтрации и усиления» Олегом Михайловичем.
Лину Костенко он не читал: «А правда, пане, дівка кривувата, вона не бачить, хто її бере». Дивка должна была достаться своим людям.
Наконец, до меня дошло рациональное, а не «подхалимское», как мне тогда показалось, предложение Шклярского (в ту пору зам. главного инженера). Как бы «стыдаясь» назначения главным конструктором «Шексны», где всю схемную работу и руководство коллективом разработчиков вел Лёпа Половинко, а организационные вопросы решал Алещенко, Шклярский на собрании отдела предложил выйти с ходатайством о назначении Алещенко генеральным конструктором ГАС и ГАК малых кораблей и вертолетов. (Это было в «дозвездную» эпоху). Действительно, снимались бы многие вопросы – тогда было бы «все вокруг советское, все вокруг мое», а все главные конструктора и ведущие разработчики были бы официально и на всех уровнях «под». Правда, и ответственность повышалась бы. Но в Минсудпроме была другая организационная схема, привязанная к строительству кораблей. И мы, акустическая и электронная фирма, были привязаны к системам судостроительных КБ и заводов, где сектор должен быть не меньше 30 человек, а отпуска распределялись равномерно в году, независимо от сдачи работ – стапели на судостроительных заводах работали круглый год. Правда, там Главные конструктора были над всеми начальниками отделов, но у нас было не так.
Золотое время пребывания в Комитете по радиоэлектронике (маленькие лаборатории, большие премии, сильные смежники, готовые поделиться технологией изготовления и прошивки многослойных микроплат, отпуска летом, строительство жилья, снабжение комплектующими) — все ушло в прошлое.
Больше меня в вопросы общей организации и системного проектирования «Звезд» не посвящали. А вскоре это стало и не особенно нужным (пришел Гаткин). Но это случилось позже, а я пока решил закрепиться на завоеванных позициях – получить «корочки» (Аттестат ВАК) и избраться, наконец, в старшие научные сотрудники. Первая проблема технических трудностей не должна была встретить – нужно было только «поймать» В. И. Глушкова в его кабинете. Это оказалось не простой задачей – он в ту пору редко бывал на рабочем месте. А если бывал, то проводил важные совещания. Наконец, его секретарь назначил время, я приехал, но оказалось, что совещание началось раньше. Секретарь извинился и пообещал что – нибудь придумать. Зашел в кабинет, побыл там, вышел через некоторое время и сказал – ждите.
Наконец, Глушков вышел из кабинета что – то подписать. Секретарь подвел его к столу, где лежал раскрытый Аттестат и ручка с пером для туши. Виктор Михайлович подписал, взял в руки Аттестат, чтобы поздравить, прочел, кому он вручается, и тут по его суровому лицу пробежала тень. Аттестат он мне передал, руку пожал, но по имени – отчеству называть не стал. Я еще много раз его видел, но «ручкаться» больше не приходилось, хотя один раз это могло случитьсяК104.
На втором этапе дело застопорилось. Когда я все – таки дошел до Алещенко с вопросом о должности снс, которая была обещана два года назад и отложена сначала до защиты, потом до утверждения, то Олег Михайлович сказал, что сейчас это невозможно. — ? – «У нас продолжается перестройка кадровой политики и переаттестация всего руководящего и научного состава предприятия. Пока приказ об окончательной структуре научного состава (в который входили и все неостепененные начальники) не подписан, ничего сделать нельзя».
Перестройка действительно имела место. Она тормозилась разными взглядами главного инженера Л. А. Киселева, он же зам. директора по науке НИИ, и самого Алещенко. О. М. требовал непропорционально большого, по отношению к имеющемуся штату, числа должностей старших научных сотрудников. Он предвидел опережающий рост 13 отдела и планировал остепенить сотрудников и сотрудниц, которых назвать Киселеву отказался. Мне в очередной раз пришлось «умыться».
Совсем уже стало тошно, когда через пару дней я увидел вывешенный в коридоре первого этажа приказ об утверждении избрания некоего к. т. н. Власова в должности старшего научного сотрудника – там не было даже номера сектора, в котором он числился.
— Так вот же – есть прецедент!
— Этот прецедент не для тебя и вообще не для нас. Это идет с высокого верха.
Итак, уже не в первый раз, но в первый раз на контркурсе, столкнулся я с очередным дитём уже не лейтенанта Шмидта, как называла их Валя Недавняя (Тарасова), а каперанга Шмидта. Про этих деток – в приложении А.
На должность снс меня избрали сразу же после подписания приказа о структуре – в сентябре. Как я уже писал, если бы эта должность, на которую планировал меня Коля Якубов, не ушла к Саше Москаленко в марте 1974, что не принесло ему никакого выигрыша, в том числе материального, я бы получил дополнительно сумму, равную своей прежней годовой зарплате. Дело в том, что по положению, если ты был на научной должности, то прибавка к зарплате при наличии степени насчитывалась не со дня утверждения, а со дня защиты. А он у меня в силу описанных обстоятельств задержался на полтора года, да еще полгода я ждал результатов перестройки научной структуры ящика и избрания на должность.
Такие мелочи О. М. не интересовали в отношении хотя и полезных, но не «своих» людей. Меня же они интересовали – мы вчетвером жили после рождения Васи на одну зарплату и должны были выплачивать взнос за кооперативную квартиру.
Вопросы с зарплатой, а ранее с квартирой, были решены раз и навсегда. Казалось бы, теперь – твори, выдумывай, пробуй. Но оказалось, что «в жизни все не так, как на самом деле».
Исходя из списка благодарностей и почетных грамот в трудовой книжке, в 1976 году мы сдавали «Ромашку». Если на первом этапе роль героя исполнял Юра Шукевич, то большую часть второго этапа он отсутствовал. Роль героини перешла к Гале Симоновой. Юра успел вернуться из армии (киевской спортроты) и внес вклад, но у него пропал драйв. А после первого этапа я имел нелицеприятный разговор с Алещенко об оценке его труда. Алещенко не понимал, для чего на НИР нужно было оставаться до 11 вечера на протяжении чуть ли не месяца, чтобы выполнить задуманное (и интересное) до ухода в армию. Ни о какой компенсации Алещенко слышать не хотел. Работу, которая делалась не для него, он не понимал. Тогда, в 1974 году, мне удалось его «сломать», и Юра получил компенсацию. Но такие уступки он не забывал.
На этот раз, в отсутствии Коли Якубова (он и на первом этапе часто бывал в командировках) положение в лаборатории было наэлектризованным. Руководители групп боролись за преференции – численность, зарплата, премии и т. д.
Лёпа Половинко
После Коли лабораторию возглавил Лёпа Половинко. Он замещал Колю полгода, когда тот был в экспедиции, и Алещенко к нему привык. Работать (по крайней мере, мне) он не мешал, но некоторые его решения, в частности, о перемещении Борисова наверх, на третий этаж, в большую комнату, а Инны Малюковой с Дендеберой вниз, к нам в комнату на первом этаже, приняли с неудовольствием. Лёпа был человеком увлекающимся. Его сокурсиницы рассказывали, что он чуть ли не каждой девушке из группы объяснялся в любви. Но девушкам нужен был надежный, пусть и не такой яркий мужчина, и Лёпа остался холостым. В Таганроге, куда его направили по распределению, такую бесхозяйственность местные девушки быстро исправили [Рог17]. В 1976 он был уже опять без жены. В наш сектор, к Коле Якубову, он попал после того, как его отставили от ГАС «Шексна». Ее, по моему мнению, он создал практически один как главный конструктор. Но его радиолюбительское прошлое сыграло негативную роль. Ему все время хотелось улучшать станцию, и он вносил туда изменения на всех этапах, включая рабочий проект и испытания. Его довольно большая группа, в которую входили Прохорчук, Зубенко, Эля Гордиенко и другие, поехала на испытания в Севастополь. Как всегда, испытания задерживались по разным причинам, главным образом из – за корабельного обеспечения. Было лето, пляж, вино и группа в перерывах «расслаблялась», а там были такие любители выпить, как Прохорчук и Зубенко. Лёпа был демократом, пил вместе со всеми, был со всеми на дружеской ноге и на ты, включая молодых и монтажников. Когда он вспоминал о том, что нужно срочно внести еще одно изменение, допаять, настроить, это вызывало непонимание, потом протесты. Лидером повстанцев был Толя Зубенко – сильная личность и хороший электронщик. Его в свое время Лёпа, как раз под «Шексну», сумел перевести из Таганрога в «Киев». Толя к середине испытаний знал схемы и приборы «Шексны» лучше других и умел их настраивать. Он не без оснований считал, что то, что работает, лучше не трогать. Так как споры продолжались на пляже и после выпивки, то дело доходило до споров, иногда и до драки, один раз серьезной, когда Зуб, принявший на грудь больше обычного, побил Лёпу. Вообще – то Зубу грозили большие неприятности – применить физическое насилие к начальнику и фактически главному конструктору по пьянке, из – за несогласия по служебным вопросам…
Но сработал ресурс деток каперанга Шмидта. Эля Гордиенко представила дело папе – директору института – так, что во всем виноват Лёпа. Гордей был сталинской выучки, и не понимал, как начальник мог допустить пьянки и панибратство. В результате Лёпу – фактически главного конструктора – отстранили от «Шексны», перевели в другую лабораторию, привлекая, реже, чем было нужно, в качестве консультанта.
Наконец, испытания продолжились. Руководителем назначили Зубенко, аппаратура заработала более стабильно. Но тут сказалось то, что Зубенко был электронщиком, а не гидроакустиком. Аппаратура после излучения возбуждалась. При приеме шел неустраняемый шум, сигнала было не видно. Вызвали Виталия Тертышного, который сразу понял, что это реверберация, и предусмотренной настройкой временной регулировкой усиления эта проблема легко решается.
Корабль пр. 1141 мог развивать скорость более 60 узлов
Гидроакустическая станция «Шексна» была принята на вооружение в 1974 году. Никаких отличий и наград разработчики «Шексны» не получили. Про награды корабелам мне неизвестно. Правда, его главный конструктор был не сразу, но отмечен. Корабль на подводных крыльях проекта 1141 в 1977 году назвали «Александр Кунахович», в честь главного конструктора корабля и Зеленодольского ПКБ, внезапно умершего в 1968 г. Это был опытный корабль, после которого пошла серия проекта 11451. На них устанавливалась ГАС «Звезда М1–01». Из многих планируемых построили только два корабля – Союз развалился.
Судя по количеству благодарностей и выигранных флотских и межфлотских учений и состязаний, «Шексна» была лучшей ГАС, сделанной в НИИГП. Дальность обнаружения ПЛ составляла 50–70 км. Конечно, использовался подводный звуковой канал, глубина которого менялась, а кабель – трос «Шексны» был достаточно длинный, да и работала она на «стопе». Экипаж корабля ее холил и лелеял – она несла «золотые яйца».
Так получилось, что «Шексна» и корабль остались в одном экземпляре. Если бы пошла серия или модернизация, то документацию пришлось бы выпускать сначала – там была заплата на заплате и не все изменения были правильно оформлены.
Еще один бывший киевлянин, которому Половинко под «Шексну» помог перевестись из Таганрога в Киев – Илья Семенович Перельман приводил «Шексну» в качестве примера, как нельзя делать документацию для серийных заводов.
Вернусь к своим делам. Мы (моя группа) защищали сначала НИР «Ромашка», потом первый этап НИР «Ритм». Оба НИР были посвящены цифровой обработке сигналов. Еще во время «Ромашки» произошли два связанных эпизода, которые повлияли на межличностные отношения в лаборатории. Нас было мало, кроме меня основными исполнителями были Юра Шукевич и Галя Симонова. Внедренный к нам в группу Гриша Аноприенко своего вклада в НИР, кроме обзора аналоговых средств отображения, не внес. Юра недавно вернулся из армии и не успел как следует развернуться. Галя, по настоянию Геранина, сделала очень большой материал, связанный с выводом формул, обосновывающих постулаты и теоремы цифрового спектрального анализа – в основном, по материалам статей из IEEE Transactions on Audio and Еlectroacoustics, заменивший вскоре в названии второй предмет исследования – Elektroacoustics на Processing. Этот журнал я выписывал на домашний адрес. То есть формулы там уже были, но Геранину нужно было знать, как именно они были выведены. В Галиной интерпретации это иногда превращалось в «как можно было бы их вывести».
И вот, в самом конце работы, когда уже были отпечатаны отчеты (тогда еще требовали в кальках), Галя сказала, что в эту субботу (или воскресенье) она прийти вписывать свои формулы не может. Так как она много времени и так проводила сверхурочно, а почерк у нее был школьный – круглый, хорошо распознаваемый, тем более в формулах, то вписывать их мог кто – то другой. Недостатка в желающих поработать в субботу за отгулы в лаборатории, в которой были женщины с детьми, не было. Вызвались Катя Пасечная и Галя Кохановская.
Про Катю я уже писал в книге третьей (стр. 187–190). Девушки сидели на третьем этаже, а я внизу, на первом. Вписывать нужно было не только Галины формулы, но и мои, которые были посложнее – там встречались специальные функции и сложные суммирования. Иногда (редко) они меня вызывали наверх для уточнений. Пару раз мы делали перерыв на чай – все принесли с собой «завтраки» из дома, чай и кофе заваривал я. За чаем разговаривали на разные темы.
Пару раз девушки сначала осторожно, а потом Галя Кохановская более настойчиво, поинтересовалась, почему же Симонова не может прийти сама вписывать свои формулы, как это делают обычно все исполнители.
Честно говоря, ответа я не знал – на Галину даже не просьбу, а сообщение, что она придти не сможет, я отреагировал спокойно, хотя и был разочарован. Ей еще предстояла большая работа. Девочкам я ответил в шутливой манере, что Гале нужно устраивать свою личную жизнь – ей скоро тридцать. Вот они же успели это сделать. Кате фраза насчет устройства личной жизни не понравилась – ее жизнь с Сережей устроенной назвать было нельзя, и ей предстояло оставаться формально замужем еще три года. Боюсь, что Кохановская что – то еще добавила, и я как – то неосторожно сказал ей, что когда она будет писать формулы, которые кроме нее никто написать не сможет, может быть, и за нее будут вписывать другие. Хотя это было адресовано Кохановской, Катя это остро приняла на свой счет. Так как она была скрытной натурой, то никакой вербальной реакции не последовало, а трещину в наших отношениях я заметил позже, когда она расширилась и стала заметной.
Увы, я был наказан за свое домысливание ситуации. Через некоторое время, уже после сдачи «Ромашки», возникло напряжение со сроком выдачи нами ТЗ. Галя не появлялась на работе пару дней. Мы подумали, что она заболела. Я купил апельсинов и чего – то вкусного и поехал ее проведать. Жила она в нашем кооперативном доме на улице Дачной, в нескольких остановках трамвая 8 от работы. Позвонил. Мне не открывали. Подумал: может быть, спит и собирался уже уйти, но позвонил еще раз. Мне открыла Галя. Она была как бы распаренная, на ней был легкий халатик. «Один халатик был на ней, а под халатиком, ей, ей…». Галя как – то не очень обрадовалась моему приходу, и не очень приглашала войти. Я что – то спрашивал насчет здоровья и готов был отдать сетку с апельсинами и другими приношениями, но саму сетку нужно было вернуть, и я вступил в коридор, чтобы выгрузить в кухне все это. Дверь в комнату (это была однокомнатная квартира) была открыта. Большой обеденный стол был раздвинут. За ним сидел Геранин. Тоже распаренный, но в пиджаке и в ослабленном галстуке. Везде лежали напечатанные листы, частью в стопках, частью по одному, лежала литература, в том числе и мои американские журналы. Геранин поздоровался, вовсе не в своем стиле. Объяснять он ничего не стал.
Никому о деталях этого визита я не рассказывал. Если бы это была обычная история доцента с аспиранткой, вопросов бы не было – «я не пастырь им».
Но уже не в первый раз Галя «прогуливала» работу для удовлетворения срочных научных потребностей Геранина. Ранее даже был случай [Рог17], когда мне начальство в приказном порядке «порекомендовало» «не возбухать» по этому поводу – но это было до возникновения реальной необходимости выполнять работу в плановые сроки.
Думаю, что тесные отношения с Гераниным привели к серьезным проблемам в ее личной жизни. Она ему многим была обязана – от распределения в Киев, в КНИИГП, в 13‑й отдел и до внеочередного получения права на однокомнатную кооперативную квартиру в институтском кооперативек111. Насколько я знаю, личная жизнь у Гали так и не сложилась. Кроме того, она, по всей видимости, женскими качествами, как хозяйка дома, не обладала. Сужу по истории с нашим котом Ширханом[22], который от нее, некормленный, удирал. Засох у нее и фикус, подаренный сотрудниками на новоселье.
В конце концов, Ширхана приютила Света Бондарчук, с которым они нашли общий язык. Ширхан ей был предан как собака и даже сопровождал ее, охраняя, по двору.
По объему выполняемой работы к Гале претензий у меня не было – она делала больше, чем другие женщины лаборатории, и в отпуска по уходу за ребенком не уходила. Более того, мой конфликт с лабораторией произошел из – за высокой оценке ее работы.
Лёпа Половинко в дела лаборатории в это время вникал мало. Его очередным увлечением, обусловленным трудностями своевременного изготовления приборов «Шексны», была американская система планирования «ПЕРТ», о чем расскажу позже.
Кроме того, он был демократом и доверил выбирать лучших за квартал комсоргу и профоргу лаборатории. Они выдвинули в качестве передовиков по работе за квартал и кандидатов на Доску почета отдела Катю Пасечную и Эдика Роговского. Со мной, как с руководителем самой большой группы, успешно закончившей высоко оцененную приемной комиссией работу – НИР «Ромашка», никто не советовался. Эти предложения были вынесены на собрание лаборатории. Я возмутился, попросил слова и сказал, что выбранные кандидаты весьма достойны, более того, их можно выбирать в передовики в каждом квартале. Но в этом квартале считаю необходимым отметить Юру Шукевича и Галю Симонову, как внесших значительный вклад в принятую работу и в успехи лаборатории. Это заявление встречено было без энтузиазма.
Дело в том, что Лёпа не чувствовал атмосферу и для работы комиссии приказал освободить комнату, в которой сидела Катя Пасечная и ее группа. Комната была самая маленькая, и все выглядело логично, но Катя и ее девочки посчитали себя обиженными. Понятно, что когда руководителем НИР бывал Алещенко, недовольных не наблюдалось.
Еще один эпизод произошел, когда комиссия обсуждала заключительный протокол, а в это время в соседней проходной комнате, отделенной тонкой перегородкой и фанерной дверью, Жора (Григорий Кириллович) Борисов проводил политинформацию. Он особо не утруждался и нашел какую – то заметку, нашпигованную анекдотами. Политинформации проводили обычно в четверг, после обеда. Итак, в рабочее время, за стенкой раздается взрыв смеха. Комиссия несколько удивляется, слышит мое разъяснение и продолжает работу. Через две минуты раздается еще один взрыв смеха. Я выскакиваю в соседнюю комнату, останавливаю политинформацию и прошу перестать так бурно реагировать, а Борисова отрегулировать подачу юмора (пошлого, как я потом убедился) — идет заключительное заседание комиссии. Странно, но в этот раз этот юмор почему – то с энтузиазмом принимали. Жора успокаивающе закивал, остальные неодобрительно молчали. Не помогло. Еще через пять минут – опять взрыв смеха. Я собираюсь идти к Алещенко, но меня кто – то удерживает из членов комиссии. В общем, другой бы догадался, что ему устроили обструкцию, но я помнил поучительные советы нашего учителя физики Дубовика: лучше не принимать, как аристократ, «прозрачных» намеков на свой счет, чем относить, как мещанин, всякое лыко к себе в строку.
В общем, работа получила высокую оценку комиссии (в ней, кроме военных был будущий главный инженер ЦНИИ «Морфизприбор» Рыжиков и будущий глава цифрового отделения этого же головного института Лисс). Более того, получила она и «высокую» американскую оценку, но об этом позже.
Эти оценки не повлияли на наши премии. Премии обычно закладывались в стоимость работы и зависели от этой стоимости.
Работа заслуживала премии, но тут вступило в силу одно из ограничений. Директор и главный инженер не имели права получать в качестве премиальных по темам больше шести окладов за год. Одновременно с нашей защищалась работа в 12 отделе под руководством Недельского. Она была провальной и ее военные не хотели принимать. Их еле уломали.
Но тема Недельского премию получила. А он, как научный руководитель, вместе с выговором и уменьшением квартальной премии получил и полную премию. Дело в том, что их тема стоила больше, значит и премия была больше. Если бы дали «Ромашке», то директор недополучил бы какую – то сумму (м. б. 50 руб). А так лимит был закрыт полностью и премия «Ромашке» уже ничего бы им не принесла. Зачем же ее давать? А полная премия Недельскому была дадена, так как по положению премия директору составляла определенный процент (не помню, 50 % или 75 % от премии научному руководителю или главному конструктору).
Все это я узнал позже, когда пришлось сдавать следующую, уже большую и дорогую тему «Ритм». Чуть раньше я ознакомился с очень секретным приказом Министра Судпрома, о том, что научый руководитель НИР или главный конструктор ОКР, имеет право считать себя автором всех трудов, написанных в отчетах по этой теме, подписанных им. Об этом мне говорил Алещенко давно, когда меня назначали научным руководителем НИР «Рыбак-УН» и «Ромашка». Мол, я не потрачу понапрасну времени – оно окупится[23]. Я его тогда не понял, а когда прочел приказ министра, то и не принял – как это выдавать чужие работы за свои? Оказывается, это разрешалось и поощрялось. Красноречиво рассказал об этом И. А. Ушаков (см. выше), когда подписанные главным конструктором отчеты зачлись как научные труды при выборе в Академию Наук. Но работала эта фишка не для всех.
Расскажу еще про эпизод с Катей Пасечной, который охладил наши отношения. У нас в группе и в комнате внизу работал «чайный домик». На самом деле он был кофейным – мы пили кофе вместо зарядки. «Содержателем» домика был я – кофеварка, чашки, кофе и кофемолка были даже не из дома, а из командировочного набора, который я возил с собой. За чашку кофе мы скидывались по 5 копеек, чтобы восполнить запасы кофе. Иногда добавлялась выпечка или пирожные. Гостей угощали бесплатно.
Кофе мы пили в 11 часов, а в обед Катя и девочки из ее группы нередко просили кофемолку для помола не только кофе, но и каких – то специй. Как – то я сказал, что кофе вообще – то чувствителен к посторонним запахам, но от меня отмахнулись – у нас обоняние лучше, и мы ничего не чувствуем. Однажды смололи какой – то очень злой не то черный, не то красный перец. Если бы пахла только кофемолка, можно было бы пережить, но вкус кофе существенно изменился. Наши потуги вымыть кофемолку и отбить привкус ни к чему не привели. В очередной раз я отдал девочкам кофемолку и попросил их привкус устранить. У них не вышло, они сказали, что это со временем пройдет. Тогда я сказал – если не выйдет за неделю – забирайте эту кофемолку и принесите другую, без привкуса. Катя другую не нашла и купила новую кофемолку, почему – то красную – она стоила рублей десять. После этого Катя очень на меня обиделась. И все ее девочки тоже. Отношения продолжались, но привкус, как в кофе, оставался. Кто – то потом мне сказал, что Катя очень бережливая в смысле расходования денег. А тут, видимо, принцип был нарушен.
Несколько слов о Л. Н. Половинко. Лёпа был хорошим специалистом, хорошим человеком, хорошим товарищем и неплохим начальником. (Неплохой начальник – тот, кто не мешает работать).
Опишу один из эпизодов с ним, случившимся на моих глазах. Мы на работе нередко задерживались. После нее хотелось немного пройтись – хотя бы до проспекта Победы. Так мы нередко ходили с Барахом, иногда с Лёпой, когда он был без мотоцикла. Во время какого – то ремонта моста через железнодорожные пути на Воздухофлотском проспекте он был перекрыт. Приходилось перелезать внизу через какую – то слепленную из шлакоблоков ограду. Лёпа был перворазрядником по прыжкам в длину, и перелезть через стенку для него не было проблемой. Но тут, подойдя к ограде, он обнаружил, что у него в руках два портфеля, и попросил их подержать, пока он перелезет. Держа портфели, я заметил на них сургучные печати: «Лёпа, ты что, не сдал портфели в первый отдел?». Лёпа одним махом перелетел назад через стенку, схватил портфели и стартанул обратно, в надежде, что кто – то в первом отделе еще задержался, или, по крайней мере, его ищут. Я еще успел крикнуть, нужно ли мне с ним бежать, но он на бегу сказал: «нет, нет, не надо». В общем – то, это мелочь, у всех что – то бывало, но не так.
То, что его «заносило» по более серьезным вещам, связано не только с его личными особенностями, но и с отсутствием безусловных моральных авторитетов у его начальников. Остался бы жив Коля Якубов, может быть, Лёпа и нашел бы себе достойное место в команде «Звезды». А так, его увлечение системным планированием «ПЕРТ», разработанной американцами для проектирования и производства атомных ПЛ («Наутилус» и дальше) сбило его «с панталыку». Такая система в СССР работать не могла. Лозунгом у нас было плановое хозяйство, а на самом деле везде процветала штурмовщина и натуральное хозяйство в каждом министерстве и даже главке, так как что – нибудь нужного качества и вовремя получить было невозможно. Институтские начальники, на словах признавая Лёпину теоретическую правоту, на тормозах спускали его предложения, пока он не очутился вне планирования комплексных отделов, под крылом Лены Васильевны Казанцевой – начальника нашего планового отдела. Она использовала его знания в качестве аргумента против непродуманного и несогласованного планирования комплексных отделов. Ее любимым лозунгом был «Нет денег – не стройте!». В таком качестве Половинко стал Алещенко не нужен, а для других вреден. Не находя себе применения, он согласился на предложение Вадима Юхновского – в то время главного инженера КБ «Дальприбора» – стать его заместителем и возглавить там всю науку и научную организацию труда.
На мои (и не только мои) увещевания – стенания: «Лёпа, что ты делаешь – это же не твоё, твоё место здесь», Лёпа вдруг неожиданно сказал: «Понимаешь, я попробовал быть начальником и отравился властью. Здесь я больше начальником не стану». Я онемел. От кого – кого, но от него я этого не ожидал. Он вроде бы подходил на эту роль меньше остальных.
Через семь лет у берегов Камчатки мы чуть не потонули, но Лёпу на береговой станции добудиться по радио не удалось. Увидеться нам так и не пришлось.
Цифровая обработка сигналов в ящике и вовне
Впервые гидроакустическую информациюк123 на ЦВМ для НИИ ГП предложил обрабатывать З. Л. Рабинович из Института Кибернетики во время беседы с Алещенко. Академик Лебедев, под руководством которого З. Л. начинал работу, разрабатывал ЦВМ, одной из главных задач которой была вторичная обработка радиолокационной информации. То есть построение траектории уже обнаруженной цели с ее координатами и выдача ее экстраполированных координат для оружия. Алещенко с Рабиновичем придумали автоматический вертолет корабельного базирования с опускаемой антенной, который передавал бы гидроакустическую информацию на борт корабля, а там ЦВМ сама (кибернетика!) обнаруживала бы цели и выдавала целеуказание.
Эта смелая мечта до сих пор не реализована. Работа с ИК продолжалась более 30 лет, про автоматический вертолет давно забыли, но тракт вторичной обработки информации (ВОИ) включался во все новые гидроакустические станции. Обнаружением и обработкой собственно сигналов ВОИ не занималась.
Несмотря на мой неудачный доклад по «Звезде», где я излагал ее вариант на основе цифровой техники, для нее «пришло время». Алещенко всегда держал нос по ветру. Годом раньше убедил Бурау создать на основе отдела 16 отдел цифровой техники.
Флот и руководство 10‑го Главка были озабочены внедрением цифровой техники в гидроакустическую аппаратуру. В нашем ящике решили создать специальный цифровой отдел – переформатировав существующий 16‑й, которым руководил Оситнянко («один из первых», но не из лучших). Так как у меня были, видимо, наиболее интенсивные связи и с ВЦ и со «спецами» по вопросам цифровой обработки, то Алещенко попросил меня написать список возможных кандидатур руководителей отдела.
На следующий день я ему представил список, в котором фигурировал В. К. Божок как начальник отдела, мой недоброжелатель В. Г. Обуховский в качестве начальника комплексного сектора или группы, а также А. Н. Мирошников и С. П. Егунова как начальники секторов специальной аппаратуры и программирования.
После фамилии Обуховского стоял вопрос, а следующая строчка была пустая, без фамилии, но с вопросом. Был и еще один кандидат, сейчас не помню кто. Я надеялся, что Алещенко спросит, кого я имею в виду под знаком вопроса. Я бы, потупясь, сказал, что намекаю на себя, так как не чувствую себя особенно востребованным в отделе. «Дурень думкою багатіє».
Коля Якубов еще был в экспедиции, и посоветоваться было не с кем. О. М. вопросительными знаками не поинтересовался. 25 апреля 1975 был создан новый цифровой отдел под старым номером 16. К моему удивлению, все мои предложения были приняты.
Единственный, кто показал, что он знает о моих потугах ускорить развитие цифры в институте, был Виталий Константинович Божок. При первом же моем посещении его в новом кабинете, мне был устроен теплый прием. Нужно отдать должное Виталию. Он оборудовал новое, бывшее угловое помещение по – западному, можно сказать по – западенськи. Он, как и несколько других сотрудников ВЦ, был из Западной Украины и заканчивал Ужгородский университет. Виталий оборудовал кабинет нестандартной светлой мебелью. Кроме его большого рабочего стола и приставленного к нему небольшого стола для совещаний, в углу достаточно большой комнаты стоял журнальный столик и кресла.
К рабочему и журнальному столу вели широкие дорожки из светло – зеленой шерстяной ткани. На столике стояла ваза с цветами. На стенах висели виды Карпат. Виталий попросил, чтобы его не беспокоили, и пригласил меня к столику. Кажется, кофе он заварил сам, не беспокоя секретаршу. Тут же появилась бутылка коньяка, кажется «Тисса» и небольшие рюмки. Он сказал, что постарается оправдать доверие 13‑го отдела, но для его отдела потребуется еще какое – то время для становления, так что нам придется набраться терпения. Оказалось, что терпению набираться нужно не только нам, но и ему. Недели через две дорожки и журнальный столик с креслами исчезли. Как и свобода в принятии им решений.
При выдаче первого же задания возникли трудности. Обуховскому не нравилось все – от формы представления материала до параметров требуемой обработки. Моя попытка привлечь Галю Симонову к процессу выдачи задания и переговорам успехом не увенчались. Более того, она пожаловалась Геранину, что ее заставляют заниматься не ее делом[24]. Божок был настроен более конструктивно, но он не видел возможности выполнить задание тем составом, который был у него в отделе.
В течение десяти лет, пока я осваивал новую для себя отрасль знаний – гидроакустику и находил свой путь, чтобы принести пользу, «через формулы к железу», мои ленинградские ровесники и ребята постарше занимавшиеся «железом», достигли немалых успехов в разработке бортовых ЦВМ и программировании задач для них.
Познакомился я с ними, когда мы начали взаимодействовать с ЦНИИ Морфизприбором. Мне первоначальное знакомство с этими машинами нужно было для оценки реализуемости задач кибернетиков и управления. Не знаю, в результате ли семинара по цифровой обработке сигналов, который я еще вел или из – за отсутствия другой подходящей кандидатуры меня назначили сопредседателем совместной с ЦНИИ Морфизприбор комиссии по унификации алгоритмов и цифровых средств, их реализующих. Комиссия довольно быстро усохла до двух председателей – Юры Наймарка – начальника комплексного сектора формирующегося там цифрового отделения – и меня.
С Юрой мы встречались довольно часто и плодотворно. Пару раз встречи проходили у нас дома за обедом и после. О наших обсуждениях я докладывал Алещенко. Тот не мог поверить, что в Морфизе еще ничего реального и готового, что можно взять, нет.
Объяснялось это тем, что почти все, занимавшиеся цифрой, были новичками в Морфизприборе. Все их успехи относились ко времени их работы в ЦКБ «Полюс», формально отделившегося от завода им. Кулакова. Завод занимался приборами и системами управления стрельбой торпедами с подводных лодок и другими подсистемами управления подлодками.
Вершиной их достижений в области вычислительной техники было создание БИУС (боевой информационно – управляющей системы) для АПЛ проекта 705 и 705К «Лира», американское название «Альфа». По своим параметрам она была лучшей из торпедных ПЛ, когда – либо построенных не только в СССР, но и в мире. Называлась она истребитель подводных лодок. Она не только могла догнать и отслеживать американские ПЛАРБ, но и уходить своим ходом от торпед. Её разворот в обратную сторону на полном ходу составлял 40 секунд.
Кроме всего, она была самой «красивой» и самой малонаселенной лодкой. Последнее предусматривало глубокую комплексную автоматизацию лодки. Для нее и был создан БИУС «Аккорд» с соответствующей ЦВМ того же названия.
Молодежь быстро созрела и была готова на новые свершения.
«Необходимо заметить, что ЦКБ и завод им. Кулакова, несмотря на административные отделения и объединения, всегда представляли собой идеальную пару, единый коллектив. Во все годы своего существования эта пара работала как часы – все, что успевало напроектировать ЦКБ, успевал вовремя и хорошо изготавливать завод. Завод никогда не выдвигал претензий на многочисленные доработки, переделки, словом на то, что всегда неприятно для серийного производства, и что неизбежно во всяком новом деле. Разработчики “Аккорда” чувствовали себя в цехах завода точно так же, как у себя в лаборатории, как дома. Разработчики обеспечили подготовку заводских регулировщиков, сдатчиков, сами вместе с ними обеспечивали регулировку и сдачу, а впоследствии и внедрение на объекты. Словом, работал единый, слаженный коллектив.
Небезинтересно отметить, что ЦКБ и завод Кулакова своими размерами оптимально соответствовали классу создаваемых систем. Это соответствие очень важно. Практика показала, что системы одного и того же класса будут разными по размерам и времени создания при их разработке в разных коллективах: у больших коллективов системы будут большими и создаваться будут долго, у оптимального коллектива – такими, какими надо и когда надо, у маленького коллектива – ничего не получится.
Эта постоянная работа на “задел” вскоре нашла свое применение. Когда в 1969 году ЦКБ “Полюс” получило задание на разработку БИУС`ов третьего поколения типа “Антей” для нового поколения ПЛ, коллектив ЦКБ был технически и морально готов к созданию этих систем, однако в это время начались административные и политические игры МСП и ВМФ в базовый ряд ЦВМ. Всем разработчикам систем радиоэлектронного вооружения ПЛ были запрещены разработки собственных ЦВУМ и предписано использовать ЦВМ базового ряда, который должен был быть разработан ЦНИИ “Агат”.
Время шло, а машины базового ряда не появились, сроки “Антеев” поджимали, и в 1972 году (за один год), в ЦКБ “Полюс” была создана ЦВМ “Аккорд М” с выдающимися параметрами. Прямое быстродействие составляло 500 тыс. оп./сек. (вдвое выше планируемого быстродействия ЦВМ “Атака”), объемом оперативной памяти 8 тыс. и долговременной – 100 тыс. Машина была программно совместимой с ЦВУМ “Аккорд”, была отлично приспособлена для работы в комплексах повышенной надежности и повышенной производительности, сохраняла все достоинства ЦВУМ “Аккорд” как управляющей системной машины. Она была выполнена на интегральных микросхемах серий 133 и 136, на оригинальной технологии многослойных печатных плат и занимала половину объема стандартного шкафа. Машина вызвала большой интерес, в особенности, на фоне отсутствия обещанных машин базового ряда. Ее готовы были применить в новых разработках ЦНИИ “Гранит”, НИИ “Морфизприбор”, НИИ “Электроприбор” и ряд других предприятий отрасли, машина демонстрировалась в Министерстве. Но административные игры взяли верх над здравым смыслом. В 1973 году образец “Аккорда М” и его документация были изъяты из ЦКБ и переданы в ЦНИИ “Агат”, работы по “Антеям” были прекращены. Следует отметить, что ЦВМ с аналогичными параметрами, хотя и не обладавшая системными возможностями “Аккорда М”, была создана киевским НИИ “Квант” только 1982 году (“Карат-М” – модернизированный). Административные игры остановили развитие корабельных ЦВМ на 10 лет» [Мет].
Из воспоминаний одной из разработчиц «Аккорда-М» Светланы Ниловой: «…«Карат» ни в какое сравнение не шёл с «Аккордом-М» (речь идет о 1972 годе – О. Р.), в подмётки не годился. Была в командировке в «Кванте» – беседовала там (на всю жизнь запомнила) с неким Кицио, ведущим специалистом. На мои вопросы не отвечал – дал мне какое – то описание на украинском языке, ехидно улыбаясь, очень удивился, когда я стала его читать (два года в Виннице учила украинский) и по ходу задавать вопросы. Тогда уже ему пришлось отвечать. Мы были на голову выше Кванта».
Про мое знакомство с «Каратом» напишу позже.
С 1 января 1974 года ЦКБ “Полюс”, под флагом объединения и укрупнения было ликвидировано, разработчиков “развалили” на две части, одна из которых отошла к ЦНИИ “Гранит”, другая – к НИИ “Морфизприбор”. Вместе с разгоном ЦКБ “Полюс” прекратило существовать перспективное аккордовское направление в создании боевых информационно – управляющих систем.
Автор воспоминаний об «Аккорде» Меттер ничего не говорит о тех, кто уходил в НИИ «Морфизприбор». Приказ о развале шел из Минсудпрома при поддержке ВМФ. Хотя гарантии трудоустройства сотрудников ЦКБ «Полюс» были дадены, но в Ленинграде был обком КПСС, возглавляемый членом Политбюро, известным антисемитом Романовым и Большой Дом (КГБ), тоже не отличавшийся симпатиями к евреям.
Один из свидетелей описал разговор между уже назначенным начальником отдела (вскоре отделения) Л. Е. Федоровым и директором В. В. Громковским в присутствии его патрона, начальника 10 ГУ Н. Н. Свиридова. Громковский сообщает Леонарду, что, к сожалению, отдел кадров не пропускает некоторых его сотрудников на работу в «Морфизприбор». Леонард, задохнувшись от гнева, но стараясь сдерживаться, напоминает, что у них существует договор между собой, с которым согласились все начальники, включая Громковского: «Мы приходим или все, или никто». Повисло молчание. Свиридов ехидно спрашивает: «Так что, Владимир Васильевич, твой начальник отдела кадров тебе не подчиняется? Ты уже не распоряжаешься приемом кадров?». Громковский берет трубку и медленно и спокойно сообщает начальнику отдела кадров (скорее всего, полковнику в резерве КГБ). «Или ты сейчас подписываешь все заявления о приеме на работу, или мы больше вместе не работаем». Последняя фраза имела второй смысл – могли оставить начальника и уволить Громковского. Но у него сидел Свиридов (может быть, специально для этого приехавший), и все, включая райком и КГБ об этом знали. Приняли всех, кто подал заявления. Среди ведущих разработчиков «Аккорда» евреев, по мнению блюстителей чистоты рядов ведущего гидроакустического института, было слишком много. В отделе программирования Федорова – зам. Главного конструктора «Аккорда» – в ЦКБ «Полюс» начальниками секторов были четыре еврея из пяти [Мет]. Так как Морфиз был институтом старым, то там и своих было немало, но чтобы сразу столько…
Среди основных разработчиков «железа» «Аккорда» для «Лиры» около половины были евреями, а среди их начальников в «Полюсе» еще доцифровой поры, евреев, уже получивших Ленинские и Госпремии за ПТУСы (приборы управления стрельбой торпед) тоже было немало.
Возможно, этот мотив тоже был в многоголосом хоре, требовавшим, чтобы всё и все подчинялись «Агату». Возглавлял его непотопляемый Г. А. Астахов, входивший без доклада в кабинет Устинова.
Но тут возникла интрига среди приближенных. Один из них, обиженный Астаховым и выдавленный наверх из ЦНИИ в главные инженеры 9‑го ГУ, решил поколебать его позиции. Он всячески продвигал «Аккорд-М», устроил выставку в Минсудпроме, где каждый, в том числе и Алещенко, мог убедиться в преимуществах «Аккорда» не только перед «Каратом», «Тучей», но и перед начатой в проектировании базовой ЦВМ «Атака».
Только гигант И. В. Кудрявцев, а потом его зам. В. Ю. Лапий сумели отстоять «Карат» как специализированный вычислитель, доказав, что иначе «Квант» провалит по срокам и массогабаритам все свои проекты.
Несмотря ни на что, Флот в лице 24‑го института в Петродворце, также поддерживал монополию «Агата».
Возможно, «Агат» все равно бы победил, но тут ему на помощь пришли высшие силы. Астахов умер.
Человек из министерства, так продвигавший «Аккорд-М» (главный инженер 9 ГУ Мошков) тут же перескочил в кресло директора «Агата» и поменял ориентацию. Используя все свои связи, он добился уничтожения (ликвидации) ЦКБ «Полюс», с передачей «Аккорда-М» и всей его документации в ЦНИИ «Агат». Там «Аккорд-М» и был похоронен. Возможно, некоторые его решения и были имплементированы в изделия «Агата», но сведений об этом у меня нет.
Эта история утонула бы, не оставив никаких следов, но случай был настолько вопиющим, что известный фельетонист Юрий Борин написал в «Литературной газете» фельетон, в котором красочно описывал эту историю. Понятно, что БИУС, ЦВМ «Аккорд-М», «Полюс» и «Агат» в ней упоминаться не могли.
Поэтому история рассказывалась про чудесный насос, на основе которой была построена насосная станция. Все дальнейшее описывалось детально и наделало много шуму в Минсудпроме. Не узнать действующих лиц было нельзя. Но волна, поднятая газетой, наводнения не вызвала. Все вышли из воды сухими. Победил «Агат» и его новый директор.
Все это я без деталей узнал от Юры Наймарка и Леонарда Федорова. Вспомнил и фельетон в Литературке, который читал в декабре 1972 года.
Еще до того, как я познакомился с программистами из Морфиза, произошло странное событие.
Меня, Обуховского и почему – то Сергея Якубова срочно выдернули в Ленинград для помощи Ярославу Афанасьевичу Хетагурову в ревизии ЦНИИ Морфизприбора на предмет недостаточного внимания, уделяемого там вычислительной технике.
Хетагуров занял кабинет Громковского, мы тоже работали там – смотрели отчеты, которые он нам давал, а потом просил разъяснить тонкости гидроакустики. Привлекал он для объяснений и сотрудников Морфиза, но они, по – видимому, избегали бесед с ним, односложно отвечая на его вопросы.
Это была странная миссия. Целью её, видимо, было выпороть руководство Морфизприбора. Хетагуров после своих лучших времен в «Агате» – Ленинская премия, орден Ленина и другие отличия, решил прорваться в Академию Наук. Для этого ему нужна была поддержка не только родного института и главка, но и министра и флота. И он зарабатывал их поддержку.
В это же время в Академию стремился и зам. по науке НИИ Атолл, д. т. н., профессор В. Ю. Лапий. В некоторых богемных кругах он уже представлялся как академик. Оба провалились. В последнем случае это привело к ускорению развития «цифры» в Киевском НИИ гидроприборов. У меня сложилось впечатление о несоизмеримости задач Морфиза и наших. И убеждение, что наши задачи гораздо легче ложатся на цифру.
Об этом я и докладывл Алещенко. Но он доверял своему конфиденту С. Якубову – который знал, что на самом деле интересует шефа. Недаром он писал заявку на авторское свидетельство по «Звезде». Он и Обуховский очень обижались, что я «бросил» их в Ленниграде. «И заходил в кабинеты начальства, открывая ногой двери». Про Хетагурова, которого я постарался описать Глазьеву, он позже сказал: «Ну, нужно же, так попасть!»
1977
При Николае и при Саше
Мы сохраним доходы наши
Из Маяковского, но не про меня.
Половинко уехал. Начальником вместо него стал Саша Москаленко. Несколько неожиданно – у него и группы – то никогда не было, зато было главное – доверие начальника отдела.
Отношения до этого у нас с Сашей были хорошими. Он, правда, относился ко мне несколько покровительственно, точнее свысока. Объяснялось это, во – первых, тем, что к моменту моего прихода он уже работал на фирме три года и успел завоевать доверие начальства, во – вторых, он как бы предсказывал некоторые принимаемые решения, хорошо зная Олега Михайловича и предугадывая его реакцию на то или иное событие.
Теперь, когда я стал его подчиненным, нужно было ясно показать, кто в доме хозяин. Я‑то никак не посягал на его начальственные права, но ему казалось, что я нахожусь во фронде и отношусь к нему без должного уважения. Тем более что его научная работа по системотехническому исследованию вертолетных станций вызывала у меня скепсис – в аддитивный критерий эффективности (когда она вычисляется как взвешенная сумма оценок параметров системы) я не верил. Оценки параметров являлись коррелированными, и складывать их было нельзя.
Елена Сергеевна Вентцель по поводу одного из главных критериев оценки систем – стоимость/эффективность – говорила, что по нему можно дешевле всего проиграть войну.
Однажды Саша не сдержался и отругал меня за опоздание после обеденного перерыва. Он выделил время для беседы со мной и ничем его не занимал, а теперь он со мной не может говорить – весь его график летит.
Мы с ним договаривались побеседовать о мероприятиях по приему наладчиков французской специализированной ЭВМ «Plurimat». И надо же, после обеда на входе на проходной меня остановила Надежда Федоровна Хоменко, начальник отдела контрольно – измерительных приборов, где должен был числиться «Плюримат». Надя стала задавать вопросы, на которые нужно было отвечать сразу – она была подставлена в целях прикрытия, как основной потребитель прибора, а готовиться еще не начала.
Задержался я разговорами с ней, стоя на проходной, на полчаса. Объяснить Саше как следует, что это форс – мажор, и в наших интересах знать о возможностях ее отдела (она тут же выделила нужных людей) я не сумел. Саша знал, что с перерыва я частенько опаздываю, с тех времен (1975 год), когда он вместе со мной в обеденный перерыв приезжал к нам за грудным молоком – Нина заранее сцеживала его для сына Саши Сережи. Саша тоже не успевал – ему нужно было завезти молоко домой Ире, а потом ехать на работу. У меня, как руководителя темы, был свободный выход, у него, по каким – то причинам, тоже.
Саша посчитал, что я опоздал из – за неуважения к нему, а с Хоменко просто зацепился языками.
В общем – то, он специально не придирался, но я чувствовал, что у него складывается впечатление, что я его должным образом не ценю (не уважаю).
А он и до того, как стал начальником, всегда ощущал себя в верхней позиции. И так уж повелось, что он приносил мне приговоры Кассандры, существенно влияющие на мое положение в фирме. О двух из них я расскажу позже.
Саша был хорошим парнем, и, как оказалось, это была его профессия. Такие люди ценились везде. Например, директор Сухумской станции Ильичев стал академиком и вице – президентом АН прежде всего потому, что он был хорошим парнем. Хорошим парнем был и Горбачев.
Вскоре Саша поведал, что из группы уходит (его переводят) Сережа Якубов.
Сережа по моим идеям не работал, он выполнял работу для Коли Якубова и я надеялся, что он закроет в НИР «Ритм» аппаратурную часть (коммутатор с преобразователем), связанную с методом Коли, почему – то называемым ПЧП (пространственно – частотным преобразованием). Когда Саша сказал, что это решение руководства, я еще стерпел, но когда узнал, что он переходит в группу Чередниченко, я психанул, и сказал, что это бандитизм – так грабить тему. Естественно, что это дошло до ушей начальства.
С Чередниченко у меня уже возникали стычки – он не хотел делиться записями сигналов для анализа и пару раз подставлял меня по другим вопросам кооперации. Он уже начинал заниматься вопросами классификации целей, для решения которых я когда – то и занялся БПФ. Напрасно я «возбухал». Колю Якубова как руководителя Сергею Якубову я заменить не мог. А к Чередниченко он ушел еще и по сходству наклонностей – оба не любили «космополитов».
Усугубил ситуацию психологический тест, который был спущен чуть ли не сверху – улучшение отношений и психологической обстановки в коллективе для повышения производительности труда. Его в обязательном порядке проходили все сотрудники института. Тест был анонимный – говори и пиши что хочешь. Начальству фамилии тестируемых не сообщались, но проводящие тест их знали. Нужно было высказать мнение о трудностях в коллективе, мнение о коллегах, оценить начальников – от непосредственного до директора и т. д.
Большинство сотрудников теста опасались и писали не то, что думали. Но я был в несколько агрессивном состоянии, а кроме того, тест от киевского Института Психологии проводил Сережа Мусатов, мой одноклассник в младших классах 131 школы. Он просил меня рассказать ему об общей обстановке в институте и заверил, что все пройдет анонимно, личные анкеты тестируемых будут храниться отдельно.
Профессиональные знания и умения начальников я оценил невысоко, ниже всех – Москаленко, Алещенко – средне, а Бурау и Киселева посредственно.
Когда компания по тестированию закончилась, и все сборщики тестов покинули фирму, меня Сережа Мусатов пригласил в кафе для беседы. Под кофе и коньяк он попросил меня разрешить ему раскрыть мою анонимность. Я обалдел – ты же клялся, что все будет по правилам – никто ничего не узнает. «Твои ответы очень заинтересовали руководство» – я понял, что самое высокое – и мне обещали большую премию, если я в твоем случае, а также еще в нескольких анонимность раскрою. А у меня сейчас тяжелая ситуация – болеет дочь. Мне твердо обещали, что никаких организационных выводов делать не будут». Я настолько разозлился, что чуть ли не плеснул ему коньяк в лицо и сказал, что если он способен за тридцать сребреников продать основные принципы своей профессии, то далеко он в ней не уйдет, и выскочил из кафе. Он понял это как «разрешение» раскрыть анонимность. Организационных выводов немедленно не последовало. А мне бы следовало в очередной раз не наступать на грабли – ведь я его пару раз защищал в классе от «темной» за ябедничество – уж больно он был тщедушный. И при этом злой – помню, что он кусал тех, кто его даже не бил, а чем – то обижал.
Никак не хотелось верить, что люди не способны меняться. Через десяток лет я познакомился с его начальником, профессором Буровым. Он сообщил мне, что Мусатова уволили из института и отчислили из аспирантуры за фальсификацию результатов каких – то тестов. Редкий случай, когда правда торжествует в обозримом времени.
Думаю, что для Москаленко мое мнение о нем было безразлично, но про Алещенко такого сказать было нельзя. Удивил Бурау, который интересовался мнением такой далекой и малозначимой для него фигуры, как я.
Вскоре (после не значит вследствие) Саша объявил мне первый приговор Кассандры: «в экспедицию ты не едешь». XXIX Атлантическая экспедиция была запланирована еще в 1974 году, и Коля Якубов собирался везти туда группу «Ритма» и завершить неудавшиеся эксперименты по ПЧП. Раньше я писал, что он не собирался брать туда Юденкова и Москаленко.
Алещенко поставил мне задачу подготовить приборы, которые бы являлись бы прототипами тех, которые будут использоваться для обработки сигналов в «Звезде». Меня, же кроме прочего, интересовал выбор параметров сигналов, которые ложились бы на временную обработку в процессорах БПФ: длительность гармонического сигнала и ЛЧМ сигнала, и допустимую ширину полосы ЛЧМ сигнала. Хотя принимать, скорее всего, пришлось бы только прямые сигналы, тем не менее, степень разрушения или когерентности сигналов можно было оценить. Была надежда проверить и алгоритмы кибернетиков, но она быстро угасла.
Приборы подготовить не успели. Кроме антенны ПЧП, изготовление которой курировали Валера Титарчук и Сережа Мухин.
Дима Алейнов не успевал довести процессор БПФ. Толя Маслов получил из Фрязино трубку с запоминанием (для построения траекторий целей), но были проблемы с ее управлением. Я надеялся на эрзацы в виде машинных программ, реализованных на Минск‑22.
Состав экспедиции готовился заранее. У меня были беседы с Костей Антокольским из отдела Мазепова в АКИНе, который занимался, среди прочего, подготовкой и составом экспедиции. Незадолго до приезда Мазепова в Киев Костя сказал мне, что больше он экспедицией не занимается. (Его Мазепов оставил (отставил) якобы для написания отчетов и диссертации). Намекнул Костя и о нелюбви Мазепова к космополитам. (Ярким примером было снятие Ю. М. Сухаревского, и его замещение собственной персоной в роли начальника отдела и начальника почти всех экспедиций). Формирование экспедиции перешло в руки Вали Акуличевой. А у нее были свои приоритеты – ее однокашники – в частности Сережа Пасечный, Людвиг Коваленко (оба из КБ «Шторм») и Саша Москаленко.
Записку с экспедиционными задачами, приборным и персональным составом группы по «Ритм» я передал Алещенко. Приехал Мазепов. Меня не звали. После его отъезда Саша и сообщил мне о решении.
Не могу сказать, что это был для меня неожиданным ударом. Во – первых, я в своё участие мало верил, а во – вторых, приборы действительно не были готовы.
«Все равно ты партком не прошел бы», сказал Саша, и он был прав. Партком двухлетней давности по «Ритму» я еще помнил. Мне казалось, что он не прав в другом, когда позже говорил, что у меня в экспедиции задач не было.
Мне же нужно было оценить допустимую длительность гармонического сигнала и ширину полосы и длительность сложного, чтобы определить параметры проектируемой аппаратуры – главным образом «Звезды». А у него их тогда действительно не было. Какая звездная судьба ему была приуготована, он тогда знать не мог. Но Алещенко знал, что такой как Саша пригодится и оправдает все авансы.
Требования к участникам экспедиции были строги. Никаких «вольнодумцев», никаких евреев, никаких недавно разведенных, чуть ли не 75 процентов членов партии и ВЛКСМ. Прошедшие предыдущие экспедиции без замечаний тоже были проходными кандидатурами.
Члены партии, как наполнители, были на вес золота и туда попадали даже такие люди как Г. К. Борисов, которым трудно было найти применение в экспедиции[25]. Катя Пасечная не могла оформить развод с Сережей Пасечным года два, потому что он вылетел бы из экспедиции.
Расскажу еще об одном уходе из группы, на этот раз желанном. Так как Саша (а может быть еще Лёпа Половинко), в отличие от Коли Якубова, не собирался замыкать всю обработку сигналов в моей группе, то подгруппа отображения в составе единственного ведущего инженера Гриши Аноприенко стала в лаборатории не нужна.
Я уже писал, что Гриша мне был навязан. После его представления в группе, я позвонил моему однокласснику Вове Фесечко, работавшему на кафедре Сикорского в КПИ, откуда пришел Гриша. «Вы что, с ума сошли – мы еле от него избавились. Единственно, в чем он специалист – это в добывании девочек для Сикорского». Коля уехал в командировку, к Алещенко я не пошел; оказалось, это была его креатура. О «специализации» Гриши он знал и, может быть, надеялся ею воспользоваться.
У Коли Якубова были собственные идеи в отображении. Среди прочего, Коля считал, что экран для отображения информации может быть маленьким, если его сделать с высоким разрешением – ведь видим же мы мелкие детали на почтовой марке. Через пятьдесят лет могу сказать, что эта идея не подтвердилась. Читаю и рассматриваю картинки я, как и многие другие, на планшете, а не на пяти с половиной дюймовом смартфоне, хотя последний имеет достаточно высокое разрешение – выше, чем на почтовой марке. А для оператора, сидящего за стойкой, нужен большой экран.
Но до такой техники тогда было далеко. Я стремился получить отображение с памятью. Гриша системы отображения знал (по работе на заводе радиоприборов и на кафедре Сикорского), но они все были еще аналоговые.
Меня он как – то поначалу стеснялся, а вот по отношению к другим вел себя в стиле мачо.
Юру Шукевича и Сережу Якубова он взял «на слабо» – смогут ли они целый день заняться крестьянским трудом на его даче, в красивом месте где – то в Осокорках, а он обеспечит им транспорт, купание, выпивку, а потом и знакомства. Они проработали целый день практически без отдыха и еды, а водка (или даже самогон) выключила их вечером начисто и до разговоров или развлечений дело не дошло. Они еще несколько дней потом выдыхали эту работу.
Со мной он играл в другие игры. У нас, как известно, все было плановое, в том числе планировались и изобретения. По крайней мере, подача на них заявок. Я вообще не люблю писать, а заявки тем более. А Грише написать заявку – все равно, что два пальца об асфальт. Он и перекрывал план чуть ли не всей лаборатории. При этом, не спросясь, включил меня (хоть и маленький, но начальник) в соавторы во время моего отсутствия. Заявка была из разряда шансонеток. Я попросил его больше меня не включать. Но для одной из следующих заявок ему потребовались знания по обработке гидроакустической информации, которыми я с ним поделился и даже чего – то исправил и посоветовал – он же «работал на коллектив». И тут он очень просил меня и уговорил – таки участвовать в ней. Я сказал, что это последний раз. Тут мы, наконец, добили нашу заявку по одному из способов обработки сигналов. Не помню с кем – с Юрой Шукевичем или с Инной Малюковой. И он сказал, что пора делиться – он тоже хочет участвовать в нашей заявке как автор. Это было похоже на шантаж – но я же проявил слабость и позволил ему вписывать меня в его заявки. Как и следовало ожидать, ни одна его заявка не прошла, а вот наша прошла и он, как и мы, получил авторское свидетельство.
Конец его пребыванию в нашей лаборатории положил случай. Его, как ударника крестьянского труда (был он из белорусской деревни, и его производительность высоко оценили Юра с Сережей), направили в колхоз – недели на две или на месяц. Вместе с ним направили и Аню – нашу вторую лаборантку. Ее взяли на работу в один день с Аноприенко. Она тоже выглядела в лаборатории инородным телом. Было ей лет 18–19, и она обладала несколько субтильным телосложением, скорее теловычитанием.
В лаборатории была и третья лаборантка, которую привел Юра Шукевич, звали ее, кажется, Таня. Она работала на нашу группу под присмотром Юры.
Первой лаборанткой оставалась еще некоторое время Люда Червоная, пока она не окончила какой – то курс вечернего института и ее не перевели в техники.
Через неделю Аноприенко и Аню привезли из колхоза. Аню – в больницу, Гришу – на разбор аморалки и телесных повреждений.
Гриша выделял в колхозе себе отдельный участок работы и после выполнения нормы уходил отдыхать. Нередко прихватывая при этом Аню.
Однажды они ушли раньше, а потом кто – то прибежал с постоя с криками – спасите Аню! Они с Гришей склещились. У собак это бывает постоянно, а у людей, когда пугается женщина. Никакие «домашние» меры не помогали, пришлось вызвать скорую помощь. Если Ане по большому счету ничего не грозило, то Гриша от застоя крови мог и уйти с концами, так как Аня была не в состоянии расслабиться. У нее были и физические и психические травмы.
В результате уволили Аню (может быть, она и сама ушла). Гришу тоже «уволили», скорее ушли, из лаборатории 131 в лабораторию 133.
Его дальнейшие подвиги, выходящие за описываемый временной интервал, известны. Гриша при поддержке Алещенко, интересовавшегося новинками и находившегося под влиянием его «мачизма», занялся еще и эргономикой. Приобрел гинекологическое кресло, якобы для оператора, видеоаппаратуру и оборудование для воспроизведения квадрозвука. Были и гуляния, запечатленные на видеопленке, с участием Алещенко и симпатичными сотрудницами отдела.
Когда Алещенко намекнул о производственных результатах, Грише это не понравилось. Он выдвинул встречные требования. Алещенко подал записку на увольнение. Но у Гриши был заготовлен свой вариант – он написал донос о необходимости увольнения Алещенко, приложив хорошо смонтированные видеозаписи с раздетыми девочками, гулянок с ним и без него. Кроме того, в записке он утверждал, что Алещенко продвигает своих любовниц в ученые, а таких истинных ученых, как он, держит в черном теле. Но самое страшное, что он пособник сионизма и устроил в отделе синагогу – кругом сплошные евреи. Кошембар, Барах, Гаткин, Рогозовский, Прицкер, Перельман, Бундалевский. Он еще не знал о Суворове, Ковалюк, Крамаренко, Тертышных.
Алещенко остался. Но его сильно потрепали. В парткоме, райкоме, органах, чьей креатурой и был, по – видимому, сам Аноприенко.
В конце концов, Аноприенко уволили, вернее, перевели на следующий «объект».
Примерно в это же время (может быть и раньше) Алещенко пришлось расстаться с еще одним мачо, долго остававшимся любимцем – Витей Кондрашовым.
Витя защитился в 1973 году, по применению сигналов с несиметричными спектрами, разработанными на кафедре Воллернера. Насколько я знаю, внедрить эти сигналы в реальные изделия – «Бронзу», «Шексну», «Платину» не удалось. Тем не менее, Витя дальше продолжал исследовать возможность их применения. Где – то в 1977/78 годах его группа поехала в Геленджик с аппаратурой излучения – приема для проведения экспериментов с сигналами. Вите они, видимо надоели, и он решил совместить приятное с полезным. Поплавав в теплом море, он отправился в Сибирь руководить походом средней сложности с малоподготовленными туристами. Нужно отдать ему должное – его мачизм сыграл здесь положительную роль. Один из сотрудников ИК, защищавший кандидатскую по процессору БПФ для НИР «Ромашка», интеллигентный юноша, пошедший первый раз в серьезный поход, отзывался о нем, как руководителе, очень высоко.
Беда в том, что Витя в это время числился в экспедиции в Геленджике и получал за это командировочные. В это же время его обеспечивали зарплатой, как руководителя похода, а также проезд, питание и снаряжение для него и для группы ЦК какого – то профсоюза. Как часто бывает, ведомости на зарплату встретились, и так стало известно, где был Витя. Кроме того, молодые специалисты, оставшиеся проводить испытания без него, не смогли справиться с неисправностями аппаратуры и месяц практически «загорали», ожидая Витю для указаний и не смея нарушить данное ему обещание молчать о его отсутствии.
Витю уволили из КНИИГП. А ведь Олег Михайлович столько вложил в него…
Иру Дергилеву и Бескаравайного (сына замдекана факультета акустики и звукотехники КПИ) пытали с пристрастием, почему они не доложили вовремя об отсутствии начальника и тем способствовали срыву испытаний. Ира бесхитростно ответила: «Откуда я знаю о ваших отношениях, может быть у вас одна мафия». Ира отделалась порицанием – а могла бы заплатить все командировочные.
У Вити Кондрашова и Гриши Аноприенко было много общего. Может быть, Витя и рекомендовал Гришу Алещенко. Они могли быть знакомы через жен, которые в одно время оканчивали медицинский институт и были врачами.
В семейной жизни два мачо тоже проявляли себя похоже. Например, Гриша, в ответ на рассказы коллег о том, что приходится дома помогать – например, искать и закупать продукты, поведал свой рецепт. «Мне она тоже надоедала с картошкой. Я пошел и купил две сетки по 10 кило, дорогой, но наполовину гнилой. После этого она от меня отстала».
У Вити был любимый анекдот. Муж выбрал время и пошел с женой наконец – то погулять в зоопарк. С дерева спрыгнула огромная горилла и затащила жену на дерево. «Витя, спаси, насилуют!». — «А ты ему объясни, что ты с работы, устала, и вообще у тебя голова болит».
Оба потерпели неудачи в семейной жизни. У жен появились высокопоставленные покровители, не проявлявшие мачизма в отношениях с ними.
Оба боролись за своих сыновей. У Гриши это носило патологический характер. Партнером его бывшей жены был генерал – майор милиции, а Гриша все время попадал в ситуации на грани закона, в том числе, когда он тайно увозил сына из садика и школы.
Немецкое исследование влияния мужских и женских гормонов в организме человека, показало, что самыми успешными мужчинами являются те, у которых достаточно много женских гормонов. И наоборот, самыми успешными женщинами, в том числе и в половой сфере, являются те, у которых достаточно много (но не чересчур) мужских гормонов.
Чтобы выправить врожденные качества, необходимо иметь воспитание. Но где ж его взять? Английских «публичных» школ, они же лучшие частные, в СССР не было. А с родителями, имеющими талант воспитания, везло далеко не всем.
Вася заболел
Как и все дети, Вася болел. Не так часто и серьезно, как Дима. На Диму он походил мало, хотя мы с Ниной позже не могли разобрать на детских фотографиях, где Дима, а где Вася. Вася и в жизни и на фото почти всегда был в хорошем настроении и с улыбкой.
Вася в 1976 году
В этот раз нам повезло – у нас была хороший участковый детский врач – Ольга Михайловна Андрусенко. Однажды она спасла Васю. У него случилось что – то, похожее на асфиксию (блокировка дыхания), и хотя Нина была не из пугливых мам, тут она испугалась. Вася задыхался. Время было позднее, около двенадцати ночи. Я схватил такси и помчался на Большую Житомирскую, где жила Ольга Михайловна. На звонок долго не отвечали, наконец, дверь открылась. Ольга Михайловна набросила на халат какое – то пальто, захватила саквояж и мы поехали обратно. Через пять минут Вася задышал нормально. Никаких подарков и подношений Ольга Михайловна не принимала, говорила, что ей достаточно человеческой радости и благодарности. Вскоре ее перевели в Охмадет.
4 марта 1977 я как – то нехорошо себя чувствовал и после ужина прилег покемарить. Вдруг (в 22.22) все как – то поехало. Стали раскрываться полки на кухне, дребезжать посуда. Нина пришла в спальню – Олег, что это? До ее прихода я как – то забеспокоился – не понимал, это со мной или вокруг. Вопрос Нины послужил триггером – я все понял и вскочил с кровати.
В Киеве произошло землетрясение. В школе нас учили, что Киев находится на украинском гранитном щите, и землетрясений здесь быть не может. Однако Днепр протекает по разломам этого щита, а на границах разломов обязательно образуются карсты, пещеры и впадины, которые имеют нехорошее свойство создавать резонанс при колебаниях грунтов.
Именно поэтому, несмотря на удаленность Днепра от центра землетрясения во Вранче (румынские Карпаты), сила земных колебаний в северной части Украины может резонансно возрастать. Во Вранче было 7,2 балла по шкале Рихтера, в Киеве – 5.
Помню, что старался не суетиться и спокойно объяснить Нине, что это землетрясение. «Заворачивай Васю, буди Диму, я сейчас соберу документы, и мы выходим из дома». Жили мы на 16 этаже в каркасно – кирпичном доме. Одели куртки, взяли две сумки. Я нес Васю, завернутого в одеяло – он прихварывал. Что творилось в двух лифтах – грузовом и пассажирском – передать страшно. Оттуда вываливались полуголые женщины, кого – то выталкивали, кого – то втягивали. На лестнице сначала народу было немного, потом его становилось все больше, кто – то пытался обогнать других, его шпыняли. Выскочили на улицу. По обеим сторонам Красноармейской стояли высокие дома, на тротуарах оставаться было опасно, на середину улицы выйти было нельзя – ездили машины. Перед соседним домом медиков, где жил Амосов, был небольшой скверик, отделяющий дом от тротуара. Мы расположились в нем. Было необычно тепло для марта, около 18º С. Но многие были полураздеты, и им было неуютно на улице. И они пошли в подъезд дома медиков. На мои вопросы, для чего же они покинули свой дом, если собираются прятаться в подъезде чужого, никто отвечать не собирался. Мы ощутили еще пару слабых толчков, и все затихло. В скверике нас осталось несколько человек. Еще где – то с час – полтора пробыли на улице, а потом решили вернуться домой. Лифт работал!
У Васи в этот раз ничего сложного не произошло, но как – то он стал чаще болеть.
В июне он снова заболел, и участковый педиатр, заменившая Андрусенко, определила двустороннее воспаление легких и посоветовала отвезти Васю в больницу. Нина ушла на бюллетень – не хотела отдавать туда ребенка. Через день пришла Каневская – семейный врач, лечившая детей Рогозовских – в том числе меня и мою двоюродную сестру Рену. Сказала, что молоденькая врачиха – ее внучка и хороший диагност, ей не только можно, но и нужно доверять. Послушала Васю и сказала, что диагноз правильный. В наших условиях, сказала она, когда трудно надеяться на регулярный приход медсестер с уколами антибиотиков дважды в день, больница – лучшее решение. А она постарается посодействовать, чтобы Нина оставалась там с Васей.
Инфекционное отделение детской больницы № 12 помещалось на Красноармейской, чуть ли напротив нашего дома. Нину удалось оставить в палате (спала на стульях) с запрещением выхода. Нина заботилась не только о Васе, но помогала ухаживать и за другими детками. Жар у Васи держался несколько дней. Потом стало получше. Пенициллиновый курс длился около 10 дней. Вася часто просил: «Читай». Одна из книг, взятых с собой в больницу, была книжка Заходера «Кит и Кот». Стих, давший название книги, Вася знал, но ему было трудно воспроизводить его весь. На магнитофонной записи, сделанной после больницы, Нина делала паузу перед последним словом в каждой строчке, и он ее заканчивал.
Васю вроде бы вылечили, и я их уже ждал дома, но зав. отделением попросила Нину остаться еще буквально на пару дней – больнице не хватало немного до плана по койко – дням. Взамен заведующая обещала продление бюллетеня, чтобы Нина могла побыть с Васей дома. Нина согласилась, и это привело к неожиданным последствиям. Основной принцип брежневского социализма: ты мне, я тебе, в очередной раз не сработал. Обычно проигрывала слабейшая сторона, а не та, которая играла «за государство».
В больницу по скорой помощи привезли детей с фарингитом. Все, кто прошел курс пенициллиновых инъекций, тут же были им заражены – у них был подавлен иммунитет. У Васи начался бронхит, который остановить было нечем. Как – то за неделю удалось справиться с температурой, и Васю с Ниной выписали.
Бронхит перешел в астматический, приступы которого как – то удавалось купировать. Хроническим бронхитом его признали позже. Рекомендации врачей не помогали. Наконец, мы добрались до Ольги Михайловны Андрусенко (до этого она была в отпуске). Одним из средств, которое, нам казалось, могло бы помочь, был крымский воздух. Ольга Михайловна покачала головой и спросила, знаем ли мы речку Рось. Ее микроклимат, сказала она, считается целебным в этих случаях. У нас в институте была база отдыха на Роси, о которой мы, после наводки Любы Коваленко на Крым [Рог 17], никогда не думали. Но тут мы схватились за соломинку. Мое заявление на базу – последняя смена (конец августа – начало сентября) — было тотчас удовлетворено. Домиков уже не было, и мне дали резервный – директорский. Во – первых, за 13 лет работы я ни разу не воспользовался никакими профсоюзными благами и базой в том числе. Во – вторых, я был где – то в передовиках: выполнял план, отмечался в приказах, сдавал темы с высокими оценками комиссий.
С трудом и приключениями мы добрались до базы (150 км от Киева – первый раз казалось очень далеко), вымыли домик (его сдавали чистым, но жили там не все время) и уложили Васю спать. Утром меня разбудила Нина. Шел дождь, в окна свисали мокрые листья.
Нина показала мне глазами на Васю. Вася спал, нормально, без затруднений дышал, без хрипов и свистов. Ольга Михайловна попала в десятку. В Ракитном у Васи все было хорошо. Но осенью и зимой опять начались бронхиты, и только на следующий год поставили диагноз: астматический бронхит. Перспективы были нерадостными: сначала хроник, потом астматик. Только к половому созреванию мог настать перелом. Пассивно ждать не хотелось. Профилактические меры принимать было сложно. Например, я обнаружил, что у Васи не холодовая аллергия, а ветровая. Помню, как зимой возил его в санках (в Охмадет, например) и пересаживал при перемене направления ветра спиной к нему.
Попытка оздоровиться в Крыму, как и предупреждала Андрусенко, не удалась – Васе было только три года, и он не смог акклиматизироваться.
Вася в Роси
Спортом – длительными нагрузками на выносливость (бегом, лыжами) — Васе было заниматься рано. Но как только он немного подрос, я стал учить его плавать. Вначале в бассейне на Первомайском массиве, где у фирмы были часы. Потом в Ракитном. Поплыл Вася лет в пять. В шесть он уже чувствовал себя в Роси уверенно.
Позже, когда Вася окреп достаточно, чтобы управляться с веслами, мы разрешили ему самостоятельно грести на лодке.
Вася на лодочном причале базы
Прибегали соседки: «Это ваш ребенок? Что ж вы делаете, а вдруг лодка перевернется – он же утонет!». Мы их успокаивали, обещая показать, что плавать он умеет. Постепенно они привыкали, а потом некоторые продвинутые родители и бабушки спрашивали, как можно научить детей плавать. Некоторых я учил сам. Одной из самых способных оказалась дочка Люды Ковалюк Юля. Она поплыла через полтора часа занятий, а на следующий день переплывала Рось под стенания бабушки.
С тех пор Ракитное стало основным местом нашего летнего отдыха в течение всей школьной жизни Васи. Прерывалось оно только на два – три сезона после Чернобыля. Вода (Рось и бассейн) его вылечили. Полового созревания ждать не пришлось. О Ракитном еще расскажу позже.
Смерть папы
Папа в 1970‑х
Весной 1978 года, через несколько лет после инсульта, папа чувствовал себя неплохо. Он гулял вокруг дома с палочкой, очень радовался Васе, Наконец – то у него появилось время и желание наблюдать весну и природу. Слушал и слышал «голоса» – на Печерском спуске вверху, где родители жили, на «Спидолу» голоса хорошо принимались.
Папе стало плохо перед майскими праздниками и его, по совету уже не практикующей врача – невропатолога А. Динабург, забрали в больницу на Московской, недалеко от дома. Она сказала, что там еще остались хорошие врачи, а в Октябрьской больнице – на кого попадешь. Диагноз – инфаркт, уже четвертый.
На праздники мы с трудом проходили к папе в шестиместную палату, мама бывала у него каждый день. Шестого мая мы приехали с Ниной на Печерский спуск, оттуда пошли в больницу. Была суббота, и в преддверии длинных выходных палата разъехалась по домам. Персонала тоже не было видно.
Папа был уже в полузабытьи, но нам показалось, что он как – то улыбнулся нам. Почти сразу ему стало хуже, потом совсем плохо и притом очень больно.
С большим трудом оторванный от чтения газет дежурный доктор безучастно за всем наблюдал.
«Сделайте же что – нибудь, вы же видите, как человек страдает!».
«А что я могу сделать?»
— «Введите морфин!»
— «Заперт в сейфе»
— «Анальгетики»
— «У меня нету»
— «Аспирин введите внутривенно».
— «Не смогу попасть иглой в вену».
— Вызовите лечащего врача!
— Він отдыхає, я не можу.
— Вы врач?
— Я скінчыв Киевский медицинский!
Он и до этого переходил на суржик, но тут я не выдержал.
— Тогда я вызову скорую!
— Она не приедет – они в больницу не їздять.
— Тогда я вынесу кровать с папой на улицу и вызову «противоинфарктную» бригаду из Октябрьской больницы!»
— Тоже не поедут. Да чего Вы суетитесь – третий инфаркт, старый уже, ничего не поможет.
— Но не в мучениях же умирать!
— «А что я могу сделать?»
Круг замкнулся – он повторил то, с чего начал. Папе еще не исполнилось 66 лет, инфаркт был не третий, а четвертый, к тому же обширный.
Если бы я был не один (Нина побежала за мамой), я бы все – таки попытался вынести папу из больницы, хотя этот здоровый бугай, называвший себя врачом, мог и помешать.
Дело врачей 1953 года нанесло непоправимый ущерб киевской медицине.
Это был настоящий погром с реальными жертвами. «Заметно стало желание медицинского руководства (врачей – погромщиков – О. Р.) избавиться от евреев не только в элитных, а и в обычных медицинских учреждениях. Некоторые руководители старались избавиться даже от родственников врачей – евреев.
Администрация мединститута должна была внести свою лепту в осуждение «врачей – убийц». Разыгрывался этот спектакль в здании Киевского оперного театра. Особая роль, естественно, отводилась «лицам еврейской национальности». Институтские евреи один за другим выходили на трибуну и срывающимися голосами клеймили происки своих соплеменников. Механизм только один раз дал сбой, когда доцент Лихтенштейн, прекрасный терапевт и блестящий преподаватель, интеллигентнейший человек, отказался выйти на сцену, заявив: «Я слова не просил». Все считали, что он обречен, тем более что его учитель (В. Х. Василенко, главный терапевт Кремлевской больницы – О. Р.) был одним из «профессоров – убийц».
После появления в «Правде Украины» антисемитского фельетона началось массовое увольнение евреев в медицинском институте и институте усовершенствования врачей. Если директор Мединститута делал это по возможности мягко и помогал устроиться на другую работу, то директор института усовершенствования Горчаков устроил буквально погром. Несколько сотрудников после беседы с ним заболели инфарктом и инсультом» [М].
Не знаю, с кем беседовал руководитель моей тети Нюси [Рог13] профессор А. М. Ольшанецкий (директором Медицинского был доцент кафедры акушерства и гинекологии Калиниченко, которую А. М. возглавлял), но он слег надолго с инфарктом. Нюсю отчислили из аспирантуры и распределили ее, умницу и еврейскую красавицу [Рог13], участковым врачом в бандеровское село на Западной Украине. С большим трудом, благодаря связям матери, ее удалось оставить в Киеве врачом в детском садике, где она проработала всю жизнь.
Сын Ольшанецкого, Александр Александрович, окончил Киевский медицинский в 21 год и через три года, в 1951, блестяще защитил кандидатскую диссертацию по хирургии. Места ему в Киеве не нашлось. Уже шла борьба с космополитами. Пришлось поездить по украинским городам и весям, пока он не стал доктором и профессором, создателем собственной школы хирургии. В Киев он так и не вернулся.
С этого времени еврейским мальчикам и девочкам, мечтающим стать врачами в третьем и четвертом поколении, путь в киевский Мед был заказан. Исключения были, в основном для детей еще работающих профессоров.
Не только евреи были хорошими врачами. Но их подавление повлияло на всех – талантливые и порядочные врачи рассматривались как «белые евреи» [Рог15], а почти все руководящие посты заняли национальные кадры с определенным набором качеств, одним из которых был антисемитизм, а другим – готовность делать все, что скажет начальство, включая подлости по отношению к коллегам любой национальности. Новые руководители, будучи отличниками соцсоревнования по искоренению космополитов, ходили, уже после реабилитации кремлевских врачей, по собственной инициативе по кладбищам, чтобы удостовериться в именах – отчествах предков своих «подозрительных» сотрудников.
Папина агония продолжалась. Он срывал с себя одежду, стонал, кричал, хватался за кровать.
Ужасное чувство бессилия, когда ты ничего не можешь сделать, чтобы если не отсрочить смерть, то хотя бы дать человеку – папе! — умереть достойно, сжигало меня. Даже броситься на этого бугая и заставить его делать – что? — все было бессмысленно.
Папа стал затихать. Вскоре его не стало.
Абрам Рогозовский родился 30 августа (13 сентября) 1912 года в Киеве. Дед построил дом на Шулявке, на улице Керосинной, возле будущего почтового ящика 2. Дом сохранялся до девяностых годов. О деде, прадеде и семье Рогозовских я писал в книге первой [Рог13]. Папа вел обычную жизнь еврейского мальчика из семьи с достатком.
- И… это правда, давнее,
- Но и о давнем не умолчишь.
- По пятницам Мотеле давнэл,[26]
- А по субботам ел фиш.
В отличие от Мотеле, который хотел в хедер, но ходить в него не смог, папа, если не хедер, то обучение у меламеда успешно окончил. Меламед – племянник Бейлиса, получил за это от деда часы. А до этого дед подарил папе жеребенка, который чуть не убил его. Шрам от копыта остался у папы на всю жизнь. Если до войны кто – то мог принять его за бандитский, после войны шрам вопросов не вызывал. Учился в трудовой школе, потом в строительном техникуме. Там у него появились друзья, которые остались у него на всю жизнь.
Вспоминал он и учителя математики, талантливого педагога, пробудившего интерес к математике у многих. Среди папиных однокашников были Илья Рапопорт, Юзик Улицкий, Гриша Стрельцесс [Рог13].
После техникума поступил в Ленинградский автодорожный институт, на специальность мосты и дороги. Нередко воспоминал о преподавателях и студентах, среди последних были и ставшие известными Сергей Антонов (писатель) и Иван Манюшис (Предсовмина Литовской ССР, вспомнивший перед назначением свое имя – Юозас).
Институтская дружба со многими осталась навсегда (Врублевские, Корешева, Кетриц и многие другие).
Папа в 1938 году
Мама в 1938 году
На последнем курсе познакомился и влюбился в орловчанку Асю Попову. Женился, и через полтора года в общежитии (бывшей Чесменской богадельне [Рог13]) появился автор этой книги.
После института папа в 1937 году вернулся на Украину, работал в киевском тресте «Укрдорстрой». В марте 1939 года его «выдернули» на строительство рокадной дороги вдоль границы с Польшей, тогда проходившей возле Винницы. Через пару месяцев дорога оказалась не нужна – «ублюдочное государство», по словам Молотова, перестало существовать, а вдоль новой границы дорогу строить не собирались, как не собирались и долго оставаться на ней – планировали идти дальше, на Берлин.
В 1941 году папу перевели в Котлас, строить мост через Северную Двину, чтобы песню сделать былью: «По тундре, по широкой дороге, где мчится скорый Воркута – Ленинград». Строительство мостов, дорог и туннелей осуществлялось под эгидой НКВД, которому подчинялись многие строительные организации. Мост строили в основном зэки, и одним из них был член – корреспондент АН СССР И. В. Обреимов, создатель и первый директор Физтеха в Харькове. В это время его ученица А. Ф. Прихотько публиковала его и совместные с ним результаты без упоминания его имени – она строила фундамент для поста директора киевского Института Физики.
Строительство моста шло не просто. Сроки его окончания срывались.
Началась война. Папа подал заявление в армию, несмотря на то, что у него была броня. НКВД-шный начальник строительства пригрозил ему переводом в зэки, если он будет настаивать. Наконец, в отсутствие начальника и с помощью военкома заявление подписали. Папу направили на краткосрочные курсы повышения квалификации офицеров запаса в Архангельске при высшем военно – инженерном училище.
Курсы были трехмесячными. К моменту их завершения папе удалось встретиться с мамой. Ее мобилизовали раньше папы – она участвовала в строительстве аэродрома на Кольском с марта 1941 года. Это была ее преддипломная практика. На защиту дипломного проекта в Ленинграде ее не отпустили. Аэродром достраивали под бомбами [Рог13]. Маме почти случайно удалось во время реорганизации управлений строительств оттуда вырваться с направлением в распоряжение Управления кадров ГУШОСДОРа. В Ленинград уже дороги не было – он был в блокаде. До меня с бубой было не добраться. За три месяца в Архангельске папа смог списаться с мамой, и она успела приехать в Архангельск в день его выпуска.
Папа встречал маму на пристани. В набросках воспоминаний он с юмором описывал эту встречу. «Ася в полушубке и в охотничьих сапогах (с мехом внутри – О. Р.) выглядела намного приличней меня. Я был в коротенькой широкой шинелке и кирзовых сапогах с широкими голенищами, из которых ноги торчали тонкими палочками, в большой пилотке, подшитой сзади по размеру. Совпартработник – попутчик Аси по плаванию на пароходе из Кеми в Архангельск – увидев меня, шепнул: «Ксения, неужели лучшего не могла выбрать?» О приезде жены было доложено по команде. Только на следующий день разрешили провести вместе сутки».
Приют нашли у архангелогородца, соученика по курсам. Отметили вместе с хозяевами встречу. На следующий день бродили по городу, заглядывая в пустые магазины. Папа решил зарегистрировать брак официальноК145 – на фронте всякое может случиться. Разыскали ЗАГС и с трудом убедили девушку – регистратора, что папа не женат. Свадьбу решили отпраздновать вечером в ресторане. У входа толпилось много желающих, но они прошли без препятствий – вход разрешался только военным. Мама уехала в Москву за назначением, папа – на Карельский фронт.
Финны к тому времени заняли западный берег Онежского озера. Саперная бригада, в которую направили папу, занимала восточный берег.
В студенческие годы, после лыжного похода на Кольском, папа рассказал про особенности ориентирования в этих местах. Так я узнал про разведывательную операцию, в которой он участвовал [Рог15].
Оставаясь лейтенантом, к марту 1942 года стал старшим адъютантом (так тогда называли начальника штаба) отдельного саперного батальона. После провала бездумного январского наступления Масельской и Медвежьегорской групп, когда войска потеряли более 11 тыс. человек и вынуждены были отойти на исходные позиции, финны осмелели. 9 марта они перешли Онежское озеро по льду и напали на село Шала и порт Шальский. Об участии отца в этом бою свидетельствует следующий документ.
Наградной лист на лейтенанта Рогозовского орденом «Красного знамени». Вверху надпечатка: медаль за «Отвагу




















