Читать онлайн «Помещичья правда». Дворянство Левобережной Украины и крестьянский вопрос в конце XVIII—первой половине XIХ века бесплатно
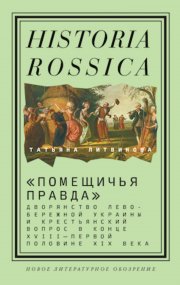
Быть или не быть, вот в чем вопрос.
В. Шекспир
«Русская правда» Ярослава Мудрого состояла из трех Правд: Правды отца, Правды сына, Правды внука.
Из ответа студента на экзамене
Вот ты говоришь: «Правда, правда…» А есть «Комсомольская правда», а есть «Правда Украины».
Из разговора, услышанного в транспорте
А вот скажи мне, американец, в чем сила? Ты говоришь, в деньгах. Вот и брат говорит, что в деньгах. А я думаю, сила – в правде!
Диалог из кинофильма «Брат-2»
Правда – явление относительное. Она зависит от того, кто ее говорит.
Глас народа. Ток-шоу «Свобода слова». 17 августа 2007 года
ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ
Когда «Помещичья правда» была написана, один из моих уважаемых рецензентов высказал сожаление о том, что в украинском варианте книга не будет доступна тем, кто интересуется имперским периодом истории Украины и России. Со временем я убедилась в справедливости этого замечания, узнав от некоторых российских коллег, что им трудно читать по-украински. И все же это не могло подтолкнуть меня к переводу на какой-либо язык довольно объемной работы1. Желание просто побездельничать, новые планы, а главное, отсутствие уверенности в необходимости возвращаться к тексту, которому отдано много сил и времени, – все говорило мне: эта страница перевернута.
Серьезным стимулом открыть книгу заново стало предложение издательства «Новое литературное обозрение» опубликовать «Помещичью правду». Только желание стать автором такого издательства, признательность Алексею Миллеру, рекомендовавшему мою книгу, и поддержка со стороны семьи могли подвигнуть меня отложить другие проекты, оторваться от маленькой внучки Оленьки и отважиться на перевод текста. Заново прочитывая и переживая судьбы своих героев, я с удивлением и сожалением осознавала, насколько актуальным все еще остается написанное.
Первоначальный текст книги сокращен и несколько переработан. Из него ушли некоторые демонстрационные вещи, присущие монографиям соискателей докторской степени, когда автор стремится показать свою историографическую эрудицию и теоретическую подкованность. Прежде всего это касается первой и второй глав, которые я условно определяю как теоретико-историографические. Конкретно-исторические сюжеты следующих глав, предисловие и послесловие остались без существенных сокращений и изменений. Я старалась ориентироваться на русскоязычного читателя, поясняя некоторые очевидные для украинской аудитории моменты. Возможно, российским специалистам покажутся излишними какие-то историографические или конкретно-исторические подробности общероссийского звучания. Однако, напомню, изначально книга писалась прежде всего для украинского пространства. В силу известных причин украинская историография в изучении имперского периода истории Украины долгое время вынужденно шла в фарватере российской историографии. Но с распадом историографического целого стремление к самостоятельности привело к некоторому отчуждению украинских специалистов и от советского историографического наследия, и от новаций современной русистики, особенно в области социально-экономической истории.
Не останавливаясь сейчас на опасности этого разрыва для украинской историографии, замечу только, что некоторые российские историки уже предостерегают от последствий такой же ситуации для российской исторической науки, отмечая, что «российские историки определенно проигрывают, игнорируя украинско-белорусские аспекты, в том числе – при изучении формирования русской нации и российского государства»2.
Итак, на российских коллег сейчас в изучении нашей истории особо рассчитывать, разумеется, не приходится, поскольку они, по-своему признав независимость Украины, в основном исключили из поля зрения ныне нероссийские регионы. Современные русисты, не работающие в русле концепции «внутренней колонизации», практически отказались от «украинских» сюжетов. Плодотворность же означенной концепции применительно к «украинским окраинам» империи пока представляется сомнительной3. Те немногие российские историки, которые специально обращаются к украинской истории и ее героям (Т. А. Круглова, Я. А. Лазарев, А. И. Миллер, Д. В. Руднев, Т. Г. Таирова-Яковлева и др.), или не выходят на просторы XIX века, или же не касаются социальной истории. Поэтому, несмотря на большое количество работ по российской истории XIX века, появившихся в последние годы, – работ разного рода и масштаба, концептуально они на содержание «Помещичьей правды» не повлияли.
В украинской историографии за последнее время, к сожалению, не произошло существенных изменений в изучении проблем, поднимаемых в книге. Украинский XIX век, даже несмотря на работы авторитетного для украинских историков Даниэля Бовуа, продолжает рассматриваться, с одной стороны, как преимущественно век «национального возрождения», своего рода подготовка к будущему национально-государственному прорыву, с другой – как «пропащий час» (по определению М. Драгоманова), время упущенных возможностей. Высказанные в послесловии к украинскому изданию надежды на смелых, настойчивых и упорных исследователей, которые будут работать над «помещичьей правдой», социальной историей Нового времени, пока так и остаются надеждами.
Вот почему этот вариант «Помещичьей правды» представляется мне возможностью еще раз актуализировать – пусть и на примере только одного из регионов – необходимость расширения представлений об «украинском XIX веке», а также попыткой восстановления историографической целостности. Хотя бы для того, чтобы гротескный образ «глобуса Украины» (или «глобуса России») и представления о разворачивающейся только на его просторах истории не превратились в историографическую реальность4.
Эти мои попытки наладить «мосты» были бы невозможны без чрезвычайно кропотливого, тщательного и одновременно деликатного отношения к моему тексту редакторов Ирины Ждановой и Анны Абашиной. Им, а также всем сотрудникам «Нового литературного обозрения», причастным к появлению этой книги, моя искренняя благодарность и признательность.
ПРЕДИСЛОВИЕ
В жизни каждого исследователя, видимо, бывает так, что желанные, долго вынашиваемые научные замыслы, любимые сюжеты по тем или иным причинам не находят воплощения в виде книги. У меня так случилось с моими героями Григорием и Василием Полетиками, перед которыми до сих пор чувствую вину и остаюсь в долгу. Несмотря на то что больше двадцати лет назад была защищена диссертация, а в последующее время продолжались эвристическая работа и погружение в эпоху, так что сформировалось ви́дение того, как это должно выглядеть, – книжка о Полетиках, хотя и полностью вызрела, все еще остается в планах на будущее. Вместо этого, так сложилось, реализовался другой проект, о замысле которого подробнее скажу чуть ниже. Но сначала о том, что способствовало его реализации в виде предлагаемой книги.
Очевидно, тут следовало бы говорить о совпадении случайностей. С определенной оговоркой и все же (не конкретизируя) отнесу к ним целый ряд таких обстоятельств, которые заставляли искать и формулировать новые сюжеты и проблемные развороты, используя, помимо прочего, многолетний педагогический опыт чтения курсов и спецкурсов, в том числе посвященных социальной истории Украины XVIII и XIX веков. Можно было бы говорить и о другом. Но остановлюсь на том, что оказалось, на мой взгляд, решающим. Несколько неожиданный и в определенной степени вынужденный уход в докторантуру поставил меня перед необходимостью придать более конкретные очертания наработкам, полученным за долгое время, активно повести архивные и библиотечные эвристические изыскания, четко определиться с дисциплинарными приоритетами и в конце концов представить все в виде книги, которая и предлагается читателям.
Поэтому, возможно, несколько ритуальные, но вполне искренние и необходимые выражения благодарности всем, кто так или иначе причастен к появлению этой работы, начну с родной кафедры истории Украины исторического факультета Днепровского национального университета имени Олеся Гончара – с кафедры, сотрудникам которой я безмерно благодарна за широкую поддержку, заинтересованное обсуждение на научных семинарах, в кулуарах, на конференциях, за теплые человеческие и профессиональные отношения, вызывавшие чувство ответственности перед дорогими коллегами и одновременно уверенности в возможности реализовать проект.
Не могу не упомянуть с благодарностью и родной исторический факультет, который своими научными традициями, атмосферой доброжелательности и заинтересованности не давал в сложную минуту опустить руки и прекратить вспахивать поле интеллектуальной и аграрной истории. «Виновниками» этой книги считаю также студентов-историков, на которых «проводились испытания», и всех коллег, окружавших сочувствием и подбадривавших меня.
Откровенную благодарность испытываю и к любимому научному руководителю, научному консультанту профессору А. К. Швыдько – не только за то, что в свое время она резко изменила мой жизненный путь и «вывела в люди», но и за многолетний пример научной честности, настойчивости, за взгляд, исполненный ожидания и чрезвычайно деликатно стимулирующий, за помощь в создании книги.
Отдельная благодарность моим внимательным и снисходительным рецензентам – профессорам А. Г. Болебруху, С. И. Посохову и члену-корреспонденту Национальной академии наук Украины А. П. Толочко. Их положительные отзывы мне еще предстоит оправдывать. Особый пиетет испытываю перед моим университетским преподавателем, А. Г. Болебрухом, который, в своей верности изучению истории общественной мысли, являлся для меня примером и безоговорочным авторитетом.
Также чувствую душевную потребность с благодарностью вспомнить тех, кто помогал собирать материалы, копировать их в других городах и странах, – С. В. Абросимову, В. М. Бекетову, Л. Н. Лучку, М. А. Руднева, Т. В. Портнову, И. А. Кочергина, С. И. и Л. Ю. Посоховых (Харьков), А. Н. Острянко (Чернигов), Е. А. Вишленкову (Москва), Наталью Доброгорскую, Наталью Борисенко, Альберта Венгера, Наталью Суреву (Санкт-Петербург), работников Института рукописи Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского, Черниговского исторического музея имени В. В. Тарновского, и особенно И. М. Сытого, сотрудников Государственного архива Полтавской области, Отдела рукописей Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург).
За материальную и организационную помощь, «приют и стол» в моих многочисленных путешествиях благодарю многолетнего директора Центрального государственного исторического архива Украины в Киеве и заботливого друга Л. З. Гисцову, Т. И. Ищенко, директора машиностроительного техникума в Санкт-Петербурге В. Н. Слепцова, декана исторического факультета Черниговского национального педагогического университета имени Т. Г. Шевченко А. Б. Коваленко, Наталью Котову (Одесса), Галину Утешеву, Александру Сичкарь, Александра Мартыненко, Инну Быкову. Л. Ю. Жеребцову и Евгения Петренко искренне благодарю за придание рукописи книжного вида.
Особые душевные чувства выражаю моему другу, одному из первых читателей и строгому критику Е. А. Чернову за выставленную высокую «планку», на которую я по мере возможности пыталась ориентироваться.
И напоследок о «тылах», которые олицетворяет моя большая семья Литвиновых-Журба-Васюковых. Спасибо моей дочери, Екатерине Литвиновой, – не только за любовь, понимание и терпение, но и за помощь в выполнении данного проекта, особенно за составление именного указателя. Моя безмерная благодарность – Олегу Журбе, моему любимому мужу, другу, коллеге, который не только взял на себя основные жизненно-хозяйственные тяготы. Без его научного сопровождения (поиск, копирование материалов, советы, «семинары»), доброжелательной критики первого читателя и одновременно настойчивого побуждения к завершению книги я вряд ли решилась бы пройти этот путь. Низкий поклон родителям моего мужа, Александре Кузьминичне и Ивану Ивановичу Журбе, который, к сожалению, не дожил до этого времени, как и мои родители – Надежда Матвеевна и Федор Викторович Бабенко, которые порадовались бы за меня. Поддержка и участие всех моих родных и близких особенно дороги.
Работа над этой книгой велась в течение нескольких лет, и, безусловно, все это время как в научном, так и в житейском смысле ориентиром и опорой для меня были многие хорошие люди, которых хотелось бы поблагодарить, как в том числе и неизвестного мне изобретателя стиральной машины-автомата (думаю, женщины-ученые особенно хорошо меня поймут).
ГЛАВА 1. ОТ ЗАМЫСЛА К ЦЕЛИ (ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ)
Тема этой книги, как ни странно, определилась, пожалуй, несколько десятков лет назад, когда мои родители, как и многие днепропетровцы, получили новую квартиру на теперь одном из главных городских проспектов – под названием «Имени газеты „Правда“»5, в просторечии именуемом Правдой. С того времени для многих горожан стало и даже сейчас остается вполне привычным «жить на Правде», «работать на Правде», «гулять по Правде», «проезжать по Правде», «переезжать Правду», «вспоминать Правду»… Это слово настолько прочно запечатлелось в моем сознании, что и в научных занятиях без него стало трудно обходиться.
Но оставлю иронию в стороне. Прочитав название книги и эпиграфы к ней, читатели вполне резонно могут спросить: о чем идет речь? при чем тут Шекспир, «Русская правда», «Комсомольская правда» и как все это связано с «правдой помещичьей»? Эти предполагаемые вопросы подталкивают к тому, чтобы сделать некоторые пояснения относительно авторского замысла с надеждой несколько предвосхитить и другие вопросы, которые могут возникнуть у тех, кто решится прочитать этот текст.
Заголовок книги – «Помещичья правда» – не просто элемент интриги и попытка поймать читательское внимание. Это сознательное стремление пристальнее присмотреться к тому социальному слою, которому долгое время фактически было отказано в праве на свою «правду». Дворянство на нашем пространстве долгое время воспринималось в общественном сознании как сословие ретроградов, которое оказывало сопротивление прогрессивному развитию общества, выступало противником любых реформ, задевавших его интересы. Такая устойчивая традиция, для которой, как отмечал Ю. М. Лотман, характерна прочная укорененность «очернительского»6 отношения ко всему, к чему добавляется эпитет «дворянский», сформировалась не без помощи художественной литературы XIX века: произведений И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, Г. Ф. Квитки-Основьяненко, Н. В. Гоголя, Марко Вовчка, И. Я. Франко7.
Что характерно, и дворянство поверило в этот довольно негативный образ, за что, возможно, и поплатилось. Сами дворяне поверили, что их «правда» ошибочная, ненародная, поверили в свою вину, в то, что они, по словам Н. В. Гоголя, «не герои добродетелей», а «герои недостатков»8. Чувство вины привело к появлению типа «кающегося дворянина», позже – «кающегося интеллигента»9. Это было усилено либеральной публицистикой и так называемой народнической историографией в вихре «народнического поворота»10 второй половины 1850‐х – 1860‐х годов, когда формировался «нарратив народных страданий», центральными темами-идеями которого были крепостное право, пасмурная, темная эпоха грубого насилия, унижения, надругательства над личностью и ее достоинством, мотив социального угнетения. Именно дворянин А. М. Лазаревский – который «не исследовал отдельно украинскую элиту как социальную группу»11, рассматривая, так сказать, «внутреннюю», повседневную жизнь народа, историю сословий Левобережной Украины, экономической борьбы, – заложил прочные основы историографической традиции изучения украинского дворянства под таким углом зрения12. Целый ряд его последователей, историков конца XIX – начала XX века, – Д. П. Миллер, И. В. Теличенко, О. И. Левицкий, В. А. Барвинский, А. Я. Ефименко, Д. И. Багалей и многие другие – были, по мнению Н. П. Василенко, «лишены какой-нибудь оригинальной мысли» и только лишь более или менее удачно группировали новый (либо не совсем новый) материал, иллюстрируя положения, заимствованные у Лазаревского13 (не время подвергать сомнениям такую оценку творчества своих коллег, высказанную будущим академиком). Имелось в виду, что концептуальных изменений, кроме информационного приращения, в трактовке истории дворянства не произошло.
Разработка такого образа продолжалась и в советской историографии, в контексте проблемы разложения феодально-крепостнической системы и зарождения буржуазных отношений, классовой борьбы, где краски сгущались, а определения становились более резкими – «крепостники», «угнетатели трудящихся», «плантаторы», «реакционеры» и т. п.14 К тому же, по выражению Зенона Когута, «советские ученые не просто осуждали украинскую элиту, они прекратили ее изучать»15.
Справедливости ради следует сказать, что именно работы А. М. Лазаревского одновременно формировали двойственное восприятие украинской элиты. Именно он впервые обратил внимание на так называемых «прежних изыскателей малорусской старины», создав основу для дальнейших исследований, проведенных Н. П. Василенко, Д. И. Дорошенко, М. С. Грушевским, и постепенного превращения «малороссийских изыскателей» – Г. А. и В. Г. Полетик, Я. М. и А. М. Марковичей, А. И. Чепы, Ф. О. Туманского, А. К. Лобысевича, В. Я. Ломиковского и др. – в «украинских патриотов». В первую очередь это касается работ А. П. Оглоблина. Но если Лазаревский «положил начало изучению социально-экономической природы левобережного дворянства с акцентом на наиболее непривлекательных сторонах его хозяйствования и социальной практики», то Оглоблин, не особенно обращая внимание на наработки своего предшественника, возносил социальную элиту бывшей Гетманщины до высот национальных героев, поступки которых должны стать достойным примером для подражания и воспитания следующих поколений16. Соглашаясь с этим, попутно отмечу, что Оглоблин создавал скорее не образ дворянства как социальной группы, а образы «людей старой Украины», как бы отвечая на вопросы украинских «Чацких» об «отцах» и «образцах».
Но, пытаясь «реабилитировать» представителей господствующего слоя, этих выходцев из казацко-старшинской среды, «осужденных», по выражению Оглоблина, историографией XIX века, исследователи исторической науки и общественной мысли (а именно они и занимались «персональным разбором» в отношении «украинских патриотов») обратились преимущественно к вопросам обороны украинской автономии, «собирания наследия», попыток изучения истории своей родины, «сохранения национально-исторической традиции, воспринятой затем возрождающейся национальной литературой»17. Историографические образы «украинских патриотов», вписанные в концепт национального возрождения, оказались слишком детерминированы представлениями об их «звездном часе», который для биографов был связан в первую очередь с созданием их героями источниковой базы будущей истории украинского историописания или с борьбой за нобилитацию беднейшей шляхты.
Вот и получается, что в условиях современной Украины, несмотря на возрастающий интерес к элитологии, в работах по истории дворянства преимущественно иллюстрируются концепции Лазаревского и Оглоблина. Но все же необходимо констатировать, что «заочная дуэль» двух крупных историков завершилась полной победой последнего – представителя «государственной» школы в украинской историографии. В недавних статьях и диссертациях выходцы из дворянства в большинстве своем предстают перед нами как меценаты, строители новой нации, деятели национального возрождения, участники общественно-политических движений, украинские патриоты, народолюбцы в смысле интереса к языку, этнографии, фольклору. Вместо образа конотопского или нежинского панкá, который только и думает, как бы выпить стопку крови своих крестьян, все рельефнее вырисовывается образ рыцаря-героя, готового броситься нам на помощь в укреплении украинского независимого государства. Но, даже несмотря на доминирование именно такого подхода, в современной литературе можно встретить упреки историкам: «До сих пор не появилось у нас никаких специальных исследований, посвященных роли шляхты (как „малороссийского дворянства“, так и польско-шляхетского элемента украинских земель) в украинском национальном возрождении XIX века»18. Стоит ли говорить о каких-то других проблемно-тематических разворотах?
Вместе с тем из‐за историографической инерции до сих пор сохраняются стереотипы народнической и советской историографии, что достаточно хорошо прослеживается по школьным и вузовским учебникам. Итак, в изучении отечественной элиты Нового времени все еще мерцают черно-розовые пятна19, за которыми не видно четких контуров и нет того богатства цветов и оттенков, какое почти всегда дарит нам настоящая действительность. Конечно, это не вина современных историков, если вообще возможно к нашему делу подходить с таким мерилом. Слишком сильным оказалось влияние историографической традиции. Не стремлюсь сейчас ее оценивать, поскольку согласна с М. А. Бойцовым, что «теоретически в качестве „весьма значительного“ может быть воспринят любой образ, сохраняемый в данный момент в исторической памяти, даже на самой ее окраине. Ведь роль и место этого образа в картине прошлого определяются вовсе не некими особенными качествами, ему изначально присущими (таковых, особенных, пожалуй, нет вообще), а характером отношения (курсив автора цитаты. – Т. Л.) к нему того, кто эту картину выстраивает в своем сознании»20. Но, занимаясь в течение определенного времени историей общественной мысли второй половины XVIII – первой половины XIX века и не рассуждая в категориях «те историки не правы в том-то, а эти – в том-то», я все больше ощущала недовольство от неполноты образа изучаемого предмета, а также от неполноты социальных картинок указанного периода.
Если присмотреться к историографической ситуации вокруг истории дворянства, то бросаются в глаза как минимум два обстоятельства. Во-первых, почти все исследования последних лет построены на изучении наиболее крупных его представителей, чьи имена вошли в историографический оборот более ста лет назад, – Г. А. и В. Г. Полетик, Г. П. Галагана, Тарновских, Марковичей-Маркевичей, Белозерских и т. д. Причем названные персоны рассматриваются преимущественно с акцентом на их безусловных заслугах и в первую очередь с позиций личной, семейной истории, национально-культурных процессов, истории исторической науки, а не с точки зрения истории социального сообщества, к которому они принадлежали. В связи с этим возникает вопрос: можно ли по отдельным вершинам судить обо всем дворянстве, его стремлениях, интересах, проблемах, представляли ли эти герои всё дворянское сословие, говорили ли они его голосом? Изучение социальных, региональных, национальных идентичностей дворянства при таком подходе, разумеется, также затруднено.
Во-вторых, за небольшим исключением21, в историографии дворянства практически потерялась социально-экономическая составляющая. Поэтому вопросы, как жило дворянство, как хозяйничало, как выстраивало отношения с другими социальными группами, и прежде всего с зависимым от него крестьянством, как приспосабливалось к новым социально-экономическим реалиям, как откликалось на инициативы правительства, и многие другие остаются пока без ответа. Даже «известных» и «выдающихся» мы в социально-экономическом, бытовом измерении знаем плохо. До сих пор не проанализированы экономические взгляды Г. А. Полетики, экономические произведения В. Я. Ломиковского. И. И. Гулак даже специалистами воспринимается только как отец известного кирилломефодиевца, а Н. А. Маркевич – только как историк, фольклорист, этнограф, несмотря на то что социально-экономических работ, заметок он написал, пожалуй, не меньше, чем исторических, поскольку активно занимался хозяйственными делами. О тех, кому посчастливилось попасть на страницы энциклопедий и справочников, часто можно прочитать лишь краткое «деятель Крестьянской реформы» или что-то подобное. Тем более это касается малоизвестных и неизвестных. За кадром остается целый ряд «не интеллектуалов», но мыслящих, образованных представителей дворянства, голос которых звучал, откликаясь на важные проблемы их времени.
Часто забывается, что даже большинство «украинских патриотов» пытались быть эффективными помещиками и именно эту свою ипостась считали главной. Заботясь о собственном благосостоянии, они не только задумывались над сложными вопросами домохозяйства, ища путей его рационализации, но и активно выплескивали свои соображения на бумагу, пропагандировали свой опыт, причем иногда выходя за пределы «экономии частной», рассуждая над региональными и общегосударственными проблемами агрономии22. В истории украинской общественной мысли все это не нашло почти никакого отражения.
Казалось бы, здесь могут помочь труды историков экономической мысли и науки. Но, к сожалению, относительно второй половины XVIII – первой половины XIX века этого сказать нельзя. Специалисты обращали внимание только на обсуждение крестьянского вопроса в Комиссии по составлению нового Уложения 1767–1774 годов23 и анализировали произведения Я. П. Козельского-философа, который был не столько помещиком-практиком, сколько теоретиком и затрагивал в первую очередь морально-этическую сторону проблемы. Позиции же его брата, Я. П. Козельского-депутата (от дворянства Днепровского пикинерного полка), хотя и попадали под маркировку «просветительские идеи», все же рассматривались достаточно бегло и схематично. Ну а такие «украинские патриоты», как Г. А. Полетика, вообще, на мой взгляд, неправомерно оказались в лагере «реакционеров-крепостников», причем современные авторы просто прибегают к заимствованиям из работ 50–60‐х годов XX века24. Все это объясняется невниманием украинских ученых к экономической истории, истории общественно-экономической мысли25 (хотя такая ситуация характерна не только для украинской, но и для зарубежной историографии26).
Итак, целый пласт общественной жизни оказался почти вычеркнутым из украинской историографии, что красноречиво подтверждается даже таким индикатором, как вузовские учебники и обобщающие труды по истории XIX века. Показательно, что в достаточно популярном «Очерке истории Украины» («Нарис історії України») Ярослава Грицака, где уже в самом подзаголовке поставлена задача решить проблему «создания украинской модерной нации», задекларированный «грех избирательности»27 (пожалуй, именно он) помешал обратить внимание как раз на социально-экономические сюжеты дореформенной эпохи, на процесс постановки и обсуждения важнейшего, больного вопроса, который затрагивал не группку национально ориентированных интеллектуалов, а миллионы людей, разные слои населения, все общество. Безусловно, такой подход не позволяет не только вплотную подойти к комплексному изучению «украинского XIX века», на необходимость чего в разное время обращали внимание историки28, но и «объяснить, откуда взялся феномен 1991 года», т. е. сделать то, к чему так стремится, отрицая возможности «традиционной украинской историографии»29, Ярослав Грицак. Конечно, в данном случае оправданием для авторов обобщающих трудов (если они вообще в нем нуждаются) может служить действительно своеобразная ситуация, особенно в изучении дореформенного периода, когда историк сталкивается с довольно зыбкой историографической почвой и фактически вынужден самостоятельно прибегать к разработке тех вопросов, в которых желательно было бы опереться на предшественников-специалистов.
Все сказанное и другое, о чем будет говориться далее, побудило меня взяться за рискованный проект, который я и пробую частично реализовать. При этом речь идет не о честолюбивых намерениях «новатора» на дискурсивном уровне, а о попытке, не отказывая дворянству в его «правде», ее понять. Понять, о чем думали, понять социальное, экономическое поведение, мотивации, жизненные стратегии дворянства, взгляды на ключевые вопросы общественной жизни, понять особенности социальной идентификации. Но, увлекаясь, как и каждый исследователь, своим объектом, я вместе с тем осознавала, что стремление услышать «правду» не означает желания оправдать. Определяя свои задачи, я не могла полностью предвидеть, к каким приду результатам, и к тому же понимала, что читатель все равно может разрушить авторские намерения30 и в конце концов сделает собственные выводы, которые, возможно, будут вполне соответствовать историографической традиции. Кроме того, осознаю, что «помещичья правда», как и правда любого сословия, группы является понятием объемным, сложным, хотя бы потому, что мое левобережное дворянство – это сотни людей разного достатка, возраста, образования, образа жизни и, соответственно, способа мышления. Исследовать эту «правду» гораздо сложнее, чем взгляды известного деятеля, написавшего множество текстов, оставившего кипы бумаг, которые затем отложились в личном фонде какого-либо архивохранилища. Ее изучение требует особенно кропотливой работы с источниками и персонологической эвристики. Но – несмотря на целый ряд научных и ненаучных проблем, с которыми я столкнулась, ощущая ответственность за избранную тему, – хочу отметить и положительные моменты, стимулы, подталкивавшие к действию.
Конечно, это наше время. Непростое время социального перелома, трудно переживаемого, но создающего прекрасные возможности для историка31. Наши реалии – динамичное расслоение общества, перераспределение собственности, экономические неурядицы, появление новой элиты, политические баталии, состязания за привилегии и борьба против них – позволяют лучше понять подобные моменты в прошлом, четче услышать разные голоса, разные «правды». Поэтому случалось, что именно бурное настоящее наводило на определенные размышления, определяло постановку вопросов к источникам, направляло к какому-то ракурсу в исследовании. Осмелюсь сказать также о личностно-субъективном. Работая на даче и пытаясь в шутку вжиться в роль мелкопоместной дворянки, я лучше понимала, как непросто быть настоящим помещиком. Когда, уезжая в очередную киевскую, черниговскую, полтавскую или петербургскую командировку, я думала: «Как же там мои цветочки, не завяли без дождя, не заросли сорняками?», то сильнее начинала ощущать помещичьи проблемы, заботы человека, ответственного не за пять соток, а за сотни, а то и тысячи десятин земли и к тому же еще и за своих крестьян, уплату налогов, выполнение рекрутской повинности, за порядок в имениях и за множество других вещей. Думаю, мой «сельскохозяйственный опыт» был нелишним при создании этого текста.
И еще один момент. Несмотря на невозможность найти ответы на ряд конкретных вопросов относительно нашей истории конца XVIII – первой половины XIX века в научной литературе, все же в ходе изучения темы у меня укреплялось убеждение, что современная украинская историография подошла к такому уровню, который позволяет перейти от бинарных оценок событий, лиц, процессов, от «реабилитационного» этапа к изучению дворянства в широком контексте социальной и интеллектуальной истории, направлений, наиболее близких замыслу этой книги. Об изменении историографической ситуации на отечественной почве в последние годы красноречиво свидетельствует, например, появление таких периодических изданий, как «Социум» и «Эйдос», на страницах которых не только декларируются устремления украинских гуманитариев ретранслировать эпистемологические новшества современной мировой историографии теоретически, но и делаются попытки воплотить их на конкретно-историческом материале. К сожалению (или к счастью), это не касается избранного мной периода, на мотивах временнóго определения которого уместно остановиться, прежде чем я перейду к объяснению собственных представлений о научно ориентированном толковании проблемно-тематической конкретики в постановке темы настоящей книги.
* * *
Восьмидесятые годы XVIII – первая половина XIX века не случайно хронологически очерчивают тему. Такой выбор носит принципиальный характер, а потому необходимо остановиться на этом более подробно и присмотреться к существующим в историографии образам эпохи, в значительной степени, по моему мнению, детерминирующим ее изучение. Предварительно замечу, что выставленные временны́е рамки тесно связаны не просто с данной эпохой украинской истории в целом, а с конкретным регионом – Левобережной Украиной (Левобережьем, Малороссией, Гетманщиной), – выбор которого будет обоснован ниже.
Как ни странно, избранный период до сих пор остается недостаточно изученным, в чем любой убедится, пролистав специальные периодические издания, научные сборники, учебники, обобщающие труды по истории Украины. Разумеется, для историков второй половины XIX – начала XX века он еще не был в полной мере историей, они преимущественно занимались накоплением материалов. Довольно часто в работах авторов того времени, в предисловиях к публикациям источников можно встретить выражения надежды на усилия будущих специалистов, к сожалению, пока не оправдавшейся. Насколько слабо представлена история данного региона за данный период в советской историографии, можно убедиться, просматривая библиографические указатели академических изданий по истории Украины – в них насчитывается относительно мало позиций32.
И до сих пор этот период очень слабо обеспечен монографическими исследованиями, если не принимать во внимание работы по истории декабристского движения, Кирилло-Мефодиевского братства и по поводу некоторых других общественно-политических сюжетов, и то описанных преимущественно в советское время. Более крупные труды, посвященные социально-экономическим проблемам эпохи, созданы еще в 50‐е годы XX века. За последнее время не появилось почти ни одной серьезной книги, если не считать работ Зенона Когута33 и монографий Валентины Шандры34 (речь не идет об исследованиях по истории исторической науки, а также западноукраинских регионов).
На целостность этого временнóго отрезка в отечественной историографии фактически не обращалось внимания, хотя он четко определяется весьма специфической социальной и идейной ситуацией. И в дореволюционной (либеральной и народнической), и в советской историографии эта специфика в полной мере не учитывалась и общественно-политические и социально-экономические процессы в украинских регионах исследовались преимущественно в общероссийском контексте. Отсюда вытекало то, что данный период частично вписывался в так называемый дореформенный этап эпохи феодализма, ограничиваемый преимущественно первой половиной XIX века (до 1861 года).
В традициях же национально ориентированной историографии данный отрезок почти совпадает с так называемым первым этапом украинского национального возрождения, с этапом, основное содержание которого заключается в «собирании наследия» и начале формирования модерного национального самосознания. Ограниченность такого подхода в отношении не только данного периода, но и всего XIX века уже подчеркивалась в научной литературе. Например, А. П. Оглоблин по этому поводу писал: «Таким образом, широкая и полноводная река исторического процесса переходила в узкий, хотя и сильный и быстрый поток, за пределами и в стороне от которого оставалась почти целая общественная жизнь тогдашней Украины»35, т. е. история сословий в целом и дворянства в частности, формирование национально-территориального и экономического организмов, культуры, проявлений социальной активности и др. Позже подобные мысли высказал и Георгий Касьянов: «…у нас XIX век фактически превращается в историю „национального возрождения“, тогда как в рамках глобальных событий XIX века – долгого XIX века, то, что мы сейчас называем национальным возрождением, было явлением маргинальным. То есть выделяется то, что было маргинальным, и становится магистральной историей»36.
Итак, рассматривая указанный период в первую очередь с точки зрения общественно-политических движений, украинского национального возрождения, современные историки иногда забывают, что важнейшим вопросом общественной жизни, общественного внимания того времени был не национально-культурный – занимавший умы лишь незначительной части «украинской интеллигенции», а так называемый крестьянский вопрос37, который именно с конца XVIII века и на правительственном, и на общественном уровне начал ставиться и активно обсуждаться38.
Вместе с тем конец XVIII и первая половина XIX века стереотипно воспринимаются как время, главным содержанием которого был процесс «втягивания», инкорпорации украинских регионов в систему Российской империи39. Причем показательно, что хронологически он определяется историками несколько по-разному. Если Зенон Когут интеграционные усилия российского правительства завершает 1830‐ми годами, а современные российские специалисты, опираясь на Когута, – 1830–1840‐ми40, то Валентина Шандра продлевает их и до 1850‐х, а иногда и до 1860‐х годов41. Не подключаясь к дискуссии по этому поводу, все же отмечу, что внимание преимущественно к политико-правовой, административной и общественно-политической стороне проблемы42 мешает выяснению особенностей всего спектра интеграционных процессов и не дает возможности в полной мере ощутить их конкретное человеческое измерение, ведь, даже когда исследователи прибегают к персонологическому подходу, все общественное напряжение эпохи подается через призму условных и, думаю, достаточно неопределенных и схематических понятий – вроде «традиционалисты» и «ассимиляторы»43, «реставраторы» и «модернисты»44. Из поля зрения выпадает также вся сложность, разнонаправленность социальных процессов45. Например, оформление крепостнической системы в украинских регионах проходило одновременно с ее разложением. Отсюда для всех социальных групп, и в большей степени для дворян-помещиков и крепостных крестьян, возникала проблема, так сказать, двойной адаптации. Кроме того, формирование крепостнического строя здесь сопровождалось, хотя и медленными, модернизационными процессами.
Помещики еще не успели в полной мере приспособиться к новым порядкам, усвоить новые роли, а уже вынуждены были инициировать сельскохозяйственные преобразования, втягиваться в обсуждение «крестьянского вопроса», думать о необходимости и возможности освобождения подданных, которые не только хорошо помнили традиции свободного передвижения, но и не могли не реализовывать это на практике, особенно в условиях пограничья с регионами новой колонизации. Укрепление, точнее формирование, дворянского сообщества, начавшееся с 80‐х годов XVIII века, т. е. фактически одновременно с падением Гетманщины, совпало с наступлением в империи на привилегии этого сословия и началом его перерождения46.
В это время не только завершается политико-правовая интеграция украинского общества в систему империи, но и происходит вписывание его в другие социокультурные, экономические реалии, т. е., по выражению Ф. Д. Николайчика, «в высшей степени интересный процесс культурной переработки»47. Перед элитой бывшей Гетманщины это неизбежно ставило проблему самоопределения, изменения социальных идентичностей, или, по выражению Оксаны Забужко, системы «идентификационных кодов», проблему усвоения новых социальных ролей (дворянин, чиновник, помещик – владелец крепостных душ и т. д.). Причем, в частности, Левобережью присуща хроническая незавершенность этого процесса.
Можно говорить не только об инкорпорации, но и о широкой внутриукраинской и украинско-российской интеграции, новых важных сдвигах в духовной жизни, связанных с изменением культурных эпох, образованием новой культурной идентичности, в том числе и сословной48, эмансипацией дворянской культуры и формированием в среде социальной элиты «индивидуальности, осваивающей свою суверенную частную территорию»49 и т. п. Как же переживался такой крупный социальный сдвиг украинским обществом, при узком взгляде на период остается непонятным. Более того, создание искусственных периодизационных и терминологических схем, не наполненных конкретно-историческим содержанием, не только не способствует пониманию, но и приводит к курьезам, когда рассматриваемое здесь время определяется и как один из периодов «упадка» или «антрактов» исторического бытия Украины, и как время «классического возрождения»50.
Избранный для рассмотрения период условно, в контексте данной темы, можно назвать «от борьбы за закрепощение крестьян к борьбе за их освобождение». В историографии не бесспорным, но как бы устоявшимся является мнение о фактическом существовании крепостного права в Малороссии еще до его официального, законодательного оформления указом Екатерины II от 3 мая 1783 года. И все же, даже если стоять именно на таких позициях, надо признать, что механизмы социального взаимодействия между землевладельцами и зависимыми от них крестьянами после 1783 года и Жалованной грамоты дворянству 1785 года существенно изменились (другое дело, что на Левобережье крепостное право фактически в полной мере установилось почти одновременно с началом активного обсуждения вопроса о его ликвидации51). Получая права и привилегии российского дворянства, элиты украинских регионов вместе с этим должны были привыкать и к новому уровню, даже бремени, ответственности, быть «отцами» своим подданным. Ведь российский дворянин-помещик не только пользовался значительными правами, но и имел широкий круг обязанностей по отношению к государству и своим крестьянам. В результате для малороссийских дворян, земле- и душевладельцев, «крестьянский вопрос» встал в несколько ином измерении и приобрел дополнительную актуальность. К социально-экономической составляющей этого вопроса постепенно добавлялась морально-идеологическая, а к региональному измерению – общероссийское.
В то же время часть дворянства не только начала осознавать необходимость освобождения крестьян, но и делала с данной целью конкретные шаги. Это выразилось в создании разнообразных хозяйственных, хозяйственно-статистических, социальных записок, статей, проектов, которые еще не полностью поставлены на учет и практически не были предметом специального исследовательского анализа. Иными словами, эта не обработанная историками сфера интеллектуальной активности дворян региона фактически не повлияла на историографический образ периода, что, я уверена, мешает взглянуть на него по-другому и таким образом попытаться поискать ответы на целый ряд непростых вопросов. Например, истоки крепостнической системы и ее характер в каждом из украинских регионов не могут считаться до конца выясненными. Даже значение самого акта 3 мая 1783 года для отношений между сословиями оценивается в украинской историографии по-разному. Точка зрения А. П. Шликевича52, отрицавшего утверждение А. М. Лазаревского о закрепощении крестьян казацко-старшинской верхушкой еще до издания Екатериной II упомянутого документа, была оставлена в начале XX века без внимания. А в советской историографии практически полностью восприняли тот взгляд на этот вопрос, который принадлежал Лазаревскому, первому историку социальных отношений Малороссии. В дальнейшем проблема не только не актуализировалась, но и поднималась лишь некоторыми зарубежными историками53. Отношение к ней накануне Крестьянской реформы не было таким уж единодушным. Понятно, что крестьянская проблема не потеряла своего значения и после ликвидации крепостного права. И все же, несмотря на это, с 1861 года начинается новый этап в истории крестьянства, крестьянско-дворянского социального взаимодействия, которому в украинской историографии уделено больше внимания.
С точки зрения истории дворянства данный хронологический отрезок также представляется целостным и важным. Именно с 80‐х годов XVIII века началась деятельность комиссий по разбору дворянства и активное вписывание панства в новые социальные реалии, российское правительство Жалованной грамотой дворянству юридически признало за элитой края сословные и экономические права и привилегии. Еще в конце XIX века Д. П. Миллер убедительно показал, насколько широкими правами пользовалась элита Гетманщины54. Де-факто в течение XVIII века она присвоила себе привилегии шляхты польских времен. Жалованная грамота 1785 года добавила здесь не так много, если не считать сам факт признания российским правительством благородного статуса малороссийской социальной элиты. Но главное, что изменилось, – малороссийская элита получила право владеть крепостными крестьянами, в связи с чем необходимо было активно вживаться в роль, которая для большинства была новой, – в роль помещиков-душевладельцев, что не могло не сказаться на системе ценностей, социокультурных представлениях.
После того как «громадный корабль 19 февраля 1861 года был спущен на воду»55, начинается качественно новый этап, связанный с окончательной потерей дворянством монопольных прав на землевладение, с необходимостью перестраивать хозяйство и свою жизнь, со стремительным «размыванием» сословия, что уже сделалось предметом научной рефлексии в украинской историографии56. Поэтому начало 60‐х годов XIX века и стало для меня верхним временны́м рубежом.
Такие хронологические рамки к тому же вполне соответствуют традиции, принятой в историографии дворянства57. В указанный период в Российском государстве завершается процесс формирования дворянства как отдельного привилегированного сословия общества58. В каждом из украинских регионов он имел свои особенности, исследование которых практически не ведется. Причина этого кроется, видимо, в незначительном внимании к элите как к социальной категории, что отмечено рядом историков59; в устойчивом представлении, несмотря на отдельные возражения60, о русификации или ополячивании собственной элиты, которая в таком случае не могла быть лидером в жизни украинского общества; в обобщениях на материалах Левобережной Украины61, когда под именем «украинского» выступают представители именно малороссийских фамилий – Капнисты, Полетики, Ломиковские, Тарновские, Галаганы, Чепы, Марковичи, Белозерские и др.
Четкое определение хронологии работы, разумеется, не означает, что в случае необходимости я не буду позволять себе выходить за основные временны́е границы. Но в данном случае было важно обратить внимание на этот отрезок как на самодостаточный исторический срез, который требует, говоря словами Ю. Л. Бессмертного, «имманентного истолкования (курсив мой. – Т. Л.), исходя из его собственных идеалов, его собственных критериев и ценностей»62, а также на возможность существования (создания, развития) еще одного образа периода.
* * *
Сама формулировка названия книги уже отражает определенные исходные методологические принципы, поскольку речь идет об осознании возможности функционирования таких условных (искусственных) явлений, как «крестьянский вопрос», в качестве структурообразующих, иначе говоря – факторных, элементов истории. Употребление этого словосочетания в современном исследовательском поле не является следствием самостоятельных выводов историка, его наблюдений за определенным кругом источников, а лишь результатом принадлежности к определенной историографической традиции или определенному дискурсу либо субдискурсу. В таком случае подобные термины уже наполнены понятийным содержанием и выполняют роль методологической функции. Однако, несмотря на широкое употребление в литературе, необходимо отметить, во-первых, некоторую размытость этого понятия, а во-вторых, хронологическое совпадение процесса оформления «крестьянского вопроса» в XVIII веке в Российской империи и рефлексии по этому поводу. Поскольку же в эпоху Просвещения все проблемы начинали решать в научно ориентированном стиле, то и реформаторы, и противники реформ действовали, мыслили под эгидой науки. Одним из проявлений этого были различные записки, которые, во-первых, «работали» на обсуждение задач, а во-вторых, становились элементами историографического процесса изучения «крестьянского вопроса». То есть обладали полифункциональностью: были и частью реформ, и сразу же их историографией.
На ключевых этапах истории России и Украины, этапах обострения социальной проблематики (подготовка реформы 1861 года, революция 1905 года, другие социальные сдвиги) крестьянский вопрос бытовал в разных терминологических упаковках: «аграрный вопрос», «аграрно-крестьянский вопрос», «крестьянская проблема», «земельный вопрос». Его обсуждение часто приобретало политическую, публицистическую актуальность63, что во многом определяло и интенсивность, и направленность его как научной проблемы. Все это добавляло мне трудностей в создание аналитической структуры «крестьянского вопроса» в качестве рабочей гипотезы. Построение этой структуры стало возможным только на основе историографического анализа, который будет представлен отдельно.
Предварительно лишь отмечу, что «крестьянский вопрос», стержневая общественная проблема в конце XVIII – первой половине XIX века, в контексте украинской истории не был предметом специального профессионального рассмотрения. Констатируя, что именно он «в дореформенный период был одним из самых острых и важных вопросов, от решения которого зависело дальнейшее развитие страны»64, украинские историки, как ни странно, довольно фрагментарно освещали процесс его постановки и обсуждения. И сейчас приходится довольствоваться историографическим наследием, оставленным в этой области дореволюционными и советскими учеными. Украинская историческая наука не может похвастаться здесь не только качественными, но и количественными показателями. Все, что написано, можно отнести к жанру «малых форм», т. е. статей, небольших очерков, лаконичных сюжетов или просто упоминаний в монографиях, диссертациях, посвященных положению крестьянства, истории дворянства, экономической мысли, внедрению в жизнь Крестьянской реформы.
Сказанное относительно «крестьянского вопроса» касается и других элементов названия темы, в частности «дворянства Левобережной Украины». Как это ни банально звучит, но, используя такое словосочетание, автор уже исходит из представления, что дворянство или определенные социальные слои имеют какое-то особое место в этом «крестьянском вопросе», и из возможности именно социального измерения этого вопроса, причем в его идеологической плоскости. Кроме того, если посмотреть на такую постановку темы, как «дворянство Левобережной Украины», не с точки зрения дани принятой регионализации пространства украинской истории, а с методологической, то речь идет об априорных представлениях, что совокупность региональных особенностей может повлиять на особое понимание и формирование специфической региональной идеологии по конкретному вопросу.
Соединение двух основных составляющих темы – «дворянство» и «крестьянский вопрос» – не случайно. Еще в период активного обсуждения и попыток решения «крестьянского вопроса», в середине XIX века, такое единство хорошо осознавалось, что подтверждается источниками. В частности, активный деятель реформы 1861 года Г. П. Галаган воспринимал этот вопрос не иначе, как «крестьянско-помещичий»65. П. И. Капнист, пытаясь определить «главные предметы», которые обсуждались в прессе в 1862 году, в своем обзоре в первую очередь выделил «крестьянский» и «дворянский вопрос»66. Анализируя публицистику 60–70‐х годов XIX века, В. Г. Чернуха вторым по значению для тогдашнего общества называла «дворянский вопрос», обсуждение которого началось еще накануне 1861 года, преимущественно как составляющей части проблемы эмансипации. Приобретая в пореформенный период самостоятельное значение, данный вопрос оказался органично связанным как с крестьянской, так и с аграрной проблемой в целом, а также с проблемой сословий67. Свидетельством осознания единства этих вопросов может быть и целый ряд работ конца XIX – XX века68. Очевидно оно и для ряда современных историков. «Можно сказать, что крестьянский вопрос и дворянство – это две стороны одной медали», – отметила Р. А. Киреева, подчеркивая тесную связь и переплетение исторических судеб двух ведущих сословий аграрного общества69. Итак, изучать их можно, лишь понимая, что «их прошлое, стоя в тесной связи, представляет одну общую картину. Их нельзя разделить. Они тогда только обрисуются рельефно на тусклом фоне своего прошедшаго, когда будут стоять рука об руку»70.
Подобный взгляд на проблему не только декларировался. В некоторой степени он реализовывался исследователями и в контексте истории общественной мысли, и в контексте социальной истории, точнее – социально-экономической, когда, например, анализировались взгляды того или иного представителя дворянского сословия на крестьянский вопрос. Но в таком случае историков больше интересовало не столько само дворянство или крестьянство, сколько соответствие (или наоборот) позиций героя исследовательским представлениям о содержании определенного идейного направления.
Поскольку в данном случае берется во внимание не столько социально-экономическая сторона проблемы «дворянство и крестьянский вопрос», сколько ее идеологический аспект, необходимо сделать некоторые пояснения относительно понятия «идеология». Попав в восточноевропейское пространство в конце XVIII века, оно претерпело значительную смысловую эволюцию: «наука об идеях», в марксистской литературе 80‐х годов XX века – система взглядов определенной социальной группы, класса, партии или общества в целом71, многочисленные толкования различных специалистов. Андрей Зорин даже ощутил значительный избыток литературы, посвященной истории этого понятия, в том числе и той истории изменений его значения, которая написана с социологических позиций. Он привел также ряд определений термина «идеология», почти наугад выбранных из литературы последних лет английским исследователем Терри Иглтоном. Среди них наиболее близкими к контексту данной работы могут быть такие: корпус идей, характеризующих определенную социальную группу или класс; формы мышления, мотивированные социальными интересами; конструирование идентичности; социально необходимые ошибки; среда, в которой наиболее активные субъекты осмысливают мир; набор убеждений, программирующих социальные действия; процесс, благодаря которому социальные отношения возникают в качестве естественной реальности72.
Таким образом, в данном случае речь идет об идеологии не как о системе, а как о совокупности идей, взглядов, представлений, поскольку, по моему мнению, дворянство так и не успело выработать целостной идеологии73. Подобный подход позволяет лучше понять социальную мотивацию поведения, проблемы отношений между основными сословиями, уточнить и расширить представления о характере этих отношений и таким образом выйти за рамки традиционной для украинской историографии констатации антагонистического противостояния дворянства и крестьянства, узкокорыстных интересов дворянства и т. п.
Дополнительным аргументом стало то, что в нашей исторической литературе практически не уделялось внимания изучению общественных настроений в провинции74. А если и уделялось – в частности, в связи с анализом публичного обсуждения дворянством Крестьянской реформы, – то в основном с позиций прямолинейного и жесткого определения взглядов в категориях «либерал», «прогрессист», «консерватор», «крепостник» и т. п. Интерес к идеологическому аспекту проблемы связан еще и с тем, что идеологии, выработанные в связи с «крестьянским вопросом», определили не только характеристики, качество общественного мнения, но и практики общественной, хозяйственной, а опосредованно и политической жизни середины XIX – XX века. Думаю также, что, изучая точки зрения людей на конкретные актуальные для своего времени вопросы, можно попытаться выявить особенности процесса адаптации дворянства к новым политическим и социокультурным реалиям и, соответственно, особенности формирования новых идентичностей75.
Итак, сказанное выше наметило новый круг теоретико-методологических проблем, связанных уже с дисциплинарными измерениями темы. Речь идет о внутренней полидисциплинарности – внутри структуры исторической науки.
* * *
Дисциплинарное поле данной работы предварительно можно определить как историю общественной мысли и социальную историю. Структура усложняется и при горизонтальном разрезе дисциплинарного образа темы. Безусловно, речь идет об истории Украины, но в контексте истории Российской империи76. А вместе с тем – и о региональной истории Украины и региональной истории Российской империи. С точки зрения теоретической особые методологические поля складываются вокруг интеллектуальной, социальной, региональной истории. Их определение и способствовало формированию методологических принципов работы. Отмечу, что на такое дисциплинарное измерение темы повлияли, помимо прочего, традиции изучения и преподавания истории общественной мысли, аграрной и региональной истории, сложившиеся на историческом факультете Днепропетровского национального университета.
Нельзя сказать, что названные направления являются совершенно новыми для нашего историографического пространства. В частности, внимание украинских авторов к социальной истории имеет давнюю традицию, заложенную еще трудами А. М. Лазаревского, В. А. Барвинского, И. Ф. Павловского, В. А. Мякотина, А. Я. Ефименко и др. Но эти труды можно отнести скорее к так называемой «ранней социальной истории». В 20‐е годы XX века были намечены пути исследования социальной истории, однако в то время она отличалась элементами социального вульгаризма, что во многом привело к отказу историков с развитым вкусом двигаться по этому пути. Теоретические поиски со стороны зарубежных социальных специалистов, начиная со школы «Анналов», если и были известны отечественным историкам, мало сказались на конкретно-исторических исследованиях в области украинистики. В то же время в рамках социально-экономической истории советские ученые, унаследовав традиции либерально-народнической историографии, продолжали с соответствующих методологических позиций анализировать структуры и процессы. Разработка же проблем опыта и деятельности людей прошлого осуществлялась в основном косвенно. При этом, как отмечал Юрген Кокка, характеризуя состояние зарубежной историографии социальной истории – историографии, для которой в 50–70‐е годы XX века были характерны аналогичные подходы, – связь структур и процессов с опытом и деятельностью учитывалась не всегда77.
Однако даже уровень изучения структур и процессов оказался не вполне удовлетворительным. Например, и по сей день мы не имеем основательной истории сословий, классов, социальных групп. Несмотря на значительный интерес к социальным низам и определенные достижения народнической и советской историографии, можно сказать, что их комплексная история еще не написана. Попутно замечу, хотя это не совсем прямо относится к данной книге, что даже казачество, невзирая на центральное место его в украинской историографии, на популярность и некоторую конъюнктурность темы в последние годы, как социальная категория разрабатывается мало. Особенно это справедливо в отношении конца XVIII – первой половины XIX века78, времени, которое историками, думаю, не совсем точно определяется как «втягивание казаков в имперский социум»79.
Двухтомная «Iсторія селянства Української РСР» («История крестьянства Украинской ССР»)80 вряд ли соответствует современным требованиям. Определенные утешительные шаги в направлении разработки истории крестьянства начали осуществляться с 1993 года в рамках научных чтений по вопросам аграрной истории Украины и России на историческом факультете Днепропетровского университета, посвященных памяти профессора Д. П. Пойды, а впоследствии стали предприниматься и Научно-исследовательским институтом крестьянства, репрезентантом работы которого является сборник с довольно удачным названием «Український селянин». Но часть статей этого издания, так или иначе касающихся темы, носит постановочный характер, другая же – подтверждает горькую справедливость оценок В. Кравченко относительно современных исследований по социально-экономической истории Украины81. Даже специалисты по истории крестьянства вынуждены подчеркивать нехватку методологических новаций и констатировать почти полную незыблемость традиции в его изучении82.
Не стала прорывом и новая попытка создания обобщающей истории украинского крестьянства, предпринятая академическим Институтом истории Украины. И, хотя главный редактор подчеркнул, что это актуальное издание «нисколько не похоже на предыдущее»83, т. е. на двухтомник 1967 года, для меня оно еще раз с очевидностью подтвердило необходимость более детальной историко-эмпирической разработки первой половины XIX века. Соответствующие разделы первого тома «Iсторії українського селянства» написаны преимущественно на основе трудов корифеев отечественной историографии, историков 50–70‐х годов XX века. Авторам седьмого и начала восьмого разделов (о других разделах не берусь судить) явно не хватало новейших разработок по истории крестьянства. Не случайно специалисты отмечают, что в этом двухтомнике «главный герой» представляется так же, как и столетием ранее84. К тому же историография крестьянства (шире – аграрной истории) все еще остается антиантропологизованной. «Техногенность» подходов к его (ее) изучению иллюстрируется и обложкой «Українського селянина», на которой нет не только антропоморфного образа крестьянина, но и людей вообще. Традиционного крестьянина здесь представляет пара волов, современного – комбайн.
В то время как в результате дискуссий 80–90‐х годов XX века, в значительной степени под влиянием многочисленных «поворотов»85, зарубежная социальная история поставила в центр внимания социального человека, индивида, взаимоотношения людей и не людей, в украинской историографии по вполне понятным причинам усилился интерес к традиционной политической истории, к проблемам государственного и национального возрождения, культуры. Это, в свою очередь, привело к проблемно-тематическому дисбалансу не в пользу социальной истории и к определенному отставанию на этом направлении, что вынуждены констатировать и некоторые украинские историки86.
О возможностях социальной истории, неопределенности ее предмета, расширении дисциплинарного поля, междисциплинарном статусе, возникновении в ее недрах целого ряда новых научных направлений, субдисциплин, превращении в «тотальную», «всеобъемлющую» историю, о ее «отношении» с «новой культурной историей» и тому подобном написано достаточно много, что позволяет в рамках данной работы избежать детального анализа конструктивного использования научных концепций социальной истории. К тому же, начав в конце 1980‐х годов знакомство с подходами в зарубежной социальной истории с работы Фернана Броделя «Материальная цивилизация, экономика и капитализм» и затем внутренне эволюционируя, сейчас я уже не всегда точно могу сказать, какая из идей в тот или иной момент была для меня ведущей. И все же замечу, что достаточно устойчивым и стержневым оказалось стремление к реконструкции человеческого опыта переживания крупных структурных изменений, провозглашенное в 1980‐е годы главной задачей социальной истории, т. е. исследование того, «как люди „на собственной шкуре“ испытывают тот или иной исторический опыт»87.
Подобные принципы исповедует и интеллектуальная история. Несмотря на признание туманности ее перспектив в современной Украине88, на отечественной почве она все же имеет свою «историю», фактически с XIX века бытуя и продолжая бытовать сейчас, на постсоветском пространстве, в рамках истории общественной мысли89 – направления, которое «навсегда остается актуальным и одновременно сложным для исследования»90. Интересно, что Джордж Маколей Тревельян, характеризуя круг тематических приоритетов социальной истории 1920–1930‐х годов, отнес к нему и общественную мысль91. Как часть социальной истории трактовал общественную мысль и А. Г. Болебрух92. Правда, предмет ее в советской историографии не был четко очерчен, хотя в работах по теоретическим проблемам общественной мысли много внимания уделялось сущности данного понятия, его содержательному наполнению.
Такая же неопределенность сохраняется и по сей день. Примечательно, что в достаточно актуальном издании энциклопедии общественной мысли России XVIII – начала XX века нет даже специальной статьи, посвященной центральному понятию93. Не найти его и в новом «Словаре исторических терминов»94. Но дисциплинарная размытость истории общественной мысли имела в условиях методологической регламентации советской историографии и свои плюсы95 – позволяла достаточно широко трактовать предметное поле дисциплины, по сути, приближая ее к тогдашним зарубежным аналогам, в частности к истории идей.
Однако, несмотря на то что понятие «общественная мысль» аморфно, плохо поддается дефиниции, а главное раскрытию его конкретных составляющих, в языке науки оно фактически продолжает выполнять роль семантического множителя, выяснение сущности которого приводит не столько к ее прояснению, сколько к запутыванию. Вместе с тем это словосочетание прочно вошло в структуры мышления, стало своеобразным знаком-символом, частью культуры. Поэтому использование его предполагает определенную степень свободы в рамках общесмыслового уровня.
В исследовании истории общественной мысли, истории идей, сложной философско-методологической проблемой является соотношение частного (единичного) и целого, уникального и общего в структуре общественного сознания96. Упомянутая выше, в одном из примечаний, дискуссия вокруг энциклопедии «Общественная мысль России», а также труды российских специалистов последних лет97 подтверждают отсутствие единства относительно персонализации или деперсонализации общественной мысли, что присуще и советской, и западной традициям98.
Если подходить к изучению истории общественной мысли с позиций микроистории и пытаться выделить предмет исследования, то можно сделать вывод, что микроэлементом общественной мысли является ее носитель, индивид, причем не его обобщающий статус, а конкретный человек, со всеми неповторимыми биографическими особенностями. Такой подход в изучении общественной мысли Украины можно было бы считать плодотворным, особенно если исходить из положения, что единичное, частное богаче целого, поскольку несет в себе черты и общего, и индивидуального.
И тем не менее следует иметь в виду, что вывод «единичное богаче множественного, целого», при всей своей содержательности и адекватности, вряд ли может восприниматься как решение проблемы «я – мы». Здесь возникает больше вопросов, чем ответов. Насколько единичное соотносится с целым? Какая совокупность единиц «я» может дать более адекватное представление о целом? Дает ли простая сумма «я» переход в новое качество – в коллективное «мы»? Какая критическая масса «я» для этого нужна и вообще возможно ли это? При попытке ответить на подобные вопросы все же следует помнить, что коллективное «мы» – это мифологема, понятие вряд ли существующее, но притом «мы» – понятие, которое всегда будут искать исследователи. И с точки зрения науки простая совокупность «я» может претендовать на «мы» только при использовании статистических методов, когда удается обосновать репрезентативность выборки, что, по сути, ставит крест на возможности персоналистических штудий в рамках какого-либо комплексного исследования. Да, репрезентативность выборки по отношению к сумме «я» – это нонсенс99. Репрезентативной она может быть только по отношению к сумме идей. Поэтому персонологический подход100 способен выполнять функцию анализа идей, помогать выяснению их природы, механизма формирования.
Однако, хотя и считается, что персонализированный подход традиционно является приоритетным в истории мысли и науки101, этого нельзя с полной уверенностью сказать об истории общественной мысли современной Украины. Несмотря на многочисленные призывы поставить в центр внимания человека, история эта все еще изучается не через «Ивана, Петра, Семена»102. Это значительно обеднило и персонологический ряд, куда не попали или где лишь фрагментарно вспоминаются, скажем, «представители» так называемых консервативного и либерально-буржуазного направлений. Создается впечатление, что историков интересовали скорее те или иные общественно-политические течения как таковые, причем преимущественно в рамках устоявшихся еще в советской историографии маркировок, чем их личностно-идейное содержательное наполнение, что «деятели» вообще не жили, не состояли, так сказать, из плоти и крови, а функционировали только для того, чтобы в будущем, если повезет «остаться в истории», быть вписанными в те или иные исследовательские схемы, конструкции. Но, даже если придерживаться таких позиций, не избежать вопроса: насколько адекватной будет репрезентация общественной мысли?
Осознавая вместе с тем, что даже вся совокупность «Иванов, Петров, Семенов», а также Наталий, Татьян, Галин и так далее может не вывести на «Адама и Еву», я все же убеждена: персоналийное обогащение проблемы, безусловно, дает возможность выявить как можно более широкий идейный спектр, внести уточнения в существующие представления о маркировке как отдельных личностей, так и различных групп дворянства (если это вообще возможно и необходимо), принимавших участие в обсуждении крестьянского вопроса, особенно в конце 50‐х годов XIX века.
Отбор персоналий, одна из сложных проблем для историков общественной мысли, в данной работе носил как продуманный, так и – иногда – стихийный, интуитивный характер. Ориентироваться в полной мере на традицию не приходилось, поскольку историки, сохраняя верность сформировавшимся в предыдущее время подходам, как правило, ограничивались устоявшимся набором информации и персоналий – Я. Козельский, В. Каразин, И. Рижский, П. Гулак-Артемовский, Г. Квитка-Основьяненко, А. Духнович, кирилломефодиевцы, «Русская троица», несколько деятелей Крестьянской реформы. Подробнее анализировались взгляды просветителей, так называемого либерального дворянства и представителей либерально-буржуазного и буржуазно-реформаторского направлений общественной мысли. Причем размещение той или иной персоналии в определенной группе обычно зависело от идейных, идеологических пристрастий исследователей. Поэтому и сейчас весьма актуально звучат слова одного из первых историков Крестьянской реформы на Черниговщине, П. Я. Дорошенко: «Мы до сих пор являемся свидетелями лишь партийных взглядов на деятелей реформы 19 февраля и при этом забываем истину, что деятелей прошлого надо ценить под углом зрения взглядов и понятий того времени, когда они жили и действовали»103.
Именно такой «партийный» подход, на мой взгляд, значительно сузил круг «причастных» к активному обсуждению проблем реформирования общества в Российской империи, а жесткие маркировки, особенно с пометкой «консерватор», «крепостник», «реакционер», привели к вычеркиванию из украинской истории целого ряда деятелей, в свое время хорошо известных не только на региональном, но и на общегосударственном уровне. Поэтому – для «составления» более полного «реестра» персоналий, с целью создания более панорамной картины представлений, – приходилось руководствоваться принципом «человек и его окружение».
В то же время, вспоминая замечание С. А. Экштута: «Историки крайне редко интересуются судьбой людей заурядных (изучение жизни замечательных (курсив автора цитаты. – Т. Л.) людей поглощает их силы) и практически не обращают внимания на неудачников»104 – и пытаясь «пересмотреть канон»105, я, наоборот, почти обходила «сияющие вершины» и сосредотачивалась на тех, кому по разным причинам было «отказано». Причем сосредотачивалась на них независимо от того, можно ли отнести их к «великим», «известным» или «выдающимся», и без учета их отношения к украинской идее. И наоборот, творческое наследие известных мыслителей, а также деятелей «украинского национального возрождения», которым посвящена значительная литература, привлекалось фрагментарно, по мере необходимости. Это же касается и представителей других регионов, так сказать, носителей других, нежели малороссийская, региональных идентичностей. «Украинских патриотов» конца XVIII – первой половины XIX века я пыталась «прочитать» не с позиций их вклада в собирание исторического наследия, их археографической деятельности, борьбы за нобилитацию беднейшей шляхты, не с позиций «интеллектуальных сообществ», «патриотических кружков», а с точки зрения социальных практик, социального взаимодействия, социальной идентичности, обращаясь к текстам, обойденным вниманием историков исторической науки. И все же, как заметил А. Я. Гуревич, «для истории человек – всегда в группе, в обществе, наш предмет не абстрактный человек, но исторически конкретный участник социального процесса»106. Поэтому в поисках «Ивана, Петра, Семена» и других я делала попытку держать в фокусе целое региональное дворянское сообщество, т. е. «на основании логик „актеров“ реконструировать коллективные социальные феномены»107.
Итак, размышляя над дисциплинарным полем темы и понимая, что и заявленная выше «новая социальная история», с ее претензией на роль тотальной истории, и также «новая интеллектуальная история»108 имеют междисциплинарный статус, я ориентировалась скорее на так называемую социальную историю идей, или историю мысли «снизу», точнее – «изнутри» позиций действующих лиц. И здесь созвучными мне были слова Роберта Дарнтона, одного из создателей «интеллектуальной истории неинтеллектуалов»: «Меня мало волнует передача философских систем от одного мыслителя к другому. Мне интереснее разбираться в том, как понимают мир простые люди, какие они привносят в него чувства, откуда черпают информацию и как воплощают ее в стратегию выживания при создавшихся обстоятельствах. Для меня простые люди умны, хотя они не интеллектуалы»109. Кажется, уместно было бы добавить «потому что не интеллектуалы»110. Таким образом, в данном случае предметом моего внимания стала история социальной группы в непрерывном процессе ее становления, который одновременно был «схвачен» в его интеллектуальных проявлениях, стимулированных не столько общественно-политическими устремлениями, сколько глубинными социальными потребностями этого сообщества, региона, страны, исследуемой эпохи. При этом я предполагала, что через социальные представления, через точки зрения людей на конкретный, актуальный для большинства вопрос можно попытаться выявить особенности процесса формирования дворянства, особенности его адаптации к новым экономическим, политическим, социокультурным реалиям и, соответственно, создания новых социальных идентичностей.
* * *
Обосновывая пространственное измерение темы, можно было бы просто ограничиться ссылками на глубокую историографическую традицию, на современные образцы районирования историко-культурного, социально-экономического пространства Украины. Но, учитывая замечание Л. В. Милова, что «всякое обобщение по проблеме отношений „крестьянин – помещик“ требует тщательного учета региональных особенностей»111, а также разногласия относительно территориального определения Левобережной Украины, существующие в литературе, остановлюсь на этом моменте подробнее. Он тем более важен, когда избирается идеологический ракурс проблемы, изучаются взгляды, представления. К тому же в данном случае речь идет не просто о более четком определении географических границ, а об уже задекларированном регионализме.
В последнее время все чаще, со ссылками на авторитеты – А. Оглоблина, И. Лысяка-Рудницкого и зарубежных теоретиков исторической регионалистики, можно услышать, прочитать об Украине в тот или иной период ее истории как о совокупности или конгломерате земель, каждая из которых имела свои особенности. Учитывать их считается необходимым в том числе и для понимания специфики сегодняшней ситуации в государстве. Следуя в фарватере мировой историографической моды (в хорошем смысле) и откликаясь на вызовы времени, современная украинская наука не только ставит проблему региональной истории на теоретическом уровне, но и пытается решать ее на конкретно-историческом материале112. Однако, провозглашая перефразированное из Я. Грицака как исследовательский лозунг: «Регионализма бояться – Украину не понимать» – и активно прибегая к разнородным регионалистическим штудиям, украинские специалисты все же не единодушны относительно методологической функции региональной истории, четкого определения дисциплинарного поля, критериев регионализации, разграничения региональной, локальной и местной историй. Понятия часто отождествляются, региональная история воспринимается как краеведение. Более того, по мнению Е. А. Чернова, в украинской историографии, в значительной степени вследствие дистанции между теоретическими рассуждениями и прикладными исследованиями, «произошла трансплантация имени (т. е. термина „региональная история“. – Примеч. ред.) в уже сложившиеся и действовавшие ранее научно-исследовательские практики. И отсюда под именем „региональная история“ реально функционирует „история регионов“ с синонимическим использованием перестановки ключевых слов»113. Как оказалось, такая ситуация характерна не только для украинской исторической науки114.
На первый взгляд, перед историком общественной мысли, решившимся на применение регионального подхода, не возникает особых методологических проблем. Кажется, достаточно опереться на традиции регионализации украинского исторического процесса и в рамках уже определенных регионов исследовать свой предмет. Однако это лишь на первый взгляд. Необходимо еще раз детально проанализировать, насколько регионы, традиционные для украинской историографии, соответствуют идеалу «региональности» современной исторической науки. Но дело даже не столько в этом, сколько в том, что связь между общеисторическими явлениями и историей общественной мысли осуществляется не так непосредственно. В результате приходится самостоятельно сосредотачиваться на определении животворящих ареалов истории мысли на отечественной почве. Альтернативой построению абстрактно-теоретических моделей подобного изучения может быть опора на гипотетическое «районирование» отечественной истории общественной мысли, обоснованное некоторыми вполне конкретными представлениями.
Для конца XVIII – первой половины XIX века такими регионами, которые могли иметь свою специфическую окраску, формирующую глобальную палитру общественной мысли, представляются Черниговско-Полтавский (территории Малороссийской губернии, впоследствии, до 1835 года, генерал-губернаторства), Слободская Украина с возрастающей ролью Харькова как ее центра, Правобережная Украина, только в конце XVIII века вошедшая в состав Российской империи и со второй трети XIX века образующая единое идейно-интеллектуальное и эмоциональное поле с Киевом, Южная Украина (на административном языке того времени – Новороссия) с довольно ускоренным превращением Одессы в главный центр края. Очевидно, что особый макрорегион представляет собой Западная Украина, регионализация которой, как и ее история в целом, не входит в сферу моей компетенции. Бросающееся в глаза совпадение «гипотез» и административно-территориального деления – результат не механического воспроизведения, а собственных представлений о том, что одной из основных доминант общественной мысли того времени было этно-административно-территориальное самосознание. Кстати, оно не сводится только к теории многочисленных лояльностей, поскольку проявлением подобного сознания может быть и алояльность.
Итак, в данном случае, говоря о региональном измерении работы, я буду пытаться сочетать традиционные подходы и новые, т. е., опираясь на принятую систему регионализации украинского пространства, «искать» регион, подкрепляя это проверкой на эмпирическом материале. Вместе с тем понимаю, что возможность постижения сущности региональной истории тесно связана со сложной философско-методологической проблемой диалектики единичного и целого115 и с поиском недостижимого идеала исторического познания – проблемой синтеза, решение которой подталкивало историков искать такие подходы, методологии, теории, которые могли бы стать метатеориями.
Выбор Левобережной Украины в качестве объекта внимания обусловлен, как уже говорилось, представлениями о социокультурной специфике региона116. Дополнительным аргументом послужила также слабая разработка «внутренней», социальной истории, и даже истории крестьянства и особенно дворянства, именно данного края. Об этом уже писал в начале XX века А. С. Грушевский117, а затем и советские историки. Одобрение активизации изучения аграрных отношений в украинской историографии в начале 1960‐х годов сопровождалось замечаниями об отсутствии монографических исследований этой проблематики именно относительно Левобережной Украины, помещичьим хозяйствам которой было посвящено лишь несколько статей118.
Современные же украинские историки сосредотачиваются преимущественно на вопросах правовой интеграции дворянства в систему империи, на проявлениях «сепаратизма», в первую очередь в период нобилитации, анализируют различные «Записки» о правах дворянства, занимаются «реабилитацией» социальной элиты и определением ее места в «украинском национальном возрождении», общественно-политической и культурно-образовательной жизни. Даже субкультура социальной элиты региона (шляхты, дворянства, казацкой старшины) рассматривается исключительно через утверждение и изменение политико-культурных норм и ценностей – монархизм, республиканизм, автономизм119. Думаю, взгляд на Левобережье конца XVIII – первой половины XIX века только в таком контексте мешает «нормальному» исследованию именно бывшей Гетманщины. В то время как другие украинские регионы, менее «ответственные» за «национальное возрождение», – Правобережье, Слобожанщина, Южная Украина – теперь уже подверглись достаточно широкому изучению, в том числе и в отношении их элитарных групп, место и значение социальной элиты Левобережья в обществе, хозяйственной жизни, ее корпоративная жизнедеятельность, сословные проблемы, особенности социального взаимодействия – вопросы, без освещения которых невозможно не только представление о дворянстве этого края, но и понимание всего украинского XIX века, – к сожалению, и сейчас остаются на уровне разработки начала XX века. Несмотря на это, историки, о чем уже было сказано, на материалах именно данного региона «выносят приговор» «украинскому» дворянству в целом120.
Такое обобщение – достояние украинской историографии XX века. До того времени дворянство изучалось в региональном или субрегиональном измерениях121 – малороссийское (А. М. Лазаревский, В. Л. Модзалевский, Д. П. Миллер, Г. А. Милорадович, А. М. Маркович, И. Ф. Павловский, А. Я. Ефименко), харьковское (Л. В. Илляшевич, Д. И. Багалей), херсонское (П. А. Зеленый, А. З. Попельницкий, А. В. Флоровский) и др. Позже «превращение» «людей старой Малороссии» в «людей старой Украины», особенно под пером М. С. Грушевского, Д. И. Дорошенко, А. П. Оглоблина, обусловило «глобализацию» дворянства одного из регионов и невнимание к элитным группам других. Но вместе с тем следует отметить, что «украинизация» малороссийского дворянства привела к маргинализации его региональных особенностей. Насколько правомерен такой подход, можно было бы понять только после тотального и притом детального изучения отдельных дворянских локальных сообществ. Когда же речь идет о взглядах, представлениях, идентичности, без выявления региональных особенностей тех или иных групп дворянства, думаю, вряд ли можно обойтись. Учитывая роль малороссийского дворянства в формировании образа украинской элиты в целом122, следовало бы внимательнее присмотреться именно к этому дворянству.
В исторической литературе существуют определенные разногласия относительно территориальной характеристики Левобережной Украины, что требует некоторых пространственных и – возможно, несколько запоздалых – терминологических пояснений, поскольку в данном случае это имеет принципиальное значение. Относительно конца XVIII – первой половины XIX века, останавливаясь при необходимости на районировании Украины, исследователи очерчивали в качестве Левобережья территорию бывшей Гетманщины, впоследствии Киевского, Черниговского, Новгород-Северского наместничеств, с 1796 года – Малороссийской губернии, с 1802-го – Черниговской и Полтавской, или добавляли к данной территории и Харьковскую губернию. При этом критерии, как правило, четко не декларировались. Наиболее необычную регионализацию, которая, разумеется, не учитывала украинской исторической специфики, ввели историки экономики, вслед за Н. Л. Рубинштейном относившие Черниговскую и Харьковскую губернии к Центрально-Черноземному региону, Новгород-Северскую – к Юго-Западному, а для первой половины XVIII века выделявшие еще и не существовавшую в то время Екатеринославскую губернию123. Я. Е. Водарский, исследуя размеры и структуру землевладения в целом, рост помещичьего землевладения в масштабах 29 губерний европейской части Российской империи, под Украиной имел в виду Киевскую, Подольскую, Волынскую, Полтавскую и Черниговскую губернии, материалы по которым не рассматривал, Екатеринославскую и Херсонскую относил к Новороссии и без какого-либо регионального определения анализировал Харьковскую губернию124.
Конечно, каждый специалист по своему усмотрению, исходя из собственных задач, представляет свою территорию. И все же неразработанность региональных исследований приводит также к определенным терминологическим осложнениям. Для большинства историков Левобережная Украина, Малороссия, Гетманщина – это один ряд, независимо от того, какие земли и время имеются в виду. Например, К. И. Арсеньев, выделяя «восточную Малороссию», территории ее ограничивал Черниговской, Полтавской губерниями и «Украиной Русской», которую также называл Слободской Украиной. Вместе с тем, говоря о природно-климатических особенностях края, этот известный статистик, историк, географ различал Малороссию и Украину, т. е. Харьковскую губернию125. М. М. Ковалевский четко разделял Малороссию и Украину, понимая под первой Черниговскую и Полтавскую губернии, а под последней – Харьковскую126. В таких же терминах близкие, но различные регионы фигурируют в воспоминаниях Т. П. Пассек127. И. И. Игнатович, говоря о «левобережной Малороссии», причислила к ней и Харьковскую губернию; для В. М. Кабузана это же территориальное пространство является Левобережной Украиной – Гетманщиной. Для В. П. Теплицкого Левобережье – это Малороссия, а Харьковщина – Слободская Украина128. В. В. Кравченко, так же как и Д. И. Багалей в своих поздних работах129, видит «Левобережье в составе двух областей – бывшей Гетманщины и Слобожанщины»130.
Необходимость различать левобережные украинские земли и сейчас подчеркивается в историографии. Их региональные различия были в общем очерчены историками. Но в контексте данной темы все же стоит отметить важные моменты, подтолкнувшие ограничить Левобережную Украину (Малороссию) вышеупомянутым Черниговско-Полтавским ареалом, т. е. территорией бывшей Гетманщины. Дело не только в его достаточно длительной административной обособленности. С точки зрения социально-экономической, в отличие от других частей Центрально-Черноземного региона России, это был край неукорененного крепостного права, с наибольшим в пределах империи процентом мелкопоместного дворянства, значительным количеством государственных крестьян и казаков. От Харьковской губернии, которую вместе с Екатеринославской, Херсонской и Таврической относят к зоне с «крупным землевладением и мелким рабовладением», Черниговская и Полтавская губернии отличались «мелким рабовладением и мелким землевладением»131. Старейший демограф Украины, П. И. Пустоход, именно эти губернии характеризовал как отдельный регион, учитывая их гораздо меньший «крепостной процент». Харьковскую же по этому показателю он объединял с тремя степными губерниями132. А украинский писатель и этнограф Матвей Номис, анализируя данные переписей населения и также подчеркивая в качестве специфики Левобережья сравнительно незначительное количество крепостных крестьян, Харьковскую губернию воспринимал как особый край – «великороссийскую Украину»133.
Капитализация сельскохозяйственного производства на Левобережье проходила очень низкими темпами. В отличие от Слобожанщины, в дореформенный период здесь не было проведено межевания, что сказывалось на всей системе социально-экономических отношений. А главное, несмотря на наличие земельных владений одновременно в разных «украинских» губерниях, местная специфика осознавалась самим дворянством и учитывалась правительством, в том числе и при подготовке Крестьянской реформы. И если «по принципу национальной принадлежности», как это показал В. Ададуров134, иностранцы в начале XIX века достаточно широко очерчивали Малороссию (включая в нее и Харьковскую, Киевскую, а также часть Екатеринославской губернии), то для россиян, оказывавшихся перед необходимостью ее «нахождения», и для жителей двух левобережных регионов разница проявлялась с очевидностью.
Заметив, что «исследователи не всегда учитывают наличие региональных различий между левобережными украинскими землями, то объединяя их в одну группу, то включая их в число „коренных“ имперских территорий», В. В. Кравченко определил основные линии напряжения в отношении малороссов и слобожан друг к другу:
Между украинскими казацкими регионами долгое время сохранялось политическое соперничество и взаимное противостояние, вызванное определенными обстоятельствами политической жизни. <…> Недаром еще в конце XVIII – начале XIX века патриоты Малороссии высмеивали претензии слобожан именоваться казаками, презрительно называя их гречкосеями и чумаками. Действительно, политическая автономия Слобожанщины была намного уже, чем соседней Гетманщины, а зависимость от российского правительства, соответственно, больше135.
На примере «борьбы» за открытие Харьковского университета он также показал различие между малороссийским дворянством и слободским. Подчеркивал «противоречие между двумя регионами» и разницу между интересами черниговско-полтавского и харьковского дворянства и С. Беленький, сравнивая судьбы «малоросса» М. Максимовича и «слобожанина» В. Циха и отмечая важность топоса в формировании социальных миров136.
Известный славянофил И. С. Аксаков, получив в 1853 году от Географического общества поручение ознакомиться с ярмарками Малороссии и описать их, осенью того же года взялся за его выполнение. Свои впечатления он высказывал в письмах к А. И. Кошелеву. В Сумах Аксаков писал «об обаянии Малороссии». Но вскоре, приехав в Харьков, убедился, что «Харьковская губерния совсем не Малороссия». Характеризуя местное население этого края, он заметил: «Здесь какая-то безобразная помесь в быту крестьянском, в быту мещанском, в быту купеческом и даже в быту дворянском. Забавно видеть презрение здешних купцов и чиновников к малороссийскому наречию, когда сами они говорят по-русски непонятно для московского уха! <…> О малороссийской народности знают здесь менее, чем в Москве». Не найдя Малороссии в Харьковской губернии, Аксаков нашел ее в Полтаве, где в феврале 1854 года записал в дневнике:
Малороссов чиновников здесь гораздо более, чем русских, почти все малороссы. Русские занимают большею частью самые высшие должности. У нас в России редкий дворянин, богатый и получивший образование, соглашается служить у себя на родине, в глуши. Не манит к себе родина. Когда я говорю [«]служить[»], то разумею действительную службу, не по выборам. Малороссия вечно привлекательна для малоросса: она имеет до сих пор в себе что-то самостоятельное, своеобычное; удалиться в Малороссию не то, что уехать в глушь саратовскую, а удалиться в другой край, в другой мир, как бы в другое государство. Не говорю уже о ее природе, о ее климате137.
Еще более пространно и убедительно отличия Малороссии и ее населения от других украинских, а также русских земель были описаны в известной работе И. С. Аксакова об украинских ярмарках, в которой по поводу разности двух регионов, расположенных слева от Днепра, отмечалось: «…Харьковская губерния или слободская Украина еще вовсе не Малороссия»; «Весьма ошибаются те, кто причисляют Харьковскую губернию к Малороссии и Харьков называют малороссийскою столицею»138.
Различали Украину (Харьковскую губернию) и Малороссию (Полтавскую губернию и Черниговскую) и генерал-губернатор В. В. Левашов, когда инспектировал только что вверенные ему регионы и отчитывался императору о результатах, и издатель «Московского телеграфа» Н. А. Полевой. Можно было бы вспомнить еще и довольно расхожее выражение Григория Сковороды, что Малороссия ему мать, а Слобожанщина – тетка, можно приводить и другие примеры. Но здесь – лишь предварительные размышления, «поиск» же региона в контексте темы продолжится в конкретно-содержательной части книги. И, осознавая, что применительно к середине XIX века, в связи с «открытием» образованной публикой Правобережной Украины как «малороссийского края», с активизацией внутренних украинских интеграционных процессов, можно говорить о расширенной трактовке понятия Малороссии, все же отмечу еще раз, что с учетом инерции139 понятие это, наряду с «Левобережная Украина», «Левобережье», будет употребляться в отношении Черниговско-Полтавского региона, а термины «малороссийская элита», «малороссийское дворянство», «малороссийское панство», «малороссийские помещики», «малороссийская шляхта», «левобережное дворянство», «левобережное панство» и т. п. – в отношении верхушки общества этого края. Такой же подход будет сохраняться и при упоминании других украинских регионов: Харьковская губерния – «Слободская Украина», «Слобожанщина», а элита края – «слободское, слободско-украинское дворянство»140; Южная Украина – «Новороссия», «новороссийское дворянство».
* * *
Завершая методологические пояснения, необходимо вспомнить и о «технологии». Именно такой термин я использую не случайно, ибо, при всей его условности применительно к гуманитарным исследованиям и не очень частом употреблении, он вполне уместен, поскольку позволяет, не прибегая к пространным размышлениям о двуединой природе понятия «метод»141, отделить конкретные подходы и инструменты от методологического замысла, первичных позиций, теоретических, мировоззренческих предпочтений. Иначе говоря, методология – это гостиная историка, а технология – его кухня142. На этой «кухне» исследователь выполняет по меньшей мере две технологически разные операции: проводит исследование и представляет результаты143. Что касается первого процесса, подчеркну особенности применения уже упомянутого персонологического метода изучения общественных явлений, который был обусловлен в этой работе ее объектом и задачами и оказался в ней одним из основных. Не останавливаясь на общетеоретических дискуссиях и выводах относительно его возможностей и границ (все это активно обсуждается в последнее время), отмечу лишь, что персонологический метод в определенной степени повлиял и на иерархию структуры информационной базы.
Своеобразие использования этого метода в данном случае заключается в том, что герои, изучение которых занимает значительную часть исследования, являются не целью, а средством. Это определило и структуру интереса к выбранным персоналиям. Так, подробности биографического характера, играющие важную роль в других персонологических работах, здесь выполняют лишь вспомогательную функцию, хотя им и уделено не так мало места, поскольку это позволяет раскрыть разнообразие возможных взаимосвязей между личностью и социальной группой. Биографические данные с большей детализацией приводятся в первую очередь тогда, когда до этого на них не обращали внимания ученые, или для уточнения представлений, существующих в историографии144.
В истории общественной мысли при описании взглядов, идей отдельных деятелей и групп людей обычно применяются определенные политические характеристики, поэтому стоит также обратить внимание на важную терминологическую проблему, к обсуждению которой украинские специалисты, исследующие Новую и Новейшую эпохи, практически не подключаются. Речь идет о механическом, безоговорочном использовании устоявшихся понятий, к тому же часто употребляемых без убедительного содержательного наполнения.
Справедливости ради следует сказать, что и для советской историографии, с характерным для нее небольшим набором достаточно четких, без полутонов, определений, проблема терминологической корректности не была чужда. В частности, Л. Г. Захарова, анализируя монографию С. А. Макашина о жизни и творчестве М. Е. Салтыкова-Щедрина в 50–60‐е годы XIX века, отметила как несомненную заслугу щепетильное отношение автора к понятийному аппарату и подчеркнула необходимость такого подхода, особенно применительно к сложной и противоречивой идейной ситуации преддверия Великих реформ: «Широкое использование и расшифровка терминологии периода подготовки реформы способствуют пониманию эпохи и предупреждают от ошибок в оценке событий и явлений того изменчивого, противоречивого, контрастного времени, когда крушение старого и рождение нового строя сопровождалось (или отражалось) в появлении (рождении) новых слов и понятий и в изменении смысла старых»145.
Но подобные высказывания были скорее исключением. Хотя, разумеется, иногда в конкретно-исторических работах, под влиянием эмпирического материала, историки вынуждены были выходить за пределы принятого разделения идейного пространства общественной мысли России. Так появились замечания о сочетании либерализма и консерватизма при обсуждении дворянством крестьянского вопроса, о правительственном «конституционализме», «консервативно-прогрессистской идеологии» и т. п.146, правда, неоднозначно воспринимавшиеся коллегами.
Интересно, что словосочетание «прогрессивный консерватизм» еще в начале 1990‐х годов тоже было «продиктовано» мне источниками и использовалось мной в кандидатской диссертации при анализе общественно-политических взглядов и позиций Г. А. Полетики, что вызвало возражения одного из оппонентов именно против термина, хотя этот оксюморон и не был моим изобретением. В частности, известный марксистский историк Н. А. Рожков в «Русской истории в сравнительно-историческом освещении» применительно к первой половине XIX века широко использовал введенную М. П. Погодиным маркировку «консерватор с прогрессом», под которую попали не только сам автор теории «запустения», но и достаточно неожиданные на первый взгляд персонажи: М. М. Сперанский, М. С. Воронцов, П. Д. Киселев, С. Т. и И. С. Аксаковы, Н. В. Гоголь, С. П. Шевырев, М. А. Максимович, братья Милютины, Ю. Ф. Самарин, А. И. Кошелев, Б. Н. Чичерин, С. М. Соловьев и др.147 Интересно, что в недавней российской историографии некоторые из перечисленных лиц (Погодин, Шевырев, Уваров, как и Н. М. Карамзин) фигурируют в качестве носителей «революционно-консервативных социально-политических взглядов»148.
В украинской историографии, хотя терминологические дискуссии в ней сейчас практически и не ведутся, все же заметно обращение к ранее подробно не исследованным идейным направлениям. Примечательно, что причисленные к ним раз и навсегда деятели клеймились, следствием чего было или достаточно схематическое изображение, или почти полное забвение. Однако интерес, например, к консерватизму, его политическому и духовному наследию в Украине, что отмечают историки149, иногда, из‐за своеобразной трактовки понятия и отсутствия детальной эмпирической проработки на персонологическом уровне, приводит не столько к прояснению картинки, сколько к запутыванию. Так, В. Потульницкий, рассматривая «три существующих типа украинского традиционного консерватизма», различающихся, по его мнению, «не столько идеологически, сколько территориально», целый подраздел посвятил «консервативному движению левобережной украинской шляхты», к которому причислил довольно странную компанию: Г. А. Полетику, М. П. Миклашевского, Д. П. Трощинского, В. В. Капниста, А. А. Безбородко, автора «Истории Русов», каковым считает И. В. Гудовича, Н. Г. Репнина-Волконского, Г. В. Андрузского и даже Г. П. Галагана и В. В. Тарновского150, которых историки Крестьянской реформы обычно относят к либералам. Такой ряд выстраивается, вероятно, потому, что проявление «украинского консерватизма» видится главным образом, говоря словами И. Лысяка-Рудницкого, в «прочном сохранении родного языка, веры, обычаев и обрядов, традиционных форм семейной и общественной жизни»151 (если это так, то удивляет столь малое количество консерваторов в украинских регионах XIX века), а возможно, из‐за недостаточной опоры на эмпирический материал и увлечение теоретическими конструкциями.
Между тем в современной зарубежной и российской историографии не только активно дебатируется проблема терминологической чистоты, но и иногда ставится под сомнение сама возможность точных маркировок. Известный американский русист Альфред Рибер вообще отметил, что традиционная политическая терминология не может быть применена к России, поскольку политический язык, сформировавшийся на основе опыта западноевропейских стран «в контексте русской истории… лишь сбивает с толку и уводит в сторону от истины»152. Во всяком случае, упрощенная дихотомия «либерал – консерватор» или «реформатор – антиреформатор» ученым не принимается. Польский историк Владимир Меджецкий считает непригодными для описания процессов общественной модернизации в России не только «западную» терминологию, но и существующую российскую – как не решающие проблему – и говорит о необходимости разработки специального понятийного аппарата153.
Российские историки, осознавая, что «консерваторы» и «либералы» в России «не могли не отличаться от своих прообразов в западных странах»154, все же, не соглашаясь с мнением о необходимости совершенно новой терминологии, пытаются осмыслить сущность основных категорий, наполнить их более адекватным содержанием, отдать должное течениям, которые были обойдены в историографической традиции, выделить разновидности того или иного «изма», а также расширить идейный спектр за счет введения «пограничных» понятий: «либеральный консерватизм», «радикальный либерализм», «прогрессивный консерватизм», «свободный консерватор», «революционный консерватизм», «консервативный либерализм», «либеральный национализм» и др.155
Однако, когда дело касается исследования конкретных персоналий и поиска для них места на идейной шкале, результаты терминологических рефлексий оказываются порой несколько неожиданными, особенно если речь идет о достаточно известных деятелях, чьи позиции, казалось бы, давно уже представлены историками в определенных понятийных рамках. Например, в недавней историографии перепрочитывается творчество А. С. Пушкина, А. Н. Радищева, Ф. М. Достоевского, М. Н. Каткова156, ставится под сомнение традиционное определение А. И. Герцена как «народника», «либерала», «социалиста», «революционера-демократа»157, А. А. Аракчеев превращается из «реакционера» в «консерватора-новатора»158, «либералы» К. Д. Кавелин и Б. Н. Чичерин – в «либеральных консерваторов»159, в ряды которых зачисляется и П. Б. Струве160 – обычно «буржуазный демократ», типичный представитель легального марксизма161. Вероятно, к подобным оценкам подталкивает осознание отсутствия четкого водораздела между российскими «охранителями» и «прогрессистами», «либералами» и «консерваторами», на что обращали внимание участники круглого стола «Консерватизм в России» и дискуссии вокруг коллективной монографии «Русский консерватизм XIX столетия. Идеология и практика». Историки отмечают также «подвижность критериальных границ, которые очень часто препятствуют однозначной квалификации того или иного деятеля или даже целого политического течения в рамках дихотомии „консервативный“/„либеральный“»162. И. А. Христофоров объясняет это тенденциями к сближению консервативных и либеральных ценностей, технологий, что имело место и в России XIX века, но, к сожалению, в этой стране не завершилось, а Н. Н. Родигина, ссылаясь на недавние работы специалистов по политической истории, – единством интеллектуальных истоков ведущих общественных течений163.
Подобной позиции придерживаются и другие российские историки. В частности, К. И. Шнейдер, разбирая специфику «раннего русского либерализма», который, по мнению этого автора, появился во второй половине 1850‐х – начале 1860‐х годов, определил его как форму интеллектуальной утопии, пронизанную элементами и консерватизма, и формировавшейся либеральной идеологии. Обсуждая в ходе круглого стола особенности общественно-политической ситуации в России XIX века по сравнению с Западом, А. Н. Медушевский отмечал: «Русские либералы были достаточно осторожны. Можно сказать – консервативны в возможности реализовать в России конституционно-парламентские порядки». Невозможность механического переноса на российскую почву терминологии, выработанной в других условиях, здесь была проиллюстрирована различными примерами, в частности мнением известного историка и юриста М. М. Ковалевского, который говорил, что во Франции он республиканец, а в России – сторонник конституционной монархии164, что подтверждает ситуативность позиций, их зависимость от места и времени.
Насколько сложной была проблема выявления идейных разногласий даже между доминирующими в 40–50‐е годы XIX века общественными направлениями, такими как славянофилы и западники, можно судить на основе научной дискуссии в дореволюционной литературе, в ходе которой довольно часто упоминалось «западничество» славянофилов и «славянофильство» западников165. Близость позиций подчеркивал также А. И. Герцен в знаменитом некрологе на смерть К. С. Аксакова, опубликованном 15 января 1861 года в «Колоколе»: «С них (славянофилов. – Т. Л.) начинается перелом русской мысли (здесь и далее в цитате курсив Герцена. – Т. Л.) …Да, мы были противниками их, но очень странными. У нас была одна любовь, но не одинаковая», «чувство безграничной, обхватывающей все существование любви к русскому народу, к русскому быту, к русскому складу ума. И мы, как Янус или как двуглавый орел, смотрели в разные стороны, в то время как сердце билось одно»166.
Когда же речь идет о позициях дворянства империи, ситуация еще больше усложняется. Некоторые историки вообще ставят под сомнение правомерность деления помещиков на «либералов», «консерваторов» и т. п. В частности, М. Д. Долбилов отметил, что «при одностороннем подходе к изучению разногласий внутри дворянства исследователь рискует преувеличить степень политической дифференциации сословия. Категории и концепты самосознания, через которые дворянство пыталось представить и утвердить себя единым целым, плохо укладываются в классификационные схемы историков»167. Пытаясь понять, почему накануне Крестьянской реформы «требования дворянства с трудом поддаются обобщению в терминах „либерал“ или „консерватор“, „помещик промышленной или черноземной губернии“», И. А. Христофоров обратил внимание на «калейдоскопическую быстроту», с какой менялись обстоятельства, на объективную сложность темы, на отсутствие единства относительно содержания терминов у самих современников реформ, к тому же часто высказывавших сомнения в адекватности политических определений168. Как отмечал в своих воспоминаниях постоянный помощник Я. И. Ростовцева, председателя Редакционных комиссий, в период подготовки реформы Ф. П. Еленев, «наичаще нельзя даже указать той границы, которая отделяет наших консерваторов от либералов, ибо роли эти меняются у нас попеременно, смотря по обстоятельствам времени»169.
Таких примеров из источников, вышедших в том числе и из-под пера левобережного дворянства, можно привести много, что я и буду делать в дальнейшем. Здесь же необходимо только отметить, что, учитывая сложность определения идейных позиций, особенно в условиях динамичной общественно-политической ситуации середины XIX века, терминологическую несогласованность в историографии, кардинальные расхождения в оценках даже хорошо известных персонажей170, я буду стараться обойтись без жестких маркировок своих героев, по возможности шире представляя их взгляды, позиции, мотивации и оставляя на будущее «расселение» их по политическим «квартирам». Тем более что убеждена: принятое до сих пор в украинской историографии разделение общественной мысли конца XVIII – первой половины XIX века на консервативное, буржуазно-реформаторское и просветительское направления нуждается в дальнейшей проверке эмпирическим материалом.
К «технологическому» инструментарию следует отнести также и приемы работы с «источниками», о чем скажу чуть ниже, прежде очертив вопросы-проблемы, возникшие в ходе исследования и служившие «фонарем» при чтении текстов.
* * *
Сейчас уже большинство историков далеки от того, что Марк Блок называл «эпистемологической наивностью», никого не удивит мнение, что сначала должна быть гипотеза, перечень вопросов, сформулированных перед основным этапом эвристической работы. Тем более это необходимо историку, изучающему Новое время, поскольку, в отличие от коллег, занимающихся более ранними периодами, он, оперируя большими массивами источников, не может «переспрашивать» их в процессе исследования171. Но в начале данной работы этот перечень вопросов был скорее, говоря словами Марка Блока, «чисто инстинктивным». Лишь постепенно, в том числе и под влиянием изначально собранного эмпирического материала, он приобретал все более четкие очертания, обогащался рядом новых пунктов, приближался к такому, какой называют «магнитом для опилок документа»172.
В соответствии с целью исследования – раскрыть содержание идейных поисков дворянства Левобережной Украины в ходе становления и попыток решения крестьянского вопроса – основные задачи-проблемы группировались по нескольким направлениям, блоками. Первый связан с необходимостью выяснить степень влияния общественно-политических, экономических, идеологических теорий на дворянство и на формирование представлений по крестьянскому вопросу с учетом фактора образования, умозрительных идей.
Ко второму блоку проблем отнесены такие, решение которых дает возможность выявить реакции дворянства на правительственную политику по крестьянскому вопросу, выявить помещичий интерес к изменению существующей системы отношений в сторону освобождения крестьян, опасения, неприятие любых реформ, кардинального решения крестьянского вопроса в силу финансово-экономических, а не этических и идеологических соображений.
Выявление реакции дворянства на реальную практику взаимодействия с крестьянами можно отнести к третьей группе проблем, наиболее важными из которых представляются выяснение объемов помещичьих претензий к крестьянам, отношение дворян к различным категориям крестьян, к формам крестьянской зависимости. Необходимо определить уровень осознания дворянством границ своих прав по отношению к крестьянам и мотивы оправдания таких прав. В тесной связи с этим находится попытка взглянуть на противоречия между религиозно-этическими идеалами дворянства и практикой крепостничества, а также способами их разрешения. На этой основе возможна реконструкция образов идеального помещика и идеального крестьянина в дворянском сознании.
Особая группа проблем связана с выделением региональности темы. Для этого я стремилась установить: степень инициативности дворянства региона по крестьянскому вопросу; осознание им себя как особой корпорации и специфики своих региональных интересов; уровень укорененности взглядов, т. е. то, насколько помещики региона в своих оправданиях крепостного права или «либеральных» взглядах опирались на исторические традиции; открытость (закрытость) помещиков региона идеям модернизации уклада жизни, социально-экономических отношений. Именно под углом зрения этих вопросов отыскивались и прочитывались источники.
Необходимость определения, хотя бы в общих чертах, левобережного дворянства (социальная стратификация, микрорегионализация в зависимости от местных условий, социальное положение, образование, социальные функции) и крестьянства (категории, материальное положение, формы зависимости), «крестьянского вопроса», а также социокультурного контекста для создания надежной информационной основы требовала постановки эвристических и герменевтических задач историографического и источниковедческого характера: выявление, отбор и систематизация источников, экспертиза разнородной по составу литературы, синтез источникового и историографического материала, реконструкция историографических образов основных «фигурантов» темы.
Как уже отмечалось, вопросы историографического плана, с учетом объема и специфики привлеченной литературы, выделяются в особую структурообразующую часть, а также по мере необходимости включаются в конкретно-содержательные разделы. При этом смысл историографических экскурсов заключается не столько в поиске лакун, которые доказывают необходимость, правомерность изучения тех или иных сюжетов, сколько в том, чтобы получить в результате анализа (даже работ с явной идеологической окраской) «сплав» информации, оценок, подходов, представляющихся ценностными.
Такой прием, как реконструкция историографических образов, был апробирован мной еще в кандидатской диссертации (правда, это вызвало нарекания одного из моих оппонентов, который позже и сам его применял). И если тогда мне приходилось говорить о неразработанности теории историографического образа, то сейчас уже не стоит долго останавливаться на его содержательном наполнении, а достаточно сослаться как на теоретические, так и на прикладные исследования, в которых этот подход успешно реализуется173. Скажу лишь, что, помимо решения чисто информационных задач (выявление, кто, когда, что, как и почему сказал, например, о дворянстве Левобережной Украины), такой подход позволяет и более адекватно воспринимать ход развития общественной мысли и место, занимаемое в этом потоке представителями того же дворянства.
* * *
Специфика работы с источниковым и историографическим материалом в определенной степени обуславливалась пониманием, что проблема синтеза в историческом познании в ходе развития исторической науки XX века не столько решается, сколько приобретает новые грани проблемности, одна из которых, на уровне конкретно-исторических исследований, заключается в необходимости синтеза знаний, полученных средствами различных исторических дисциплин. На теоретическом уровне проблема соотношения источниковой и внеисточниковой информации ставилась неоднократно174. В данном случае, оперируя тем и другим видами информации, я занимаю осознанную методологическую позицию, воспринимая их как равнозначные составляющие при решении намеченных задач. Все большая историографическая экспансия в сферы различных аспектов истории (публикация источников, введение их в оборот историографическим путем, в том числе и через широкое цитирование) значительно расширяет исследовательское пространство за счет внеисточниковой информации (речь идет не о «власти дефиниций», «давлении стандартов и стереотипов», системе ценностей или теоретических утверждениях, о чем я пыталась говорить выше, а скорее о той составляющей внеисточникового знания, которая определялась Ежи Топольским как сведения или суждения об исторических фактах175).
Разумеется, исследовательская этика и интеллектуально-эстетические потребности подталкивают историка к непосредственному переознакомлению с источниками в их «первозданном» виде. Однако, за редким исключением (когда таким образом удается выявить неточности публикации), в остальном – это уже подробности биографии исследователя, не имеющие значения при решении задач. Поэтому, когда речь идет о целостной источниково-информационной базе, она включает в себя и «историографизированную» информацию, т. е. ту, которая функционирует в современном историческом пространстве под грифом «источниковая» через исследования историков.
В процессе работы источниковедческие ее аспекты приобретали как прикладное, так и самостоятельное значение. В прикладном плане возникали проблемы, связанные с формированием и организацией источниковедческой базы. Сам же конкретный анализ основных источников, как и литературы, нашел отражение в конкретно-содержательных разделах книги. Поэтому здесь, чтобы не злоупотреблять терпением читателей, ограничусь лишь общей характеристикой источниковедческого этапа работы.
Думаю, не стоит убеждать читателя, что работа над книгой, особенно с учетом традиций «днепропетровского источниковедения», была бы невозможна без известных трудов И. Д. Ковальченко, Н. П. Ковальского, Б. Г. Литвака, С. О. Шмидта, О. М. Медушевской, М. А. Варшавчика, Л. Н. Пушкарева, В. В. Фарсобина, А. П. Пронштейна, А. К. Швыдько и др. – трудов, посвященных проблемам отбора, классификации, систематизации, типологии, анализа источников, репрезентативности, внутренней и внешней критике текстов, раскрытию информационного потенциала тех или иных групп источников. Не могла книга писаться и без ознакомления с различными источниковедческими обзорами, касающимися в первую очередь избранного периода и проблематики, без учета замечаний современных специалистов относительно роли и места исторических источников в антропологически ориентированных исследованиях социальной и интеллектуальной истории, в частности без учета требований к источниковой базе, диктующих необходимость привлечения новых источников, нового прочтения тех, которые считаются основополагающими, изменения способов работы с ними. Сюда относятся также переоценка устоявшихся классификационных схем и переосмысление значения отдельных типов и видов источников для исследовательской практики историка.
В связи с этим в центре внимания оказались прежде всего источники личного происхождения, эго-документы, по праву считающиеся одной из самых интересных групп исторических источников, – дневники, письма, мемуары, автобиографические материалы, частная и деловая переписка, различные хозяйственные записки, распоряжения, завещания, речи, публицистика – любые продукты творческой деятельности, которые могут рассматриваться и как уникальные, и как массовые источники, т. е. те, что «служат способом социальной идентификации людей и обозначения реально стоящих перед ними проблем»176. Такой подход к источникам потребовал не только нового прочтения уже известных памятников с целью их «трансплантации» и выявления нового содержания, но и расширения источниковой базы путем привлечения значительного количества опубликованных материалов, фактически не введенных, как ни странно, в научный оборот в контексте интеллектуальной истории, а также потребовал обследования архивных фондов, в том числе и личного происхождения.
Разумеется, главное внимание в поисковом плане было сосредоточено на формировании корпуса источников согласно основной проблеме: идеология дворянства Левобережной Украины в отношении крестьянского вопроса. Но, исходя из необходимости воссоздать аналитическую структуру крестьянского вопроса, «проверить» историографические образы левобережного дворянства и крестьянства и презентовать собственный, подбирались источники, позволяющие представить более широкие характеристики основных контрагентов, их социального взаимодействия, социального и интеллектуального контекстов крестьянского вопроса на разных уровнях. Выяснение принципиальных основ региональных особенностей дворянской корпорации Левобережья невозможно без сравнения хотя бы с дворянскими обществами других украинских регионов, что подталкивало к привлечению источников, продуцированных элитами Слободской и Южной Украины.
В результате основной блок в структуре источниковой базы представлен текстами левобережного дворянства, на поиски которых повлияли предварительные представления о двух плоскостях крестьянского вопроса: социально-экономической и морально-идеологической. Поэтому внимание уделялось не только непосредственным высказываниям по крестьянскому вопросу, но и текстам, которые, как кажется на первый взгляд, не относятся напрямую к теме, а касаются организации и оптимизации хозяйства. При этом особо отмечались те фрагменты, где авторы демонстрировали свои взгляды на место и роль крестьян в «технологическом» процессе. К тому же в таких писаниях часто ставилась проблема «волков и овец» и предлагались пути ее решения. В этот же «малороссийский» блок включались и документальные источники, дающие дополнительную информацию об интеллектуальной, общественной, служебной, хозяйственной деятельности избранных героев, а также раскрывающие особенности функционирования дворянского сообщества края.
Попутно замечу, что, несмотря на основное в данном случае назначение источников первого блока – представить взгляды дворянства на ключевую общественную проблему, – они могут и должны непосредственно привлекаться и к рассмотрению истории крестьянства, к тому же не только в аспекте угнетения. Ведь такие проблемы, как экономическое поведение, трудовая мораль, отношение к труду и его организация (как крестьянин распределял время между различными работами, планировал режим трудового дня, готовился к работе), степень трудовой активности (желание работать, мотивы трудовой деятельности, удовлетворенность крестьянина своей работой), отношение к собственности и многие другие, можно изучать на основе преимущественно беллетристики, публицистики, воспоминаний современников, хорошо знавших крестьянскую жизнь, художественной литературы, фольклора, т. е. текстов, до середины XIX века в большинстве своем выходивших из-под пера дворянства. Полностью соглашусь с Б. Н. Мироновым, что «эти материалы на первый взгляд противоречиво характеризуют крестьянина. Но противоречиво – не значит недостоверно»177. Не вдаваясь в дискуссии со сторонниками постмодернистских подходов к прошлому, отмечу лишь, что при отсутствии непосредственных «показаний» самого крестьянства тексты дворян, несмотря на то что «несли на себе печать их отношения к событиям и фактам того времени»178, часто являются единственно возможным источником информации для исследования названных выше проблем.
Во второй блок, условно определяемый как внешний или фоновый, вошли тексты по крестьянскому вопросу, составленные представителями других украинских региональных сообществ, российского дворянства, общественными и государственными деятелями и т. д., источники, содержащие информацию о моих героях, а также характеризующие социокультурную, политическую ситуацию в Российской империи, ход решения крестьянской проблемы на различных уровнях, законодательные, описательно-статистические материалы.
При отборе источников предпочтение отдавалось, с одной стороны, текстам, обнародованным еще при жизни их создателей и непосредственно включенным в общественный оборот. С другой – таким, которые были мгновенной реакцией на определенное событие, правительственную инициативу, на хозяйственные нужды, но по каким-то причинам не публиковались, или это было сделано позже исследователями. Это могли быть писания, направляемые в какие-либо учреждения с предполагаемой дальнейшей публикацией (записки для Вольного экономического общества, Общества сельского хозяйства Южной России, статьи для периодических изданий) или же носившие конфиденциальный характер (различного рода обращения к императору, правительственным лицам, комиссиям).
На формирование двух названных блоков повлияло принципиально разное решение вопроса о критериях достаточности информации. Если в отношении первого блока я стремилась к возможно более широкому и всестороннему охвату источникового материала без опаски «информационного шума» (С. О. Шмидт), то построение второго требовало ограничиться самыми близкими к объекту исследования концентрами, поскольку в противном случае могла бы произойти подмена целей и задач работы. Отсюда – более прагматичное, фрагментарное использование источников «внешнего» блока. Понятно, что на их отбор факторы случайного и субъективного характера оказали более значительное влияние. Между тем степень разработанности различных аспектов истории Украины исследуемого периода, наиболее близких к основной линии книги, не позволила ограничиться только историографическими данными.
Стремление выйти за рамки сюжетов, привычных для истории украинской общественной мысли конца XVIII – первой половины XIX века, подталкивало к расширению круга источников по сравнению с традиционным для этого направления и, как правило, использовавшимся в конкретно-исторических исследованиях и соответствующих обзорах179. При этом ведущим было также понимание зависимости картины историографических представлений о том или ином регионе либо периоде от круга уже известных и распространенных источников. В последнее время ученые разных гуманитарных специальностей, задумывающиеся над теоретическими основами истории общественной мысли, делают акцент на необходимости разработки и источниковедческих проблем, в том числе для выяснения специфики предмета, задач, структуры дисциплины. В редакционной статье основанного в 1989 году ежегодника «Общественная мысль: исследования и публикации» по этому поводу отмечалось следующее: «Нет нужды доказывать, что без расширения источниковедческой базы и введения в научный оборот новых памятников духовной культуры эта работа не может быть эффективной»180.
Просмотр тематических сборников источников, в частности по истории крестьянского движения, ликвидации крепостного права, по истории общественной мысли Украины и России181, привел к малоутешительным результатам, даже без учета идейных особенностей подбора материалов, поскольку Левобережье в них представлено слабо, а памятники, необходимые в данном случае, почти отсутствуют. К тому же, как известно, нарративные источники в таких сборниках обычно публиковались в отрывках, соответствуя определенной – не только исследовательской, но и идеологической – установке, что не позволяет составить более адекватное и полное представление ни о самом документе, ни о его создателе.
Все это убеждало обратиться к тем изданиям, архивным собраниям, видам источников, которые редко или никогда не привлекались историками общественной мысли, – для поиска образцов как индивидуального, так и коллективного творчества левобережного дворянства. С этой целью пришлось, иногда при отсутствии необходимых справочников, постранично просматривать разнообразные, в том числе и периодические, издания, мало привлекаемые украинскими историками, научные трактаты, описания, статьи, сообщения, литературные произведения182 и, понятно, прибегнуть к архивной эвристике, то и дело натыкаясь на неожиданности и получая при этом, говоря словами Роберта Дарнтона, терапевтическую дозу культурного шока, для чего, согласна, «нет лучшего средства, нежели перерывание архивов»183. Не считая необходимым долго останавливаться здесь на отдельных группах источников, все же обращу внимание на некоторые направления эвристического пути, позволившие существенно расширить информационную основу за счет ранее не замеченных памятников и комплексов, причем как архивных, так и опубликованных. Попробую это проиллюстрировать.
Архивных свидетельств интеллектуальной деятельности Ф. О. Туманского пока что обнаружить, к сожалению, не удалось. Конечно, именно дефицит информации стимулирует решение проблем источниковедческого характера. В данном случае оно заключается не только во введении в оборот, как это ни странно, опубликованных источников, не упомянутых ранее в библиографических обзорах и тем не менее поддающихся точной атрибуции, но и в попытках обнаружить неатрибуированные источники и по-новому – с точки зрения исторических интересов Туманского – посмотреть на уже проанализированные историками184, о чем детальнее скажу ниже. Просмотр журналов «Российский магазин», «Зеркало света», издаваемых Туманским в конце XVIII века, а также «Трудов Вольного экономического общества»185, членом которого он был, позволил несколько расширить известную библиографию его сочинений. Именно в этих изданиях Туманский обнародовал ряд результатов своего хозяйственного опыта, совсем не учтенного историками. И, хотя их было не так уж и много, они тем более ценны, поскольку мы почти не имеем подобных образцов публичной активности украинских помещиков конца XVIII века. Специфика библиографических указателей, например, к изданиям Вольного экономического общества (ВЭО)186 также не позволила историкам увидеть целый ряд образцов интеллектуального творчества даже хорошо известных героев, что удалось выявить только при полистном просмотре. Это касается, к примеру, и работ социально-экономического характера, написанных В. Я. Ломиковским, за которые он даже получал награды от ВЭО.
Сейчас, пожалуй, мало кто будет сомневаться, что можно узнать общественное мнение по поводу того или иного социально-экономического вопроса, листая периодические издания, и в первую очередь специализированные газеты. И очевидно, что это может касаться не только настоящего. Однако исследователи истории общественной мысли к таким источникам обращались не слишком часто или отводили им второстепенную роль. К тому же в центр внимания специалистов обычно попадали преимущественно историко-литературные издания, фактически декларировавшие, скрыто или явно, свою общественно-политическую направленность187. Традиция эта не нова и восходит еще к XIX – началу XX века, когда все «мыслящее и стремящееся к умственному и нравственному развитию»188 отыскивалось через «очки» освободительного движения и связанной с ним идейной борьбы. Понятно, что экономическая составляющая общественной мысли здесь не учитывалась, так же как и периодика, отражавшая интеллектуальные результаты усилий на хозяйственной ниве. Это подтверждает и «историографическая справка» Н. А. Троицкого о состоянии исследования российской истории второй четверти XIX века189. Сам же историк, характеризуя идейную борьбу 30–40‐х годов XIX века, фактически следуя за своими предшественниками и обращаясь к основным общественно-политическим течениям, также называл только те периодические издания, которые вобрали в себя, по выражению А. И. Герцена, «все умственное движение страны», – «Сын Отечества», «Москвитянин», «Московский телеграф», «Телескоп» и др. Показательна в этом плане и уже упомянутая энциклопедия «Общественная мысль России XVIII – начала XX века», в которой одна из групп статей выделена составителями именно как «периодические издания, служившие на разных этапах истории страны выразителями взглядов и настроений определенных социальных сил»190. Не стоит искать здесь сведений о журналах и газетах, которые, возможно, и не были таким, по выражению автора предисловия, «рупором политических убеждений и принципов», как, скажем, «Современник», «Отечественные записки», «Русский вестник» и другие, и все же ставили перед собой не менее важные для общества задачи. В частности, речь идет об экономических периодических изданиях, которые начали появляться в России еще в конце XVIII века.
Надо сказать, что потенциал историко-литературных журналов также недостаточно использован в украинской историографии. Тем более это касается экономических изданий первой половины XIX века, хотя в то время в обществе интерес к подобной литературе рос, и довольно быстро. Если с 1714 по 1805 год в России книг и статей по экономическим вопросам вышло 271, то только с 1806 по 1830 год – уже 399. За первые двадцать пять лет XIX века появилось 18 новых журналов и газет191, издатели которых ставили своей целью способствовать развитию различных отраслей хозяйства, и в первую очередь земледелия. Образованная российская публика, прежде всего дворянство, не только была потребителем этой печатной продукции, но и активно бралась за перо для распространения собственных экономических взглядов и хозяйственного опыта.
Среди газет, мало замеченных исследователями, необходимо в первую очередь обратить внимание на «Земледельческую газету» (далее – «ЗГ»), должным образом не представленную даже в историко-экономической литературе. Часто ее только упоминали или давали краткие сведения, оценивая это официальное правительственное издание как «ярко выраженный орган крепостников»192. Правда, российский историк аграрных традиций и новаций С. А. Козлов достаточно широко использовал помещенные в этом издании материалы, но и у него «ЗГ», в отличие от, скажем, «Земледельческого журнала», органа Московского общества сельского хозяйства, не получила более или менее целостной характеристики своего направления и содержания193. Разумеется, историк, исходя из собственных задач, не касался достаточно широко представленных в «ЗГ» «украинских» материалов. Да и я практически не нашла ссылок на них – даже в исследованиях, специально посвященных истории украинской экономики первой половины XIX века. Приятное исключение составила разве что статья М. Бачинского, опубликованная еще в 1928 году, в которой анализировались взгляды «экономистов» степной Украины 30–40‐х годов XIX века, преимущественно дворян-помещиков – М. Кирьякова, Г. Раковича, Н. Герсеванова194.
«Нет такого источника, который был бы совершенно бесполезен»195. Эту старую, но не стареющую истину, кажется, уместно напомнить вслед за Хансом-Вернером Гётцем, обращая внимание читателей на несколько подзабытый украинскими историками Нового времени вид источников, достаточно информативный для исследования не только социально-экономической истории, но и истории общественной мысли. Речь идет о записках хозяйственного характера, рекомендациях по управлению имением. В свое время они имели разные названия, но в исторической литературе чаще фигурируют как инструкции или приказы.
Широкое научное обнародование инструкций началось в 1903–1910 годах в Киеве, с публикации М. В. Довнар-Запольским в «Университетских известиях» значительного количества таких источников196. В дальнейшем это продолжалось как археографическим (публикация инструкций в специальных изданиях, приложениях к статьям и монографиям), так и историографическим путем. В советской историографии инструкции стали предметом специального источниковедческого анализа, основой для исследования в первую очередь истории крестьянства, системы вотчинного управления, отношений между владельцами поместий и крепостным населением, иллюстративно использовались в тематически различных трудах по социально-экономической истории197. В контексте социальной истории инструкции широко используются и современными российскими историками198. Однако этого нельзя сказать об украинской историографии. Более того, среди известных опубликованных инструкций практически нет вышедших из-под пера украинского панства, особенно – относящихся ко второй половине XVIII – началу XIX века. Тем не менее это не значит, что такой материал полностью отсутствует, и даже выборочная эвристическая работа показывает значительный потенциал архивных собраний. Так, среди неопубликованных бумаг довольно известного в украинской историографии персонажа, Г. А. Полетики, удалось обнаружить уникальную инструкцию, составленную в 1773 году и предназначавшуюся исключительно для домашней прислуги из дворовых людей199. Поэтому, думаю, важно обратить внимание на необходимость возобновления интереса отечественных специалистов к данному виду источников.
Большой массив хозяйственных инструкций, приказов, распоряжений сохраняется в личных фондах центральных и областных архивов, музеев, в отделах рукописей крупных библиотек. Выявление всех этих материалов требует серьезных эвристических усилий, которые, возможно, не всегда будут приводить к успеху, даже несмотря на существование историографических подсказок200. Но вопрос, нужно ли поднимать весь этот источниковый груз, я отнесу к числу риторических. Ведь даже там, где национальные историографии вполне прилично обеспечены опубликованными источниками, где существуют такие крупнейшие в мире проекты издания памятников, в частности по медиевистике, как «Monumenta Germaniae Historica», историки настаивают на необходимости критической публикации письменных источников и «исторического изучения» источников смежных дисциплин: имена людей, географические названия, символы, литературные произведения, предметы искусства и т. п.201 Иными словами, источниковедческие задачи остаются вполне актуальными и диктуются расширением круга проблем, стоящих перед современной исторической наукой.
Завершая этот сюжет, отмечу, что, независимо от того, какие источники были в поле зрения – документального характера или нарративного, частного или официального, – там, где встречались более или менее пространные рефлексии моих героев по поводу поставленных вопросов, основным способом работы с источниками стало сравнение их как с формально-текстологической, так и с сущностно-содержательной точек зрения, а также метод «медленного чтения»/прочтения, позволяющий проникнуть в сердцевину текста. При этом, помня об особенностях культурно-семиотического подхода к истории, я пыталась апеллировать «к внутренней точке зрения самих участников исторического процесса» – важным для меня было и «то, что является значимым с Их точки зрения»202. Конечно, нужно сознаться, что не все удалось прочитать, даже из находившегося в круге моего внимания, – и не только из‐за собственной неорганизованности, а и по причине недоступности пока некоторых архивных документов (длительный переезд Российского государственного исторического архива на новое место, невозможность во время учебного года вырваться в Пушкинский Дом, который не принимает исследователей летом) и печатных материалов (отсутствие в библиотеках Украины). Возможно, не все было достаточно внимательно прочитано. Но, надеясь и на понимание читателей, я нахожу для себя определенное оправдание – в стремлении с моей стороны, на данном этапе разработки истории дворянства и социальной истории Украины конца XVIII – первой половины XIX века, хотя бы актуализировать как можно больше письменных памятников, рассчитывая на интерес к ним будущих исследователей.
Последнее слово относительно репрезентации результатов работы. Создавая текст книги и стремясь привлечь внимание не только специалистов к сюжетам, героям, проблемам украинской истории конца XVIII – первой половины XIX века, я не забывала слова Поля Рикёра: «Открывая историческую книгу, читатель, ведóмый завсегдатаем архивов, надеется вступить в мир реально происшедших событий»203 – и старалась более или менее приблизиться к тому, что можно было бы назвать «реальностью».
ГЛАВА 2. В ПОИСКАХ АНАЛИТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ «КРЕСТЬЯНСКОГО ВОПРОСА»
Предыдущий раздел, преимущественно посвященный актуализации темы, конечно, должен вызвать у читателя, по замыслу автора, ощущение ее неизученности. Вероятно, такова уж природа «запевов», легитимации любого исследования – произвести впечатление, будто до автора никто или почти никто по этому поводу не писал. Чтобы понять эту неизученность и убедить в ней других, на подступах к теме книги пришлось привлечь довольно значительный массив литературы. И это не случайно, поскольку расположение дворянского и крестьянского вопросов, особенно последнего, не только в научных, но и в жизненных пространствах Российской империи настолько уникально, что, пожалуй, не имеет аналогов. С крестьянским вопросом по охвату, глубине, значимости, объему, наверное, не может конкурировать никакой другой. И вряд ли кто-то может с этим не согласиться. Ведь проблемы общественной мысли, и тайных обществ, и экономики, и военного дела, и реформирования государства и многие другие тесно связаны с вопросом, который задевал абсолютное большинство населения безотносительно к социальному, сословному, этническому происхождению. Это и повлияло на формирование информационной, в том числе историографической, основы работы. Однако проблема осложнялась не только неразрывностью дворянского и крестьянского вопросов, но также содержательной и терминологической неопределенностью, о которой выше уже упоминалось. Поэтому для отбора литературы стоило разобраться хотя бы с тем, что же такое крестьянский вопрос.
Итак, по логике исследования пришлось начинать со справочных изданий и историко-историографических обзоров. Вместе с тем знакомство с энциклопедиями, которые хотя и упрощенно, но отчетливо отражают свойственные эпохам представления о фактах, явлениях, людях, показало, что каждый, кто обратится к ним за уточнением, может столкнуться со странной, на первый взгляд, ситуацией: бесспорно ключевой вопрос общественной жизни второй половины XVIII – XIX века оказывается настолько размытым, неопределенным, нечетким, аморфным, что создается впечатление непонимания его генезиса и структуры. Иногда это ощущение до некоторой степени подтверждается также отсутствием специальной статьи «Крестьянский вопрос» в солидных энциклопедических трудах, в частности в многотомных «Энциклопедическом словаре» Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона и «Советской исторической энциклопедии».
Однако мое первое впечатление оказалось не совсем адекватным. Оно связано в значительной степени со сложностью, многогранностью самого понятия, а отсюда – с различной трактовкой и подходами к освещению и вписыванию крестьянского вопроса в различные смысловые и дисциплинарные контексты. В частности, в «Энциклопедическом словаре» Брокгауза и Ефрона достаточно места для «крестьянского вопроса» нашлось в статье «Крестьяне»204. Подобный материал в «Советской исторической энциклопедии» и энциклопедии «Общественная мысль России XVIII – начала XX в.» размещен в статьях «Аграрный вопрос»205. В библиографическом указателе С. Л. Авалиани, кроме «Истории крепостного права», «Крестьянского права и крестьянских учреждений», «Общины и общинного землевладения» и других, выделена рубрика «Аграрный и крестьянский вопрос»206. Формулировка понятия в одном предложении в статье «Крестьянский вопрос» в «Большой советской энциклопедии» дана с отсылкой к более обширной статье – «Аграрный вопрос»207.
Показателен в этом отношении и один из первых историографических, а скорее библиографических, очерков, которым начинается классическая монография В. И. Семевского «Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX века». Интересно, что ученый, после того как отметил отсутствие специального труда по истории крестьянского вопроса, среди своих предшественников первым назвал А. В. Романовича-Славатинского и его монографию «Дворянство в России от начала XVIII века до отмены крепостного права»208. Заслуживающими внимания в контексте темы Семевский также считал исследование А. И. Ходнева о Вольном экономическом обществе, работу И. И. Иванюкова «Падение крепостного права в России», В. С. Иконникова о графе Н. С. Мордвинове, большой труд А. П. Заблоцкого-Десятовского о графе П. Д. Киселеве и ряд других. Уже этот перечень наглядно демонстрирует широту тематического спектра, необходимого при освещении крестьянского вопроса, который, кстати, самим историком определялся не так уж и широко: «вопрос об ограничении и уничтожении крепостного состояния в собственном смысле этого слова», что предполагало говорить в первую очередь «лишь об изменении быта помещичьих крепостных крестьян»209.
Определение предмета таким образом вызвало возражения В. О. Ключевского, который в рецензии на эту монографию-диссертацию Семевского отмечал, что под крестьянским, или «крепостным», вопросом нужно понимать «всю совокупность затруднений, какие создавались крепостным правом». Этот вопрос, по мнению Ключевского, был сложным узлом, сплетенным из множества частных вопросов, политических, юридических и экономических, а именно – «об ответственности владельцев перед государством за крепостные души, о границах его прав на личность и труд крепостного, о поземельном обеспечении крепостных крестьян, о добровольном законодательном регулировании взаимных отношений обеих сторон и т. д. Каждый из этих вопросов вызывался соответствующими затруднениями в крепостном владении, и каждый имел свою историю»210. Еще шире ставил проблему, например, Н. И. Кареев, для которого «крестьянский вопрос – вопрос о крестьянском сословии»211. Значительное сюжетное разнообразие демонстрирует своего рода итоговое многотомное издание к пятидесятилетнему юбилею реформы 1861 года212.
Итак, даже беглый взгляд на трактовку крестьянского вопроса позволяет предварительно выявить, во-первых, широкое присутствие в нем «дворянской составляющей», во-вторых, фактическое отождествление с такими понятиями, как «аграрный вопрос», «крепостное право», «крепостной вопрос», «положение крестьян», «крестьянство», «крестьянская проблема», «крестьянское дело», «аграрно-крестьянский вопрос», «крестьянско-аграрный вопрос», «история крестьянства».
Конечно, это не облегчало решения историографических задач, поскольку круг литературы, касающейся основной проблемы – «дворянство и крестьянский вопрос», необходимо было расширять за счет исследований по истории крестьянства, дворянства, реформы 1861 года, социально-экономической, общественно-политической истории, как в общероссийском, так и в украинском измерениях, с акцентом на истории Левобережья преимущественно дореформенной поры.
К тому же вследствие терминологической множественности, синонимичности, нечеткости содержательного наполнения усложняется и определение отправной точки историографического разбора. В исторической литературе в этом отношении тоже нет единства213. Можно предположить, что такие расхождения обнаруживаются не только в связи с различием конкретно-содержательного определения крестьянского вопроса, но и из‐за разницы идейных, методологических позиций авторов. Однако, ввиду того что специфика историографического обзора данной темы видится не только, даже не столько в традиционном отслеживании движения исторической мысли, сколько в попытке представить историографический образ(ы) крестьянского вопроса (хотя бы в идеологической его ипостаси) для построения собственной аналитической модели, для меня важным было в первую очередь не погружение в тонкости историографического процесса, а выделение ценностной информации, так или иначе отражающей процесс постановки и обсуждения дворянством Левобережной Украины ключевых проблем. В качестве своеобразных маркеров в ходе анализа использовались, во-первых, уровень интенсивности изучения крестьянского вопроса, во-вторых – доминанты его изучения. При этом я пыталась направлять внимание на момент постановки вопроса, на его восприятие научной мыслью, на выявление эмпирической базы, фиксацию традиций исследования и их трансляцию, на маргинальные моменты, но такие, которые имели нереализованный эвристический потенциал. Однако прежде чем представлять результаты, необходимо сделать еще ряд пояснений относительно собственного понимания особенностей работы с историографическим материалом.
С какого бы момента ни начинать историографию темы, очевидным оказывается хронологическое совпадение процесса формирования крестьянского вопроса в Российской империи и рефлексии по этому поводу, о чем уже говорилось. Если рассуждать в категориях историографического образа, можно сказать, что «прижизненный», «некрологически-мемориальный» и научно-критический периоды его формирования почти совпадают. Научное изучение проблемы испытывало на себе «живой нерв» обсуждения, которое, в свою очередь, не могло происходить без учета ее научной проработки. Итак, как бы ни выстраивалась периодизация историографического процесса, первые его этапы будут относиться преимущественно к вненаучному дискурсу. При этом критерием научности может выступать не столько уровень рефлексии, сколько ее цель и смысл. А значит, исследователя подстерегают «подводные течения», особенно при изучении ключевых этапов истории России и Украины, этапов обострения социальной проблематики, когда крестьянский вопрос приобретал политическую, публицистическую актуальность, что во многом определяло интенсивность и направленность его как научной проблемы.
На мой взгляд, это связано также со спецификой самогó крестьянского вопроса. Он не требует искусственной общественной легитимации. В отличие от других сюжетов, будь то причины и характер войны под предводительством Богдана Хмельницкого, история казачества, бой под Крутами или что-либо иное, крестьянский вопрос никак не может отойти в прошлое, на него всегда смотрели и смотрят как на актуальную проблему современности, независимо от того, с какой точки осуществляется обзор. Вот почему этот «вечно живой» (во всяком случае, для восточноевропейского пространства) вопрос относится к таким, которые способны превращать исследователя из простого наблюдателя в следователя или исторического судью, от чего предостерегал еще В. О. Ключевский, говоря об опасностях изучения «близкой» истории, в явлениях которой невольно отыскивается собственная биография214.
Но, каким бы «близким» ни казалось прошлое, взгляд на любую тему связан с элементами исторической ретроспекции. Однако в данном случае следует говорить об усложненном ее варианте. Речь идет не только о привычном, так сказать, естественном уровне ретроспекции, но и о том, что именно реформа 19 февраля 1861 года определила его судьбу215. Эта особенность влияет на исходные методологические позиции исследователя историографии тем подобного рода, поскольку все, что связано с Великой реформой, становится доминантой для тех, кто изучает крестьянский вопрос в любых его аспектах, как в горизонтальном (региональном), так и в других.
Размышляя над проблемой систематизации и периодизации историографической основы и учитывая ангажированность исторической науки социальной, общественной проблематикой, я пришла к тому, что в данном случае для анализа наиболее уместно применение экстерналистских схем216, поскольку проблему детерминировала именно «внешняя», политическая ситуация, особенно в XX веке. Это позволило использовать априорную по отношению к историографическому процессу периодизацию. Попутно в очередной раз актуализировалась и одна из болевых проблем теории историографического процесса – взаимодействие экстерналистских и интерналистских факторов217. Однако априорные историографические схемы могут быть дополнены не только «образами истории», но и «образами историографии», т. е. логики развития науки или логики дискурсов. Здесь стоит все же иметь в виду и «нечувствительность» историографии к социально-политическим процессам, инерционность, причем не только научной мысли, но и связанную с ней инерционность институциональную.
С учетом сюжетно-тематического разнообразия логика исследования продиктовала необходимость первоочередного обращения к историко-историографическому материалу, т. е. к так называемой историографии второго уровня, – для выявления того, как в современном историографическом дискурсе освещаются узловые моменты историографии крестьянского вопроса, какие его аспекты являются ключевыми, а также для определения степени историографической обработки «украинских» сюжетов, в том числе во избежание повторов. Систематизация здесь осуществлялась по жанровому принципу: специальные историографические работы по крестьянскому вопросу; обзоры во введениях монографий, в специальных историографических разделах, историко-источниковедческие очерки; обобщающие историографии по социальной проблематике и истории общественной мысли, касающиеся необходимых для данной темы аспектов, сюжетов; очерки по истории исторической науки. При этом, применяя метод случайной выборки, делая основной упор на наиболее поздние, а также значимые историографические и библиографические обзоры, я не стремилась к полноте охвата и не пыталась выставить оценки, а пользовалась ими только прагматично, осознавая, что тот же самый историографический материал может быть интерпретирован исследователем той или иной конкретной проблематики иначе, даже под противоположным углом зрения.
ГЕНЕЗИС «КРЕСТЬЯНСКОГО ВОПРОСА» КАК НАУЧНОЙ ПРОБЛЕМЫ
Если осуществлять анализ историко-историографических исследований, имея в виду категорию историографического образа, то относительно первого периода, который можно условно обозначить второй половиной XVIII века – 1861 годом и назвать «прижизненным», представляется достаточно плодотворным – для определения общих очертаний содержательной картины крестьянского вопроса – обращение к такому специфическому историографическому материалу, как библиографический указатель В. И. Межова218. Конечно, добросовестный исследователь вроде бы не должен прибегать к «библиографическому методу», который обычно лишь фиксирует историографический факт, а потому используется как вспомогательный. Но в данном случае оказалось, что это не только экономия сил и энергии исследователя, но и эффективный содержательный метод219, позволяющий в целом наметить образ крестьянского вопроса. И хотя в библиографии Межова, насчитывающей более 3300 позиций («записей»), многое непосредственно к данной теме не относится, эта библиография показывает, как изучался, воспринимался крестьянский вопрос и какие основы уже были заложены для дальнейшего его штудирования. Замечу, что именно указатель в значительной мере помог не только определиться со структурой крестьянского вопроса, но и лучше понять ход его последующего историографического усвоения.
Обосновывая возможность библиографическим путем решать историографические задачи, необходимо обратить внимание на уникальность труда Межова, выполненного в жанре не столько традиционной библиографии, сколько исторической аналитики. Библиограф здесь выступает не просто фиксатором, а тонким аналитиком, располагая материал в большей мере не по названиям (не всегда точно отражающим суть), а по содержанию и очень часто раскрывая его в аннотациях. При этом составитель не разделял библиографию на научную и ненаучную, а шел за смыслом публикаций, направляя свое внимание прежде всего на факт отражения крестьянского вопроса в головах образованной публики.
Создавая свою библиографию без претензий на «ученое достоинство», Межов ставил цель наиболее полно и точно показать процесс обсуждения крестьянского вопроса в течение ста лет. И потому пытался собрать все, что публиковалось в газетах, журналах, сборниках, отдельных изданиях на русском и иностранных языках, чтобы средствами библиографии подновить контуры и дать «фотографически верное воспроизведение» несколько поблекшей величественной картины «умственного и нравственного движения, которое было возбуждено у нас крестьянским вопросом»220. Свой указатель составитель, думаю, справедливо назвал «зеркалом», ведь в целом он отразил весь ход развития крестьянского вопроса, каким он виделся в начале 1860‐х годов.
Систематизируя огромный материал и размышляя над различными подходами (хронологическим, алфавитным, по месту публикации), Межов остановился на четвертом, разбив библиографию на тематические отделы и подотделы, каждый из которых был посвящен тому или иному «частному вопросу». Тем самым составитель облегчил труд всех, кто захочет обратиться к этому изданию за справкой, к чему он и стремился, и фактически безупречно выполнил работу по структурированию самогó крестьянского вопроса, представив не идеальную, а реальную его модель. Поскольку в рамках отдельных структурных частей был задействован и хронологический принцип, каждая составляющая крестьянского вопроса представлялась, таким образом, «в историческом своем ходе и развитии»221. Названия разделов, рубрик и подрубрик также красноречиво свидетельствовали о восприятии крестьянского вопроса в широком и узком смысле понятия.
Показательно, что только седьмой раздел был определен как «Собственно крестьянский вопрос в России». Сюда попали различные официальные и «частные» материалы, касающиеся преддверия реформы 1861 года и внедрения ее в жизнь, вопросов наделения землей, административного устройства освобожденных крестьян, их обязанностей, выкупных платежей, поземельного кредита, ипотеки, земских и сельских банков и т. п. Здесь же содержатся статьи о положении мелкопоместных дворян, дворянских выборах, мировых посредниках и многих других дворянско-крестьянских проблемах. Непосредственно с Великой реформой связан и восьмой раздел – «Хроника крестьянского вопроса», где, наряду с сообщениями об объявлении царского манифеста, торжествах по этому поводу, помещены статьи, заметки, письма, рассказы о ходе дела, о реакции основных контрагентов и т. п.
Первые шесть разделов, не отнесенные к «собственно» крестьянскому вопросу, все же демонстрируют его во всей полноте, которая подкрепляется и численно. Большое количество позиций указателя – около двух тысяч – размещено именно в этих разделах. Здесь мы видим исследования по истории крепостного права в России, в частности и дискуссии по поводу его начал, например между Н. И. Костомаровым и М. П. Погодиным, по истории хозяйства и быта дворян и крестьян, публикации древних актов, документов, проектов относительно крепостного и поместного права. К первому, историческому разделу также отнесены и персонологические заметки, некрологи. Кроме этого специального раздела, исторические материалы включались в различные рубрики, посвященные отдельным аспектам крестьянского вопроса, что свидетельствует о глубоко историзированном отношении к проблеме, понимании ее неслучайности и органической укорененности в ткани народной жизни. Включение в указатель и работ по истории крестьянского вопроса в других странах Европы, а также по истории рабства в Америке демонстрирует осознание универсальности крестьянского вопроса.
Во втором разделе – «Статистика крестьянского вопроса» – Межов разместил публикации, так или иначе относящиеся к этому жанру: списки помещиков, материалы ревизий, их обзоры и основанные на них исследования, труды демографического характера, в том числе и по отдельным регионам, сведения о количестве имений, дворянства, крестьянства в целом и различных категорий крепостных в частности, о количестве крестьянских повинностей, о стоимости вольнонаемного труда, земледельческой продукции, о задолженности помещиков перед государственными кредитными учреждениями, а также земледельческая и сельскохозяйственная статистика, обзоры и описания имений, статистические обзоры хода крестьянского дела, начиная с ноября 1857 года, программы хозяйственно-статистических описаний, рецензии на статистические труды.
Насколько актуальными в российском обществе были проблемы частного и общинного землевладения и землепользования, свободного и принудительного труда и их влияния на промышленность, торговлю, на функционирование помещичьих имений, крестьянского, дворянского, фермерского хозяйства, свидетельствуют сотни позиций четвертого («Вопрос о свободном (наемном) и обязательном (барщинном) труде») и пятого («О разных видах пользования и владения землею») разделов. Кроме материалов исторического характера, здесь представлен широкий спектр достаточно неожиданных на первый взгляд сюжетов в разной жанровой обработке – большие, глубокие исследования, письма в редакции, короткие реплики в дискуссиях, которые особенно активно велись на страницах газет и журналов на рубеже 1850–1860‐х годов. В третьем разделе («Литература и библиография крестьянского вопроса, периодические издания по крестьянскому вопросу») дан перечень специальных периодических изданий и таких, которые содержали отдельные рубрики для обсуждения крестьянского вопроса и фактически библиографию библиографии, т. е. указатели статей в тогдашних журналах, обзоры «мнений», литературы на эту тему в России и Польше и т. п.
Из разделов, по мнению Межова, прямо к крестьянскому вопросу не относившихся, наибольшим по объему оказался шестой – «Теоретические статьи по крестьянскому вопросу». Количество позиций – около 650, распределенных по точкам зрения: богословская, философская, экономическая, социальная, государственная, бытовая, сельскохозяйственная, педагогическая, нравственная и другие, – свидетельствует, с одной стороны, о чрезвычайном интересе к подобным проблемам, о широком контексте, в который включалось крестьянское дело, а с другой – о достаточно глубокой, серьезной по тем временам проработке различных аспектов ключевого вопроса. «Крестьянский вопрос с точки зрения педагогической и нравственной», что отмечалось в предисловии, непосредственно к теме не относился. Но Межов счел необходимым указать статьи и по этим проблемам – как отражающие стремление общества к эмансипации крестьян. Материалы по народному воспитанию, распространению письменности, сельских училищ, земледельческих и других профессиональных школ, медицинских знаний и медицинского образования, по подготовке сельских учителей, по вопросам о роли женщины в народном образовании, о языке обучения, по истории образовательных учреждений, а также по состоянию нравственности, искоренению пороков, улучшению быта, гигиены и т. п. составляли половину позиций теоретического раздела.
Аннотации, иногда довольно пространные, особенно к тем публикациям, чьи названия малоинформативны, демонстрируют разнообразие представленных публично мнений. Итак, трибуну получали как сторонники, так и противники эмансипации, сторонники как вольнонаемного, так и принудительного труда, как те, кто выступал за освобождение крестьян с землей, так и те, кто был против, как обвинители народа (крестьян) в безнравственности, так и его защитники. Причем широкая презентация материалов дискуссий показывает включенность в проблематику «крестьянского вопроса» и славянофилов, и западников, и «консерваторов», и «либералов», и «эмансипаторов», и «крепостников», т. е. всего идейного спектра общественного мнения в равных объемах. А отдельный девятый раздел – «Крестьянский вопрос в поэзии и искусствах» – еще и освещал художественно-творческую сторону отображения и осмысления крестьянского вопроса. Сам факт фиксации таких источников, как стихи, песни, гравюры, картины, рисунки с натуры, медальоны, медали, особые памятные знаки для должностных лиц в память освобождения крестьян, знаки членам комиссии по крестьянским делам в Царстве Польском, мировым посредникам и т. п., можно считать заявкой на тотальный охват этой проблемы.
«Украинские» материалы, т. е. вышедшие из-под пера авторов из украинских регионов или касавшиеся их, представлены в указателе десятками позиций. Но специально они Межовым не выделялись, даже в первом разделе, где обособленно представлены публикации не только по зарубежью, но и по Прибалтике, Финляндии, Царству Польскому. И это притом, что здесь указаны статьи М. В. Юзефовича о хозяйственных отношениях в Правобережной Малороссии XVI века, Д. Л. Мордовцева по истории крестьян юго-западной Руси того же времени, полемика Н. И. Костомарова с последним, а также историческое описание анонимным автором быта помещичьих крестьян Подолии, Волыни, Киевщины до введения Инвентарной реформы. Правда, в 1861 году в «Основе» Межовым была опубликована небольшая «Библиография вопроса об улучшении быта помещичьих крестьян в Южнорусском крае с 1857–1860»222. Здесь не указаны ни мотивы ее составления, ни принципы отбора позиций, поэтому трудно сказать, чем руководствовался и что стремился продемонстрировать составитель. Но, без преувеличения, эта библиография, вместе с программой 1861 года223, может восприниматься и как подготовка к будущим подобным изданиям этого автора, и как первая и (фактически) последняя попытка таким образом представить наработки в изучении крестьянского вопроса на украинских землях.
Хотя библиограф, скорее всего, был далек от украинофильских симпатий, тем более от представлений о «соборности» Украины, предложенное им территориальное измерение темы в то время могло не только представлять интерес для издателей журнала, но и быть определенным ориентиром, ведь записи указателя касались как всех украинских регионов Российской империи, так и Галичины. Сюжетное разнообразие, удостоверившее широкую трактовку крестьянского вопроса, присутствует уже в этой работе, которая, к сожалению, обойдена не только историками, но и библиографами. Не обращают на нее внимания и украинские историографы, хотя, вместе с подобной работой А. М. Лазаревского от 1858 года224, она, думаю, свидетельствовала о начале дифференциации историографии по линии «российская – украинская», хотя бы в ее «областническом» измерении.
Итак, большой труд Межова представляет собой не только наиболее полную на 1865 год библиографию по проблеме, но и историографическую «модель» крестьянского вопроса, даже своеобразную исследовательскую программу, которая в таком масштабном и системном виде до сих пор не реализована. Структура проблемы еще больше усложнилась во вскоре после того созданной библиографии «Земский и крестьянский вопросы»225, которая и самим составителем, и библиографами квалифицировалась как продолжение предыдущей226. Таким образом, «прижизненный» и начало «мемориального» периода формирования образа крестьянского вопроса свидетельствуют о глубоком понимании его сложности, многослойности, что, к сожалению, теряется в дальнейшем. Это говорит о далеко не поступательном движении в освоении крестьянского вопроса и подтверждает нелинейность, прерывность историографического процесса.
Общую тональность особенностей историографического периода, который я условно называю мемориальным, а хронологически определяю 1861 годом – началом XX века, достаточно тонко почувствовал В. О. Ключевский. Оппонируя В. И. Семевскому и выступая против суженной трактовки крестьянского вопроса, Ключевский, одновременно пытаясь понять автора, в черновых набросках писал:
С нас нельзя строго взыскивать за такие неудачи. Мы с вами принадлежим к поколениям, которые стоят в самом ненаучном отношении к крепостному праву. Мы при нем родились, но выросли после него. Мы видели, как оно умирало, но не знали, как оно жило. Оно для нас ни прошедшее, ни настоящее, ни вчерашний, ни сегодняшний день. Оно то, что бывает между вчера и сегодня, – сон! Оно осталось в наших воспоминаниях, но его не было в нашем житейском обиходе. Из сна помнятся только эксцентричности, все нормальное забывается. <…> Мы с Вами хронологически посредники между теми и другими – ни старые, ни молодые люди, не знаем его как порядок и не поймем его как призрак. Поэтому да не сетуют на нас люди, знавшие крепостное право и почтившие нас своим вниманием за то, что мы не оправдали этого внимания227.
Отсутствие в тот период, даже в обобщающих трудах228, обширных историко-историографических очерков, которые продемонстрировали бы основные тематические узлы и осознание идейной направленности исторической науки по крестьянскому вопросу, компенсируется в известной степени наблюдениями, высказанными Ключевским. Размышляя над тогдашней историографической ситуацией, не раньше декабря 1902 года229 он обратил внимание на ряд важных в данном случае моментов: во-первых, на очередное распределение российской истории на «две неравные половины» – «дореформенную и реформированную», что через отрицание прошлого230 создавало иллюзию перехода на новые основы; во-вторых – на появление в общественной жизни такого нового элемента, как недовольство, когда «общественная апатия уступила место общему ропоту, вялая покорность судьбе сменилась злоязычным отрицанием существующего порядка без проблеска мысли о каком-либо новом». Ученый также отметил определенный разрыв между исторической наукой и общественным сознанием, возникший в то время и приведший к обособлению историографии231. Однако сложно предположить, что герметичность «академической» историографии распространялась на изучение крестьянского дела, интерес к которому усиливался актуализацией дворянского вопроса, активно дебатировавшегося в публицистике. Это не могло не сказаться на исторических исследованиях232, что подтверждается и различными текстами самого Ключевского233. Неоднократно ученый подчеркивал значение Крестьянской реформы и для исследования истории общества234.
Обращение к истории могло быть также результатом непосредственной реакции на какие-то реалии периода реформ, под действием которых происходила, как писал В. И. Василенко, «неустанная, беспощадная ломка, попрание народных воззрений и обычаев и втискивание сельского быта в нормы писаных законов»235. Таков был один из мотивов, подтолкнувший этого экономиста, этнографа, к тому же семнадцать лет проработавшего в губернских и уездных крестьянских учреждениях – мировым посредником на Киевщине, статистиком в Полтавском губернском земстве, обнародовать историко-юридическое исследование об особенностях традиционных правоотношений, возникавших в «земледельческом быту» Малороссии. Подобные рассуждения высказывал и А. Ф. Кистяковский, который считал, что изучение обычного права вызвано и научными, и практическими потребностями. Под последними понималась именно реформа 1861 года. «Великая реформа требует того», – говорил историк, убежденный, что изучение обычного права поможет «приучить к бережному обращению с жизнью народа, которую следует улучшать, а не ломать»236. Как утверждал И. В. Лучицкий, первую работу по истории крепостного права еще молодой Кистяковский начал именно под влиянием акта 19 февраля237. Значение его для своего творчества не скрывал и А. М. Лазаревский238.
«Посредническая» роль в исследовании крестьянского вопроса, которую играли историки пореформенного времени, проявилась в ретрансляции на собственно историографический период тех доминант, что утверждались в общественном сознании в ходе реализации реформы и ее активного обсуждения, принимавшего различный вид. Чтобы зафиксировать эти доминанты, а также понять степень историографической преемственности, стоит взглянуть на издания, как бы подводившие итог этого «мемориального» периода. Они запечатлели не только достижения в научной области, но и идейное напряжение, особенно остро проявившееся во время юбилейных обсуждений последствий Крестьянской реформы в 1901 году239 и в связи с началом нового этапа аграрных преобразований периода революции 1905–1907 годов.
Квинтэссенцией подходов, апробируемых и усваиваемых в историографии в «эту последнюю крестьянофильскую эпоху русской истории»240, стало роскошно иллюстрированное издание «Крепостничество и воля»241, которое, наряду с большим количеством появившихся в 1911 году работ242, довольно ярко демонстрировало связь истории с общественным мнением и стремление влиять на общество посредством истории, в том числе и для решения государственных проблем243. Уже вступительная статья, вероятно редактора, а также первая часть – «Крестьяне во времена крепостного права» – обнаружили определенную тенденцию в формировании образа крестьянского вопроса. Основная тональность предисловия – благодарность монарху за «день милосердия, гуманности, зарю счастья, луч прогресса и культуры, проникший сквозь туман и тьму дореформенного времени». Главная тема – тяжелое положение крепостных, значительно лучшее, правда, по сравнению с Западом, где крестьяне были «полными рабами». Вместе с тем, несмотря на многочисленные упоминания современников о равнодушии крестьян при объявлении воли, о непонимании ими сущности манифеста, об их растерянности, звучал мотив светлой радости, затмить который авторы сборника не дадут «никаким научным исследованиям, силящимся умалить значение реформы»244.
Здесь же откровенно декларировался интересный концептуальный подход, когда в основной исторической части для описания положения крепостных крестьян специально брались «отрицательные стороны», когда авторы «не скупились на темные краски». Это было нужно, чтобы «оттенить более рельефно то тяжелое положение, из которого волею Монарха было выведено русское крестьянство»245. Побочная тема вступления – крайне негативные оценки дворянства, в адрес которого звучали эпитеты «малокультурное», «малообразованное» и т. п. Усилить эмоциональное воздействие и подкрепить словесные образы были призваны многочисленные иллюстрации, продолжавшие дописывать темный образ крепостнической эпохи. С одной стороны, здесь мы видим исключительно сцены тяжелого крестьянского труда, нечеловеческих издевательств помещиков над подданными, страшных пыток, с другой – сцены из роскошной жизни развращенного барства.
Своеобразным итогом «мемориального» этапа в формировании образа крестьянского вопроса и одновременно солидным плодом историографической рефлексии на новом уровне стала шеститомная «Великая реформа», подготовленная к пятидесятилетнему юбилею манифеста. Примеры использования этого издания в качестве репрезентанта историографической ситуации известны246. Даже в советской историографии оно воспринималось как наиболее серьезное среди юбилейного потока «различной низкопробной литературы»247. Масштабность роскошного иллюстрированного проекта (к его осуществлению был привлечен широкий круг признанных авторов) и тематический охват демонстрировали преемственность по отношению к крестьянской проблеме в широком смысле понятия, а также появление новых черт образа.
Уже вступительная редакционная статья дала основания подтвердить предварительную историографическую периодизацию и влияние на нее «внешнего» фактора. Точкой, завершавшей «мемориальный» и начинавшей научно-критический, собственно историографический период, здесь стала революция 1905 года. Она «освободила реформу 1861 года от той роли, которую заставлял ее играть в процессе роста нашего политического общественного сознания политический идеализм»248. Это освобождение, ни в коей мере не умалявшее важности события, могло предоставить возможности для настоящего понимания значения реформы и для научного изучения вынесенной в заголовок проблемы: «Русское общество и крестьянский вопрос в прошлом и настоящем».
Историография начиналась с упоминания работы И. Д. Беляева «Крестьяне на Руси»249, впервые опубликованной в славянофильской «Русской беседе» в 1859 году250. Именно Беляева авторы предисловия называли пионером в изучении крестьянства и основателем юридической, или указной, теории происхождения крепостного права в России. В то же время довольно пространно толковались основы дискуссии между «юристами» и В. О. Ключевским вместе с его последователями, которые происхождение крепостного права передвинули из государственной в сферу частноправовых отношений251. Тем самым проблема генезиса крепостного права органично включалась в исследование крестьянского вопроса. Непосредственно причастным к изучению истории крестьян считался и А. В. Романович-Славатинский со своим «Дворянством в России». Таким образом, дворянская составляющая, несмотря на тенденции к предвзятому освещению истории этого сословия, не выпадала из крестьянского вопроса.
В контексте моей темы особенно важно присутствие в «Великой реформе» «украинских» материалов. Уже в историографическом сюжете редакционной статьи были отмечены достижения в разработке истории крепостного права и крестьянства Малороссии в трудах А. М. Лазаревского, В. А. Мякотина, В. А. Барвинского. Таким путем фактически закреплялось выделение этого потока из общероссийского историографического контекста, а также была заложена традиция начинать историю проблемы с исследований именно этих авторов.
В основной части крестьянский вопрос в украинских регионах был представлен исследованиями Н. П. Василенко252, в которых, с одной стороны, подчеркивался пока недостаточный уровень разработки истории крестьянства, крепостного права, с другой – подытоживалось сделанное. Правда, здесь историк несколько повторялся, ведь по этому поводу он уже высказывался, и неоднократно. В частности, в 1894 году он не только назвал Лазаревского лидером одного из направлений в изучении истории Малороссии, но и предложил, хотя и краткую, историографию крестьянского вопроса в регионе253. Еще раз на эту тему Василенко писал в 1903 году – в мемориальном очерке памяти Лазаревского и в 1908‐м – в предисловии ко второму изданию работы последнего «Малороссийские посполитые крестьяне»254. Будущий академик не только охарактеризовал значение трудов Лазаревского для изучения слабо разработанной истории Украины в целом и «двух главнейших малорусских сословий»255, подчеркивая высокую научную ценность этих исследований, но и проанализировал позиции по вопросу о генезисе крепостного права в Малороссии, занимаемые А. Ф. Кистяковским, Н. И. Костомаровым, И. В. Теличенко, А. П. Шликевичем, В. А. Мякотиным, И. В. Лучицким, даже Г. Ф. Карповым, что снимает необходимость подробно останавливаться на этом. Обращу внимание лишь на несколько моментов, важных в контексте формирования историографических стереотипов.
Историки второй половины XIX – начала XX века, рассматривая историю Левобережной Украины как составляющую общероссийской и одновременно неустанно подчеркивая ее социально-экономическую, социально-правовую специфику, в вопросе происхождения крепостного права не имели единодушия. Здесь фактически сложилась ситуация, несколько подобная той, что имела место в русской историографии с ее дискуссией на эту тему. В 1862 году А. Ф. Кистяковский высказал мнение, согласно которому крепостное право в крае вполне естественно вытекало из особых, искаженных украинских общественных отношений, возникших вследствие событий середины XVII века. Российскому же правительству оставалось только утвердить существующее в реалиях, что и было сделано указом от 3 мая 1783 года. Независимо от Кистяковского, в первом издании «Малороссийских посполитых крестьян» (1866) эту концепцию на широком материале проиллюстрировал Лазаревский. Со временем ее развили Мякотин и Барвинский. Василенко же закрепил данную точку зрения в историографии, а также настаивал, говоря о Лазаревском, что она «должна быть признана единственно правильной в научном отношении». К тем же, чьи позиции соответственно оказывались «ненаучными», причислялись сторонники «указной» теории, по которой решающая роль во введении крепостного права принадлежала центральному правительству. Первенство здесь отводилось Костомарову, который в «Мазепе и мазепинцах» высказался по этому поводу «наиболее полно и решительно», и его последователям, Шликевичу и Теличенко256.
Костомаров, которому Василенко отдавал лидерство в исследовании «внешней» истории Украины, ее громких, героических страниц и персоналий, специально крестьянский вопрос не исследовал, но касался его неоднократно – в связи с историей не только Гетманщины, но и предыдущего периода. В контексте «обвинений» со стороны Василенко обращу внимание на позицию Костомарова относительно роли Люблинской унии в закрепощении Польшей украинских крестьян. Полемизируя с Н. Д. Иванишевым и М. В. Юзефовичем в рецензии на книгу «Архива Юго-Западной России»257, посвященную постановлениям дворянских провинциальных сеймиков, он высказал довольно нетипичное для тогдашнего украинского историка мнение – что закрепощение на украинских землях было следствием не «внешнего» вмешательства, связанного с поляками, а внутренних отношений, в том числе действий местной социальной верхушки еще в литовские времена258. (Кстати, о глубокой укорененности крепостного права в Малороссии писал и Г. Ф. Карпов259.) Фактически Костомаров здесь сближался с позициями Лазаревского, только по поводу другого времени. Интересно, что в отношении литовско-польского периода сам Василенко придерживался «указной» концепции и связывал распространение крепостного права в Украине с Люблинской унией. А в Левобережной Малороссии прикрепление крестьян стало «результатом всего хода внутренней жизни». Указ от 3 мая 1783 года только юридически оформил этот процесс260.
Относительно А. П. Шликевича и И. В. Теличенко отмечу, что их позиции так и остались на долгое время маргинальными в украинской историографии. Возможно, рассуждения Василенко сыграли здесь не последнюю роль. Во всяком случае, в его текстах из «Великой реформы» фамилии этих историков не упоминались. И если Теличенко, благодаря целому ряду работ, забыт не был, то Шликевич фактически ушел в историографическое небытие. Идейный пафос его позиции касательно указа от 3 мая 1783 года актуализируется разве что в современном общественном дискурсе и неонароднической историографии – как негативное, даже враждебное, отношение части моих соотечественников к Екатерине II, с которой и связывают закрепощение миллионов украинских крестьян. Лазаревский же и сейчас остается «одним из лучших знатоков гетманской Малороссии», таким, с чьей смертью, как писал Василенко, «в малорусской историографии образовался пробел, который, трудно даже представить, когда будет заполнен»261. Показательно также, что, усиливая выставленные высокие оценки историку Гетманщины, Василенко солидаризировался и с мнением В. А. Мякотина о состоянии разработки «внутренней», социальной истории, представлявшейся «темным лабиринтом запутанных вопросов», из которых лишь незначительная часть решена в литературе, бóльшая же – едва поставлена262.
Замечу, что, несмотря на определенные достижения, неразработанной осталась и проблема, выдвинутая Лазаревским на заседании Общества Нестора-летописца, которое было посвящено сорокалетию Крестьянской реформы, и имеющая особую значимость в контексте данной книги, – история освобождения крестьян от крепостной зависимости263. Ученый предложил для коллективной работы программу, в которой первой из трех стояла задача исследовать деятельность губернских комитетов по обустройству быта крепостных крестьян. Последняя «хотя и не имела практических результатов, но <…> важна для истории в том отношении, что в ней выразилось отношение помещиков к вопросу»264.
Итак, Лазаревский фактически первым из украинских историков поставил в научной плоскости проблему «дворянство и крестьянский вопрос». Насколько далека от ее решения была в тот момент украинская историография, свидетельствует перечень сформулированных источниковедческих задач, среди которых и составление библиографического указателя «для отметки в нем всех печатных источников как для истории крестьян вообще, так и [для] их истории освобождения в частности»265. Как видим, здесь крестьянский вопрос, по сравнению с «программой» В. И. Межова, понимался значительно у́же. Но даже определенный Лазаревским объем задач выполнен не был. В 1912 году Н. П. Василенко на заседании Общества Нестора-летописца фактически одним из первых представил краткую историю реформы 1861 года в Черниговской и Полтавской губерниях266. В том же году П. Я. Дорошенко, хотя и написал наиболее обширный на тот момент очерк истории крепостного права и Крестьянской реформы в Черниговской губернии, сознательно себя ограничил: «Я не имею времени останавливаться на весьма интересных частностях работ Черниговского Комитета; это может служить задачей специального исследования»267. По сути, она остается нереализованной до сих пор.
Достаточно высокий уровень историографической рефлексии составителей «Великой реформы» подтверждает также фиксация слабо разработанных или обойденных исследовательским вниманием сюжетов. Это может рассматриваться как своеобразная постановка задач на будущее. К неосвещенным темам относились характер крепостного права, помещичье хозяйство XVII века, петровская эпоха в истории крепостного права, история крестьянства XIX века, в том числе государственных крестьян. Отмечалась и потребность более широкого использования уже опубликованных источников, разработки материалов частных архивов, необходимость изучения каждого помещичьего хозяйства отдельно, без чего невозможно воссоздать полную картину экономического развития страны накануне 1861 года. В то же время высказывалось одобрение в адрес работы В. И. Семевского, в которой «с исчерпывающей полнотою изучено отношение русского общества к крепостному праву»268, т. е., если учесть замечания Ключевского относительно ограниченности подхода Семевского, фактически можно говорить о внимании только к одному из аспектов крестьянского вопроса. Безусловно, специфика юбилейного издания исключала перенасыщение статей дискуссиями с возможными оппонентами, перегрузку справочным аппаратом, отсылками к предшественникам, что позволяет представить не источниковую основу в полной мере, а лишь частично уровень осведомленности авторов с литературой и т. п. Однако в данном случае это не так важно. Главное – чтó именно закрепилось из предшествующей традиции и какие новые идейные и сюжетные доминанты появились.
Содержащиеся в шести томах статьи показывают и осознание историками единства дворянско-крестьянского дела269, и значительное внимание к исторической составляющей крестьянского вопроса, и включение в него проблем не только крепостных, но и других категорий крестьян, военных поселян, и наличие традиционных тем – крестьянский быт, повинности, крестьянское движение. Одновременно здесь появились и сюжеты, которых, разумеется, не стоит искать в указателе Межова, – «масонство и крепостное право», «декабристы и крестьянский вопрос», «петрашевцы и крестьянский вопрос». В четвертом томе хотя и продолжалось рассмотрение того, как крестьянский вопрос осваивался литературно-художественными средствами, но подавляющее большинство работ было посвящено критическому, сатирическому отражению крепостнических «реалий»270 в произведениях Т. Г. Шевченко, Н. А. Некрасова, М. Е. Салтыкова-Щедрина, Н. Г. Чернышевского, в «Колоколе» А. И. Герцена. Воспоминания также преимущественно касались «темных» эпизодов. «Персонологическая» часть пятого тома фактически канонизировала ряд реформаторов, среди которых, кроме сановных лиц, нашлось место только для «прогрессивных» деятелей – Я. А. Соловьева, Н. А. Милютина, Н. П. Семенова, Ю. Ф. Самарина, К. Д. Кавелина, П. П. Семенова-Тян-Шанского, В. А. Черкасского. Был определен и круг «крепостников», куда попали и те, кто непосредственно «мешал» бюрократам-реформаторам, и «противники» идеи аболиционизма – от А. Т. Болотова и П. И. Рычкова до Д. П. Трощинского и В. Н. Каразина вместе с большинством дворянства271.
Очевидно, это стало результатом утверждения взгляда на дворянство как на предателей «народных начал», как на врагов народа, – взгляда, который, по мнению Ключевского, еще в середине XIX века был лишь одним из альтернативных. Теперь же дворянство воспринималось в качестве «нароста на народном теле, вредного в практическом отношении и бесполезного в научном»272. Такой подход, считал историк, содержал в себе много погрешностей, и прежде всего физиологическую: «Нарост, хотя и нарост, остается органической частью живого существа, которая принимает участие в жизни организма, и даже иногда более сильное, чем нормальная часть организма»273.
По мнению Ключевского, эта «аристофобия» именно на рубеже XIX–XX веков и привела к свержению еще недавних авторитетов с пьедестала. В частности, это ярко проявилось в случае с Н. М. Карамзиным: широкое празднование его столетнего юбилея подтолкнуло «либерально-демократическую» общественность «обличать», «видеть в нем не деятеля русской культуры прошедшей эпохи, а живого представителя враждебного лагеря», как писал Ю. М. Лотман, достаточно точно раскрывая механизм «либерального» мышления в исторической науке. Тот механизм, для которого характерно не стремление понять позицию персонажа прошлых эпох, а отношение к нему как к ученику, отвечающему на поставленные вопросы и получающему удовлетворительную или неудовлетворительную оценку – в зависимости от совпадения ответа с ожиданиями со стороны историка-учителя. Печальным, но характерным примером такого подхода Лотман считал анализ общественно-литературной позиции Карамзина известным историком литературы А. Н. Пыпиным в монографии «Общественное движение в России при Александре I» (1908): «Обычно академически объективный Пыпин излагает воззрения Карамзина с такой очевидной тенденциозностью, что делается просто непонятно, каким образом этот лукавый реакционер, прикрывавший сентиментальными фразами душу крепостника, презирающего народ, сумел ввести в заблуждение целое поколение передовых литераторов, видевших в нем своего рода моральный эталон»274.
На страницах «Великой реформы» подобную оценку Карамзину, во взглядах которого «в конечном итоге отлились идеалы крепостнической части общества», дал М. В. Довнар-Запольский: «…сентиментальная идиллия в теории, в литературных произведениях и жестокая действительность на практике в связи с настойчивой защитой сохранения этого института (крепостного права. – Т. Л.)»275. Такие историографические метаморфозы произошли не только с Карамзиным.
Если же сравнить провозглашенные в предисловии к «Великой реформе» (в качестве еще не решенных) задачи и «программу» Межова, можно увидеть, что постановка проблемы во всей «прижизненной» полноте в юбилейном издании не просматривается, хотя ряд содержательных черт предыдущего образа крестьянского вопроса и сохранился. Кажется, сам Межов своим выделением «собственно крестьянского вопроса» фактически направил дальнейшие исследования в определенное русло – к обсуждению проблемы ликвидации крепостного права. Отношения к крестьянскому вопросу в широком и узком смысле как к целостности, несмотря на его достаточно сложную и дифференцированную структуру, в дальнейшем не наблюдается. Он как будто распался на отдельные составляющие, каждая из которых будет включаться в различные проблемно-тематические контексты.
Исчезла и характерная для «прижизненного» периода дискуссионность276, появилось определенное единообразие в оценках крепостного права, результатов Крестьянской реформы, действий правительства, роли представителей различных идейных платформ. Если в «прижизненной» фазе сосуществовали и критика, и апологетика крепостного права, на страницах печатных изданий высказывались как те, кто выбирал темные краски, так и сторонники ярких цветов, то «Великая реформа» уже «отказывала» не только апологетам, но и тем, кто пытался посмотреть на дореформенный период как на вполне нормальное время с точки зрения экономического развития общества. Например, П. Б. Струве, акцентировавший экономическую состоятельность крепостнической системы до реформы 1861 года включительно, хотя и упоминался во вступительной статье к первому тому, но с критическими замечаниями, пока не слишком жесткими, за создание не совсем точной картины хозяйства России XIX века277.
Итак, как видим, «нормальности» дореформенной эпохи уже забылись, «эксцентричности» же закрепились, и признаки сна, о котором говорил Ключевский, превратившись в новый канон, почти полностью переходили в следующий собственно историографический период. В связи с этим не удержусь от одного замечания. Сегодня историки считают хорошим тоном размахивать антисоветской историографической дубинкой, часто забывая, что советская историография во многом оказалась весьма чувствительна к своим предшественникам. Однозначная и слишком обобщающая критика крепостного права, беспредельное возложение опалы на дворянство, жесткая идеологическая заданность позиций тех или иных деятелей, ведущая роль революционно-демократического направления в освободительном движении, даже крестьянское движение, влияние западноевропейского Просвещения и экономических идей как главные причины постановки и решения крестьянского вопроса не были полностью выдумкой советской историографии, которой навязывают все родовые пятна отечественной исторической науки. Когда, например, современный российский исследователь П. В. Акульшин пишет, что с 1930‐х годов утвердилось мнение об А. Т. Болотове как о жестоком помещике-крепостнике278, хочется напомнить, что такой образ уже был начертан М. В. Довнар-Запольским в «Великой реформе». Советские же историки лишь придали ему несколько карикатурных черт мелкого трусливого вымогателя. Иными словами, в оценках крестьянского вопроса в широком смысле понятия советская историография сохраняла преемственность с предыдущим периодом. Разрыв же наметился на рубеже XIX–XX веков. А первый собственно историографический, т. е. научно-критический, период, который я определяю 1905‐м – концом 1920‐х годов, стал в значительной степени временем закрепления «уроков» «мемориальной» фазы формирования образа явления, а также началом его серьезной трансформации.
Этот историографический период носит переходный характер. Замечу, что с точки зрения логики познавательного процесса в конце XIX – начале XX века относительно крестьянского вопроса сложились все предпосылки для выхода его на уровень научно-исторического познания. Но коррективы вносила логика конкретики самой истории – ветер истории был сильнее, чем ветер историографии. Во время революции 1905–1907 годов и Столыпинской реформы интерес к крестьянскому вопросу резко возрастал279, то же наблюдалось и после 1917 года. Историографический итог в изучении проблемы был подведен и очерками украинских историков, свидетельствовавшими как о проблемно-тематическом распаде крестьянского вопроса и о приоритетности отдельных его составляющих, так и о начале размежевания либеральной народнической, украинской национальной, марксистской исторической науки, что осложнялось выделением «государственного» направления и так называемой диаспорной историографии.
Историками исторической науки уже много сказано об особенностях «сосуществования» историографий в этот период280, когда рядом со старыми возникали новые центры, сохранялось многообразие взглядов и подходов, когда, как писал Я. Д. Исаевич, даже после того, как сопротивление академиков было сломлено и Академию наук преобразовали во вполне зависимое от ЦК компартии учреждение, в ней оставались ученые, пытавшиеся культивировать старые академические традиции281. Поэтому отмечу лишь, что, независимо от идейных и методологических ориентаций историков, вопросам, которые поднимались, например, А. М. Лазаревским, В. А. Барвинским, В. А. Мякотиным в конце XIX – начале XX века, теперь оставалось все меньше места.
Современные украинские историки исторической науки определяют 1920‐е годы как период «настоящего взлета историографических исследований»282. А среди значительного объема такой продукции называют прежде всего работы Д. И. Дорошенко, Д. И. Багалея, О. Ю. Гермайзе. Следовательно, именно они в значительной степени представляют историко-историографическую ситуацию того времени, в том числе в вопросах сохранения научной преемственности, появления возможных разрывов, различий, изменения оценок наследия предшественников, расстановки акцентов. Уже в известной работе Дорошенко 1923 года Лазаревский, хотя и признавался «лучшим у нас знатоком старой Гетманщины», получил упреки за «как будто умышленное отыскание темных сторон ее жизни», за отсутствие «необходимой связи с целым общим ходом исторического процесса», за «односторонность освещения гетманского периода нашей истории, особенно в том, что касается отдельных его деятелей и вообще казацкой старшины»283.
Региональные штудии Лазаревского мало корреспондировали с только что выстраивавшимся украинским «большим нарративом», а его научные убеждения не соответствовали идеологии «государственной» историографии, хотя основной вывод историка относительно генезиса крепостного права был воспринят фактически без обсуждения.
«Большое оживление национальной украинской жизни», как писал Дорошенко, «потребность в синтетическом курсе украинской истории и вообще в популяризации сведений о прошлом родного края» – все это определяло новые приоритеты, среди которых, если судить по последним разделам «Обзора украинской историографии» («Огляд української історіографії»), крестьянский вопрос передвигался на второй план. Обобщая по регионально-хронологически-тематическому принципу результаты научной работы конца XIX века, в числе исследователей «внутренней жизни Левобережной Украины» Дорошенко назвал А. М. Лазаревского, Д. П. Миллера, О. И. Левицкого, И. В. Теличенко, И. В. Лучицкого, Н. В. Стороженко, Н. П. Василенко, В. А. Мякотина, неравномерно распределив между ними внимание. Анализируя же достижения украинской историографии первых десятилетий XX века, он отметил немного работ по истории хозяйства, социально-экономических отношений, различных социальных групп Левобережной Украины-Гетманщины, вспомнив Г. А. Максимовича и более продолжительно остановившись на нескольких ранних трудах М. Е. Слабченко и рецензиях на них Василенко. Показательно, что история XIX века вообще не попала в поле зрения Дорошенко.
В 1928 году Д. И. Багалей, чье первенство в создании обобщающих трудов по истории украинской исторической науки бесспорно284, в ряде подразделов «Историографического вступления» к «Очерку истории Украины на социально-экономической основе» («Нарис історії України на соціально-економічному ґрунті») не только дал общую оценку дореволюционной украинской историографии, но и подвел черту достижениям в исследовании отечественной истории за 1917–1927 годы. Среди ошибок старой историографии было названо недостаточное изучение истории Гетманщины. Вместе с тем отмечались «огромные последствия <…> которые здесь дал А. М. Лазаревский». Пренебрежение недавним прошлым («дальше Гетманщины историки Украины почти не шли») ученый объяснял существующими представлениями о конце украинской истории после ликвидации традиционных казацких структур. Основной же пробел дореволюционной исторической науки, по мнению Багалея, заключался в недооценке социально-экономического фактора. Достижения историков «народнической ориентации», понятно, не отрицались, но ошибочность их подходов в изучении «экономического благосостояния» украинского крестьянства, мещанства, казачества заключалась в выборе – в качестве «идеологической основы» исследований – национального, а не социально-экономического момента285.
Представив за «топографическим принципом» «общий библиографический обзор» работ пооктябрьского десятилетия, Багалей как достижение назвал интерес к новейшей истории Украины, «приспособление к трудам по украинской истории марксистской методы» и, перечислив целый ряд имен, в специальном подразделе «Марксистські праці з історії України» («Марксистские труды по истории Украины») дал довольно пространную характеристику творчества М. И. Яворского, М. Е. Слабченко, А. П. Оглоблина, О. Ю. Гермайзе, которые будто бы лучше разобрались в особенностях новой методологии. Однако если в этой работе для академика марксизм «выступал лишь одной из многих теорий исторического процесса, абстрактной схемой»286, то в последнем историографическом труде все было несколько иначе.
Непропорционально большое место, по мнению В. В. Кравченко, Багалей уделил работам Слабченко287. В контексте нашей темы именно это особенно важно. И не только потому, что перед нами одна из немногих сравнительно обширных рецензий на труды последнего, но и ввиду возможности представить позиции самого рецензента, которые вскоре испытают метаморфозы, отражая стремительные изменения историографической ситуации рубежа 1920–1930‐х годов. Пространно характеризуя «Матеріали до економічно-соціальної історії України XIX ст.», отмечая их пионерский характер, достоинства и слабые места, ценной чертой этого труда Багалей назвал фактическое содержание, достаточно органично связанное с марксистскими объяснениями и собственными выводами автора, к которым тот подходил осторожно, обосновывая их на фактах288. Показательно, что в этой «достаточно удачной попытке новейшей украинской истории в отдельных очерках и вопросах (выделено автором цитаты. – Т. Л.)» наибольшее удовлетворение рецензента вызвали разделы, посвященные событиям Крестьянской реформы. Багалей воспринял и мнение об определяющем, поворотном характере акта 19 февраля 1861 года в социально-экономической истории Украины, и авторский подход к освещению эволюции реформы «как со стороны помещичьего, так и со стороны крестьянского землевладения (курсив мой. – Т. Л.)»289.
С точки зрения историографической преемственности важно отметить, что одесский профессор в этом произведении Багалея представлен не только как исследователь Новейшей истории Украины, смело взявшийся за малоразработанное поле истории XIX века. По количеству работ и по «научной энергии» он представлен как, в сущности, продолжатель А. М. Лазаревского, как «главный исследователь истории Левобережной Украины», «большой эрудит и знаток печатных источников по истории Гетманщины»290, синтезировавший накопленное в области экономической, социальной истории. В «Историографическом вступлении» («Iсторіографічний вступ») Багалей назвал и значительный круг имен, в том числе «старых» историков – И. А. Линниченко, Н. Ф. Сумцова, Г. А. Максимовича и др. Их уже не будут упоминать молодые коллеги академика, историографические работы которых демонстрируют начало разрыва между «старой» историографией и новыми направлениями украинской исторической науки в исследовании социальной истории.
В 1929 году коротко подытожил достижения украинской исторической науки за десятилетие О. Ю. Гермайзе. По мнению Багалея, его марксистские взгляды были очень выразительными и здесь он уступал только М. И. Яворскому291. Гермайзе уделил значительное внимание идейно-организационному переформатированию украинской исторической науки. Основные доминанты, определявшие его взгляд, – проявление учеными «новых интересов», а именно отношение к украинскому движению292 и к «идее материалистической социологии». Важным был и языковой фактор. Эти критерии оставляли без внимания «направление А. М. Лазаревского». Подчеркнув, что «эпоха частных героических усилий одиноких исследователей и общественной инициативы небольших кружков навеки умерла вместе с победой революции», и приветствуя приход «эпохи организованного, планируемого государством и им поддерживаемого труда», Гермайзе, как и Багалей293, кратко остановился на институциональных сдвигах, в первую очередь – новых, поскольку, по его мнению, университеты не откликнулись на вызовы времени294, а также на отдельных направлениях, среди которых новым считал интерес к общественным и революционным движениям, экономической истории, особенно XIX века.
К сожалению, краткий очерк не позволяет понять, насколько в указанных отраслях были представлены проблемы крестьянского вопроса. Но важно, что Гермайзе остановился на работах М. Е. Слабченко, свидетельствовавших о растущем интересе к экономической истории XIX века. Однако, оценивая грандиозность поставленной тем задачи – «дать экономическую историю Украины за последние 300–400 лет», взяться «за освещение почти неразработанной истории XIX века», – Гермайзе подчеркнул лишь начальный характер работ профессора, которые тогда могли только «удовлетворить жгучую потребность у нас иметь курс социально-экономической истории нового времени, а не быть попыткой полного исследования экономической истории Украины»295. Еще одной новацией 1920‐х годов Гермайзе считал переход украинских историков на марксистские позиции. Причем он довольно четко указал и на момент перехода, и на влияние «внешнего» фактора – государства, начавшего формулировать заказ: «Только во вторую половину этого десятилетия, когда утихла понемногу буря социального соревнования и советское государство получило возможность больше внимания уделить культурному фронту и научной работе, началась систематическая и более организованная работа украинских историков. За это время все же только положены основы, расчищены пути, поставлены задачи»296.
Какими виделись эти задачи в изучении крестьянского вопроса, позволяет понять опубликованная также в 1929 году статья С. В. Глушко297, который вместе с Гермайзе занимался организационной работой по обеспечению деятельности исторической секции Всеукраинской академии наук, трудился на Научно-исследовательской кафедре М. С. Грушевского и вскоре подвергся репрессиям298. Эта статья является, по сути, первым специальным очерком историографии крестьянского вопроса и дает возможность конкретнее представить изменение его проблемно-тематического и регионально-хронологического измерений.
В историографическом обзоре, скорее похожем на библиографический, Глушко остановился «только на главнейших трудах (курсив автора цитаты. – Т. Л.)». При этом дореформенный период оказался почти обойден вниманием. Из нескольких посвященных ему статей, все же попавших в поле зрения историографа, практически ни одна не касалась Левобережной Украины-Малороссии, поскольку исследования Г. Дьякова, А. Назарца, О. Багалей-Татариновой, указанные в обзоре как работы по крестьянскому вопросу этого региона, были написаны на материалах Слобожанщины. Среди авторов обобщающих трудов по истории XIX века Глушко без каких-либо содержательных и оценочных характеристик назвал только М. Слабченко и М. Яворского. Поэтому в прагматичном плане очерк Глушко мало что дает исследователю Левобережья конца XVIII – первой половины XIX века. Но отбор статей по истории крестьянского вопроса других регионов и периодов показывает, чтó было этим главнейшим, какие черты образа крестьянского вопроса затушевывались, а какие подчеркивались и утверждались в украинской советской историографии.
Прояснению этого служит и авторское определение основного понятия – «крестьянский вопрос», – с чем чрезвычайно редко приходится встречаться. К тому же Глушко не только непосредственно обратился к историографическому анализу «разных течений в украинской научной литературе», но и намеренно, по его признанию, остановился на характеристике социально-экономического и политико-правового положения крестьян после реформы 1861 года. Этот обширный, как для историографической работы, сюжет, где довольно схематично и упрощенно описано пореформенное украинское крестьянство, был привлечен для демонстрации сюжетно-тематических новаций последних десяти лет: главное внимание историков остановилось на экономическом состоянии крестьянства299. Таким образом, Глушко четко зафиксировал изменения в структуре крестьянского вопроса. Авторской же дефиницией в самом начале статьи была определена еще одна приоритетная его составляющая: «Под крестьянским вопросом надо понимать весь тот комплекс социально-экономических и политических притязаний, которые ставили широкие массы сельского населения перед властвующими сословиями, для обеспечения нормальных условий своего существования, а также весь этот процесс неустанной, систематической борьбы за реализацию тех притязаний»300.
Итак, если на «прижизненном» этапе формирования историографического образа улучшение положения крестьян определялось в первую очередь как дело правительства и дворянства, а в «мемориальной» фазе – «демократов» (А. Герцен, Н. Чернышевский и др.), то историки 1920‐х годов считали это делом самих угнетенных. Очевидно, реальное масштабное подключение больших масс крестьян к конкретному решению аграрного вопроса, особенно в годы революции и Гражданской войны, не могло не быть перенесено на исторические исследования. В то же время важно отметить, что из‐за направления проблемы в такое русло исключалось осознание единства крестьянского и дворянского, крестьянско-помещичьего вопроса. Широкий спектр социальных отношений переводился в конфронтационную плоскость, поскольку «давней мечтой» крестьянства, извечным стремлением, представлялось «уничтожение господина и раздел его земли»301.
К концу первого историографического периода, который начался бурей 1905 года и завершился, как считал О. Гермайзе, ее успокоением в середине 1920‐х годов, фокус исследовательского внимания явно переместился в сторону истории крестьянства, и преимущественно истории крестьянских движений, форм эксплуатации, форм классовой борьбы. На периферию внимания уходили сюжеты, связанные с усилиями правительства развязать сложный социальный узел, реформа 1861 года из «Великой» превращалась в «так называемую великую» и оценивалась как ничего крестьянам не давшая, а только поставившая крестьянскую проблему «во весь рост». Крестьянство же представлялось исключительно той категорией, что до революции 1917 года «постоянно находилась в Украине под гнетом господствующих сословий», была лишь объектом эксплуатации, почвой, «на которой буйным цветом росло благосостояние сначала дворянина-крепостника, а дальше, с изменением экономических условий, и буржуазии»302. Причем крестьянство изображалось без каких-либо региональных и групповых различий – как целостное сообщество, чья жизнь была просто невыносимой и только ухудшалась. Страдальческий, «лакримозный» образ украинского крестьянства прочно укоренился в историографии.
Глушко, хотя и не определял в качестве критерия отбора работ для анализа «партийную», марксистскую принадлежность авторов, фактически продемонстрировал и усвоение, и утверждение основных постулатов новой методологии. В марксистской же историографии, которая, по замечаниям Багалея и Гермайзе, во второй половине 1920‐х годов начинала доминировать в украинской исторической науке, предпочтение, при сохранении определенной степени преемственности в оценках, отдавалось лишь отдельным составляющим крестьянского вопроса – экономической истории крестьянства и его классовой борьбе для достижения «давней мечты». На обочине, как специальная, оставалась дворянская составляющая проблемы. Поэтому из поля зрения историографа выпали исследования П. Клепацкого, В. Дубровского, Е. Лазаревской и других, где осознание целостности проблемы еще сохранялось.
ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНО-ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИХ ДИСКУРСОВ КРЕСТЬЯНСКОГО ВОПРОСА
Второй историографический период – конец 1920‐х – конец 1980‐х годов – совпадает с советской эпохой. Именно здесь происходит разграничение во взглядах между советской и западной историографиями, т. е. становление двух противоположных метадискурсивных историографических практик. До конца 1920‐х историческая мысль России развивалась в едином европейском историографическом пространстве, еще сохранялись возможности для конструктивного диалога, «в науке имело место многообразие исторических взглядов, а также представлений о путях поисков исторической истины»303, еще не произошел распад на эмигрантскую и неэмигрантскую историографию, а «сменовеховская» альтернатива и на украинской, и на российской почве могла представляться как путь к соборности, во всяком случае историографической, интеллектуальной. Последующее развитие политических реалий создало, по сути, два неравнообъемных направления, потока.
Взгляды же на крестьянский вопрос у представителей разных историографий могли совпадать. Но принципиальные разногласия не давали возможности договориться. Например, в украинской диаспорной и в советской историографии восприятие крестьянства было почти одинаковым, в целом соответствуя духу народнической традиции. Поэтому для данного периода в качестве маркера могут выступать не столько методологические позиции, сколько принадлежность к тому или иному историографическому потоку. При этом внешний фактор остается доминантным и определяет водораздел в историографии проблемы. В таком смысле конец 1920‐х годов формально не отличается от конца 1980‐х. И все же в пределах периода можно выделить ряд этапов – в соответствии с динамикой идейно-политической ситуации в СССР.
Конец 1920‐х – первую половину 1940‐х годов можно условно назвать этапом сегрегации, геттизации («гетто» не в негативном смысле), поскольку именно в это время расхождения с ведущими тенденциями европейской науки получили логическое завершение в практически полной изоляции советской историографии от мировой304. В значительной степени это было связано и с утверждением новой методологии. С точки зрения «внешних» подходов данный этап, особенно рубеж 1920–1930‐х годов, может рассматриваться и как начало марксистской историографии не только в идейном, но и в функциональном смысле305. Отныне марксизм, одна из многих теорий исторического процесса, превратился, причем не столько в результате идейной борьбы, в единственно возможную теорию, с обязательным ее усвоением. Помимо прочих, важным фактором влияния на историографическую ситуацию, думаю, стала публикация первых собраний сочинений Ленина, Г. В. Плеханова, появление лемковского издания произведений А. И. Герцена. Рубежным годом для отечественной исторической науки считается 1929‐й, год первой Всесоюзной конференции историков-марксистов, на которой «…общий с другими странами процесс развития исторического знания в СССР, в частности Украине… оказался прерван, был положен конец плюрализму мнений»306. Это не могло бы произойти без «внешних» толчков, перечислению которых уже уделено достаточно много внимания. Вмешательство партийных органов было вполне закономерно, если учесть распространение в исторической науке догматизма, вульгаризации, шаблонности мышления307.
Официальной доминантой исторического сознания в это время стало гиперкритическое отношение к дореволюционному прошлому, в том числе и историографическому. Советские историки должны были наглядно продемонстрировать, что российская история с древнейших времен вполне укладывается в марксистскую теорию социально-экономических формаций и вся пронизана классовой борьбой трудового народа с поработителями. Поэтому приоритетными направлениями становились социально-экономическая история и история революционного движения в России, которые должны были образовать идеологический каркас «новой» исторической науки308. Акцентируя на этом внимание, историки-марксисты таким образом отодвигали в тень целый ряд ключевых тем российской истории. Началось замалчивание истории нобилитета. Марксистский режим, по словам Э. Глисона, был «изначально не расположен уделять много внимания политической истории побежденного класса»309. Политическая история приобретала гротескный характер, либерализм подвергался осмеиванию. Даже любимые темы, связанные с историей рабочего класса, крестьянства, революционного движения, так идеализировались, что обычно искривлялась сама сущность исторического явления310.
Перед украинскими историками в условиях централизованного планирования научно-исследовательской работы возникла необходимость тематической переориентации, отказа от исследования целого ряда проблем, встала задача вписывания отечественной истории в «своеобразие» российского прошлого в соответствии с концепциями, разработанными ведущими «официальными» историками. Например, специалисты по социально-экономической истории Украины, без оговорок о местной специфике, взяли на вооружение закрепленную в науке усилиями Б. Д. Грекова311 марксистскую концепцию генезиса и развития феодализма в России. Однако драматизм ситуации в украинской историографии заключался в глубоком разрыве с предыдущей историографической традицией, в потере преемственности, чему способствовало «идеологическое наступление против буржуазной идеологии», начатое в сентябре 1929 года Всеукраинским совещанием по делам науки312, что происходило не без участия «старых» авторитетных историков.
Достаточно яркая тому иллюстрация – труд Д. И. Багалея «Нарис (Очерк. – Примеч. ред.) української історіографії»313, в котором прозвучала и совсем иная характеристика А. М. Лазаревского. Хотя монография эта тогда не была опубликована и не могла непосредственно повлиять на дальнейший историографический процесс, она отражает и стремительные метаморфозы писаний самого Дмитрия Ивановича, отчетливо демонстрируя соответствие подобных метаморфоз изменениям в украинской историографии рубежа 1920–1930‐х годов. Багалей также фактически определил линии расхождения с дореволюционной, а полемизируя с М. С. Грушевским о наследии «признанного шефа историков Левобережья»314 – и с украинской национальной историографией. Писалось это, очевидно, не только под действием критики в адрес самого Багалея и не только с учетом кампании, развернутой против украинских историков. Главный труд Грушевского уже не мог удовлетворить Багалея именно из‐за построения концепции не на классовом, а «на национальном стержне»315. Достаточно большой раздел об Александре Лазаревском также можно считать вполне репрезентативным для того времени: академик критически отнесся, помимо прочего, к материалам семьи Лазаревских, изданным в 1927 году без учета «марксовской переоценки и источников, и представителей украинской историографии»316, равно как и к оценкам наследия самого историка Гетманщины в статье Грушевского, где Александр Матвеевич, вместе с Н. Костомаровым, П. Кулишом, В. Антоновичем, М. Драгомановым, И. Франко, был назван одним из крупнейших украинских историков317. Не соглашался Багалей и с выводом Грушевского о влиянии работ Лазаревского на углубление социально-экономических исследований: «Его труды не могли повлиять на исследования его последователей, хотя бы только потому, что у него самого социально-экономических исследований почти не было»318. И тут же наоборот: «Книга его („Малороссийские посполитые крестьяне“. – Т. Л.) до сих пор не потеряла своего значения и по своим материалам, и даже по некоторым выводам»319.
О каких выводах шла речь, трудно сказать. Ведь главный из них, о генезисе крепостного права, Багалей уже не поддерживал. Если раньше концепция Лазаревского относительно происхождения крепостного права казалась Багалею новой и верной320, то на рубеже 1920–1930‐х годов она уже «абсолютно не удовлетворяет, потому что здесь не сказано, что в России крепостничество появилось гораздо раньше пол[овины] XVII века»321. Итак, «схема образования крепостных отношений», предложенная Лазаревским, теперь воспринималась Багалеем как «слишком, так сказать, элементарная и на сегодняшний день полностью не удовлетворяющая, поскольку не имеет под собой твердой социальной базы, не раскрывая в основном ни роли украинской старшины, ни роли дворянского централизованного правительства»322.
В «Очерке» отрицалось и народничество Лазаревского, которому не прощалась свобода от политики, скептическое отношение «к национальным украинским организациям» (т. е. к «Старой громаде»), то, что он «резко выступал против национального пыла, пережитков национальной романтики», «сторонился сколько-нибудь ясной и наглядной увязки своих исторических исследований с теми общественными и политическими вопросами и движениями, которые волновали современное общество»323.
Отныне Лазаревский превратился в представителя дворянско-буржуазных украинских историков, «малоросса», «идеологически был связан с дворянством и буржуазией, которые поддерживали самодержавие». В исследованиях руководствовался якобы исключительно классовыми дворянскими интересами324.
Отличались у Багалея оценки наследия «главного историка Гетманщины» и в области истории элиты. Нарекания вызвала идеализация «украинского дворянства», признание «малороссийского дворянства» «почти единственной силой в обществе», «недопустимо широкие» рассказы «о всех его представителях», что объяснялось классовым дворянским подходом. Книгам Лазаревского не хватало «важнейшего для пролетарского читателя – …оценки исторических явлений со стороны пролетариата того времени и беднейшего крестьянства»325. При этом труды последователей «шефа» – В. А. Мякотина и В. А. Барвинского – были просто квалифицированы как «явно враждебные марксизму»326.
Итак, на рубеже 1920–1930‐х годов народническое направление исторической науки и ее безусловный лидер в исследовании Левобережной Украины приобрели новое историографическое качество. Они вписывались в суперсинкретичный поток украинской националистической историографии. Таким путем украинские советские историки не просто отказывались от наследия предшественников. В тех условиях маркировка, выставленная Лазаревскому и его направлению, фактически превращалась в клеймо, что автоматически выводило их из историографического оборота, образуя в нем пропасть и заставляя искать новые континуитеты. Трансформации историографического образа историка Гетманщины и поднятой им проблематики, в свою очередь, влияли и на изменения в структуре крестьянского вопроса.
Вместе с тем, несмотря на новые методологические предписания и необходимость работать в русле сталинской концепции истории, такой прерывности у российских историков, думаю, не произошло. Хотя советской историографии и была чужда сама мысль о научной преемственности, тем не менее еще многие десятилетия после революции, пока жили или имели возможность работать историки «старой формации», «традиция давала о себе знать, сказываясь в достаточно высоком профессионализме и общей культуре, в работах высокого научного уровня, в частности в области медиевистики»327. А. Я. Гуревич считал, что русская школа аграрной истории Средневековья, частично изменяя свои общие подходы и перестраивая исследовательскую методику, просуществовала до 1950–1960‐х годов328.
Не выпадали из обоймы достижений российских ученых и произведения их дореволюционных предшественников. В. О. Ключевский, один из трех «богатырей российской науки истории в XIX в.», «оставался неизменно популярным на протяжении почти всего следующего, XX столетия»329. М. М. Сафонов, анализируя курс лекций С. Б. Окуня по истории СССР, изданный в 1939 году и знаменовавший становление марксистской концепции внутренней политики российского правительства начала XIX века, также отметил не только опору историка на подходы М. Н. Покровского и А. Е. Преснякова, но и попытку «использовать всю сумму фактов, накопленных дореволюционными историками различных направлений»330. Б. Ю. Кагарлицкий вообще считает, что после разгрома «школы Покровского» советская историческая наука в основном вернулась к традиционным концепциям исследователей XIX века, лишь украсив их цитатами из Маркса, Ленина и Сталина331.
В значительной степени заслуга сохранения преемственности признается за Н. Л. Рубинштейном332, «Русская историография»333 которого и до сих пор удерживает статус одного из самых фундаментальных историко-историографических исследований. Книга, достойная «первого ряда историографической классики», была опубликована в 1941 году и стала первым общим курсом российской историографии, подготовленным в послеоктябрьский период334. Здесь было представлено творчество выдающихся российских историков – от В. Н. Татищева до Г. В. Плеханова, Н. А. Рожкова и многих других. Несмотря на резкую критику, развернувшуюся уже в конце 1940‐х годов, особенно во время кампании «по борьбе с космополитизмом», историографическая концепция Рубинштейна в целом закрепилась в советской исторической науке и нашла отражение в других историко-историографических трудах, в том числе и украинских авторов.
Учитывая историографическое значение титанического труда Н. Л. Рубинштейна, в контексте данной темы следует выделить ряд моментов: 1) концепции социально-экономической истории наиболее ярких выразителей «народнической», «буржуазной» историографии, в частности «либерально-народнического» направления, «буржуазного экономизма», «легального марксизма», «экономического материализма», не отождествлявшегося с марксизмом, были довольно основательно проанализированы; 2) поскольку проблемно-историографический принцип не был доминирующим, элементы крестьянского вопроса «растворились» в ходе анализа специфики того или иного течения, направления, школы; 3) работы В. И. Семевского и его школы по истории крестьянства и в то время сохраняли видное место в историографии вопроса; 4) не упоминая Ключевского, Рубинштейн фактически повторил его оценки наследия Семевского, добавив тезис об истории в конкретном развитии классовых противоречий; 5) линия историографической эволюции проблемы проводилась Рубинштейном от Семевского к его ученице И. И. Игнатович, которая, в отличие от учителя, отказалась от «общей постановки крестьянского вопроса» и в своих трудах перешла к истории крестьянства и крестьянских движений; 6) украинский историографический материал не попал в поле зрения Рубинштейна, специальный раздел, посвященный Н. И. Костомарову, касался преимущественно изучения им русской истории.
Итак, этот анализ не только суммировал, но и определял новые приоритеты. Главное – изучение идеологического аспекта крестьянского вопроса начиналось с В. И. Семевского. Полнота его трудов, как считал Рубинштейн, в значительной степени освобождала историка от «повторения проделанной автором работы, от обращения к использованным им источникам». Советским историкам оставалось только поставить проблему в контекст классовой борьбы, а анализ позиций авторов тех проектов решения крестьянского вопроса, что уже введены в оборот, провести с точки зрения классовых интересов и того практического смысла, который в эти проекты вкладывался. Историю идеи необходимо было рассматривать с точки зрения общественного движения335. Возражая против ограничения Семевским крестьянского вопроса проблемой эмансипации, Рубинштейн сам фактически «растворял» данный вопрос в истории крестьянства и истории общественной мысли, где приоритет оставался на стороне истории социальных движений. Такой подход и направил исследовательское внимание в указанное русло.
Украинские историки на этом этапе историографических трудов не писали. Как отмечал В. Г. Сарбей, ни Институт истории, ни Институт истории Украины не занимались специальной исследовательской работой в области историографии. Основные усилия этих учреждений были направлены на подготовку обобщающих работ по истории Украинской ССР336, к чему подталкивали и отказ от концепции М. С. Грушевского, и необходимость вписать украинскую историю в общегосударственный контекст. Поэтому, как выглядело восприятие наследия предшественников украинскими советскими специалистами по социально-экономической истории, можно представить на основе историографического вступления к монографии И. А. Гуржия, которая (вместе с работами Т. Журавлевой, А. Пономарева, Е. Черкасской, И. Шульги) знаменовала восстановление исследований социально-экономической истории дореформенной эпохи, но уже на следующем этапе, ограниченном с учетом историографической традиции серединой 1940‐х – серединой 1950‐х годов337. Современные историографы также отмечают, что именно с этого времени для украинской науки и культуры настали «особенно драматические дни». С постановлением ЦК компартии (большевиков) Украины от 1947 года «О политических ошибках и неудовлетворительной работе Института истории Украины Академии наук УССР» связывается очередной раунд «уничтожающей критики „старых“ работ» (т. е. обобщающих курсов, созданных К. Гуслистым, Н. Супруненко, Ф. Ястребовым, Н. Петровским и др.) и изъятие их из библиотек338.
Вместе с тем именно в послевоенный период советское руководство пыталось поддерживать положительный имидж страны. Истории здесь отводилась не последняя роль. Как считают историки, не только в условиях шовинистического разгула 1940‐х – начала 1950‐х годов, но и в последующем пропаганда беспокоилась о придании историческому облику Российской империи цивилизованно-европейского вида и привлекательных черт339. Россия теперь должна была восприниматься не как «тюрьма народов», а как «родина слонов». Побочным результатом этого стала возможность некоторой ревизии – «реабилитации» если не политики царской власти и господствующего сословия, то по крайней мере отдельных его представителей. Это позволило расширить круг «прогрессивных деятелей». Например, А. Т. Болотов уже трактовался не как ярый крепостник, а как естествоиспытатель, представитель передовой отечественной агрономической науки340. Смягчались и определения ряда общественно-политических направлений, в частности славянофильства, расширились возможности для работы в архивах и т. д.341 Итак, с конца 1940‐х годов, вопреки потрясению, которое в очередной раз перенесла историческая наука от борьбы с «безродными космополитами» и «буржуазными националистами»342, закладывались основы для изменения историографической ситуации в целом.
Докторская диссертация (1953) и монография (1954) И. А. Гуржия «Розклад феодально-кріпосницької системи в сільському господарстві України першої половини XIX ст.» («Разложение феодально-крепостнической системы в сельском хозяйстве Украины первой половины XIX в.») – этот труд выбивался из общего потока работ украинских историков того времени не только своей проблематикой, но и исключительно пространным историографическим очерком, который дает возможность понять направление историко-историографической мысли в украинской исторической науке. В конкретно-исторической части труда вернулся в научный оборот крестьянский вопрос, которому посвящен особый подраздел. Однако он фигурировал не как самостоятельная проблема, а как составляющая концепта кризиса и разложения феодально-крепостнической системы. Именно под таким углом зрения рассматривалась история дореформенного периода. История же крестьянского вопроса фактически отождествлялась с историей крестьянства343.
Гуржий подверг анализу наследие российских и украинских «буржуазных историков», ученых «из лагеря народников», и в первую очередь Семевского, оценивая его, хотя и без ссылки, по Н. Л. Рубинштейну. Были упомянуты и «легальные марксисты» – П. Б. Струве и М. И. Туган-Барановский, а также их последователи. Упреки им делались на основе ленинских статей, с неоднократным рефреном об ошибочном понимании процесса разложения феодально-крепостнической системы, недооценке решающего значения антикрепостнической борьбы. Но если русскую историографию Гуржий критиковал довольно спокойно, то в отношении украинской был непримирим, употребляя довольно резкие высказывания, оценки, характеристики. Весь удар приняли на себя за украинских историков М. Е. Слабченко и А. П. Оглоблин, которые «специализировались главным образом на фальсификации вопросов истории экономики»344. В историографическом очерке Гуржий совсем не упомянул А. М. Лазаревского и его последователей, хотя в работах, не имевших широкого историографического резонанса, иногда прямо ссылался на его труды, а также на некоторых других «буржуазных» историков345. Итак, новыми ориентирами для украинских ученых теперь стали работы П. И. Лященко, Н. М. Дружинина, С. Г. Струмилина, П. А. Хромова346. Изменяться такая ситуация будет только на следующем этапе – середина 1950‐х – начало 1970‐х годов, – когда начнет понемногу восстанавливаться связь с народнической историографией.
Выделение этого этапа, так же как и внеисториографические факторы, его определяющие, не требует объяснений. Об этом уже достаточно много сказано историками исторической науки. Напомню лишь, что во времена относительной либерализации научно-организационная зависимость украинских историков от Москвы, от «центра» не только не ослабела, но даже увеличилась347. Хотя этот период и определяется иногда как историографический «микроренессанс», все же, думаю, научные ориентиры украинских историков того времени формировались преимущественно не в результате осознания потребностей разработки тех или иных проблем отечественной истории, а партийными постановлениями, рекомендациями центральных академических институтов и «официальных» историков348. Поэтому, несмотря на попытки современных историографов выделить группу «непровластно настроенных историков в УССР», «фрондирующих украинских исследователей», «нонконформистов»349 (хотя это и вступает в противоречие с конкретными биографиями350), мы видим все более тесную корреляцию между научными результатами украинских ученых и «указаниями» сверху. Более того, создается впечатление, что украинская историография прочно закрепилась в фарватере российской, все больше превращаясь в провинциальную. Украинские историки уже не ставили самостоятельных исследовательских задач, хотя бы в виде создания новых обобщающих курсов, а только успевали реагировать на критику и отвечать на столичные научные инициативы, подбирая местный материал для иллюстрации тех или иных концепций общегосударственного значения.
Историографическим началом этого этапа можно считать две статьи-передовицы, важные в контексте данной темы, которые появились в 1955 году в «Вопросах истории». Ими, с одной стороны, подводился итог уже сделанному в области истории украинского народа и истории общественной мысли, а с другой – представлялось ви́дение перспектив дальнейших исследований. Констатации и установки подобных статей воспринимались как ориентир и руководство к действию.
Статья-призыв «За глубокое научное изучение истории украинского народа»351 фактически стала первым после длительного перерыва осмыслением состояния развития украинской исторической науки. Настойчивое подчеркивание «слабостей» украинской советской историографии было призвано изменить ситуацию. В данном контексте важными представляются нарекания по поводу невысокого уровня историографической проработки исследований, по поводу невнимания к источникам (в том числе и опубликованным) и отсутствия их критических обзоров352. По сути, прозвучал призыв, наряду с углублением критики буржуазно-националистической историографии, восстанавливать преемственность и прекращать практику игнорирования работ Н. И. Костомарова, В. Б. Антоновича, Д. И. Багалея, А. Я. Ефименко, А. М. Лазаревского, М. А. Максимовича. В перечне приоритетных сюжетов крестьянский вопрос в этой «передовице» не назывался, очевидно частично растворившись в важной для изучения социально-экономической истории Украины.
Украинские историки оказались весьма чувствительными и к тематическим определениям, и к советам ликвидировать элементы перестраховки, продемонстрировать настоящую научную смелость. «Передовица» обсуждалась на заседании Ученого совета Института истории 17 октября 1955 года, по результатам чего была подготовлена подробная информация о принятых мерах и планах отделов Института. Несколько позже появились рекомендации со стороны координационной комиссии по истории при Академии наук Украинской ССР (АН УССР)353. Результатом этого стали статьи в основанном в 1957 году издании «Український історичний журнал», монографии об историках, в том числе и о Лазаревском, где он снова определялся как «выдающийся»354, обобщающие работы по украинской историографии, а также ряд конкретно-исторических исследований, в первую очередь по предложенной «центром» проблематике.
Передовица девятого номера «Вопросов истории» за тот же 1955 год355, которую историки исторической науки считают этапной вехой развития советской историографии отечественной общественно-политической мысли и одновременно отправной точкой ее «оттепелевых» трансформаций356, была посвящена анализу состояния разработки истории общественной мысли. Подытоживая достижения, здесь отмечали рост интереса к этому направлению в целом, плодотворную работу по изданию источников, в частности произведений Н. Г. Чернышевского, В. Г. Белинского, А. И. Герцена, Н. А. Добролюбова, очередных томов материалов серии «Восстание декабристов», завершение третьего тома «Дела петрашевцев». В то же время много места уделялось анализу недостатков и начертанию программы дальнейших исследований. В перечне наиболее актуальных тем-задач близких к проблемам данной книги не оказалось, поскольку история общественной мысли приводилась в жесткое соответствие ленинской схеме русского освободительного движения. Но важно отметить, что в данном случае все же шла речь о необходимости глубокого исследования взглядов не только выдающихся «прогрессивных» русских мыслителей, но и менее известных представителей общественной мысли различных идейных течений, в том числе «консервативной и реакционной идеологий». Хотя это и было нужно лишь для раскрытия их «негативной сущности», все же увеличивались возможности смягчения оценок, расширения тематического, персонологического спектра.
Программные статьи и дискуссии, разворачивавшиеся на страницах официальных профессиональных изданий, также были призваны направить историографическое движение в правильное русло. Причем, с одной стороны, наблюдалось оформление определенного полемического поля, многообразие подходов к трактовке целого ряда проблем социально-экономической истории, в частности представителями «нового направления»357, звучали призывы к научности, объективности, историзму358, а с другой – настойчивыми напоминаниями придерживаться ленинской концепции исторического развития России жестко указывался «единственно верный» ракурс научных исследований.
В разработке истории дореформенной эпохи ведущими, главными были уже утвержденная ранее проблема кризиса, разложения феодально-крепостнической системы, а равно и генезиса капиталистических отношений, и концепция «революционной ситуации». В подготовленном Институтом истории АН УССР и вышедшем в 1958 году труде «Основні проблеми розвитку (развития. – Примеч. ред.) історичної науки в Українській РСР» впервые были осуществлены масштабное планирование и широкая координация научной работы в республике359. Одним из трех важнейших направлений в области истории феодализма, требующих немедленных исследовательских усилий украинских ученых, называлось разложение феодально-крепостнической системы и развитие капиталистических отношений в Украине во второй половине XVIII – первой половине XIX века360. Интерес к этому периоду объяснялся, кроме наличия источниковой базы, принятой датировкой процесса генезиса капитализма361. Причем с конца 1950‐х – начала 1960‐х годов внимание историков с проблем возникновения мануфактурной промышленности, первоначального накопления капитала, формирования пролетариата, развития всероссийского рынка переключилось на аграрный аспект, на исследование социально-экономических отношений на селе362.
Этому способствовала работа созданной еще в 1950 году при Институте истории АН СССР Комиссии по истории земледелия, издававшей «Материалы по истории земледелия СССР», «Материалы по истории сельского хозяйства и крестьянства», а также деятельность симпозиумов по аграрной истории Восточной Европы, где началась реальная дискуссия и определялись главные проблемы, требующие коллективного внимания историков-аграрников363. Крупным историографическим событием стало начатое в 1959 году издание многотомного труда под редакцией Н. М. Дружинина – «Крестьянское движение в России в XIX – начале XX века». В течение 1959–1968 годов вышло десять томов этой «дружининской» документальной серии364. Привлекали внимание к аграрной проблематике и дискуссии конца 1950‐х – начала 1960‐х годов по проблеме расслоения крестьянства, разложения феодализма и генезиса капитализма365. Но, несмотря на разворот в сторону аграрной составляющей проблемы кризиса и разложения крепостнической системы, аграрные отношения исследовались гораздо меньше, «практически их целостная характеристика содержалась лишь в учебной литературе и в общих курсах. <…> Специально изучались главным образом классовая борьба и освоение окраин страны»366.
Ленинская концепция «революционной ситуации» начала активно внедряться исследовательской группой, созданной в 1958 году при Институте истории АН СССР под руководством академика М. В. Нечкиной, и вскоре стала господствующей, особенно в изучении истории общественной мысли и публицистики середины XIX века367. Явление, по наблюдениям Нечкиной, до 1940‐х годов не замеченное ни в научной, ни в учебной литературе368, теперь было призвано стать «очками», сквозь призму которых рассматривалась предреформенная Россия.
Тематическое же наполнение концепта было зафиксировано в статье Н. И. Мухиной, где при помощи метода библиографической статистики обобщались штудии по данной проблеме с конца 1917 года по апрель 1959-го369. Автор представила основные блоки, которые охватывали работы по экономической истории, истории массового и общественно-политического движения, реформе 1861 года, культурным явлениям, кризису правительственной политики, самóй революционной ситуации и т. п. С оговоркой об определенной ограниченности метода, избранного для анализа, делался вывод о возможности определить тенденции для заполнения в дальнейшем выявленных лакун. В данном контексте важно отметить, во-первых, значительное доминирование работ по истории общественного движения (70%). Сюда вошли исследования по истории публицистики, революционного, либерального, национально-освободительного движений. Подавляющее большинство этих работ (665) касалось взглядов и идеологии Чернышевского (341 позиция), Добролюбова, Герцена, Огарева, только восемь – либерального движения и ни одна – «реакционного движения и идеологии»370. Второе место, со значительным количественным отставанием, занимали работы по истории реформы 1861 года (142). Во-вторых, показательной была и «картина географического распределения сил советских историков» – в Москве и Ленинграде было издано 1187 работ. На втором месте из 94 городов оказался Киев, которому принадлежало всего 62 позиции. Кроме столицы Украины, в перечень также попали Харьков (17 позиций), Одесса и Львов (по 7), Днепропетровск (4), Ужгород и Чернигов (по 1), что говорит о незначительном внимании украинских специалистов к истории первой половины XIX века. Правда, в данной статье учитывались только русскоязычные публикации.
Почти директивный характер методологических рекомендаций в отношении изучения проблемы «революционной ситуации» довольно ярко демонстрирует статья М. В. Нечкиной 1961 года371, канализировавшая в необходимое русло исследования, в частности, реформы 1861 года, одного из центральных сюжетов данной концепции. Устанавливался достаточно жесткий канон и последовательности изложения событий, и их оценок. Насколько укоренившимися уже в начале 1960‐х годов были основные положения данной концепции, свидетельствует открытое письмо Н. М. Дружинина к Франко Вентури, где не только категорически отрицалась данная итальянским историком оценка Крестьянской реформы как «Великой», но и существенно уточнялись мотивации интереса советского академика к истории крестьянства. Эта реформа не могла так вдохновить Дружинина, как предполагал Вентури. Ведь, несмотря на то что она действительно может восприниматься как рубеж двух эпох, «…и показания современников, и данные правительственных обследований… и богатая исследовательская литература давно сорвали ореол „величия“ с актов 1861 г.». Интерес же к истории крестьянства возник у советского ученого «под непосредственным влиянием крестьянского движения»372.
Степень усвоения украинскими историками концепции революционной ситуации проанализировал В. Г. Сарбей373, обратив внимание как на достижения, так и на пробелы, недостатки. К последним ученый отнес вялость дискуссий по вопросам хронологии данного феномена, неравномерность разработки выделенных Лениным признаков революционной ситуации, пренебрежение ленинскими замечаниями при изучении деятельности «великих революционеров, и среди них Т. Г. Шевченко», упрощение или модернизацию методологических положений классика, искажение мыслей вождя, выборочное, произвольное цитирование, изменение цитат, когда, например, дворяне, требовавшие от правительства политических реформ, превращались в первом томе двухтомника «Iсторія Української РСР» (1967) в «широкие общественные круги». Замечания по поводу суженной трактовки ленинских положений прозвучали и в адрес Н. Н. Лещенко, В. П. Теплицкого, Д. П. Пойды, авторов таких известных монографий, которые и до сих пор составляют историографическую базу многих исследований по истории Крестьянской реформы в Украине.
Вместе с тем Сарбей через трактовку ленинских работ, как бы прикрываясь «методологическими указаниями» вождя, продемонстрировал довольно широкое понимание проблем изучения предреформенной и пореформенной истории и показал, в каком направлении могла бы двигаться украинская историография при благоприятных обстоятельствах. В частности, историк подчеркнул избыток внимания украинских специалистов к истории классовой борьбы. В целом высоко оценивая труд Н. Н. Лещенко «Крестьянское движение в Украине в связи с проведением реформы 1861 года», он выразил сожаление относительно неспособности автора
избежать при анализе фактического материала распространенной в определенной степени в советской историографии тенденции к преувеличению размаха крестьянского движения периода подготовки и проведения реформы374.
Для Сарбея слова «революционная ситуация» не были абстракцией. Под ними понимался насыщенный переломный период, требующий всестороннего исследования:
Как и люди 50–60‐х годов XIX века, так и весь комплекс событий и явлений, которые составляют общее понятие революционной ситуации того времени, очевидно, исходя из ленинских установок, требует изучения и предварительного, и последующего хода исторического процесса375.
И главное – тесно связывая революционную ситуацию с ликвидацией крепостного права, ученый важной составляющей проблемы считал кризис «верхов», кризис «господствующего класса». Он настаивал на необходимости специального ее анализа, т. е. на следовании ленинскому замечанию относительно конфликта дворянства с самодержавием, высказанному в работе «Гонители земства и Аннибалы либерализма»: элита стремится ограничить абсолютную власть монарха с помощью представительских учреждений. «Об этом конфликте, – отмечал историк, – в украинской советской историографии нет ни одного исследования»376. К сожалению, нет и по сей день.
Понять, какую долю в создании картины дореформенной эпохи в целом составляли работы украинских историков и в каком направлении продвигалось изучение социально-экономической, в частности аграрной, истории и истории общественной мысли, позволили масштабные «Очерки истории исторической науки в СССР»377, отражавшие образ официальной науки и своеобразно подводившие итоги развития советской историографии378, а также многочисленные историко-историографические обобщения достижений за отдельные периоды, на отдельных крупных направлениях, «актуальные проблемы», написанные как российскими, так и украинскими авторами. Не останавливаясь подробно на характеристике каждой отдельной работы, выделю лишь наблюдения, важные в контексте данной темы. При этом отмечу, что историко-историографическая продукция второй половины 1950‐х – начала 1970‐х годов и следующего этапа – начала 1970‐х – конца 1980‐х – в содержательной части по актуальным в данном случае проблемам мало чем различается, что оправдывает ее обобщенную характеристику. Особенно это касается работ по истории украинской исторической науки, хотя они, к сожалению, не отражают изменений, произошедших на последнем этапе в исследовании даже русской истории.
Можно говорить, что этот этап, особенно со второй половины 1970‐х годов, отмечен историографической ассимиляцией, которой подверглись и советские исследователи, в первых рядах – специалисты по всемирной истории. Не случайно современные историографы, перечисляя новации периода «историографического плюрализма», рядом с французской историей ментальностей, британской и североамериканской психоисторией, новой немецкой социальной историей, американской интеллектуальной историей, называют российскую школу исторической антропологии379. Почти не отставали советские русисты от мировой исторической науки и в плане усвоения новых «технологий», подтверждением чего стали, например, работы, выполненные с применением ЭВМ, сборники «Математические методы в исторических исследованиях», что было ярким проявлением «идеологии профессионализма», все более популярной с 1970‐х годов – в условиях «снижения тона», «расшатывания „ментальных опор“ марксизма», когда начиналось «постепенное восстановление общности в духовном развитии России и Запада»380. Такие направления, как «неофициальная медиевистика»381 и Московско-Тартуская школа семиотики, стали не только символом тематического и методологического обновления, но и свидетельством того, что советские ученые-гуманитарии «своими тропами» возвращались «на большак мировой культуры»382.
Важным в контексте темы можно считать и появление в 1970‐е годы критических рецензий известного знатока эпохи «просвещенного абсолютизма», С. М. Троицкого, на труды американских ученых, Р. Джонса и М. Раева, посвященные истории русского дворянства XVIII века. С рядом положений этих трудов рецензент вынужден был согласиться383. Своеобразным ответом зарубежным коллегам были работы по истории дворянства, созданные самим Троицким384. На украинском материале еще в 1970‐е годы, на Федоровских чтениях в Москве, Я. Д. Исаевич показал, как необходимо применять новые в то время методы социальной истории.
Современные историографы отмечают, что со второй половины 1950‐х годов было положено начало разнообразным контактам отечественных ученых-историков, в том числе и через участие в международных конференциях385, что расширяло научные горизонты, стимулировало исследовательский поиск. Однако это мало сказалось на украинских историках, работы которых не всегда соответствовали должному уровню даже советской историографии386. Осознание отставания от общесоюзного уровня в разработке истории «феодальной формации в Украине» и истории капитализма чувствовали и сами украинские историки, констатируя отсутствие монографий, сокращение количества работ по истории XIX века, в то время как в целом по стране здесь были достигнуты значительные успехи387. Как «слабое место» проблемно-обобщающих и монографических исследований украинской истории воспринимались также «недооценка авторами того, что сделано их предшественниками» и «отсутствие аналитических, глубоких обзоров использования источников и литературы»388.
Наиболее широко проблемы истории феодализма в Левобережной Украине были поставлены В. А. Романовским. Помимо прочего, он назвал – как малоразработанные и требующие тщательного изучения – проблемы формирования крупных земельных владений в крае, типов и форм хозяйства, форм землевладения, установившихся в середине XVII века. Все это, утверждал историк, необходимо исследовать не с формально-правовой, а с экономической точки зрения, поскольку «гораздо важнее изучение не различных юридических формул, определяющих характер владения маетностями… а отношения землевладельца и непосредственного производителя материальных благ»389. Однако призывы Романовского (который, правда, после ссылки работал до конца жизни в Ставрополе), как и его постановки проблем, остались незамеченными.
Определенным подтверждением отставания можно считать то, что в историко-историографических обзорах состояния исторической науки в СССР и учебниках по историографии анализ работ украинских историков почти полностью отсутствовал. Лишь иногда назывались имена С. Я. Борового, И. А. Гуржия, В. А. Голобуцкого, Н. Н. Лещенко, А. З. Барабоя, С. Н. Злупко, А. С. Коциевского, С. А. Секиринского390. В таком разделе «Очерков истории исторической науки в СССР», как «Историография русского революционного движения и общественной мысли XIX в.», украинские авторы вовсе не упоминались, несмотря на скорее библиографический, чем историографический характер «Очерков»391. Это же можно сказать и о статьях, посвященных достижениям советской исторической науки в изучении истории феодализма и капитализма392. Анализ состояния разработки во второй половине 1970‐х годов социально-экономической истории, истории культуры и общественной мысли XVIII–XIX веков также обошелся почти без трудов по истории Украины393. Из истории крестьянства и рабочего класса этого периода не названо ни одной работы, чего нельзя сказать о монографиях по истории Беларуси, Литвы, Молдавии, различных регионов России.
Разумеется, в сравнительно коротких очерках трудно было учесть все, что сделано в рамках огромного цеха советских историков. Но в специальном исследовании, где представлялись труды второй половины 1970‐х годов по основным проблемам истории народов СССР, в частности истории крестьянства, аграрных отношений, классовой борьбы, не указано ни одного труда по истории Украины «эпохи феодализма», а по социально-экономической истории «периода зарождения капитализма» встречается ссылка только на одну монографию – об экономических связях Северной Буковины с Россией и Надднепрянской Украиной в XIX – начале XX века394. Среди исследований революционной ситуации, названных в библиографическо-статистической работе Н. И. Мухиной за 1917‐й – начало 1959 года, также нет ни одного по Украине, хотя другие союзные республики упомянуты395. Тематическая роспись всех статей за 1960–1986 годы, публиковавшихся в сборниках «Революционная ситуация в России в 1859–1861 гг.», также содержит лишь три работы по украинской тематике396.
К сожалению, и специальные обзоры украинской историографии не слишком информативны в отношении изучения ранних периодов истории Украины. В частности, А. Г. Шевелев, подытоживая успехи украинских историков за 1970–1974 годы, в первую очередь подчеркнул приоритет разработки истории советского общества397. Очевидно, воспринимая такую ситуацию как вполне нормальную, историк фактически еще раз зафиксировал хронологический перекос в разработке истории Украины, на который и до того обращали внимание – например, Ф. П. Шевченко, анализируя в 1964 году состояние дел с «Українським історичним журналом» на заседании дирекции Института истории АН УССР и Института истории партии при ЦК компартии Украины398. По мнению А. И. Гуржия и А. Н. Доника, с 1972 года «уклон журнала в сторону современной тематики стал неизбежным», а преимущества в публикациях по истории средневековой Украины были на стороне истории «классовой борьбы трудящихся масс против угнетателей»399. Не случайно в историко-историографических трудах украинских ученых анализу исследований по истории Украины второй половины XVIII – первой половины XIX века также отводился минимум их общего объема. Показательна в этом отношении «Историография истории Украинской ССР». Но, в отличие от предыдущих историко-историографических работ, здесь нашлось место для концепта «крестьянский вопрос», который определен как «центральный в социально-экономической и политической жизни страны»400. И хотя пояснения о содержании крестьянского вопроса отсутствуют, однако, судя по тексту и ссылочному аппарату, оно фактически отождествлялось с историей крестьянства, в которой важнейшей составляющей была классовая борьба.
В контексте темы представляет интерес обзор историографии падения крепостного права, выделенный в самостоятельный сюжет Н. Н. Лещенко. Отбросив ложную скромность, основное внимание он уделил анализу собственной монографии, лишь упомянув дореволюционных предшественников, а также работы В. П. Теплицкого и Д. П. Пойды. Несмотря на констатацию того, что «проблема падения крепостного права в советской историографии изучена обстоятельно», здесь были обнаружены и «некоторые вопросы, нуждающиеся в дополнительном, более глубоком исследовании»401. К сожалению, перечень этих вопросов оказался достаточно ограниченным и касался преимущественно истории реализации Крестьянской реформы.
Получить более детальную картину помогли бы проблемно-историографические исследования. Но, как заметил В. Г. Сарбей, подытоживая развитие украинской историографии за семьдесят лет, «проблемные историографические исследования <…> не получили в Украинской ССР системного характера и вполне определялись личными предпочтениями ученых»402. Поэтому уровень интенсивности изучения крестьянского вопроса, его возможные сюжетно-тематические доминанты выяснялись по проблемно-историографическим обзорам советских русистов, регулярно появлявшимся с 1960‐х годов как результат серьезного эмпирического накопления и дифференциации исторического знания. Это не только отдельные разработки, но и историографические разделы монографий, диссертаций, которые также проверялись на наличие «украинского следа».
Крестьянская реформа 1861 года в качестве центральной в контексте первой «революционной ситуации» была осмыслена в ряде проблемно-историографических исследований, в первую очередь П. А. Зайончковского, Б. Г. Литвака, Л. Г. Захаровой403, ставших почти классикой. Не вдаваясь в детали анализа, поскольку это неоднократно делали историки Крестьянской реформы, замечу лишь, что историографическая канва этих работ почти совпадает. Это же в основном касается оценочных и теоретико-методологических моментов. В данном случае важно отметить, что, во-первых, в указанных обзорах не только не названы исследования по истории крестьянского вопроса, но и отсутствует само это словосочетание. Во-вторых, одним из признаков изменений в историографии проблемы считалось увеличение региональных исследований, которые проводились на местных архивных материалах, необходимость чего, кстати, еще в 1941 году подчеркивал Е. А. Мороховец404. В-третьих, украинские материалы попали в поле зрения историографов. Но среди самых ранних фигурировала лишь одна из работ А. В. Флоровского – «Воля панская и воля мужицкая. Страницы из истории аграрных волнений в Новороссии. 1861–1863», отнесенная Зайончковским к краеведческим исследованиям. Литвак же остановился на этой брошюре более продолжительно, подчеркивая «завидную трезвость» анализа источников из одесских архивохранилищ. Другие работы Флоровского, также написанные на основе одесских архивов405, почему-то не упоминались. Отмечая в украинской науке «преобладание тематики крестьянского движения в период реформы», историографы указывали на диссертацию М. И. Белан и статьи Ю. Я. Белан, М. М. Максименко, Д. П. Пойды. Заметным событием не только для украинской исторической науки считалась монография Н. Н. Лещенко. Захарова же не упомянула ни одного исследования украинских авторов. Это можно сказать и о специальных проблемно-историографических обобщениях по истории классовой борьбы и общественно-политического движения406.
Нужно также обратить внимание на один симптом, важный для историографических очерков 1960‐х годов. Подчеркивая приоритетность исследования экономической истории, истории классовой борьбы, освободительного движения, положения рабочих и крестьян, ученые все чаще писали о необходимости избегать упрощения, выявлять различные причины исторических явлений, что требовало заполнения лакун407, разработки целого ряда проблем, к которым относили и «идеологию господствующих классов»408, «кризис верхов», «идейный кризис дворянства», «либеральное движение, борьбу различных группировок внутри господствующего класса»409. Историкам реформы рекомендовалось «провести сравнительный анализ многочисленных индивидуальных и групповых проектов освобождения крестьян и проектов губернских комитетов с данными уставных грамот по имениям этих же помещиков для выяснения истинной картины удовлетворения как классовых, так и личных интересов помещиков реформой 1861 г.»410.
В изучении различных идейных направлений, если судить по тематике репрезентативного цикла «Революционная ситуация в России 1859–1861 гг.», существенных сдвигов не произошло411. Составители сборника «Общественная мысль: исследования и публикации» также подчеркивали, что «недостаточно изучены не только мыслители славянофильского круга, представители охранительного консерватизма, но и революционеры-демократы»412. Однако крестьянский вопрос, хотя и в контексте центральных проблем, продолжал советскими историками исследоваться, как в явном, так и в «скрытом» виде413. Ощутимой была и потребность хотя бы утилитарно вернуть дворянскую составляющую крестьянского вопроса. Иногда, особенно в контексте разработки истории Просвещения в России, общественной мысли, внутриполитической и экономической истории, крестьянский вопрос становился центральным сюжетом, предметом первостепенного исследовательского внимания414. Отмечу, что большинство этих работ напрямую к истории Украины не относятся. Но без них вряд ли возможно понимание уровня интенсивности изучения крестьянского вопроса, определение его структуры, доминант, закрепившихся в 1960–1980‐е годы.
Позиции историков, для которых тема крепостного права и положения крестьян была одной из центральных, в концентрированном виде изложены в монографии М. Т. Белявского «Крестьянский вопрос в России накануне восстания Е. И. Пугачева», где доказывалось, что вся политика Екатерины II «была направлена исключительно на сохранение и укрепление крепостничества в самых жестких его формах»415. Но в первую очередь эта книга все же посвящена рассмотрению того, как зарождались в России антикрепостнические освободительные идеи, – с целью выяснить место и роль первого этапа их формирования в общем процессе истории «передовой» общественно-политической мысли и в возникновении революционной идеологии, революционного движения в стране. Белявский не прибегал к размышлениям о смысловом наполнении крестьянского вопроса. Однако из поставленной им задачи – «рассмотреть, как проходило обсуждение вопроса о правах дворян, крепостном праве и положении крестьян на первом этапе формирования антикрепостнической идеологии в России» – понятно, что в этот концепт включалась проблема дворянства, крестьянства и крепостного права, в основном в идейном измерении416. Причем интерес к крестьянству не ограничивался только помещичьими подданными.
Довольно развернутой оказалась и дворянская проблема. Главный предмет внимания историка – формирование антикрепостнической мысли – рассматривался на фоне несколько более широкой панорамы идейной ситуации 60–70‐х годов XVIII века. Важны также и объяснения Белявского относительно трактовки понятия «антикрепостнический», используя которое автор не сводил его содержание только к призывам ликвидации крепостного права. Трудности филигранного распределения идейных позиций преодолевались путем проведения «разграничительной линии» по принципу: они первыми выступили в защиту трудового народа417. Белявский также акцентировал близость взглядов «охранителей» – Н. И. Панина, Д. А. Голицына, И. П. Елагина, Н. М. Карамзина и «антикрепостников» – Н. И. Новикова, Г. Коробьина, А. Я. Поленова, Я. П. Козельского, призывая вернуться к теории «единого потока», к тому, что «все они (названные герои. – Т. Л.) оказываются „либеральными дворянами“, идущими за Екатериной II и ее „Наказом“»418. Итак, в истории общественной мысли, хотя и без деклараций, крестьянский вопрос снова оказался тесно связан с дворянским.
В докторской диссертации А. Г. Болебруха419 крестьянский вопрос также является скорее не целью, а средством – в частности, для изучения идеологии Просвещения в России. Хотя ученый не останавливался специально на трактовке крестьянского или аграрно-крестьянского вопроса, однако очевидно, что здесь, как и в работах других историков420, речь шла о проблемах крепостного права и его ликвидации. В сложный по внутренней структуре историографический очерк были включены исследования по истории крестьянства, начиная с И. Д. Беляева, по истории крепостного права, крестьянского и общественного движений, общественной мысли, Просвещения, по персоналистике и, главное, труды, где говорилось об обсуждении дальнейшей судьбы крепостничества.
Важно отметить, что, хотя предметом исследовательского внимания была преимущественно «передовая общественно-политическая мысль», цель работы заключалась в изучении процесса дифференциации течений в русской общественной мысли рубежа XVIII–XIX веков421. В поле зрения автора оказались и «просветители», и «буржуазные реформаторы», и «консерваторы», т. е. представители тех основных идейных направлений, которые тогда выделялись в советской историографии. Причем «консерваторам» и «дворянской классовой доктрине», которые, по утверждению ученого, до этого почти не исследовались, было отведено довольно много места422. Таким образом, фактически прозвучала проблема «дворянство и крестьянский вопрос», но на российских материалах, без выделения региональной, в том числе украинской, специфики. Украинские сюжеты вообще не были центральными для автора. Показательно, что в довольно пространной историографической части диссертации не упоминаются труды украинских специалистов – скорее, по причине отсутствия тех, которые касались бы поднимаемых Болебрухом проблем. А в своих оценках персоналий, в частности В. Н. Каразина, автор диссертации солидаризировался не с украинскими (А. Г. Слюсарский, Л. А. Коваленко, А. М. Чабан), а с российскими советскими учеными.
Итак, финиш украинской советской историографии в изучении крестьянского вопроса, шире – аграрной истории, истории общественной мысли мало чем отличался от стартовых позиций. Несмотря на довольно значительные достижения историков в общесоюзном масштабе и, разумеется, неубывающую актуальность проблемы, исследование ее, во всяком случае в восприятии украинских историографов, так и не сложилось в отдельное направление, в отличие от, скажем, критики «буржуазных и буржуазно-националистических фальсификаторов истории Украины»423, развернувшейся «как никогда ранее, широким фронтом» именно в конце 1980‐х годов. Это объясняется и отсутствием исследований теоретико-методологического характера424. Тем не менее, несмотря на «растворение» крестьянского вопроса, в это время были намечены основные историографические этапы в изучении отдельных составляющих проблемы. Историками был проанализирован или хотя бы отмечен, учтен основной массив исследований начиная со второй половины XIX века. Особенно это касается историографии крестьянства, реформы 1861 года, истории классовой борьбы, общественно-политической мысли и общественного движения, которые и стали доминантными.
ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОБЛЕМЫ В УСЛОВИЯХ ИДЕЙНО-НАУЧНОГО ПЛЮРАЛИЗМА
Начало третьего историографического периода, который продолжается с 1990‐х годов до наших дней, совпадает с серьезными общественно-политическими изменениями. Об их влиянии на различные сферы жизни общества, в том числе и на историческую науку, уже достаточно много сказано, хотя точно уловить и определить момент завершения советской историографической эпохи непросто425. Ученые, активно размышляя над новыми историографическими реалиями, пытаясь определить основные тенденции и описывая их в терминах «национализация, интернационализация науки» и т. д., раскрывая механизмы этих процессов, одновременно говорят о возможности дать лишь общие представления о многослойном историографическом информационном потоке, говорят о преждевременности глубокого анализа постсоветской историографической ситуации, о необходимости для этого определенной дистанции, о возможности вести речь не об уровне отечественной науки в целом, а лишь вокруг конкретного предметного повода426. Частично соглашаясь с этим, я все же считаю необходимым именно по такому предметному поводу зафиксировать идейно-тематические сдвиги на новом витке «интеллектуальной спирали»427.
Выше уже обращалось внимание на определенные различия, еще в рамках советской исторической науки, в подходах и тематике исследований между украинскими и российскими специалистами. С разрывом же историографического целого следует говорить не просто о двух потоках, а об отдельных национальных историографиях. И перед украинскими, и перед российскими учеными в условиях «архивной революции», «информационного взрыва» возникли несколько схожие задачи – открыть целые пласты ранее неизвестной истории428. Но, если российские историки могли почти одновременно и предлагать новые концепции, модели, и прибегать к «простой реконструкции прошлого», то их украинские коллеги, если придерживаться подобной терминологии, должны были заняться «конструированием». Итак, если российские специалисты аграрно-крестьянской, шире – социально-экономической истории, «покаявшись»429, начали довольно быстро налаживать связь с мировой гуманитарной наукой, ориентируясь на ее образцы, но не покидая уже вспаханного поля, то для украинских историков это было не просто время парадигмальных изменений. По вполне понятным причинам они должны были восстанавливать историографическую преемственность, что неизбежно возвращало к традициям и, соответственно, «нормам» конца XIX – первых десятилетий XX века. Приобщение же к достижениям мировой гуманитарной науки происходило преимущественно через «формирование своеобразной соборности национальной исторической мысли»430, т. е. путем ознакомления с «диаспорной» историографией, что ускоряло усвоение «национальной парадигмы». Поэтому украинские историки, несмотря на декларации о необходимости взять от марксизма все лучшее431, одновременно более радикально, чем российские, разрывая с советским историографическим наследием и приоритетной для него тематикой, в очередной раз тратили энергию не на пересмотр, а на (вос)создание «большого нарратива», в котором первенство отдавалось национально-освободительной борьбе, общественно-политической составляющей исторического процесса. В это время снова «главной задачей украинских историков… стало создание фундаментальной, по-настоящему научной истории украинского народа»432.
В начале 2000‐х годов известный в Украине историограф Л. Зашкильняк, говоря о «пока что слабой дифференциации украинской историографии», фактически писал об отсутствии проблемной историографии433, что неизбежно заставляет обратиться к обобщающим работам по украинской историографии. Интересующие меня сюжеты лучше всего зафиксированы в соответствующих разделах коллективной монографии под редакцией Зашкильняка: «Проблемы истории Украины XVI–XVIII веков» (автор А. Заяц) и «Украинское национальное возрождение в XIX – начале XX века в современной отечественной историографии» (авторы К. Кондратюк и В. Мандзяк). Само название последнего раздела подтверждает, что социальная, экономическая проблематика не является приоритетной, во всяком случае с точки зрения историографов. Относительно характеристики исследований по истории XVIII века следует указать на ряд моментов. Во-первых, автор выразил удовлетворение возобновлением интереса к изучению истории украинской социальной элиты – шляхты и казацкой старшины – в первую очередь в работах В. Панашенко, А. Струкевича, В. Кривошеи434. Во-вторых, он с удивлением обнаружил, что «меньше всего внимания украинские историки уделили самому многочисленному слою украинского общества XVI–XVIII веков – крестьянству»435. В-третьих, ни одно из названных здесь исследований не касается Левобережной Украины436.
И все же надо сказать, что в последние годы ситуация с «крестьянской» тематикой несколько меняется. Во всяком случае, актуальность ее исследования на новом уровне на просторах Новой истории хорошо осознается, как и необходимость расширения сюжетного спектра437. При этом в недавних историографических обзорах крестьяноведческих работ отмечаются противоречивость процесса обновления, необходимость дополнительных усилий для выяснения целого спектра проблем438, недостаток методологических новаций и почти полная неподвижность традиции в изучении истории крестьянства439. Пожалуй, единственными работами, где прослеживаются осведомленность в мировых тенденциях и стремление адаптировать новые теоретико-методологические подходы к украинскому материалу, называют монографии А. Заярнюка, А. Михайлюка и Ю. Присяжнюка440. Даже в академическом издании очерков «Iсторія українського селянства (крестьянства. – Примеч. ред.)», где задекларированы новации, «главный герой», по замечанию М. Яременко, «представляется так, как и столетие перед этим»441.
На мой взгляд, ситуация вокруг XVIII – первой половины XIX века в определенной степени объясняется историко-историографическим восприятием творческого наследия предшественников, в частности А. М. Лазаревского, который снова превращается в «знаковую фигуру украинской историографии»442. И тут обнаруживается интересная вещь. Казалось бы, большое временнóе расстояние само по себе способствует переосмыслению того, что было сделано историком Гетманщины, – переосмыслению с учетом подходов современного крестьяноведения. Но в юбилейных статьях начала XXI века вновь утверждается забытый историографический образ историка-народника, «даже не столько в смысле его политических императивов, сколько в понимании им движущих сил и хода исторического процесса»443. Соответственно, стереотип социально-экономических отношений второй половины XVII – XVIII века, воспринятый от Лазаревского, не только не подвергается уточнению, корректировке, а, по сути, канонизируется. Проанализировав работу «Малороссийские посполитые крестьяне», В. И. Воронов сделал вывод, справедливый относительно творчества Лазаревского, – «одно из лучших достижений в научном наследии ученого», – но, думаю, печальный для современной украинской историографии: эта работа, написанная в 1866 году, и на сегодняшний день – «одно из наиболее глубоких исследований по истории украинского крестьянства»444.
Концепция Лазаревского поддерживается без основательного анализа и только иллюстрируется дополнительным источниковым материалом445. Поэтому и сейчас представления об особенностях социальной ситуации в Гетманщине в последний период ее существования остаются на уровне начала XX века. А «ответственность за повторное введение крепостного права в Украине (после его временной ликвидации во время Освободительной войны середины XVII века)» продолжает возлагаться «не только на российское самодержавие, но, частично, и на украинскую казацкую старшину и дворянство». Этот тезис Лазаревского считается «абсолютно бесспорным», «справедливым и аргументированным»446. Оказывается, дело не в особой социально-экономической и общественно-политической ситуации, сложившейся в результате Хмельнитчины и к созданию которой были причастны массы казаков, показаченных посполитых и шляхты, а только в сосредоточении в руках старшины всей полноты власти, позволявшей им легко «превратиться в господ».
Примечательно, что украинские историки именно в связи с Лазаревским заговорили и о крестьянской реформе 1861 года как о «рубеже, разделившем все модерное российское прошлое на до- и пореформенную эпохи». Реформа вновь стала «Великой», заняла место «где-то рядом с такими незабываемыми, знаковыми явлениями, как Гражданская война 1861–1865 годов в Соединенных Штатах Америки и революция коммунаров 1871 года во Франции»; подчеркивается ее влияние на «тектонические сдвиги в историческом сознании современников», на «коренное переформатирование российского культурного пространства»447. Желание показать значение и величие Великой реформы подтолкнуло и к достаточно непривычным определениям. Реформа 1861 года, оказывается, положила начало общественным и культурным практикам, которые «составляют уникальный узор» из «позитивистских и просветительских компонентов» в творчестве Лазаревского448.
Однако крестьянско-дворянский вопрос в контексте тесно связанной с ним проблемы 1861 года пока выглядит довольно туманно. Не очень четко поставлены темы в немногочисленных проблемно-историографических исследованиях, диссертациях, своеобразных «итоговых» и юбилейных статьях, которыми подводится черта под предыдущей традицией. Они не свидетельствуют о существенных сдвигах и в значительной степени закрепляют уже имеющиеся оценки.
В подобных очерках история дворянства интересует специалистов по XIX веку и историографов, к сожалению, главным образом в контексте процесса взаимоотношений украинской элиты с имперским центром, в контексте социальной психологии «элитарных слоев общества как носителей полной информации о социокультурном наследии нации»449, в контексте политической культуры или проблемы бюрократии. Как составляющая крестьянского вопроса, социально-экономической истории прошлое социальной элиты украинскими историками пока не воспринимается, что подтверждают обзоры достижений флагмана отечественной науки – Института истории Украины450. Остается неизменной в украинской историографии и крестьяноцентричность «крестьянского вопроса». Аграрно-крестьянский вопрос продолжает отождествляться исключительно с историей крестьянства. Дворянство же, как и другие социальные группы, в аграрное пространство не вписывается. Да и сам крестьянский вопрос тоже трактуется довольно узко – преимущественно как «принципы и методы ликвидации крепостного права»451.
Сказанное полностью относится и к зарубежной украинистике, где не сложилось традиции изучения социально-экономической истории Нового времени. Это подтверждают и библиографические обзоры452. Показательным в данном контексте представляется аннотированный список рекомендуемой, преимущественно англоязычной литературы, помещенный в соответствующие разделы недавней обобщающей работы по истории Украины американско-канадского историка Павла Магочия453. Несмотря на авторское замечание, что «немало англоязычных работ посвящено социально-экономическому положению украинских земель в составе Российской империи», подавляющее большинство из названных касается «национального вопроса», «формирования украинской национальной идеологии», отражает биографии выдающихся деятелей национального движения, преимущественно Т. Шевченко, а также П. Кулиша, Марко Вовчка, И. Франко, М. Драгоманова и др. История дворянства, крестьянства, социальных взаимоотношений, очевидно, выпала из поля зрения зарубежных украинистов, если не считать названной англоязычной книги французского историка Даниэля Бовуа о правобережной шляхте. Исследования по социально-экономической истории дореформенного времени здесь совсем отсутствуют.
Сам текст работы Магочия в части «Украина в Российской империи» также не слишком перегружен сюжетами по социально-экономической истории, которые к тому же персонологически почти не насыщены. Но главное, что в этой новейшей синтезе закрепились традиционные для народнической украинской историографии положения: о полном бесправии крестьянства первой половины XIX века, которое, «кроме права на собственные орудия труда», не имело никаких прав, о крепостных как о «живом движимом имуществе», «стоившем меньше, чем скот» и т. п.454 Все это показывает, что зарубежная украинистика так же далека от современного крестьяноведения, как и «материковая», что исследования по истории крестьянства не только не ведутся, но и не пересматриваются в той своей части, где «осели» давно сложившиеся представления455. Не говорю уже о том, что стереотипы касательно украинской крепостнической действительности в значительной степени были построены на примерах из русской истории, на основе, скорее, нелучшей научной продукции, поскольку в качественных исследованиях даже советских русистов 1970–1980‐х годов картинка уже значительно уточнялась и более ярко раскрашивалась. Нечего и говорить о современной российской историографии крестьянской проблематики, точнее – зарубежной русистике, обращение к которой в поисках нового образа крестьянского вопроса оказалось наиболее оправданным и плодотворным.
Разумеется, я не ставила себе такой дерзкой задачи, как обзор современной российской историографии проблемы, особенно с учетом вышеупомянутого сюжетного ее разнообразия. Тем более что довольно солидные историографические очерки уже представлены современными специалистами, например Ю. А. Тихоновым, В. Я. Гросулом, в монографиях которых проанализировано большинство значимых (в том числе и появившихся в недавнее время) исследований по истории российского крестьянства, сельского хозяйства, помещичьей и крестьянской усадьбы, проблем социального взаимодействия, основ бытования крепостного права и феодальных порядков, формирования гражданского общества и его взаимоотношений с властью и т. п.456
Учитывая эти обзоры и постановку тем в целом ряде историографизированных исследований ученых-русистов, отмечу только некоторые важные, с моей точки зрения, изменения в разработке крестьянского вопроса. Причем еще раз подчеркну положение о сохранении преемственности в исследовании социально-экономической истории при существенном обновлении подходов и оценок, что произошло как благодаря формированию «единой историографии России»457, т. е. поиску точек соприкосновения между российскими и зарубежными, преимущественно американскими, русистами, так и благодаря ориентации вчерашних советских исследователей на достижения и подходы мировой гуманитаристики.
Уже в начале 1990‐х годов теоретический семинар по аграрной истории под руководством В. П. Данилова ознаменовал ориентацию российских историков на достижения зарубежного крестьяноведения. Первые заседания были посвящены обсуждению работ ведущих специалистов в этой области – Дж. Скотта и Т. Шанина. А материалы и выступления участников семинара почти сразу же публиковались458. Новации в крестьяноведении касались и изучения особенностей социального взаимодействия, в том числе и между крестьянством и дворянством. В частности, Л. В. Милов уже в ходе обсуждения концепции Шанина, обращая внимание на специфику влияния природно-географического и климатического факторов на экономики Западной и Восточной Европы, отмечал необходимость учета, кроме эксплуататорской, и страховой функции помещичьего хозяйства, разрыв с которым крестьянского хозяйства в пореформенный период во многом объясняет резкую пауперизацию бывших крепостных459.
Потребность в обновлении, конечно, не означает, что историографическая инерция не давала себя знать. В частности, «История крестьянства России с древнейших времен до 1917 г.», третий том которой появился в 1993 году, еще не претерпела серьезных изменений. Кстати, здесь еще содержались и разделы о крестьянах Украины, написанные во вполне традиционном для советской историографии духе460. Но материалы многочисленных крестьяноведческих конференций уже в начале 2000‐х годов демонстрировали переход в новое качество и значительное расширение сюжетно-тематического спектра исследований461. В контексте данной темы важно, что российские историки считали необходимым с помощью обновления теоретико-методологической и источниковой основы освободиться от предубеждения против самостоятельности крестьянской экономики и возможности специфической крестьянской аграрной эволюции, отказаться от характерного для предыдущей традиции взгляда на аграрное развитие «как на постоянное приготовление деревни к революции», акцентировали внимание на изучении хозяйственного этоса, духовной жизни главных участников аграрных отношений462.
Значительные изменения произошли и в изучении истории российского дворянства. Здесь, так же как и в крестьяноведении, важны были пересмотр предыдущих оценок и тематическое расширение. Причем историки все чаще стремились отойти от образа «эксплуататора» и не забывать, что
великая русская культура, которая стала национальной культурой и дала Фонвизина и Державина, Радищева и Новикова, Пушкина и декабристов, Лермонтова и Чаадаева и которая составила базу для Гоголя, Герцена, славянофилов, Толстого и Тютчева, была дворянской культурой (выделено автором цитаты. – Т. Л.). Из истории нельзя вычеркнуть ничего. Слишком дорого приходится за это расплачиваться463.
С. О. Шмидт в предисловии к сборнику материалов В. О. Ключевского также призывал
отказаться от категоричности некоторых расхожих мнений, основанных на восприятии образности художественной литературы без учета степени метафоричности обличительного стиля ее. Хотя выявлено в архивах множество фактов, убеждающих в дикой жестокости и диком же бескультурье помещиков-крепостников (вспомним пушкинское определение – «барство дикое»), не следует забывать о том, что «недоросль» Митрофанушка был ровесником и Карамзина, и тех, в чьих семьях выросли будущие герои «Евгения Онегина» и «Войны и мира». В серьезных научных трудах не дóлжно ограничиваться тенденциозно одноцветным изображением провинциальных помещиков последней четверти XVIII в. лишь как Скотининых и Простаковых; как и во второй четверти XIX в., не все походили на героев гоголевских «Мертвых душ»464.
Начав с синтеза предыдущих достижений465, российские ученые постепенно перешли к тотальному «наступлению» на социальную элиту. История дворянства стала неотъемлемой составляющей многочисленных междисциплинарных «интеллигентоведческих» конференций в различных городах России466. Как результат – каждый желающий может найти в интернете довольно обширные «дворянские» библиографии. Но в свете сюжетов этой книги особенно отмечу интерес к изучению психологии дворянства, «мира мыслей», социокультурных представлений, жизненного уклада – бытовых условий, образования, традиций, развлечений, т. е. того, что формировало поведение, мировоззрение различных представителей этого сословия. Причем в центре внимания оказалось не только столичное, но и провинциальное дворянство, не только аристократия, но также мелкое и среднее усадебное панство. Поток работ по истории социального взаимодействия дворянства и крестьянства, консолидации дворянской элиты, формирования коллективного самосознания, групповых интересов элиты, групповых идентичностей становился все более мощным. Историки, применяя современный методологический инструментарий, не только провели ревизию историографической традиции, но и значительно расширили проблемно-тематическое поле и источниковую базу исследований467, пытаясь синтезировать макро- и микроисторические подходы, разные взгляды на историю – как на закономерный саморазвивающийся процесс и как на своеобразие и неповторимость отдельных этапов, моментов, личностей468.
Все это подтолкнуло к осознанию бесперспективности попыток понять ценностные ориентации экономического мышления дворянства, мотивы его хозяйственной деятельности, уровень развития самосознания помещика только через его принадлежность к сословию земле- и душевладельцев. Также важно, что именно в контексте истории дворянства ставятся под сомнение традиционные взгляды на характер социального взаимодействия, выявляются факторы, препятствовавшие «возникновению представления об абсолютной зависимости крестьянского мира от феодала и в сознании податного сословия, и в сознании дворянства»469. Замечу, что свой вклад на этом направлении внесли и некоторые современные украинские историки, чьи работы скорее можно вписать в контекст российской историографии470.
Если в начале 2000‐х годов среди работ современных русистов в области элитологии штудии правового и историко-культурного характера преобладали над социально-экономическими, то сейчас можно говорить об изменении ситуации, в том числе и в изучении проблемы сосуществования вотчинного и крестьянского хозяйств471. Правда, до полной гармонии пока далеко, поскольку помещичье хозяйство все еще исследовано гораздо скромнее. Это касается разработки не только таких аспектов, как урожайность хлеба, динамика дворянского предпринимательства, состояние помещичьего бюджета, но и способов обеспечения хозяйства рабочей силой и ее использования472. В связи с этим естественной выглядит и переоценка крепостного права. Не последняя роль здесь принадлежит и пересмотру устоявшихся определений исторической эпохи, от чего в значительной мере зависит и исследовательский взгляд на ее содержание, на отдельные события и персоналии473. Во всяком случае, современные русисты внесли серьезное разнообразие в «рисунок силового поля эпохи» 474XVIII–XIX веков.
Важной для темы книги представляется предлагаемая историками трактовка социальной и экономической политики Екатерины II и Николая I, ведь именно с ними традиционно ассоциировалось укрепление крепостнической системы. Однако сейчас в первую очередь с этими монархами связывают и начало формирования гражданского общества в России, и постановку, упрочение идеи эмансипации. Анализ стереотипов относительно екатерининской политики достаточно подробно проведен А. Б. Каменским. Полемизируя или соглашаясь с предшественниками и своими современниками, историк дал довольно обоснованное изложение различных сюжетов проблемы, среди которых лишь кратко отмечу важные для данного контекста, поскольку более подробно буду останавливаться на этом в дальнейшем. Во-первых, правление Екатерины II Каменский считает «эпохой внутриполитической стабильности, не означавшей застоя», а императрицу – «одним из самых удачливых русских реформаторов». Ее реформы «носили созидательный, а не разрушительный характер»475. Во-вторых, в оценках «малороссийских дел» историк лаконичен. Относительно позиций «украинской» элиты по крестьянскому вопросу в Законодательной комиссии он придерживается расхожего положения: «…казачья верхушка… стремилась обрести равные права с русскими помещиками». В-третьих, крестьянский вопрос, которому Екатерина II уделяла много внимания, выходит у Каменского за рамки крепостнических отношений. В частности, он пространно обсуждает намерения Екатерины II предоставить жалованную грамоту и государственным крестьянам – «свободным сельским жителям». Солидаризируясь с Д. Гриффитсом и отрицая мнение О. А. Омельченко, согласно которому «установление правового статуса других сословий было подчинено… задаче охранения господствующего положения дворянства», Каменский настаивает на том, что вопрос все же надо рассматривать как стремление создать в России характерное для Нового времени регулярное государство с сословной структурой476.
Существенной коррекции подверглись и оценки царствования Николая I, на которое предлагается посмотреть как на сложную и противоречивую эпоху, когда было много сделано для народного образования, технического прогресса, науки, журналистики, литературы, созданы различные благотворительные организации, общества, образовательные, научные учреждения477. Именно Николаю I ставится в заслугу последовательное воспитание в обществе уважения к закону, большая кодификационная работа, налаживание системы подготовки юристов, внедрение юридической специализации в университетах, что способствовало распространению идеи о высоком призвании служения правосудию478. Различные ракурсы, точки обзора той или иной эпохи в целом не могли не сказаться и на восприятии отдельных явлений, событий, персоналий. Так, взгляд на Россию как на «периферию» миросистемы позволил Б. Ю. Кагарлицкому, демонстрируя возможности «единой историографии России», по-другому оценить и реформаторскую деятельность правительств, и состояние российской экономики в дореформенный период, и причины ликвидации крепостного права, что стало, по его мнению, не результатом внутреннего кризиса «помещичье-плантаторского хозяйства», а следствием давления на него извне479.
В контексте переоценки различных эпох российской истории, переосмысления деятельности того или иного монарха, и самостоятельная проблема реформ в России приобретала для исследователей, еще в разгар перестройки, особое значение480. В первую очередь это касается реформ 1860–1870‐х годов, перекличка с которыми явно начинает чувствоваться в публикациях конца 1980‐х – начала 1990‐х. Уже в статье Л. Г. Захаровой 1989 года481 просматриваются параллели с современностью: термины «гласность» и «демократизация» применительно к предреформенным годам становятся здесь одними из ключевых. Но главное – признанный историк реформы на уже хорошо известном материале расставила такие акценты, которые существенно подрывали основы закрепленного в советской историографии образа событий рубежа 1850–1860‐х годов. Реформа 1861 года снова становилась «Великой», ставилась под сомнение роль крестьянских движений в ее подготовке и проведении, по-другому определялась «расстановка сил» перед 19 февраля, реформа была переворотом «сверху», и Александру II в ней отводилось почетное первое место482. Здесь расшатывалось и мнение о продворянском характере реформы: она была тяжелой не только для крестьян, «но в некоторой степени и для дворянства». Единственным «победителем» теперь называлось государство, вышедшее из кризиса обновленным и укрепившимся. Также признавалось, что дворянские депутаты в губернских комитетах, «независимо от позиций» (курсив мой), «одинаково энергично нападали на присвоенную себе государственной властью роль арбитра в делах сословий». Это в данном случае особенно важно, ведь подобные замечания давали возможность посмотреть на «противников» эмансипации под другим углом зрения: не противодействия, а положительного влияния, что вело не только к изменению акцентов, но и к расширению персонологического ряда. Точнее – к включению и так называемых «олигархов», «аристократов-конституционалистов», «реакционеров» в «поколение реформаторов». Правда, такой взгляд на реформу не исключал существования и других оценок483.
Более развернуто уже высказанные, да и другие, положения были озвучены Захаровой на международной конференции 1989 года (материалы которой вышли отдельной книгой), а также в иных статьях484, что имело решающее значение для дальнейшего изучения проблемы. На страницах «конференционного» сборника получили трибуну не только российские, но и известные зарубежные ученые – «отцы», «дети», «внуки» американской русистики485, английские, австралийские историки – А. Дж. Рибер, Э. Глисон, Э. Кимбэлл, Д. Филд, С. Хок, П. Готрелл, Д. Крисчн, которые хорошо знали не только советскую, но и мировую историографическую традицию, архивные ресурсы обсуждаемой темы. Здесь по-другому прозвучали уже хорошо известные сюжеты, обращалось внимание на темы, обойденные советской исторической наукой, а также почти в каждой статье подводился историографический итог изучения отдельных аспектов. Обобщающий обзор историографии был представлен Э. Глисоном, остановившимся и на основных противоречиях между марксистской и немарксистской, в первую очередь американской, школами в изучении Великих реформ. Устранение противоречий он считал необходимым для формирования «единой историографии России». На это «работали» и проблемно-историографические обзоры достижений зарубежной историографии, многочисленные русскоязычные публикации трудов ученых разных стран по истории российского имперского периода, международные научные форумы486. Синтез подходов и результаты сотрудничества вскоре начали четко себя обнаруживать, в том числе и через индекс ссылок, хотя «проблема отчуждения и изоляции еще сохраняет свою остроту»487.
В 2005 году Л. Г. Захарова подвела своеобразный итог изучения реформ как советскими, российскими, так и зарубежными учеными, одновременно представив собственное ви́дение сложных, спорных и недостаточно решенных в историографии проблем488. Подчеркну наиболее важные и принципиальные выводы известного историка, сделанные с широкой опорой на штудии нерусскоязычных специалистов. Во-первых, термин «Великие реформы» признается как наиболее точный. Во-вторых, солидаризируясь с западными историками (Д. Филдом, Т. Эммонсом, Д. Байрау)489, Лариса Георгиевна снова поставила под сомнение в качестве причины ликвидации крепостного права рост крестьянских движений и правомерность концепта «революционная ситуация». Центральному правительству, и прежде всего Александру II, отводится первостепенное значение. В-третьих, автор, сославшись на точку зрения П. Б. Струве, Б. Н. Миронова, обобщение послевоенной историографии вопроса Э. Глисоном, а также на мнение П. Готрелла 490относительно совпадения реформ с экономическим подъемом в государстве, подчеркнула отсутствие единства в вопросе объективных социально-экономических предпосылок ликвидации крепостного права и призвала не торопиться с окончательными выводами. В-четвертых, Захаровой не был поддержан тезис о проведении реформы в интересах дворянства. На основе новых исследований, в частности С. Хока491, подвергнуто критике представление о грабительском характере реформы, которое ранее во многом базировалось на ошибочных методиках обработки статистических данных. И последнее: анализируя труды Б. Линкольна, Т. Эммонса и других492, историк как на важные предпосылки указала также на институциональные реформы Александра I, на накопленный в первой половине XIX века опыт обсуждения крестьянского вопроса и на наличие кадров, людей, готовых взять на себя грандиозный труд по преобразованию России. Итак, опять говорилось о необходимости учитывать «человеческий фактор», поскольку двигателем реформ был «слой прогрессивно мыслящих, интеллигентных людей, объединенных общностью взглядов и задач», который начал складываться «в недрах бюрократического аппарата николаевского царствования в 1830‐е и особенно 1840‐е гг.».
Нерешенных и недостаточно раскрытых проблем Великих реформ также было названо Захаровой немало. Главное – это акцент на необходимости такого изучения вопроса о предпосылках ликвидации крепостного права, при котором использовались бы данные о макро- и микроуровне социально-экономического развития предреформенных десятилетий, в том числе и в региональном измерении493. Кстати, еще в 1998 году Захарова обращала внимание на важность проблемы «центр и регионы»494. Особое значение приобретает утверждение, что пристального внимания историков потребует «жизнь самих деятелей Великих реформ и реальные обстоятельства, в которых они творили». Причем изучать это нужно, прислушиваясь к терминам, понятиям, которые они употребляли, к их восприятию действительности, чтобы «избежать той прямолинейности в оценках Великих реформ, которая заметна в историографии»495. Еще раз это подчеркнуто Захаровой во вступительной части к переизданию ее известной монографии «Самодержавие и отмена крепостного права в России»496.
К сожалению, историографические рефлексии по поводу Великих реформ мало что непосредственно добавляют к выяснению возможных изменений образа крестьянского вопроса. Это в полной мере касается и реплик, звучавших в ходе различных юбилейных конференций, посвященных 150-летию акта 19 февраля, продемонстрировавших исключительное внимание исследователей к политико-правовой составляющей реформ, к личности Александра II – центральной фигуры «выставочных» докладов497. Однако акценты на необходимости обновления проблематики в историографии Крестьянской реформы498, заметные новации именно в этой области, новый образ реформы, создававшийся в том числе и с помощью компаративистских исследований499, не могли, я думаю, не сказаться и на такой важной ее составляющей, как крестьянский вопрос. Ведь как раз в контексте анализа реформ, законотворческой деятельности имперской власти к нему чаще всего обращались русисты. Но, поскольку рефлексии по поводу структуры понятия у них практически отсутствуют, именно сюжеты, которым уделялось внимание в историографических обзорах и конкретно-исторических исследованиях, помогли воссозданию образа и структуры крестьянского вопроса.
Одна из немногих последних попыток привлечь к этому внимание специалистов принадлежит И. В. Ружицкой. Подчеркивая отсутствие единства в содержательном наполнении понятия «крестьянский вопрос» при общем достаточно частом его использовании, она солидаризировалась с А. Н. Долгих. Для Ружицкой крестьянский вопрос – это прежде всего правительственная деятельность в области крестьянского законодательства и его реализации, охватывающая несколько направлений, которые рассматриваются как стороны или составляющие крестьянского вопроса: меры по запрету отчуждения крестьян без земли и земли без крестьян, решение проблемы дворовых, вопрос о способах освобождения крестьян, деятельность правительства по ограничению власти помещиков над крепостными, ставшая основной при разработке крестьянского вопроса в царствование Николая I500. Таким образом, все сводится исключительно к проблеме эмансипации.
Однако рецензия Ружицкой на двухтомник Долгих, названный одной из немногих за последнее время монографических работ по крестьянской проблематике первой половины XIX века, структура рецензируемого текста, сюжеты других работ Аркадия Наумовича и его докторская диссертация все же свидетельствуют о более масштабном подходе к проблеме501. Речь как будто идет в первую очередь о политике российского самодержавия в крестьянском вопросе. Но, соблюдая традицию, заложенную В. И. Семевским, Долгих скрупулезно исследовал (это рецензенткой поддерживается и вменяется ему в заслугу) не только меры правительств Павла I, Александра I, Николая I, но также политику и законодательство в отношении всех категорий крестьян (а не одних лишь помещичьих), помещичьи и государственные повинности крепостного населения. Кроме того, историк ввел в оборот и проанализировал большое количество дворянских проектов эмансипации, что позволило поставить под сомнение существующие в историографии представления по многим аспектам проблемы, в том числе и о нежелании большинства дворян отпускать крепостных на свободу, да еще и с землей. А изданные Долгих сборники источников502 только подтверждают осознание неразрывного единства крестьянского вопроса, дворянского сообщества, «общества» и власти, притом и с учетом идеологической составляющей, – ведь здесь в первую очередь представлены именно дворянские проекты решения дела. Стоит также обратить внимание на такой вывод изысканий Долгих, как наличие последовательного поворота в политике и законодательстве самодержавия в сторону смягчения крестьянского вопроса и даже в сторону постановки проблемы крестьянской эмансипации с конца XVIII века503.
В то же время провозглашаемая российскими историками настоятельная внутренняя потребность обновления в историографии истории России середины XIX века выводила и на такие сюжетные узлы, как «аристократическая оппозиция» Великим реформам, проблема консервативно-бюрократического реформаторства, «дворянской олигархии», политическое самосознание дворянства, его сословная программа аграрных преобразований и другие, тесно связанные с крестьянским вопросом. При этом внимание обращалось и на «прогрессивных» людей, и на «консерваторов», в дебатах с которыми нарабатывались и навыки коллективного решения важных для страны проблем, и конкретное содержание реформы504. Следовательно, можно говорить о возвращении «крестьянскому вопросу» дворянской составляющей.
И все же об истории социального взаимодействия, в частности, дворян-помещиков и зависимых крестьян российские ученые говорят как о сравнительно «молодой» теме505. Одним из тех немногих российских историков, кто еще с 1970‐х годов начал ее разрабатывать и обратил внимание на дворянскую усадьбу как на важный элемент экономики и культуры крепостнической эпохи, называют Ю. А. Тихонова, чья монография «Дворянская усадьба и крестьянский двор в России XVII–XVIII вв.: сосуществование и противостояние» считается одной из лучших новейших книг по истории России506. В данном контексте она вызывает интерес не только тем, что в ней помещичье имение рассматривается с точки зрения «взаимозависимости и противоположности, единства и разобщенности усадьбы и крестьянских дворов»507, но и пространным историографическим обзором. Включенные в него историографические сюжеты-темы фактически отражают представление о возможной аналитической модели исследования дворянско-крестьянского взаимодействия и шире – аграрной истории. Здесь в полемическом тоне проанализированы главным образом наиболее фундаментальные и новейшие труды по истории ключевых моментов аграрного строя России XVII–XVIII веков, дворянской усадьбы, становления крепостного права, его бытования, крепостнических порядков, крестьянской общины, экономического и социального положения, ментальности и психологии крестьянства, модернизации сельского хозяйства, взаимодействия вотчинного и крепостного хозяйств, а также источниковедческие разработки по истории помещичьих архивов, в первую очередь вотчинной документации.
С точки зрения выработки аналитической структуры крестьянского вопроса довольно показательным для современной историографической ситуации и информативным оказалось данное М. Д. Долбиловым одно из последних словарных определений понятия «аграрный вопрос». Другие современные интерпретации этого понятия, интересные сами по себе, я не рассматриваю, поскольку они не помогают решить поставленную в данном случае задачу или требуют слишком широких толкований508. Долбиловым аграрный вопрос трактуется как «комплекс идей, представлений, концепций, программ, связанных с решением таких проблем, как крепостное право, огромный демографический перевес деревни над городом, полярность социально-экономической структуры в деревне, социокультурная отчужденность крестьянства от остальных сословий и власти, экономическая и финансовая несбалансированность аграрного и промышленного развития, господство экстенсивных способов ведения хозяйства, колонизация окраинных территорий Российской империи»509. Отмечу, что понятия «аграрный вопрос» и «крестьянский вопрос» автор употребляет почти как синонимы. Правда, определенное хронологическое их разграничение («аграрный вопрос» вышел за традиционные рамки «крестьянского вопроса» после 1861 года, термин «аграрный вопрос» впервые получил распространение в конце 1870‐х – начале 1880‐х годов в либеральной прессе и программных документах революционных народников) ставит это под сомнение. Не объясняя специально, что имеется в виду под «традиционными рамками», Долбилов фактически датировал «крестьянский вопрос» 1760–1860‐ми годами, а содержательно – свел к «проблеме крепостного права», гласное обсуждение которой до 1857 года было ограничено.
Вместе с тем напоминание Михаилом Дмитриевичем о существовании еще с конца XVIII века аболиционистской (эмансипаторской) и патерналистской (в терминологии эпохи – связанной с попечительством, попечением) тенденций в «аграрном вопросе», кажется, несколько противоречит невольно определенным «традиционным рамкам», а также утверждению об «ограничении гласности». Ведь, во всяком случае, патерналисты, за которыми признаются существенный вклад в развитие «аграрного вопроса» и функция серьезного конструктивного противовеса эмансипаторскому течению, еще до 1857 года обнародовали свои позиции, причем не только в рукописной, но и в печатной форме. Именно патерналисты, как считает Долбилов, засвидетельствовали формирование у целого ряда предприимчивых и образованных земле- и душевладельцев убеждений о цивилизаторском влиянии помещика на крестьян, о необходимости в связи с этим организации рационального хозяйства. В «программе» этого направления сохранение крепостного права, по мнению историка, было не самоцелью, а лишь необходимым условием проведения мероприятий, направленных на подъем агрокультуры, агрономическое совершенствование, устранение негативных сторон общинного землепользования и даже его постепенное разрушение. Таким образом, можно говорить не только о морально-идейной стороне дела, но даже о доминировании социально-экономической составляющей крестьянского вопроса, особенно на начальных этапах. Важно также, что на примере «Русской правды» П. И. Пестеля Долбилов говорит и об опыте сочетания аболиционистской и патерналистской моделей, о государственном патернализме. Иными словами, «аграрный вопрос» и в дореформенный период не ограничивался только крепостническими отношениями. Как его составляющая воспринимается и «дворянский вопрос», который, по мнению историка, вышел на первый план после реформы 1861 года510.
Итак, на современном этапе не только увеличивается уровень интенсивности изучения «крестьянского вопроса», но и происходит усложнение его структуры, точнее – возвращение ее к «нормальности» «прижизненного» образа, но на новом уровне. Восстановление в конкретно-исторических исследованиях многослойности крестьянского вопроса (идейная, социальная, экономическая, политико-правовая, морально-этическая, психологическая, педагогическая, персонологические составляющие) фактически дает основания говорить о возможности нового синтеза проблемы, о выходе на уровень «новой аграрной истории». При этом именно та составляющая, которую стоит отнести к интеллектуальной истории, – мысль – является почвой для изучения и других разнообразных аспектов того, что можно назвать «новой интеллектуальной историей», где «крестьянский» вопрос приобретает зримые черты «дворянско-помещичьего». Как это выглядит на конкретно-содержательном и проблемно (предметно-)историографическом уровне, покажут следующие разделы. Здесь же замечу только, что «крестьянский вопрос» в узком смысле, т. е. в его идеологической плоскости, будет включать рефлексии как в рамках аболиционистской, так и в рамках патерналистской модели. Примеров для этого, кроме «Русской правды», можно найти достаточно.
ГЛАВА 3. РЕЦЕПЦИЯ «КРЕСТЬЯНСКОГО ВОПРОСА» В КРУГУ ЛЕВОБЕРЕЖНОГО ДВОРЯНСТВА НА РУБЕЖЕ XVIII–XIX ВЕКОВ
Дворянство, утверждают дворяне, это посредник между монархом и народом.
Да, в той же мере, в какой гончая – посредник между охотником и зайцами.
Н. Шамфор 511
В украинской историографии возникновение и актуализация «крестьянского вопроса», начиная с А. Ф. Кистяковского, традиционно связываются с наступлением только что сложившейся новой социальной элиты512 на личную свободу посполитых и рядовых казаков, которое «получило свое выражение прежде всего в прикреплении их к земле и ограничении (позднее – отмене) свободных переходов»513. Итак, на первый план выдвигался, по определению В. А. Мякотина, «частный вопрос» в рамках проблемы, изучение которого только и могло приблизить к пониманию «истинных источников образования крепостного права в гетманской Малороссии»514. Специфика этого вопроса была обусловлена особенностями социально-экономической практики Гетманщины, практики, которая вырабатывалась самой жизнью, на разных уровнях, всеми фигурантами поземельных, экономических отношений без исключения. И только переход проблемы на уровень высшей местной власти вывел ее за пределы приватных дел, в плоскость более широкого общественного обсуждения.
Этот момент историки определяли по-разному. В частности, Мякотин относил его к концу 1720‐х годов515, но большинство исследователей – к периоду гетманства К. Разумовского516. Итак, на первый взгляд может показаться, что речь должна идти не о рецепции, а о хронологическом совпадении в постановке крестьянского вопроса на малороссийском и на общероссийском уровнях и, в таком случае, об изменении временны́х границ не только данного раздела, но и работы в целом. Однако для этого следует сначала посмотреть на содержание «крестьянского вопроса» тогда, когда малороссийское общество еще не было втянуто в имперскую систему, когда его элита еще не приобрела очертаний дворянства, более того, когда еще не были в полном объеме оформлены сословные права даже русской знати, закрепленные «Жалованной грамотой», а в Гетманщине сохранялись традиционные привилегии, которыми пользовалась только шляхта и казацкая старшина. Иными словами, необходимо понять, какой вид и в персонологическом, и в коллективном измерениях имел «крестьянский вопрос» на старте «борьбы за закрепощение» и какое место занимал среди неотложных «нужд» левобережного дворянства.
ОТ «МУЖИЦКОГО» К «КРЕСТЬЯНСКОМУ» ВОПРОСУ: СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДВОРЯНСТВА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЫ
В отечественной историографии, как правило, упоминаются три случая, когда элита Малороссии, рассчитывая на ответную реакцию российского правительства, публично высказывалась по поводу волнующих ее проблем. Первый (связанный с так называемым Глуховским съездом 1763 года, речью на нем Г. А. Полетики и «Прошением» шляхетства и старшины к Екатерине II 1764 года) и второй (известный по «наказам» депутатам и по дебатам во время работы Комиссии по составлению нового Уложения 1767–1774 годов) неоднократно рассматривались в исторической литературе517, поскольку еще в XIX веке для этого были созданы определенные источниковые предпосылки518. Без сомнения, наиболее широко «сословные нужды и желания» шляхты были очерчены в работе И. В. Теличенко. Однако сам автор, «предоставляя будущим, более искусным и умелым, исследователям заняться изучением народного самосознания», ставил перед собой достаточно скромную цель и ограничивался лишь «сведением и группировкой сословных нужд и желаний малороссов»519. Попутно замечу, что, несмотря на авторскую скромность, труд этот до сих пор остается во многом непревзойденным.
Третий случай приходится на 1801 год и связан с изменениями на российском престоле, составлением вследствие них дворянством Малороссийской губернии коллективного «прошения», известного под названием «Записка господам Депутатам, избранным от Дворян Малороссийской Губернии, для принесения Его Императорскому Величеству, Александру Павловичу, всеподданнейшей благодарности за всемилостивейшее возстановление и утверждение Дворянской Грамоты во всей ея силе, и о нуждах, от всех Поветов изъясненных и в общем собрании к уважению принятых»520, или «Записка 1801 года о нуждах малороссийского дворянства»521. Она лишь вскользь упоминается историками, как правило – с достаточно тенденциозными, хотя и полярными, оценками.
Все эти события требуют специального внимания, поскольку выработанные в ходе них документы и озвученные персональные «программы» так или иначе касаются предмета данного исследования. Помимо прочего, они позволяют прояснить проблему преемственности в «идеологии» крестьянского вопроса.
Значение Глуховского съезда (рады) 1763 года в жизни общества Левобережной Украины и единодушие, которое царило на этом довольно многолюдном собрании, неоднократно отмечались в литературе. Именно тогда было наглядно продемонстрировано, что к началу 1760‐х годов в Гетманщине сложилась собственная элита, которая не только осознавала необходимость перестройки всех сфер жизни края, но и была способна сформулировать свою общественно-политическую программу, как бы в противовес той, что осенью 1763 года представлялась Екатерине II Г. Н. Тепловым и где звучал тот же мотив реформирования, только с имперских, централизаторских позиций522.
Анализ Д. П. Миллером списков присутствующих в Глухове представителей полков и сотен дал ему возможность утверждать, что
участники <…> если не все, то большинство, – были люди интеллигентные. Полковники и полковая старшина пеклись в то время почти исключительно из лиц штудированных; о бунчуковых товарищах, этом в своем роде «знатном» малороссийском дворянстве, уже и говорить нечего, даже сотники – и те были выбраны из числа «надежнейших», то есть таких, которые имели достаточное понятие о силе и важности прав малороссийских. Все эти лица, уже по одному своему служебному положению, должны были иметь солидное знакомство с предметом, бывшим целью собрания (судебная реформа. – Т. Л.). Многие из них, кроме того, хорошо знали историю своей родины523.
Широкий круг вопросов, поднятых во время собрания, не оставляет сомнений и в осведомленности этого общества с социально-экономической ситуацией, которая рассматривалась с точки зрения интересов всех социальных групп.
«Программа будущих действий», как считал Миллер, а вслед за ним и другие историки524, а также тон собранию были заданы выступлением, известным под названием «Речь „О поправлении состояния“ Малороссии»525. Она была произнесена Григорием Андреевичем Полетикой526, личность которого не требует детального представления527. Через несколько лет он фактически оказался лидером депутации от Малороссии в Большом собрании Комиссии по составлению нового Уложения.
«Малорусская интеллигенция» – так называл А. М. Лазаревский присутствующих на Глуховском съезде 1763 года, повторяя за Миллером и определение «украинская интеллигенция»528. Подобное можно было бы сказать, причем не только в связи с отстаиванием автономии, и в отношении депутатов от Левобережья в Комиссии по составлению нового Уложения, независимо от социального представительства. Вообще, думаю, что именно эти два случая «коллективного волеизъявления» позволяют говорить не только о завершении кристаллизации новой шляхетской идентичности, на что обращал внимание Зенон Когут529, но и о сформированности «домодерной» нации в Малороссии. Итак, стоит хотя бы бегло обратиться к материалам, выработанным в 1760‐е годы под углом зрения «крестьянского вопроса». Тем более что в научной литературе, несмотря на небольшое количество высказываний по этому поводу, можно встретить довольно разные оценки530.
Среди выделенных Когутом трех основных тем «Глуховской программы» «крестьянского вопроса» нет531. Он не волновал элиту в это время, как наглядно свидетельствуют таблицы, составленные историком на основе анализа шляхетских наказов депутатам в Екатерининскую комиссию532. В период работы Большого собрания в 1767–1768 годах, как отмечали исследователи, малороссийская делегация, руководствуясь убеждением об особом статусе своего края, который уже имеет вполне приличные законы, не была слишком активной в обсуждении общих проблем533, в том числе касательно положения крестьян. В истории украинской общественно-экономической мысли все случаи высказываний по этому поводу зафиксированы, позиции каждого оратора определены. Г. А. Полетика, З. М. Забила, Г. И. Божич, А. И. Кондратьев, В. Боярский и другие отнесены к «реакционерам-крепостникам», А. Маслов, Г. Коробьин, Я. П. Козельский – к представителям «просветительской идеи», А. Алейников – к «последовательным критикам крепостничества»534, хотя он выступал не против института крепостничества, а только против его распространения на Слобожанщине и Гетманщине.
Не вдаваясь в пространные рассуждения о таких оценках, замечу лишь, что анализ взглядов того или иного депутата осуществлялся исследователями без учета, во-первых, региональной специфики (не только в пределах Украины, но и на уровне «Украина – Россия»), а во-вторых, сословности представительства в Законодательной комиссии. Но наиболее важно то, что историки, независимо от собственных методологических подходов, не акцентировали внимание на том, что депутаты от украинских регионов, во всяком случае от Гетманщины, не могли в тот период «освоить» «крестьянский вопрос» в его общероссийском измерении: вопрос этот для «украинских»535 депутатов еще не был полностью «крестьянским», поскольку большинство из них было не очень хорошо знакомо с практикой российского крепостничества, имея дело не с «крепостными крестьянами», а с «мужиками», «посполитыми», «подданными», «людьми». Эти нюансы, за которыми кроется не просто терминологическая проблема, не учитывались при изучении взглядов «украинских» депутатов в Екатерининской комиссии. В связи с этим выскажу одно предположение, прежде чем перейти к рассмотрению позиций «шестидесятников».
Считаю, что одним из показателей «усвоения» малороссийским дворянством «крестьянского вопроса» в общероссийском варианте и, соответственно, роли помещика-душевладельца может быть как раз использование термина «крестьяне»536 в отношении своих подданных. Не претендуя на полноту картины, приведу ряд примеров, которые помогут понять, когда же это произошло. Правда, нужно учитывать и индивидуальные особенности того или иного героя.
В «Правах, по которым судится малороссийский народ» 1743 года, которые хотя и не были введены в действие, но, по признанию историков, отражали особенности судебно-правовой практики в Гетманщине, встречаются «посполитые», «подданные», «люди», а понятие «крестьяне» отсутствует, что хорошо видно из детального перечня предметов в «реестре» разделов, артикулов, статей537. И в публичных, и в частных записках, письмах известного в то время знатока права, Г. А. Полетики, это слово также почти не встречается. Чаще он употреблял обозначение «мужики», «люди», иногда – «подданные». Понятие «крепостной» используется, кажется, только в письме от 15 сентября 1777 года538. Это не значит, что малороссийские помещики не имели дела с крепостными. Более того, покупка людей была известна еще в первой половине XVIII века, о чем в 1838 году писал А. М. Маркович. «Владельцы» приобретали крепостных людей, преимущественно дворовых, покупая их у великорусских помещиков или из обращенных в христианство малолетних пленных татар, калмыков. «Во время Персидской войны, – заметил он в примечании, – в 1725 году дворяне покупали у Яицких казаков Татарчуков (так называли в Малороссии горские народы) за 7, 13 и 15 рублей»539.
В 1928 году Ольга Грушевская, отметив, что «история крепостничества в Украине имеет достаточно моментов не вполне ясных» и пытаясь прояснить их на основе архивных источников, остановилась на нескольких эпизодах, раскрывающих механизмы попадания крепостных в Гетманщину. Один из них – это путешествия в 30‐х годах XVIII века мелких смоленских шляхтичей, которые наезжали сюда за более дешевым хлебом и одновременно привозили своих крепостных для одного из помещиков, несмотря на то что российским правительством было запрещено принимать великорусских крестьян540 в Малороссии. Сюда же, переходя с места на место в поисках работы и попрошайничая, самовольно прибывали и собственно крепостные «с бедной Смоленщины», надеясь «найти здесь работу и остаться на долгое время у зажиточных хозяев». Именно по отношению к таким, завезенным или пришлым крепостным, как считала исследовательница, «помещики могли себе позволить больше, чем по отношению к коренному украинскому крестьянству Гетманщины»541. Однако представленные Грушевской материалы, несмотря на замечания о «проторенной» дороге для смоленских шляхтичей, не производят впечатления массовости явления. Разумеется, историк только подняла завесу над проблемой. К сожалению, заложенные шурфы фактически так и остались неразработанными, а вопрос, насколько такая практика приобретения «иностранных» крепостных была распространена, – окончательно не выясненным. И все же в отношении этой категории людей малороссы долго употребляли понятие «крестьянин»542.
Определенные объяснения по поводу терминологии, которым трудно не доверять, мы находим у А. Ф. Шафонского, автора одного из лучших топографических описаний второй половины XVIII века543. В «Черниговского наместничества топографическом описании», составленном в 1786 году, он сообщал:
Мужики в Малой России до сего назывались посполитые люди. Польское слово посполитый (здесь и далее в цитате курсив Шафонского. – Т. Л.) значит вообще общенародный. <…> Под названием Речи Посполитой Польской разумеется все благородное общество. Человек посполитый значит особенно простолюдина, или простонародного, то есть земледельца, владению какому принадлежащего. Был в Малой России еще род посполитых людей, или мужиков, которые суседи, или подсуседки, назывались. К сему рода жителей принадлежали такие, которые, не имея своей земли и своего двора, по прежнему обыкновению от одного владельца к другому переходили и проживали в его особом дворе, за то некоторые в работе оказывали послушание. Порядочные и достаточные владельцы определяли им пахотныя и другия земли, делая их настоящими земледельцами и хозяевами, привязывали к неподвижной и основательной жизни, и тогда уже они назывались грунтовые мужики544.
В «Словаре малорусской старины», составленном в 1808 году В. Я. Ломиковским на основе изданного в Петербурге в 1803–1806 годах труда Н. М. Яновского «Новый словотолкователь, расположенный в алфавитном порядке», слово «посполитый» означало:
Разночинец, простолюдин, мужик, не дворянин. В Малороссии и бывшей Польше, по древнему онаго слова знаменованию, значит человека общественнаго или принадлежащего к обществу, какого бы он ни был звания, включая дворянство. Впоследствии под именем посполитого разум. токмо селянина, пахаря или третий род от государственных жителей545.
Следовательно, и здесь «крестьян» нет, хотя позже в текстах Ломиковского, так же как и у Шафонского, они появятся546.
В письмах 1790 года П. С. Милорадовича к сыну Григорию фигурируют «мужики», «люди», «служитель твой»547. У Ф. О. Туманского упоминаются только «селяне», «поселяне», «земледельцы». А. М. Маркович, описывая особенности общественной жизни Гетманщины середины XVIII века, довольно четко различал: «…поселяне, жившие в помещичьих селениях, имели право переходить с места на место, приобретать свою землю и назывались не крестьянами, а подданными»548. В. В. Тарновский – старший в «Записке о собственных крестьянских землях в Полтавской и Черниговской губерниях» писал: «Малороссийские крестьяне до укрепления за помещиками назывались посполитыми людьми, пользовались правом свободного перехода и приобретали землю в собственность наравне с лицами других сословий»549. Один из лучших знатоков социально-правовой практики Гетманщины, Н. П. Василенко, сделал близкое терминологическое замечание: «Для посполитых тех местностей, которые были розданы и находились в частном владении старшины, употреблялось часто название подданные (выделено автором цитаты. – Т. Л.)»550.
Подобное наблюдалось даже в первые десятилетия XIX века. Например, В. Г. Полетика понятия «крестьянин» не употреблял. В его переписке, вотчинных распоряжениях, «Завещании» 1821 года упоминаются «мужики», «люди», когда речь идет о крестьянах, а также «дворовые», «дворовые люди», «слуги», «служители»551. Кстати, то же можно сказать не только о малороссийских помещиках. Один из биографов В. Н. Каразина, этого «первого эмансипатора из украинских помещиков», обратил внимание на отношение к понятию «крестьянин», высказанное в письме к слободско-украинскому губернатору И. И. Бахтину 30 января 1810 года: «Я избегаю имени „крестьянин“, котораго мы по справедливости чуждаться должны, ибо оно есть наследие от татар, некогда тиранов наших: это уничижительная печать, положенная ими на чело наших предков: „христианин“ или „крестьянин“ и „раб“ значило у них (татар. – Примеч. ред.) одно и то же. Нам ли увековечивать этот синоним»552.
Но, включившись в обсуждение общероссийских проблем, Василий Назарович – наверное, чтобы быть понятым, – наряду с терминами «народ», «поселяне», «люди», «земледельцы», начал упоминать и «крестьян» (например, при обсуждении указа от 23 мая 1816 года об эстляндских крестьянах, где, впрочем, использовал это слово только раз553).
Схожее отношение мы видим и у В. В. Капниста. Довольно пространно он рассуждал на эту тему в письме к А. Н. Голицыну от 4 марта 1817 года554, где выражал «чистосердечно относящуюся к общественной пользе мысль» и искал поддержки министра народного просвещения. «Звание крестьянина, присвоенное общеполезнейшей части народа», было в глазах Капниста еще более унизительным, чем «раб», и заслуживало лишь того, чтобы его ликвидировать, так как именно с ним связана «память постыдного рабства нашего под игом неверных». Не соглашаясь с теми, кто считал, что дело не в словах, а в позорной сути явления, и подкрепляя свои убеждения упоминанием о последствиях ликвидации Екатериной II наименования «раб», Капнист прибегал к таким лингвистическим аргументам:
Да исчезнет и название крестьянства (здесь и далее выделено автором цитаты. —Т. Л.), постыдное в нынешнем значении его для каждого правоверного и просвещенного россиянина. Оно ввелось во время порабощения отечества нашего татарами. Варвары сии признавали нас рабами своими и название христианин сделалось у них однозначительно с рабом. Так древле имя покоренных гуннами, аварами и другими народами славян, испорченное греческим произношением, составило у готфов и у франков название склава и эсклава, означающее раба. Память владычества татар погибла с шумом, а древнейший памятник господствования их над нами еще и поныне существует!
Вместо этого он предлагал: «Название[м] подданный можно весьма прилично и истинно заменить название крестьянина». (Тут автор письма сделал примечание: «Сколь слово душа в сем случае неприлично, объяснять перед вами было бы еще неприличнее».) Относительно Малороссии отмечалось, что здесь первое понятие
до сих пор общеупотребительно; и хотя с 1782 года, с присвоением крепостного права, введено в ревизских сказках ненавистное название крестьянин, но весьма редко произносится; и только малое число неблагомыслящих владельцев обращают во зло означающую оное личную зависимость подданных555.
Если же учесть терминологические замечания современных российских историков об отсутствии в то время конфликта между понятиями «подданный» и «гражданин»556, такие предложения Капниста можно воспринимать как стремление включить крестьянство в иерархию «гражданского общества», как это последнее понималось в эпоху Просвещения.
И все же «неблагомыслящих владельцев» становилось все больше, и в многочисленных бумагах левобережного дворянства термины «крестьяне», «крепостные» впоследствии практически вытеснили все другие понятия, что косвенно свидетельствует об усвоении новой социальной идентичности дворянина-помещика, который мог включиться в обсуждение именно «крестьянского», а не «посполитского» или «мужицкого» вопроса, как это было в 1760‐е годы. Правда, и тогда уже начало проявляться своеобразное «раздвоение», что довольно хорошо видно из материалов Екатерининской комиссии, в частности на примере Я. П. Козельского-депутата557. Хотя его взгляды неоднократно анализировались в разные времена исследователями, мимо их внимания прошел, во-первых, терминологический плюрализм, а во-вторых, то, что депутат, формально представляя Новороссийский край, свои предложения касательно крестьянства, скорее всего, формулировал на основе собственного малороссийского опыта. Причем, как ни странно, понятия, применяемые для обозначения крестьянства, имели ярко выраженный «региональный» уровень и «общий».
Говоря о крае, в котором находились его имения (повторюсь – «в самых местах украинских», т. е. южномалороссийских), и о его «народе», который «из малого какого-либо себе неудовольствия склонен к ежечасному с места на место переходу», Козельский, употреблял понятия «мужики», «подданные». Одновременно депутат выделял «внутренних крестьян»558. Как известно, он выступал против сохранения любой региональной специфики в империи в целом, поэтому, «помогая главному правительству»559, сознательно или подсознательно, специально не подчеркивая этого, вносил свои предложения, фактически «списанные» с малороссийских реалий560: право собственности для крестьян на движимое имущество (в Гетманщине это не ставилось под сомнение и гораздо позже); отмежевание крестьянам земельных наделов561 (это также делалось при создании слобод, не говоря уже о «займанщине», которая еще с XVII века была одной из форм приобретения земельной собственности в ходе колонизации Левобережья, во всяком случае его южной части562); наследственное пользование землями (традиция, которая не подлежала сомнению у левобережных помещиков даже в середине XIX века563); двухдневная работа на помещика (именно такой размер «обычного послушенства» зафиксирован в универсале Мазепы от 28 ноября 1701 года564).
Итак, включившись в обсуждение проблемы «внутренних крестьян» в общегосударственном масштабе, Козельский вышел за пределы «мужицкого вопроса»565. Депутаты же от шляхты малороссийских полков пока оставались в рамках последнего. И если и выражали «мнения» по поводу «крестьянского вопроса», то преимущественно для того, чтобы, как нежинский шляхетский представитель Гавриил Божич, подчеркнуть в ответ слободскому казацкому депутату Андрею Алейникову, что Гетманщина не Слобожанщина, что надо понимать ее специфику. А относительно крестьян – «у малороссийских помещиков русские крепостные люди своим жребием довольны»566. Единственное, что из предложений Козельского могло бы волновать шляхтичей-малороссов, – это проблема ограничения крестьянских, точнее мужицких, переходов. Но и ее они в Законодательной комиссии не поднимали, в отличие от, скажем, слободско-украинских депутатов.
Объяснения З. Когута по этому поводу не вполне удовлетворяют: «Отказ украинской делегации, контролируемой украинскими землевладельцами, рассматривать вопрос о дальнейших ограничениях переходов крестьян или введении российского типа крепостного права в Гетманщине свидетельствовал об их опасениях, что любое вмешательство России в дела Гетманщины, даже выгодное для правящей шляхты, может привести к отмене украинской автономии»567. Не удовлетворяют не только потому, что историк как-то неосторожно обошелся и с «украинскими землевладельцами» (ими в то время, кроме шляхты и старшины, были и казаки, и города, представители которых единодушно поддерживали шляхетских депутатов даже там, где этого можно было бы и не делать), и с «правящей шляхтой» (как с формальной точки зрения, так и в реальности власть все еще принадлежала военному «сословию», и, напомню, петиция 1764 года подавалась Екатерине II от имени старшины и шляхты). Вообще, думаю, дело здесь не в «крестьянском вопросе» как таковом. Тем более если учитывать специфическое его понимание и наличие более актуальных социально-экономических проблем у малороссийского общества в целом и у его верхушки в частности, что демонстрируют и составленные Когутом, уже упомянутые таблицы.
Возможно, в отношении некоторых опасений ученый и прав, тем более что определенный опыт у малороссов уже был. Вряд ли, правда, вопрос о мужицких переходах привел к ликвидации должности гетмана и учреждению Малороссийской коллегии. Поэтому все же остается непонятным: почему еще несколько лет назад, во время Глуховского собрания, элита не боялась об этом говорить, а в Законодательной комиссии испугалась?568 Неужели депутаты четко осознавали, что участие в обсуждении в Большом собрании именно вопроса о прикреплении крестьян могло вызвать резкие реакции императрицы? Скорее, их можно было бы ожидать в ответ на коллективную петицию, обращенную к Екатерине II. Ведь «Прошение малороссийских депутатов во время составления Уложения (1768)»569 по своему содержанию и тональности было не менее категоричным в отстаивании традиционных прав и привилегий, чем «Прошение» 1764 года. К тому же этот своеобразный наказ Екатерине II, который, кстати, не производит впечатления страха со стороны делегации от Гетманщины, подавался с подписями большинства депутатов, независимо от сословного представительства, а не только от «украинских землевладельцев», «правящей шляхты»570. Думаю, вряд ли сейчас можно дать однозначное объяснение взглядам и поступкам депутации от Левобережья. И все же, чтобы попробовать хотя бы сколько-нибудь с этим разобраться, возвращусь к позициям одного из ее лидеров, вдохновителя и составителя «Прошения» 1768 года.
Как уже говорилось, Г. А. Полетика и в современной украинской историографии, несмотря на возвеличивание его автономистских устремлений, фигурирует в первую очередь как идеолог шляхетства и, соответственно, борец за его сословные интересы, среди которых социально-экономические играют не последнюю роль. Сейчас не время опровергать или ставить под сомнение устоявшиеся представления. Оставлю это на будущее. А вот на «крепостнических» позициях стоит остановиться.
Известно, что в разных записках публично-делового характера Г. А. Полетика неоднократно выступал за сохранение прав и вольностей шляхты, казачества, мещанства, духовенства571. Очевидно, отсутствие в этом перечне «чинов» крестьянства (поспольства) стало одним из оснований отнести его к числу крепостников. Тем более что в текстах Григория Андреевича можно найти цитаты, которые это проиллюстрируют. Например, в речи «О поправлении состояния» Малороссии на Глуховском съезде, возмущаясь тем, что «мужики наши приобрели самоволия <…> свободно из места на место бродят <…> безвозбранно вписываются в казаки <…> бежат в Польшу, выходят на великороссийские земли, а от сего у нас умаляется земледелие, неисправно плотятся общенародные подати и прочие безчисленные происходят непорядки», он прямо предлагал «просить о запрещении им свободного перехода»572. Подобное прозвучало и в таком документе, как «Прошение малороссийскаго шляхетства и старшины» к Екатерине II в 1764 году, в пункте под названием «О непереходе с места на место и о невписывании в казаки малороссийских мужиков»573.
Несколько позже, понимая, что «как Российские, так еще больше Малороссийские, помещики бóльшую нужду имеют в мужиках и их работах, нежели [в] землях», Г. А. Полетика все же выступил против предложения Малороссийской коллегии574 «закрепить» людей. В «Возражении» на «Наставление Малороссийской коллегии господину ж депутату Дмитрию Наталину» он писал: «Легко можно разставить нумеры, но опасно только то, чтоб одни нумеры да остались, а людей не будет. Представляемыя же от Коллегии средства, чтоб уходящих сыскивать всеми мерами, наказывать, посылать на поселение и на каторгу, сколь насильственные суть, столь и бесполезныя; ибо сие народа, близ границ живущего, не удержит. Поймают одного, а десять уйдет»575.
Надо учесть, что это говорилось уже после принятия российским правительством той программы освоения юга империи, которая известна как «Высочайше конфирмованный план о раздаче в Новороссийской губернии казенных земель к их заселению» или так называемый «Мельгуновский штат», «План 1764 года»576. Этим документом как будто открывались колонизационные шлюзы, что приближало Гетманщину к региону официальной колонизации и непосредственно затрагивало интересы помещиков. И все же в такой ситуации Г. А. Полетика понимал, что «лучше <…> оградить государство благоденствием, а не стражею, то народ и без того в пределах своих останется».
Почему Полетика так резко изменил свою публичную позицию относительно мужицких переходов, сказать трудно. Из прямых высказываний по этому поводу можно вспомнить его возражения на четвертый пункт «Наставления» Малороссийской коллегии, где Григорий Андреевич указывал на негативный опыт подушной переписи 1764 года и особенно Генерального описания Малороссии, начавшегося в 1765 году. Уже вследствие первой из этих переписей – нефискальной, организованной К. Разумовским, – «невероятно в какой страх и уныние пришел… Малороссийский народ и чрезвычайно начал бежать в Польшу и в Татарскую землю и селиться на тамошних землях». Румянцевская же опись предусматривала, как считалось в народе, «…не только переписать души, дворы и хаты, но обмерять земли, лесы и всякия угодия, описать скот, в прудах рыбу и прочее», что только усилило страх и «умножило побеги»577.
Возможно, на взглядах Г. А. Полетики также сказалось то содержательное и идейное направление, которое получил крестьянский вопрос в начале его публичного обсуждения, что обычно связывают с первым конкурсом, объявленным ВЭО в ответ на вопросы от неизвестного автора. Хотя тот и скрылся за инициалами «ИЕ», историки единодушно признают в нем саму императрицу, которая таким образом и задала тон рассмотрению важной проблемы. Современные российские специалисты считают, что в 60‐е годы XVIII века в России даже предложения об освобождении крестьян не выглядели крамолой. Так же на этот предмет смотрела и императрица, не скрывавшая своих либеральных взглядов578. В 1765 году Екатерину II интересовало: «В чем состоит или состоять должно, для твердого распространения земледельства, имение и наследие хлебопашца?», а в 1766‐м – «Может ли крестьянин иметь в собственности землю или движимое имение?»579. Григорий Андреевич мог не знать содержания вопросов, хотя они уже стали поводом для дискуссии и вызвали довольно резкую реакцию его хорошего знакомого, поэта и драматурга А. П. Сумарокова, о чем писал еще В. И. Семевский580. Но вряд ли петербургскому малороссу была неизвестна формулировка конкурсной задачи ВЭО 1766 года: «Что полезнее для общества, чтоб крестьянин имел в собственности землю или токмо движимое имение, и сколь далеко его права на то или другое имение простираться должны?», которую взялись решать как российские, так и зарубежные интеллектуалы.
Инспектор над классами Морского кадетского шляхетского корпуса, автор его образовательно-воспитательной программы581, руководитель типографии этого заведения, под чьим «смотрением» в ней издавалась разнообразная продукция582, известный в то время знаток древней церковной и светской истории, советами которого пользовались Г. Ф. Миллер, М. М. Щербатов, А. Л. Шлёцер, собиратель рукописей, старопечатных книг583 – Г. А. Полетика находился в центре интеллектуальной жизни Петербурга. И хотя он не был членом ВЭО, а все же не мог не читать его изданий, поскольку знакомился со всей печатной продукцией, появлявшейся в столице и за ее пределами, не только для пополнения собственной библиотеки, но и для отправки друзьям, приятелям – заказчикам из Малороссии. Итак, первые книги «Трудов ВЭО»584 не могли пройти мимо внимания Полетики. Правда, его подход к работе в Законодательной комиссии к тому времени уже выкристаллизовался. Однако и до этого ему могли быть известны позиции как участников конкурса585, так и неконкурсантов, высказывавшихся по крестьянскому вопросу.
Основания для такого предположения дает участие Г. Ф. Миллера (с которым Григорий Андреевич был довольно близок) в ознакомлении Екатерины II с идеями лифляндского пастора, немца Иоганна Георга Эйзена. Как утверждал английский русист Роджер Бартлетт, Эйзен, который с 1750 года и до самой смерти выступал и боролся на практике за наделение крестьян земельной собственностью и за их освобождение, благодаря официальному историографу получил на личной аудиенции в 1763 году возможность представить свои предложения императрице, а в 1764–1766 годах воплощать их в жизнь в имении графа Г. Г. Орлова в Ропше586.
В 1764 году в петербургском немецкоязычном журнале Sammlung russischer Geschichte, издаваемом Г. Ф. Миллером, появилась – по мнению Л. А. Лооне, с ведома Екатерины II587 – анонимная статья Эйзена о крепостном праве в Лифляндии588, статья, которую считают первой в России открытой критикой крепостного права589. Трудно представить, чтобы Г. А. Полетика, хорошо владевший немецким языком и плотно общавшийся с Миллером, не познакомился с проектами лютеранского пастора, а возможно, и с ним самим. Мог следить Григорий Андреевич и за «мнениями при дворе», и за крестьянскими делами в других регионах империи, например в Лифляндии590. Да и влияние «Наказа» Екатерины II Большому собранию, текста, в котором императрица коснулась «деликатной проблемы крепостного права и неволи»591, также нельзя исключать, хотя, по мнению Н. И. Павленко, в этом документе позиция императрицы по крепостному праву озвучена довольно глухо и невыразительно и именно крестьянский вопрос разработан намного слабее других592.
Следует также отметить, что «Возражение» Полетики, скорее всего, было написано в 1768 году, когда широкая образованная публика уже могла читать произведения победителей конкурса ВЭО, в частности Беарде-де-Л’Абея, Вельнера, Мека, Граслена. По мнению Исабель де Мадариаги, сам факт издания на русском языке работы Беарде-де-Л’Абея в период заседаний Уложенной комиссии позволяет увидеть в этом очерке санкционированное верховной властью обвинение против антигуманной системы крепостного права как таковой593. И проницательный депутат лубенского шляхетства мог это учесть, возражая Малороссийской коллегии.
И все же, какие именно из соображений конкурсантов были Полетике этически, эстетически и идейно близки, достоверно не известно. Возможно, что под влиянием новых столичных веяний у него возник интерес к крестьянской проблеме в ракурсе, обозначенном деятельностью ВЭО594, и более рельефно проявились противоречия между идеалами и социально-экономической практикой, что и подтолкнуло его занять в Законодательной комиссии именно такую позицию595. И все же это только предположения.
Однако тексты свидетельствуют, что Григорий Андреевич не рассматривал крестьян как товар. Он был противником крепостного рабства и свое отрицательное отношение к продаже людей неоднократно высказывал в письмах к жене. Но, осознавая себя малороссийским помещиком, ответственным за землю, которой владеет и которая в то же время является одним из богатств общества, он считал необходимым найти формы, способы законодательного урегулирования отношений между землевладельцами и земледельцами. Работа крестьянская – это труд осевшего человека, поэтому в данном вопросе интерес культурного помещика вступал в противоречие с духом, ментальностью казацкой вольницы тех социальных групп, которые имели свою правду и не мыслили в масштабах общей пользы.
Г. А. Полетика чувствовал себя ответственным и за людей, мужиков, сидевших на его земле, которые доверились ему и были вверены его попечению. В полетикинских бумагах нередко встречаются документы, демонстрирующие попытки помочь подданным, отстоять их интересы, особенно в экстремальных ситуациях. Например, после пожара, от которого пострадало его село, Григорий Андреевич в письме к жене от 25 июня 1784 года писал: «Весьма мне печально было уведомление ваше в сгорении Чеховки <…> Вы весьма хорошо сделали, что дали им леса на избы из повалы и уволили от пригонки. Человеколюбие требует в таких случаях с потерею своего людям помогать». И далее хозяин давал помещичье-родительские распоряжения жене и управляющему, дабы уладить дело и предотвратить в дальнейшем подобные несчастья:
1) Чтобы наставить всех, и сгоревших, и несгоревших, мужиков вывозить для сгоревших изб толокою, но без потчивания горелки, а так, как бы за пригон596; 2) велеть им дворы непременно строить не по-прежнему, но отступая друг от друга гораздо далее и не менее как 15, а по крайней мере 30 сажен. Избы чтобы были все на улицу выстроены, другое строение внутри, а овины позади огородов, в самом конце. Наилучший по таковому строению образец и чертеж есть в указной Петра Великого книге, который может сыскать Ситников, и потому велите им строиться, и отнюдь, пожалуйте, не дайте им своей (т. е. их собственной. – Примеч. ред.) воли, чтоб по своему обычаю и тесноте строились597.
Во время Русско-турецкой войны Полетика, пользуясь хорошим знакомством с П. А. Румянцевым, обратился к нему за помощью в защите своих мужиков от произвола военных. Согласно ордеру фельдмаршала в имения Григория Андреевича в 1771 году была отправлена специальная команда, и он из Глухова письмом благодарил за «милостиво пожалованную в деревню мою залогу»598. В то же время Полетика считал необходимым преподать «Наставление Ряжского пехотного полку подпрапорщику Огроновичу», руководителю этой команды599. В соответствии с «Наставлением» предполагалось защищать крестьян600 от подразделений, проходивших или проезжавших в места боевых действий, от незаконного отъема фуража, провианта и следить, чтобы брали только определенное указами, «без излишества, за наличные деньги по торговой цене». Огронович также должен был следить, чтобы у полетикинских крестьян не забирали больше, чем у крестьян других помещиков, доносить обо всех фактах вымогательства или «обид» его людям и т. п.
Пока что трудно сказать, свидетельствуют ли эти примеры о формировании «антагонистически-патрональной системы» (Л. В. Милов) в Гетманщине или являются результатом «человеколюбия» отдельно взятой особы. Но нет сомнений, что землевладельцы Левобережья, озабоченные проблемой рабочих рук, уже во второй половине XVIII века, наряду со стремлением получить ренту в любой форме, должны были поддерживать каждое крестьянское хозяйство, прибегать к различным мерам по борьбе с бедностью, к которым Милов относил, например, «прогрессивный» принцип определения повинностей, помещичьи займы крестьянам натурой (зерном, скотом, птицей), организацию хлебных магазинов, помощь погорельцам, запрет разделения крестьянских семей, дворов, контроль за крестьянскими хозяйствами, регулирование брачных отношений и т. п. Конечно, историк соглашался с предшественниками, оценивая эти приемы как «режим грубой и суровой эксплуатации крестьянина» в эпоху крепостничества, но одновременно призывал избегать упрощенного восприятия их как произвола, не допускать односторонности в понимании особенностей социального взаимодействия, которые были одним из компенсаторных механизмов выживания всего общества в целом в условиях традиционного хозяйствования в зоне рискованного земледелия Восточной Европы601.
И. Я. Каганов на основе анализа полетикинской переписки сделал вывод о «поразительных контрастах» во взглядах этого «просвещенного крепостника». Исследователя удивляло, что «депутат Комиссии, обещавший стремиться к тому, чтобы не было „воздыхающего во отечестве“, считал возможным оторвать детей своих крепостных от родителей и называл „отговорками“ протесты разлучаемых!»602
В качестве примера историк приводил ставшую довольно расхожей цитату из письма Г. А. Полетики жене, где звучала просьба отобрать способных мальчиков для обучения различным специальностям в Петербурге603. Кстати, здесь можно было бы привести и другую цитату: посоветовавшись с управляющим, Григорий Андреевич просит «из Николаевских и из Коровинских мужичьих детей, сирот и великосемейных, набрать и отдать в учение нашим мастеровым, ибо мне хочется, чтоб в каждом селе были тоже мастеровые, что и в Юдинове, почему и следует из каждого села взять столько хлопцев, сколько мастеровых»604.
Отношение Полетики к своим подданным можно определить как патернализм. И с этой точки зрения «контрасты» представляются не такими уж впечатляющими, поскольку батюшка-помещик только тогда хорош, когда заботится о благе всего хозяйства в целом, благо подданных рассматривается сквозь призму «что такое хорошо, что такое плохо». «Хорошо» – это типичное поверхностно-просветительское. Логика его такова: образование, обучение несет свет, дать образование меньшему ближнему своему – это благо для него и моральный поступок для того, кто дает. Это в конечном счете обоюдовыгодно605. Однако, кажется, дело здесь не только в образовании, но и в произволе по отношению к родителям этих детей. Между тем специфика патрональных отношений, связанная в значительной степени с традицией «осаждения слобод», предусматривала и право помещика на поселенцев, которое определялось фактом заботы о них, а не юридическими актами. Поскольку помещик вкладывал средства в хозяйство своих людей, он, таким образом, получал право вмешиваться не только в его организацию, но и в их личную жизнь.
При этом просветители а-ля Полетика могли не учитывать того факта, что образование для людей, стоящих на нижних ступеньках социальной лестницы, в условиях структурированности общества, является путем не только к свету, но и к осознанию своего «рабства», путем к напряжению и конфликтам. Правда, у Григория Андреевича были все основания в какой-то степени надеяться на благотворность такого пути для мужиков и казаков, поскольку в Гетманщине в то время формально не было крепостного права. Дилемма, которая возникла и формировалась в XVIII веке, – путь к прогрессу лежит через совершенствование человека или через совершенствование макроструктур – остается открытой и по сей день. История России конца XVIII – первой половины XIX века, до ликвидации крепостного права включительно, знает много примеров трагической судьбы людей – выходцев из крепостных, которые из‐за капризов фортуны получали образование, учились с помощью помещиков или отдельных меценатов искусствам, наукам, что в конечном счете становилось основой для глубокого внутреннего психологического или социального конфликта. Такая судьба постигла и многих выдающихся деятелей культуры и науки.




















