Читать онлайн Я знаю, что ты знаешь, что я знаю… бесплатно
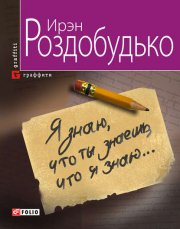
Татьяна:
«Лили Марлен»
…Конец марта был похож на начало января – пронизывающий ветер, слякоть, отяжелевшие сырые тучи низко нависали над городом без единой обнадеживающей щелочки, в которую могло бы проглянуть солнце, под ногами хлюпало серое грязное месиво. Каждое утро его педантично сгребали, вывозили куда-то за город, но каждый вечер снова падал мокрый снег и городок превращался в тарелку с подгоревшей манной кашей.
Ноги увязали в ней и промокали до костей. Автобусы не ходили.
Хотя какие автобусы? В этом городе их не было – все передвигались на собственных автомобилях.
Пройдя несколько кварталов, Татьяна вышла на центральную улицу и замедлила шаг, чувствуя, как сапоги медленно наполняются водой. Это было неприятно, будто идешь в бумажной обуви. Еще мгновение – расползется и придется месить мокрый снег босиком.
Не хватало еще заболеть!
Кафе были почти пустыми – жители этого городка засыпали рано или сидели в ночных клубах. Только «Макдоналдс» светился, как китайский фонарик. В нем тусовалась молодежь.
Голова раскалывалась, волосы пропахли табаком. Татьяна механическим движением поднесла прядь к носу, понюхала и поморщилась. Волосы у нее были длинные, волнами рассыпались по плечам, имели ухоженный вид. Но этот ненавистный запах! Теперь он сопровождал ее всегда. Даже если она каждое утро мыла голову, аккуратно укладывала прическу феном и щедро поливала духами. Напрасно. Все напрасно.
Вода в сапогах начала хлюпать. Татьяна пожалела, что не надела шерстяные носки. По крайней мере, тогда бы не растерла ноги, а теперь мало того, что они мокрые, так еще и сапоги стали натирать. Завтра на пальцах расцветут волдыри.
Татьяна остановилась.
И тут же услышала тихое: «Фрау…»
Конечно! Стоит остановиться, как сразу же слышишь предложения.
– Фрау…
– Пошел ты… – процедила сквозь зубы Татьяна, думая о мокрых ногах и возможных волдырях. Услышав незнакомую речь, человек удивленно отступил.
Было далеко за полночь. Конечно, порядочные фрау в такое время уже спят.
А по улицам бродят вот такие дешевые проститутки в мокрых сапогах!
Эх, знал бы он, как час или даже меньше тому назад она стояла в круге света – в элегантном сером костюме-тройке: брюки, жилет (под которым – ничего!) и пиджак. И томным голосом, в котором было больше надрывной, «с хрипотцой», страсти, чем пения, шептала в стилизованный под старину микрофон:
Vor der Kaserne
Vor dem groβen Tor
Stand eine Laterne
Und steht sie noch davor
So woll’n wir uns da wieder seh’n
Bei der Laterne wollen wir stehn
Wie einst Lili Marleen…
Когда-то давно, стоя на школьной сцене с ободранным полом, под жуткий аккомпанемент учителя музыки она представляла себе именно то, что происходит с ней сейчас! Вместо самодельного платья с нашитыми блестками видела себя в кругу тусклого света, в костюме из добротной тонкой шерсти, в туфлях на высоких каблуках, в горжетке из голубой норки…
Даже в самых смелых мечтах не представляла, что когда– нибудь все будет именно так.
Но разве могла знать, что сейчас, на улице немецкого городка N, ее будет тошнить от этой песни, от запаха табака, от того, что у нее мокрые ноги, а сапоги уже третий месяц безбожно протекают, хотя стоили целых сто евро. Сто евро коту под хвост!
Нужно было срочно спасать ситуацию. Татьяна посмотрела на окна «Макдоналдса» и решительно направилась к входу.
В зале на всю катушку играла музыка – какая-то местная попса, за столиками сидела молодежь.
Татьяна беглым взглядом окинула зал, чтобы убедиться, что среди них нет посетителей ее клуба, и, приняв равнодушный вид, направилась в туалет.
Глянула на себя в большое зеркало. Под глазами – тени. Не стоило пить с последним клиентом! Но он так пристально смотрел, что она не смогла сымитировать глоток.
Вот тебе и результат. Нужно дома приложить к глазам пакетики с заваркой, если сразу же не одолеет сон.
Татьяна закрылась в кабинке. Услышала, как в туалет зашли девицы. Громко заговорили, защелкали ручкой на двери.
Татьяна быстро сняла пальто, повесила на крючок. Подтянула до колен джинсы и, усевшись на крышку унитаза, принялась обматывать ступни туалетной бумагой. Как боец на фронте. Хорошо, что бумаги было много.
Кроме того, что ноги были мокрые, они еще безбожно ныли – за вечер она присела всего лишь раз, в конце, по приглашению герра Брюгге, и то, как обычно, на кончик кресла, в элегантной позе птички, готовой вспорхнуть и улететь к другим огонькам.
Татьяна всунула обмотанные бумагой ноги в сапоги, с трудом застегнув «молнии», потопталась – не жмут ли – и гордой походкой вышла из туалета.
Опять – улица. Фонари. Мерцающая снежно-дождливая ночь, от которой рябит в глазах.
Сапоги все-таки жали. Не пожалела бумаги!
Татьяна остановилась, оперлась рукой о чугунную ножку фонаря, потопталась на месте, утрамбовывая бумагу. Не заметила, что топталась в луже! То есть все ее усилия оказались напрасными – почувствовала, как ненавистная вода затапливает ее бумажные портянки.
Плюнула в сердцах себе под ноги: черт побери эту ночь! Этот город! Эти фонари! Это отсутствие транспорта, а вместе со всем – и эти чертовые дорогущие сапоги!
Мужчина на другой стороне улицы все еще стоял, спрятавшись под аркой. Похоже, следит за ней взглядом охотника. А она стоит под фонарем одна-одинешенька и действительно напоминает дешевую проститутку.
Сердце вздрогнуло и сжалось.
Перед казармой стоял фонарь…
Он стоит там до сих пор…
Давай, как раньше, встретимся у него,
Лили Марлен…
Вот она и стоит под фонарем. Напротив, вместо казармы – закрытая белой «гармошкой» витрина мебельного магазина. А она стоит мокрая и несчастная, в портянках из туалетной бумаги на ногах.
Два наших силуэта выглядели, как один…
Как нам было хорошо…
Это замечали все прохожие,
идущие мимо нас,
когда мы стояли под фонарем,
Лили Марлен…
Сто, двести, триста раз перепетые ею строки Ханса Лайпа, написанные бог весть когда, прозвучали сегодня по-особенному – именно под этим фонарем, где она случайно остановилась.
Ханс Лайп, сын портового рабочего из Гамбурга, бедный учитель, когда-то вот так же стоял на посту под фонарем. Только это было в Берлине перед отправкой на фронт в начале апреля 1915 года, а две девушки соревновались за его внимание – дочь бакалейщика Лили и медсестра Марлен. Была еще и третья, по имени Смерть. И, чувствуя приближение этой третьей, молодой солдатик создал гимн этим двум женщинам, увековечив их в одном лице. После войны он стал поэтом и художником, но приобрел известность лишь благодаря этой единственной незамысловатой песенке. А что стало с ними, теми девушками? Разве могли они знать, что их имена будут помнить до сих пор? Лили и Марлен…
Татьяна чуть не задохнулась – с такой ясностью она почувствовала, как это нужно петь. Ведь песня была о ней!
Стоило лишь случайно остановиться – но не в свете софитов, освещавших подиум ночного клуба, а вот так – на пустой улице, у фонаря, под дождем. И до спазмов в горле прочувствовать эти простые до примитивности строки…
…Вот солдатику кричит часовой: пора возвращаться в казарму!
Но тот не может оторвать от себя – с жилами и кровью! – руки любимой, хотя знает, что промедление может стоить ему трех дней ареста. Он все стоит, прижавшись к ней, шепчет «до свидания» – и не может сдвинуться с места. Не может разъединить один общий силуэт, тень которого видна на стене противоположного дома. Один общий силуэт.
Не может, потому что знает: он не вернется к ней. Никогда.
Никогда, Лили Марлен:
Schon rief der Posten,
Sie bliesen Zapfenstreich
Das kann drei Tage kosten
Kamrad, ich komm sogleich
Da sagten wir auf Wiedersehen
Wie gerne wollt ich mit dir geh’n
Mit dir Lili Marleen…
Сколько же раз за эти годы она проходила мимо этого фонаря летом и зимой, напевая про себя песенку, ставшую ее коронным номером в клубе. Именно благодаря ей и держал Татьяну хозяин, благодаря ей пошил костюм а-ля Марлен Дитрих и именно благодаря ей она уклонялась от непристойных предложений. Занималась только консумацией! Но это – мелочи. Это можно выдержать, если научиться не глотать спиртное или делать вид, что глотаешь. А она научилась.
Она многому научилась…
Господи, вздохнула Татьяна, удивляясь тому, какие неисповедимые пути может подбросить судьба! Конечно, этот фонарь видел ее сто, двести и триста раз:
Твои шаги знает этот фонарь…
Он горит здесь каждый вечер…
А мои – забыл давно…
Если со мной случится беда —
С кем ты будешь стоять под этим фонарем,
Лили Марлен?
Я буду стоять одна. Одна ночью. С мокрыми ногами в сапогах за сто евро, с прокуренными волосами – такая красивая, загадочная и… никому не нужная.
Мужчина в арке все еще смотрит на нее. Но не подходит. Здесь деликатные мужчины: если говоришь «нет» – то это уже «нет».
Интересно, а вдруг он – тот самый, тот, кого «поднимут из-под земли» ее уста, тот, с кем ее «закружат туманы», тот, в кого она «вдохнет жизнь» всей силой своей любви и ожидания.
Заставит дышать. Заставит прийти под этот фонарь – из небытия. И стать под ним вместе. Вместе, как прежде Лили Марлен:
Aus dem stillen Raume,
Aus der Erde Grund
Hebt mich wie im Traume
Dein verliebter Mund
Wenn sich die späten Nebel drehn
Werd ‘ich bei der Laterne steh’n
Wie einst Lili Marleen.
Вероятно, это была одна из тех странных и не каждому данных минут, когда ты неожиданно оказываешься в шкуре незнакомого человека и переживаешь ситуацию, которую до того уже смоделировал кто-то другой.
Стоит лишь, чтобы совпало несколько важных факторов – погода, время суток, эмоциональное состояние. Природа порой проделывает такие шутки: выхватывает из небытия давно исчезнувшие образы или оживляет призраки в старинных замках.
Татьяна чувствовала себя именно таким призраком.
Но эта минута прошла.
И она снова почувствовала мокрые ноги. И тягучую болезненную усталость во всем теле. Ей захотелось быстрее добраться до дома и залезть под одеяло.
Она вышла из света фонаря и быстро зашагала по улице.
Но последняя вспышка чужой памяти нарисовала в ее воображении такую картинку: вот она (точнее та, что жила сто лет назад!) разворачивается, бежит по лужам, не думая о сапогах, бросается на шею мужчине в арке, и они сливаются в единую тень.
Когда Татьяна подходила к особняку фрау Шульце, ноги ее едва двигались, а походка была как во сне: два шага вперед – три назад. Татьяна вынула ключи. Тихо открыла дверь.
Ее раздражало то, что в свою комнату приходится прокрадываться мимо дверей своих бывших соотечественников, которые, как и она, живут в пансионе фрау Шульце и всячески избегают общения, ведь каждый из них считает «неудачником» другого, что нельзя включить музыку в любое время и что стены слишком тонкие, чтобы не слышать, как за ними слева храпит сосед – Роман Иванович, а справа – скрипит кроватью с очередной девицей еще один жилец – Максим.
Татьяне не терпелось включить компьютер, проверить, нет ли вестей из Бельгии, куда она собиралась в ближайшее время – поговаривали, что там заработки больше, чем здесь, в Германии. Но ее сразу сморило.
Бросив сапоги под батарею, она легла, не расстилая постель, сгребла на себя охапку вещей, которые валялись на ней, и уснула.
…Она попала сюда впервые, когда ей было шестнадцать. Это был молодежное мероприятие под названием «Поезд дружбы». Кто это придумал, неизвестно, но тогда ей очень повезло. Мероприятие выглядело так: от различных предприятий страны (главным образом, из дальних районов и даже сел) подбиралась «передовая» молодежь до двадцати семи лет, приблизительно человек сорок-пятьдесят. Заняв несколько вагонов, курсировавших между Киевом и Берлином, вся эта команда отправлялась в Германию.
В отчетах чиновников цель такого путешествия выглядела довольно солидно: обмен опытом и укрепление дружбы между молодежью разных стран и городами-побратимами.
В состав делегации подбирались люди идейные и надежные. Поэтому отбор шел строгий. Но в ней должны были быть какие-то самодеятельные художественные коллективы, чтобы принимать участие в торжественных мероприятиях. Поскольку Татьяна посещала один из лучших в городе театральных кружков и неплохо пела, ей торжественно вручили путевку на этот поезд. Она должна была петь патриотические и народные песни.
Ради такого путешествия – первого путешествия за границу! – Татьяна согласилась бы на голове стоять.
Пройдя отбор, она достойно влилась в веселую компанию счастливчиков, которые так же, как и она, впервые (это было обязательным условием) отправлялись за пределы своей родины.
Татьяна до сих пор помнила то чувство эйфории, когда поезд тронулся с места, оставляя за собой перрон, на котором провожал ее нетрезвый отец, все время привлекавший к себе внимание громким голосом и установками «не скурвиться с этими фашистами».
В «Поезде дружбы» все были старше нее, пили провезенную тайком водку, раскладывали жареных кур, яйца и огурцы, рассказывали скабрезные анекдоты. А главное, как-то сразу и довольно ловко разбивались на пары. Это произошло так просто и непринужденно, что она подумала, что, видимо, так и надо.
Мужчины поснимали кольца, женщины хоть и оставили на себе эти знаки принадлежности кому-то, охотно флиртовали направо и налево, выбирая себе утеху на эти две недели.
Вся атмосфера была пропитана духом свободы. Но не той, о которой она пела в патриотических песнях. Это была свобода сорваться с катушек или с цепи. Женщины с плохо покрашенными волосами, с яркими синими тенями на веках, с ядовито-красным маникюром наконец почувствовали себя свободными от кастрюль и утренних подъемов на работу.
Поезд несло в неведомые края на волнах общего праздничного возбуждения. Татьяну тоже охватило это животное чувство дикой свободы – будто стадо баранов, которое теснилось на маленьком клочке земли, вдруг выпустили пастись на пастбище и оно, это стадо, толкая друг друга, повалило из узких ворот, мекая и вытаптывая все на своем пути.
У Татьяны тоже наметился завидный выбор. Руководитель группы, бывший комсомольский работник, старше всех по возрасту, довольно недвусмысленно прижимался к ней во время импровизированных вагонных радиоэфиров. Его влажные толстые пальцы перебирали позвонки на ее спине, скользили по коленям, пользуясь тем, что она не могла прервать песню.
Нужно было срочно определяться!
И она выбрала шахтера из Красного Лимана, который сразу сделал ей предложение выйти за него замуж. Ох… Но, по крайней мере, он был безопаснее других – не хватал ее за талию, не тащил в тамбур. Только смотрел восхищенным взглядом и мгновенно выполнял все просьбы.
Эти неудобства все же были мелочью по сравнению с той безумной радостью, которая нахлынула на нее, как только она переступила порог гостиничного номера. Собственного гостиничного номера в небольшом промышленном пригороде Берлина.
Перед торжественным ужином с сознательной немецкой молодежью им дали четыре часа свободного времени, и Татьяна отправилась бродить по улицам.
В городке проходило какое-то торжество. Толпа веселых шумных людей заполнила улицы и площади. На каждом пятачке происходило свое действо: играли оркестрики, стояли палатки, где каждый желающий мог взять цветные мелки и рисовать ими прямо на асфальте, на траве сидели и лежали местные жители, жуя гамбургеры и потягивая пиво из банок, в воздухе летали модели самолетов, в большом фонтане шли соревнования игрушечных лодок, которые запускали и стар и млад, небо бороздили воздушные змеи на разноцветных шнурах.
Татьяна бродила в толпе, как пьяная, пораженная, потрясенная атмосферой общей неподдельной радости. Наконец карнавальная волна вынесла ее к небольшой эстраде, где состязались самодеятельные певцы. Ведущий вызывал на сцену конкурсантов прямо из толпы.
Желающих было много. Почти все они пели ужасно, но уверенно и с огромным удовольствием. В какой-то момент взгляд ведущего встретился с удивленным и смущенным лицом Татьяны – и он махнул ей рукой, произнеся несколько непонятных фраз, жестом приглашая принять участие в импровизированном концерте.
Татьяна не колебалась. Вышла и сразу сообщила публике, что «нихт ферштейн», чем вызвала бурю оваций. Услышав, что она иностранка, да еще из Киева, публика зааплодировала еще громче – столько приветливых лиц Татьяна видела впервые. И решила петь.
Шепнула на ушко ведущему название песни – «Лили Марлен», свой коронный номер в школе. Тот удивленно и восторженно улыбнулся, бросился к оркестру. Музыканты тоже удивленно и приветливо закивали. Первые же аккорды вынесли Татьяну на гребень бешеного успеха.
Даже теперь, когда на ней серый костюм-тройка, куча поклонников, а софиты удачно подчеркивают в темноте ее высокие, как у Марлен Дитрих, скулы, она не испытывает такого острого и такого настоящего счастья, как тогда. Тогда, когда решила, что должна жить тут и только тут.
…Встала поздно. Собственно, «поздно» по меркам этой дурехи – «подкаблучницы» (если можно так выразиться о женщинах) Соньки со второго этажа или маниакальной чистюли Веры Власовны с первого.
Вера, по крайней мере, ходит на работу в местный оркестр, играет там на скрипочке, а Сонька могла бы спать вволю, наслаждаться жизнью. Ведь работу нашел только ее муж, и ей не нужно собирать себя по частям, чтобы вечером выглядеть свежей.
Сквозь прищуренные и припухшие веки Татьяна с отвращением оглядела свою комнату – у дверей валялись сапоги, на столе – бюстгальтер, содержимое косметички, скомканные деньги, которые она вчера выгребла из кармана мокрого пальто. За окном то дождь, то солнце – мерзкая неопределенность в погоде. Но, кажется, сапоги уже можно сменить на туфли.
Сегодня будет все, как всегда, – сначала душ, потом маска на лицо, пару часов дневного сна (если эта старая карга фрау Шульце не вызовет полотеров или еще каких-нибудь придурков, которые ухаживают за домом) – и она заблестит как новая копейка. И легкой походкой (которая ближе к ночи превратится в движение подбитого немцами танка) полетит на работу – красивая, загадочная и недосягаемая. Звезда!
Но блистать ей суждено не здесь. Хватит. Впереди – другие горизонты. И поэтому нужно потерпеть и не тратить много сил на этот черновик жизни. Скоро эта страница будет перевернута. Впереди – долгожданный контракт в Бельгии. Татьяна сгребла деньги, посчитала их, с довольным видом кивнула и спрятала в прореху на спине плюшевого медведя.
…К вечеру из-под глаз исчезли синяки, щеки порозовели, глаза профессионально заблестели. Все было, как всегда. Но что-то изменилось…
Татьяна подумала – что именно и почему? Неужели из-за разговора с хозяйкой – фрау Шульце?
– Вы действительно очень похожи на нее… – задумчиво пробормотала старая дама, когда Татьяна стояла на пороге, отправляясь на работу.
И в ответ на немой вопрос добавила:
– На Марлен. Я видела ее так близко, как сейчас вижу вас… Она заказывала у моего мужа украшения. Знаете, она не была такой уж красивой, как на экране и фото. Всегда ругалась с операторами, которые неправильно освещали ее лицо – сверху, а не снизу. Но у нее был большой плюс: она всегда была собой. Ей не нужно было никого копировать…
Это прозвучало, как упрек, хотя взгляд у фрау был приветливым и, скорее всего, ничего плохого она не имела в виду. Но Татьяна смутилась и покраснела, будто получила пощечину. Кивнула и молча вышла за дверь.
В ту же слякоть, сырость, в снежную кашу, под тяжелое вымя небес, висящее прямо над головой. А в конечном итоге – в свое одиночество под одиноким фонарем.
…Кто это придумал – эту мерзость и условность, которая выглядит пародией на аристократизм: нюхать бокал и делать из него глоток вина перед тем, как дать «добро» официанту. Мол, наливай!
Татьяна ни разу не видела, чтобы посетитель возразил. Тебе налили – ты попробовал – так пей же, хоть залейся. И не строй из себя потомка принца Датского!
В ее клубе или в маленьких ресторанчиках городка это выглядит смешно. Лысый урод в футболке, который привел свою пассию на обед, с видом знатока раскручивает напиток в бокале, сует туда свой нос, глотает, прищурив глаза, и важно кивает официанту, одетому как лорд из палаты лордов.
Боже, сколько в мире выдумано ритуалов, идиотских действий, направленных только на то, чтобы скоротать время! И все ради того, чтобы ни о чем не думать, а весело хохотать, зевать, слоняться туда-сюда, наблюдать за другими – и не задумываться. О, наверняка те, кто придумал подобные развлечения для других – все эти шоу с прыжками в мешках! – как раз и знают, что делают. Своими надуманными условностями они просто отвлекают человечество от других вопросов. Так мать дает ребенку кучу всяких игрушек, чтобы он ей не мешал.
Нюхать бокал с видом знатока в ресторанах – тоже что-то вроде игры. Татьяна ненавидела, когда ее клиенты, посетители клуба, предлагали ей этот ритуал – раскачивать каплю вина и совать нос в бокал. Все напитки, которые могли здесь предложить, она знала наперечет.
Редкая гадость…
…Татьяна бросила на столик коробку с гримом и еще раз внимательно оглядела себя в зеркале.
Все же что-то изменилось в глазах! Хотя и нет времени лучше присмотреться к себе. Подумать. Вспомнить себя такой, какой она была когда-то, и понять ту, какой хочет быть в будущем, чтобы никого не копировать.
А еще найти между этими двумя «я» себя, такой, какой она есть сейчас, теперь, в этот момент, когда думает о тех двух, как о посторонних людях. И те две «посторонние» женщины нравятся ей больше, чем она сама теперь – в этот самый миг. Она, которая сидит перед большим зеркалом в ярко освещенной гримерке и механическим движением крошит в пальцах кусочек голубых теней. Так вот, в прошлом она была такой, какой хочет быть в будущем, – женщиной «с ореолом».
Что это такое? Татьяна искренне считала, что все женщины делятся на две категории: «с ореолом» и «без». Этих последних, конечно, больше. И им не повезло! Хотя они сами в этом виноваты: слишком приземленные, слишком простые, слишком прямолинейно говорят и действуют, и даже – двигаются. Вокруг них нет никакого ореола – подходи и бери, не обжигая рук. Как морковь в магазине.
А первые – умнее: если сама неспособна излучать это таинственный свет – создай его вокруг себя искусственными методами. Ее «методом» стало пение.
А уже позже появились эти медленные движения, манеры, слова, которые придали образу – хоть и не своему! – естественность и шарм. Возможно, такими были звезды прошлого. Ведь Марлен Дитрих, под которую она здесь работает, не была красавицей. Но это была женщина «с ореолом», и поэтому ее жизнь сложилась так ярко. А ей, Татьяне, уже в школе даже учителя прочили необычную жизнь. Возможно, не такую уж выдающуюся, а именно – необычную, не такую, как у других. И то, что она решилась приехать сюда – одна из ее составляющих. Но – не судьбоносных. Так, перевалочный пункт между этими двумя «я».
А там – посмотрим…
В гримерку заглянул администратор Вил:
– Вчера герр Брюгге жаловался, что ты не была с ним любезной.
А почему я должна быть с ними любезной? – вскинулась Татьяна. – Он, кстати, благодаря мне выцедил две бутылки «Пино Гриджо» и еще заказал три десерта! Я чуть с ума не сошла. И вообще, Вильгельм, я не проститутка. Я актриса!
Вил засмеялся так вдохновенно, что несвежий запах из его рта донесся даже до того места, где сидела Татьяна. Она поморщилась:
– Что ты от меня хочешь?
– А что ты тут из себя корчишь? – ответил он вопросом на вопрос. – Актриса! Ты тут для того, чтобы привлекать клиентов, пока ты им нравишься. Тоже мне – Марлен! Да мой дед такую деревенщину, как ты, к стенке ставил еще мокренькими!
Он заржал, причмокнул влажным ртом и хлопнул дверью.
Настроение испортилось. Настроение снова было таким же, как вчера под фонарем, – тоска и слякоть. Еще к этому всему прибавилась тошнота после реплики наглого администратора.
Татьяна подкрасила губы, прошла длинным коридором к эстраде, выглянула из-за кулис в зал. За столиками сидели мужчины. На круглой эстраде лениво вертелась на шесте полуобнаженная хорватка Лия.
В правом углу, как всегда, расположился герр Брюгге – толстый, лысый, скупой. И, как поговаривали, очень богатый. Каждый вечер он заказывал для нее одни и те же пирожные, которые она просто крошила в пальцах, раскручивая господина на дорогие напитки.
Сейчас она должна выйти к микрофону под шум голосов и прищелкивания языками, исполнить свой номер – несколько песенок и «на закуску», как обычно, «Лили». Потом обойдет столики: по десять-двадцать минут с каждым, кто захочет налить ей бокальчик того, что она пожелает (а «пожелает» она тоже, как обычно, самое дорогое и – незаметно сплюнет во второй бокал с водой…). Будет улыбаться, шутить. А потом наступят трудные часы с завсегдатаем – герром Брюгге, который будет лапать под столом ее колени и уговаривать выйти в туалет: «Мне много не нужно…»
Проклятые фашисты! Откуда взялась эта ненависть? Татьяна вдруг представила, что все присутствующие оказались в военных формах офицеров СС, и крепко стиснула зубы: «Ох, зря, зря ты это сказал, Вил…»
Лия заканчивала выступление. Музыка умолкла, свет приглушили, как всегда перед ее появлением. Завсегдатаи оживились в ожидании выступления.
Зазвучали первые аккорды марша, под который она всегда выходила к микрофону.
И это тоже показалось ей издевательством.
Татьяна сделала глубокий вдох и шагнула в круг света. Раздались аплодисменты и одобрительный свист. Татьяна моргнула, но видение не исчезало – она видела перед собой офицеров СС. А сама стала той девочкой, которая когда-то плакала над фильмом «Список Шиндлера» и думала, что она никогда и ни за что не покорилась бы врагу. Первые аккорды уже прозвучали, и оркестр растерянно замолк.
Наступила тишина.
В углу сцены она увидела улыбающегося Вильгельма, который махнул рукой и показал высунутый из кулака средний палец.
Татьяна подошла к микрофону и…
Не спиш, мій синочку? А ніч, мов картинка в саду…
Про що ти сумуєш, якими мандруєш світами?
Кого все рятуєш? Чому ти не слухаєш мами,
Коли моє серце так гостро віщуе біду?..
Не спиш, мій синочку… А хлопці поснули давно,
Хоч ти так просив, щоб самого тебе не кидали.
Хтось каже крізь сон, що з води вийшло добре вино,
І скиглить всю ніч за кущем те дівча із Маґдали…
Голос существовал как бы отдельно от нее. Она даже не узнала его, настолько забытым было звучание родного языка. Голос вытекал из нее, как кровь, смешанная с медом, затапливал все пространство, и черные фигурки за столами замерли, как в детской игре. Они не могли понимать слов, но ее голос властно заставлял их молчать, ведь в каждое слово она вкладывала тот смысл, который не нуждался в переводе…
О так, пречудове вино ти зробив із води! —
Та нині воно стало кров’ю твоєю, месіє!
Доба не мине, третій півень іще не пропіє,
Як тричі найперший твій учень зіб’ється з ходи!
Чого ж ти навчив їх? Що далі вони понесуть —
Чужі в цьому світі, зіщулені привиди часу…
За кого ти вип’єш оту нелюдську свою чашу,
Для кого назавше закреслиш людську свою суть?!.
Тишина…
Пауза.
Даже странно, как потрескивают свечи, горящие в круглых вазах на столиках. Удивление сменилось напряженным вниманием. Злость и отчаяние, с которыми она вышла на сцену, превратились в безудержное желание донести до этой публики то, о чем она старалась не думать в борьбе за хлеб насущный, – о любви и предательстве, жертве и прощении. О том, что все в мире – лишь одна большая история одного человека, в которой слилось множество других человеческих историй.
И ее надо прожить на своей земле.
Не спиш, мій синочку… Я в думу твою не ввійду —
Ти виріс, ти вище твоєї печальної мами.
Лиш серце моє за тобою блукає світами
Крізь ніч, що, мов казка, стоїть в Ґетсиманськім саду…[1]
Татьяна отступила в темноту. В круге света остался микрофон.
Внизу, в мерцании свеч неподвижно застыли тени. Теперь они не были в черных формах – видение исчезло. Перед ней сидели люди, которым она только что сказала что-то важное. Но прежде всего она сказала это себе. И приняла решение…
Татьяна тихо спустилась вниз, прошла между столиками и вышла на улицу.
Она не слышала, как за ней бежал Вил. Не слышала уговоров.
Только отогнала его взмахом руки, как назойливую муху.
Роман Иванович:
Партия в шахматы
Роман Иванович храпел и нервно подергивался во сне.
Ему снилась университетская аудитория. Он стоял перед ней абсолютно голый и читал лекцию на тему «Методы и образцы неореализма в древнеирландских сагах». Тема казалась ему несколько странной. Но он с воодушевлением пытался что-то произносить перед аудиторией.
Напрягался, широко открывал рот, но из него не вылетало ни звука.
Думая, как выйти из этой неловкой ситуации, Роман Иванович в поисках помощи кивнул куда-то в сторону – и из-за большой доски-экрана вышел мужчина во фраке.
Увидев его, Роман Иванович испугался – не забыли ли поставить рояль? Оглянулся и с облегчением вздохнул: рояль стоял в правом углу зала. Мужчина во фраке сел за него и внимательно посмотрел на преподавателя. Глаза у него были узкие и зеленые, как у египетской кошки. Роман Иванович снова кивнул, и тот заиграл какую-то протяжную старинную мелодию. Причем, рояль звучал, как волынка. И под эти звуки Роман Иванович принялся жестикулировать.
Ему показалось, что именно сейчас он нашел самую лучшую форму для чтения лекций – язык жестов. Волынка звучала почти на одной ноте (вероятно, в это время Роман Иванович просто слышал сам себя – свой храп).
Студенты вскочили с места и принялись бурно аплодировать. Их громкие аплодисменты болью отдавались в ушах. Шум дошел до такого невыносимого звукового предела, что Роман Иванович заставил себя понять, что это сон, и попросил себя проснуться. Но из этого ничего не вышло – сон продолжался, аплодисменты не смолкали. Наконец дыхание сбилось с ритма, и на последнем всплеске собственного храпа Роман Иванович встрепенулся, открыл глаза и заморгал ими, не понимая, куда и зачем он вернулся.
Над ним стояла его жена Вера Власовна и изо всех сил тормошила за плечо.
– Ты перебудишь весь дом, – сказала она. – Повернись на бок.
Роман Иванович успокаивающе помахал рукой и послушно повернулся к стене.
Жена на цыпочках вышла.
Уже несколько месяцев она спала в комнате дочери, мотивируя это тем, что, во-первых, мужу нужно хорошо выспаться перед занятиями в университете, а во-вторых – из-за этого храпа. А еще потому, что ей тоже нужно было хорошо высыпаться, ведь вставала Вера рано и, перед тем, как отправиться на репетицию в филармонию, по старой семейной традиции, готовила питательный завтрак.
Вера встала в шесть. Вышла на кухню.
Кухня в пансионе фрау Шульце была общей для всех квартирантов и располагалась на первом этаже. Туда Вера выходила пить утренний кофе и поджаривать гренки к завтраку.
Это было единственное место, где можно было громыхать посудой в шесть часов утра, пока обитатели дома и ее собственная семья – муж и дочь – еще нежились в постелях.
И тридцать утренних минут принадлежали только ей одной.
Вера включила кофеварку. Кофе медленно капал в кружку и разносил по квартире аромат нового дня.
Сегодня она плохо спала. За полночь ее разбудил приход Татьяны – этой горе-певички, которая постоянно болтает об отъезде в Бельгию. Если это действительно так, то можно будет договориться с фрау Шульце об отдельной комнате для Марины. Девушка уже взрослая, у нее свои дела – множество дел, из-за которых она на три-четыре дня вынуждена оставаться ночевать в большом городе.
Если бы у них была собственная машина и собственная квартира, а еще лучше – дом, ребенок мог бы приезжать домой каждый день. И они бы виделись чаще. Как было ТАМ.
Вера грела руки о чашку и внимательно рассматривала свои пальцы. Когда-то из-за этих пальцев родители и отдали ее в музыкальную школу – на класс скрипки. Преподаватели говорили, что о такой «растяжке» мечтал бы сам Павел Коган.
Теперь пальцы немного опухли, но оставались такими же длинными, проворными, а сама рука еще сохраняла свою аристократическую форму. Собственно, никуда не делся и талант, если ее почти сразу после приезда и прослушивания пригласили в местный оркестр – пусть и маленький, но с контрактом на два года. И на ней теперь держится вся семья.
За спиной послышался шорох.
Вера недовольно оглянулась, наморщила лоб: на кухню выполз сосед Макс. Он бесцеремонно широко зевал и омерзительно чесал обнаженную грудь. Взглянув на Веру, бросил без всякого приветствия:
– Кофе остался? Можно?
Вера с отвращением оглядела его обнаженный торс.
Макс не скрывал, что работает коридорным в отеле для геев. Но всячески подчеркивал свою «традиционную ориентацию» и напоказ часто приводил в свою квартиру временных подружек.
– Бери. Только помоешь за собой кружку! – проворчала Вера.
Ей ничего здесь не нравилось! В частности, эта жизнь под одной крышей с теми, кого она старалась избегать, приехав сюда. Но ничего не поделаешь. Нужно немного потерпеть. А потом будет все – и собственный дом, и автомобиль.
Все образуется, достаточно лишь не ломать традиций и сохранять спокойствие.
Вера вытащила из шкафчика белую скатерть и отправилась накрывать стол в гостиную. Они единственные нарочито вели себя за столом, как аристократы – ели красиво, медленно, как в кино, с разговорами, с обсуждением семейных дел, почтительно прислуживая друг другу. – «Дорогая, кофе?» – «Пожалуйста». – «Может быть, подрезать хлеба?» – «Спасибо, достаточно…»
Когда стол уже был сервирован для завтрака, зазвенели два будильника – под ухом у Романа и на тумбочке у кровати Марины. Вера села во главе стола и застыла, глядя на дверь гостиной. Все было, как и должно было быть.
Первым вошел Роман. Он не чесал грудь и не зевал во весь рот, как это делает плебс. На нем была мягкая клетчатая куртка от домашнего костюма. Волосы причесаны, гладко выбритые щеки пахнут одеколоном. Перед его столовыми приборами предусмотрительно положена газета.
Вчерашняя вечерняя газета, которую он не успел прочитать. Утреннюю первой читала фрау Шульце.
Роман поцеловал Веру в затылок, сел на свое место, развернул газету. Теперь оставалось дождаться выхода дочери.
Марина выпорхнула в пеньюаре.
Вера с удовольствием оглядела ее: роскошная блондинка, настоящая «гретхен»! В последнее время просто расцвела, только под глазами – синие тени. Бедная девочка тоже не высыпается…
Дай ей Бог хорошего парня, а еще лучше – богатого и зрелого банковского служащего или просто нормального обеспеченного мужчину, и можно было бы наконец расслабиться.
Марина поочередно чмокнула родителей, влезла на кресло с ногами, ухватилась за чашку. Можно было начинать завтрак. Вера принялась намазывать гренки маслом и джемом, раскладывать их по тарелкам.
Перед этим семья всегда пила сок и глотала по таблетке витаминов.
Роман отложил газету.
– Тебе сегодня к которому часу? – задала вопрос Вера – так, будто переместила первую пешку в шахматной партии с Е-2 на клетку Е-4.
– Как всегда, – сказал Роман, передвигая свою пешку на те же привычные для начала игры клетки. – Лекция начинается в девять. Вернусь последней электричкой.
– Хорошо выспался? – продолжала свою партию Вера.
– Да. Замечательно. А ты?
– Не очень. Татьяна разбудила. Она такая неуклюжая – когда возвращается, обязательно весь дом перебудит, – сказала Вера. – Скорее бы нам выбраться отсюда.
– Ну, мы здесь не так уж и давно, дорогая, – сказал Роман. – Ко всему нужно приспособиться. Не все сразу…
Здесь можно было прекратить ходы, ведь тема щекотливая, с ней можно дойти и до «мата», а этого в семье не предусматривалось.
– Какие планы у тебя? – переключилась Вера на дочь. – Ждать к ужину?
Марина подняла глаза, ход был за ней:
– Ма, пойми: мне трудно мотаться сюда каждый день. У меня работа. Я ночую у Регины – у нее своя квартира в центре. А еще – курсы иностранного. Зачем мне болтаться по электричкам? Буду через пару дней. Мы как раз готовим важный проект для шефа – я должна себя хорошо зарекомендовать.
– Ты себя выматываешь… – заметила Вера и вздохнула: на сегодняшний день их двадцатилетняя девочка зарабатывала больше родителей, и с этим трудно было смириться.
Марина улыбнулась и пожала плечами.
Завтрак продолжался.
Семья еще немного поговорила о лекциях Романа Ивановича и о студентах, которые мало чем отличаются от своих сверстников в любой другой стране мира.
Роман рассказал несколько курьезных историй о студенческом туалете, где порой хорошенько попахивает марихуаной, о декане – «замечательном мужике», с которым он часто обедает в ресторанчике напротив университетского сада и до хрипоты спорит по поводу переводов Бродского на немецкий.
Вера так же подробно и обстоятельно ответила на несколько вопросов о своих успехах в местном оркестре и о подготовке ко Дню города, когда их музыкальный коллектив должен будет ехать на платформах грузовиков, украшенных цветами.
Затем пришло время раздачи бутербродов. Вера всегда аккуратно заворачивала их в фольгу и укладывала в маленькие пластмассовые контейнеры. Марина обычно отказывалась, мол, их на фирме кормят бесплатными обедами. Роман обычно благодарно поглаживал жену по плечу…
Два поцелуя на пороге – и Вера оставалась одна.
Начинала собираться. Но перед этим снова заваривала кофе на кухне.
Делала это только ради того, чтобы дождаться хозяйку фрау Шульце и лишний раз в милой утренней болтовне о том да о сем намекнуть, что они здесь временно. И когда-нибудь пригласят уважаемую фрау к себе в гости.
В собственный дом. В благодарность за гостеприимство…
Попрощавшись с женой и дочерью, которая всегда находила причины, чтобы не ехать в электричке вместе с отцом, Роман Иванович несколько минут спортивной походкой шел к симпатичному вокзальчику, где садился в электричку. Изнутри вагоны пахли, как цветник, и Роман проводил сорок минут в приятной душистой колыбели. В раздумьях. В планах на будущее…
…«Мне всего лишь сорок два…
Даст Бог, я проживу еще столько же в этой благодатной стране. То есть – добрая часть жизни еще впереди!
Ясное дело, сейчас не очень приятно вставать в семь утра, трястись в электричке, но скоро я буду преодолевать расстояния на машине, как все нормальные граждане.
Хотя при чем тут машина? Дело даже не в этом. Дело в самореализации.
У меня достаточно знаний и опыта, чтобы преодолеть все препятствия. Доказать.
Что доказать? Доказать, что я не напрасно появился на свет. Что смогу…
Господи, как хочется спать… Еще тридцать минут пути. Стоит провести их с пользой для себя. Думать! Что-то записать в блокнот.
Сделать хоть какой-нибудь задел для будущего романа.
А он давно уже рождается в уме. Он уже существует!
Для начала это будет коммерческий проект – он будет таким, как требует здешняя публика. Написать роман не так уж и сложно. Главное выбрать тему. Что-то в стиле Дэна Брауна – какое-нибудь романтическое расследование. И лучше на местном материале. Скажем, о любви семидесятитрехлетнего Гете к юной баронессе Ульрике. Назвать его «Последняя любовь Иоганна». А что? Звучит заманчиво! Текст должен быть не слишком сложным, но и не таким уж и примитивным, как печатают под яркими обложками. Сделать его более глубоким, пространным. Жаль, что он существует только в голове, но это не страшно. Наступит время – а оно обязательно наступит! – начну записывать. Сейчас можно обдумать начало. Например, оно может быть таким…»
Роман Иванович посмотрел в окно, вдохновенно втянул ноздрями аромат стерильно чистого вагона и даже пошевелил в воздухе указательным пальцем, как будто уже записывал начало своего романа:
«…Разочарованный и подавленный отказом юной невесты, знаменитый немецкий поэт Иоганн Вольфганг Гете стоял на мостике с ажурными перилами над рекой Тепла посреди Карловых Вар и печально смотрел на город. Дамы и барышни, проходившие мимо своего кумира, стыдливо прятали лица под кружевными зонтиками. Они напоминали белые сахарные фигурки, которые кондитеры расставляют по бокам свадебного торта. Это сравнение было настолько точным, что на мгновение Иоганн отвлекся от грустных мыслей и новым взглядом окинул город: шедевр французского архитектора Ле Корбюзье действительно похож на свадебный торт. Подумав о свадьбе, которой не будет, Иоганн нахмурился и так крепко стиснул зубы, что прикусил себе язык…» Нет, о языке не надо! Это уже какой-то натурализм. Но я хорошо представляю себе, что должен был чувствовать крестный отец Мефистофеля в такой неудобной и даже постыдной для своего почтенного возраста ситуации…
Потом можно две-четыре страницы посвятить описанию различных деталей. Причем, четко установить норму: страница пойдет на описание телосложения, еще одну посвятить глазам и другим частям тела, еще с десяток разворотов помусолить черты характера.
Так сказать, добавить объема, прежде чем перейти к самой истории. Разве не так у Гессе?
Стоп.
А где же любимая книга? Ага, вот она. Итак, страница четвертая. Открываем и читаем: «Он был невысок, но имел походку и осанку крепкого человека, носил модное и удобное зимнее пальто, да и вообще одевался прилично, но небрежно, аккуратно брился, его волосы, совсем короткие, отливали серебром…» Разве сделать примерно так же – сложно? Просто нужно иметь на все это время. А время у меня есть.
Мне всего лишь сорок два…
Так, об этом я уже думал.
Учимся дальше. Вот через несколько страниц идет следующее: «Держался он, ничего не скажешь, вежливо, даже приветливо…» И ниже: «…и все же от него веяло чем-то чужим, чем-то таким, что показалось мне тогда недобрым или враждебным».
Затем речь идет о лице: «…лицо нового жильца, которое изначально мне понравилось, несмотря на что-то странное во взгляде, было лицом необычным и печальным, но живым, очень одухотворенным, четко вылепленным и вдохновенным». Еще через несколько страниц говорится о привычках, чертах характера и т. д. Чуть не до двадцатой страницы! Разве трудно? Просто не нужно лениться!
Вместо того чтобы сразу укладываться спать – писать хотя бы по странице за вечер. Двадцать страниц мой Гете спокойно может простоять на том же самом мосту в Карловых Варах. Даже больше! Ведь кроме него самого можно описать и этот «слет тортов» – хорошо, что мы там были и я знаю, о чем буду писать. К тому же, поможет моя диссертация. Немецкая поэзия девятнадцатого века! Такой роман потянет на восемьсот страниц.
Лишь бы спина не болела.
А она в последнее время пошаливает. И, главное, нельзя в этом признаться – тогда сразу возникнет куча вопросов…»
Стук колес окончательно убаюкал Романа, мысли спутались, он задремал. А когда на мгновение открыл глаза, понял, что не только задремал, но и – всхрапнул. Возможно, даже громко, ведь на него внимательно смотрела дородная дама, сидевшая напротив. Роман приветливо улыбнулся ей, испытывая неловкость.
Дождь рисовал на окнах водяные узоры, за стеклом проплывали опрятные, будто вычерченные поля. Еще несколько минут и – город. Электричка почти пустая, сиденья мягкие, ни одно не порезано ножом. Все красивое, чистое. Вообще, эта страна похожа на его жизнь – в ней тоже все упорядочено от самого начала.
Люди в вагоне зашевелились – электричка уже шла по высокому мосту над городом.
Из-за туч проглянуло солнце, осветив красные крыши, которые, как грибы в лесу, прятались в кронах уже готовых расцвести деревьев. Роман давно заметил, что здесь куда ни глянь везде яркие чистые краски, будто каждое утро страну моют с шампунем. На окнах частных домов нет жалюзи. Здесь ценят уклад и уют, созданный предками: кружевные занавески, вазоны с цветами на подоконниках и у входа.
Роман в сотый раз смотрел сверху на город и в сотый раз испытывал восторг от того, что все это видит не по телевизору. Волна эйфории медленно поднималась в груди.
Но Роман знал, что вслед за этой эйфорией и чувством всеобъемлющей любви довольно скоро накатится волна такой же безграничной грусти, а за ней – глубокой неудовлетворенности, которая перерастет в такую же неизмеримо глубокую депрессию. И он уже сейчас пытался удержать себя от эмоционального подъема. Ведь чем выше взлет, тем больнее падение. А потом снова придется восстанавливать баланс. Эти перепады эмоций случались с ним все чаще. Роман знал, что это все из-за недовольства собой. Но он был из тех нерешительных людей, которые никогда не затягивают винтики до конца. То есть все детали в механизме его жизни были сконструированы почти идеально, не хватало лишь одного: уверенного поворота отвертки, чтобы плотно подогнать детали одну к другой, чтобы этот механизм не тарахтел, не давал сбоев и не разбалтывался. Но где найти эту «отвертку», которая сделает его совершенным, он не знал.
Электричка остановилась. Роман вышел.
Пошел по переулку, свернул за угол. Посмотрел на часы: все четко, минута в минуту, как и всегда.
Заходя в здание, на ходу достал из кармана ключи от своего шкафчика. Он был под номером 17. Открыл. Начал раздеваться. Аккуратно повесил на вешалку пиджак, брюки, рубашку, нацепил на нее галстук. Получился забавный бесплотный человечек. Роман достал из шкафчика специальный пластиковый футляр на «молнии», который предусмотрительно приобрел в хозяйственном магазине, и старательно натянул его на человечка. Вообще-то, никто кроме него так не делал, но Роману казалось, что костюм может набраться ненужных запахов и тогда дома придется оправдываться.
Повесил костюм в шкафчик. Быстро натянул униформу – синюю куртку и фуражку с красной полоской. Оставалось нацепить на лицо привычную улыбочку. Спустя пять минут он уже стоял на своем месте – за кассой автомойки. Как раз в этот момент туда въезжала первая машина. Исключительно-желтая. Та самая!
Сердце подпрыгнуло к горлу, тело пронзила горячая молния, ноги обмякли. В который раз это случается – а привыкнуть невозможно! Никак не может взять себя в руки.
Сейчас он выдаст талон и будет наблюдать, как происходит это действо. Щетки, как густой лес, окружат машину, задвигаются вокруг нее. Такое впечатление, что среди бурелома и дождя затрепещет, забьется костер.
А под желтым панцирем будет перекатываться его сладкая жемчужинка – его мука, его нечаянная беда…
…Конвейер гудел, продвигая миниатюрную машину вперед – под пену и воду. Роман пытался разглядеть женщину за рулем сквозь эту стихию и сразу же, как всегда, отводил взгляд – смотреть на нее было невыносимо! Просто невозможно в его возрасте! Он не какой-нибудь Гумберт Гумберт! Ему достаточно видеть, как покрывается пеной этот желтогорячий огонек, как его омывают потоки воды, поглаживают пушистые щетки – такой себе акт, почти похожий на любовный, если представить все это метафорически…
…Он не мог определить, сколько ей лет: могло быть от четырнадцати (что казалось маловероятным) до двадцати пяти.
Он никогда не видел таких девочек! Разве что в порнофильмах, которые когда-то смотрел с друзьями, задаваясь вопросом о том, откуда такие берутся. Или – за витринами магазинов с фарфором, где продавались коллекционные статуэтки обнаженных нимф.
Когда-то такую статуэтку привезли его родители именно из Германии. Тогда ему было лет десять, и он тайком рассматривал эту фарфоровую нимфу, крутил ее в руках, заглядывал в нарисованное лицо, проводил пальцами по изгибам тела, пока не разбил. Сейчас он точно так же смотрел на этот живой прототип фарфоровой куклы и радовался, что такие действительно существуют. Удивлялся тому, как совершенно она вылеплена – без малейшей лишней складочки. Каждая деталь, соединенная с другими, филигранно выточена и идеально подогнана, как будто над ней работал мастер.
Роман ловил себя на мысли, что ему невыносимо смотреть на нее больше одной минуты, иначе он сгорит от желания разбить окно машины, выхватить ее оттуда, обвить вокруг себя, как лозинку, задушить, съесть. Или, разодрав себе грудь, упрятать ее туда, внутрь себя.
Он стеснялся этих мыслей, гнал их прочь, принимал сосредоточенный строгий вид и… рисовал ее в своем воображении обнаженной. В этом образе не было эротики – главным образом он лишь удивлялся тому, как устроено ее тело.
Девушка была настолько худенькой, что если бы она села или даже скрючилась бы в неудобной позе – на ее теле все равно не появилось бы ни единой складочки – все осталось бы гладким, как у той фарфоровой статуэтки.
В полный рост он видел ее лишь однажды, когда она вышла из машины и стала что-то искать в багажнике. Тогда его поразило, что ее длинные и стройные ножки будто бы ничем не заканчиваются вверху: под коротенькой, сантиметров двадцать в длину джинсовой юбочкой они просто соединялись, не образуя никакой округлости.
Вся она была удлиненной, отполированной, утонченной. Длинные руки, ноги, пальцы, шея, полотно гладких белокурых волос, длинная спинка без всякого намека на ключицы – все ровно, все идеально выточено. Он мечтал, чтобы она вышла из машины хотя бы еще раз. Например, купить бутылку воды или шоколадный батончик. Девочки ведь любят шоколадные батончики! Но она всегда расплачивалась через окошко. И исчезала. До следующей недели…
…«Она точно посмотрела на меня! Я не могу ошибиться. Посмотрела и улыбнулась! В ее взгляде было что-то такое, чему я не могу подобрать слов, – что-то нечеловеческое, то, что светится в глазах этих фарфоровых статуэток – соблазняющее равнодушие, искусственное и отшлифованное, направленное на каждого и ни на кого в частности. Отстраненная улыбка безумной Джоконды. А еще… Что-то такое…»
Об этом «чем-то таком» он даже и думать не смел, потому что если бы подумал, пришел бы к выводу, что это было что– то вроде… невинной блудливости. Так бы он сказал. Такой взгляд бывает у совсем маленьких красивых девочек, которые уже осознали свою неотразимость и начали ею искусно пользоваться для того, чтобы получить самый большой кусок пирога. Или – у опытных проституток, которые рядятся в трогательную школьную форму. Как бы там ни было, но, расплачиваясь с ним через окошко, Фарфоровая Девочка взглянула на него и чуть заметно раздвинула губы.
Роман возвращался домой на каком-то мальчишеском подъеме. Он никогда не мог себе представить, что взгляд незнакомой девушки может так повлиять на его внутреннее, закаленное годами, равновесие. Ему было неловко и стыдно думать о таком: все, что касается романтических чувств, отошло в прошлое.
И это было вполне естественно! Ведь проблем хватало и без того. Каждую неделю он наведывался в университет к своему бывшему приятелю, который, собственно, и пообещал ему место на кафедре. Теперь, пряча глаза, тот мог лишь покрывать его обман перед семьей: делал липовые справки или время от времени названивал с сообщением о переносе лекций.
Но время исчерпалось и для вранья: зарплата рабочего с автомойки была втрое меньше преподавательской, и жена уже стала интересоваться их общими доходами, удивляясь тому, что они до сих пор не могут сэкономить на дом или хотя бы машину.
Конечно, о его планах в отношении писательской деятельности и будущего успеха книги «Последняя любовь Иоганна» она не знала.
Роман шел от электрички в своем опрятном костюме, время от времени машинально нюхал ладони – не пахнут ли бензином, и думал о том, что эта девушка попала в поле его зрения не случайно и что она имеет для него значение лишь как пример эмоционального состояния, в котором мог находиться влюбленный Гете: смущение старого человека перед страстью к юной особе. А такая страсть делает всех – даже великих – дураками! Но Роман не такой. А этот взгляд…
Он снова вспомнил его, и расплавленный свинец хлынул в горло, наполнил желудок и острой волной спустился вниз.
Черт побери! Неужели она действительно ТАК взглянула на него?!
Если бы он мог хоть с кем-нибудь поговорить на эту тему, посоветоваться! С кем-нибудь чужим и непредвзятым. Скажем, с фрау Шульце, которая всегда торчит на пороге, когда он возвращается домой, и внимательно присматривается к выражению его лица. А может, старая ищейка принюхивается к запаху бензина, который определенно въелся в его ладони или волосы, а скорее всего – в подсознание. Ведь недавно старая дама произнесла какую-то странную фразу о том, что «жизнь одна, и она стоит того, чтобы в ней делать то, что хочешь, ведь потом будет поздно…» – и принялась оживленно пересказывать сюжет книги, которую только что прочитала именно на эту тему. И ему показалось, что она слишком пытливо смотрит в его глаза, а ее старушечий острый носик лезет прямо в ту часть его мозга, где на пасторальной лужайке посреди леса прилегла Фарфоровая Девочка в ожидании его…
Дома его ждал ужин. Стол был накрыт другой скатертью, предназначенной именно для ужина. Вера накрыла на двоих.
– Погода налаживается, – сказал Роман Иванович, жуя мясо. – В воздухе уже пахнет настоящей весной.
«Е-2» – «Е-4»…
– Жесткое? – заботливо спросила жена.
Встречный ход: «F-7» – «F-6»…
– Замечательное, как все, что ты делаешь, – сказал он и добавил: – Надо посмотреть новости – там снова что-то с нашим парламентом…
– Чай зеленый или черный?
– Зеленый на ночь вызывает бессонницу. Неполезно. Черный. Не крепкий.
Шах. Рокировка.
– Меня волнует Марина. Она живет совсем отдельно. И все время молчит. Мы ее теряем.
– Это нормально. Привыкай. Скоро у нее будет своя жизнь. Вот дочь фрау Шульце вообще живет в Америке. Это у нас принято ухаживать за детьми до последних своих дней.
– Да. Но это как-то грустно.
– Это нормально.
Эндшпиль.
Все было нормально: ужин, телевизор.
Когда-то, в первые дни пребывания здесь, они ходили гулять в лес, мало похожий на лес – скорее, на большой ухоженный сквер с аккуратными подметенными дорожками, на которых почти никогда не лежит ни одного листочка…
Она улыбнулась ему! Это точно! Можно руку дать на отсечение – посмотрела и приоткрыла губы! Роман громко вздохнул и намеренно закашлялся, чтобы скрыть эмоции.
Одно лишь упоминание о ней – как стакан дорогого вина, что стоит на дальнем конце стола. То есть не глоток вина, а именно стакан или, вернее – изысканный хрустальный бокал, что остается нетронутым.
Выпитый стакан – это другая, Вера, собственная жена – знакомая на вкус, немного пресная, но в целом обычная. Она ходит перед ним, звякает посудой, шуршит простынями, пахнет знакомыми духами и произносит те же слова, что вчера и позавчера.
Но, наблюдая за всем этим, отныне он знал, что где-то там, на другом конце безупречно накрытого стола, далекий для его руки, но близкий взору, стоит этот драгоценный бокал с удивительным и незнакомым напитком. Он зачаровывает глаз, возбуждает вкусовые рецепторы, взволновывает воображение.
Его нельзя схватить и опрокинуть, как обычный стакан. Нужно как можно дольше растягивать удовольствие. Наблюдать. Думать. Прислушиваться к собственным чувствам и находить удовольствие в том, как они медленно пробуждаются и какие они разные: от теплой волны, что поднимается снизу вверх и наоборот, до острого, почти болезненного ливня, который начинается в какой-то точке мозга и пронизывает до самых пят. И кому, как не ему – зрелому, опытному, знать, что именно это состояние и есть счастье.
Если бы он мог поделиться своими мыслями с кем-нибудь другим, то ему бы сказали, что это обычная любовная лихорадка, свойственная молодым. Но он лишь бы улыбнулся: неправда! Ровесник его дочери никогда не выдержал бы этого восхищения незнакомым бокалом: схватил бы и выпил, не испытывая ничего, кроме собственного удовольствия.
Нет. Он должен достичь вершины самопознания, нырнуть в те глубины памяти, где он, ребенком, водил пальцем по фарфоровым пропорциям неземного, вылепленного мастером тела и задыхался от совершенства этих пропорций, которых никогда ни у кого не видел. А теперь встретился с земным воплощением того ангела. Разве каждого ждет такое счастье?
То, что она не может не заметить его восхищения – факт. Ведь иначе и быть не могло: они давно знали друг друга!
В другом измерении.
Только тогда он… разбил ее, Фарфоровую Девочку. Теперь ему дан шанс, и она это знает наверняка. Иначе бы не улыбалась ТАКОЙ улыбкой. Она тоже узнала его! И это вовсе не бред, не лихорадка. Так должно было случиться. И так случилось.
Только жаль, что придется немного нарушить привычный ритм жизни. А возможно, и не немного – а совсем, к черту!
На его лице неожиданно засветилась предательская блаженная улыбка. Хорошо, что он это вовремя заметил и низко склонился над тарелкой, пытаясь совладать с этим блаженным выражением лица, почти уткнулся носом в остатки бифштекса и замер, переваривая мысль о том, что жизнь может сделать новый поворот. И вдруг почувствовал на своей склоненной макушке… поцелуй.
Дернулся, как ошпаренный, с удивлением посмотрел на жену. Она стояла за его спиной с поникшим, растерянным выражением лица.
Такое выражение бывает у пойманных на горячем преступников. Роман Иванович не ожидал от жены подобного, особенно теперь, когда его мысли были довольно далеко от этой гостиной. Но этот неожиданный поцелуй заставил его смутиться, будто его поймали на горячем. Какое-то мгновение супруги ошеломленно смотрели друг на друга. Болезненная тягостная пауза прервалась громким кашлем Романа Ивановича.
Вера задвигалась, зазвенела посудой, быстро убрала со стола, метнулась к зеркалу – подкрасила губы и ресницы, к шкафу – бросила на диван несколько платьев. Задумалась над ними.
– Надолго? – спросил Роман Иванович, радуясь, что у жены нашлись свои дела и он может несколько часов полежать на своем диване не раздеваясь и даже не снимая тапочек.
– Нужно идти на собрание – договорились встретиться в неформальной обстановке за чаем у фрау Мерх, пора что-то решать о смене репертуара, – вздохнула Вера. – После смерти жены Мариенгаузер собирается нас покинуть – переезжает к детям в Австралию – его здесь уже ничто не держит. А он всегда исполнял ведущие партии…
– А-а… – протянул Роман.
И вдруг подумал, что если бы (не дай бог!) Веры не стало – что бы он почувствовал? Была ли это настоящая боль?
Неприятная мысль…
Неприятная еще и потому, что в ее трагичности он неожиданно почувствовал легчайший укольчик радости и свободы.
Вера кивнула ему издалека, взяла сумочку – кажется, он раньше такой у нее не видел – и вышла, осторожно прикрыв дверь. На ее безупречно белом фоне тут же нарисовался эфемерный силуэт, отделился от двери, устремился в направлении Романа Ивановича, оплел его невесомыми объятиями.
Роман бросился на свою кровать, уставился в потолок, на котором точно так же засияло отражение той сегодняшней улыбки.
Она все же улыбнулась! И можете резать меня ножом, если это не так!
…Фарфоровую Девочку звали Ленни.
На этот раз она отъехала от автомойки метров на двести – туда, где напротив светилась надпись «Motel», и неожиданно резко затормозила перед входом. Он даже рот разинул. Она никогда не останавливалась! Неужели она сейчас выйдет и он сможет еще раз увидеть ее в полный рост!
Роман Иванович подтянул отвисшую челюсть и нацепил солнцезащитные очки: так будет удобнее наблюдать. И наблюдал, как она сунула две ножки в черных чулках-«сеточках», затем выпорхнула, демонстрируя все остальные – тело бабочки в обрамлении ореола невидимых крыльев. Роман расстегнул «молнию» воротника рабочей куртки – он мешал дышать, но это не помогло.
Девочка тем временем оперлась на дверцу, покопалась в сумочке на длинной серебряной цепочке, достала сигарету, закурила. Душа Романа безукоризненным колечком слетела с ее губ. Было такое впечатление, что она смотрит именно на него! Роман Иванович тряхнул головой, чтобы отогнать наваждение. Не может такого быть! Он застыл в дверях мойки.
Их разделяло расстояние в те двести метров и черные стекла очков Романа.
Потом произошло невероятное.
Докурив, Фарфоровая Девочка подняла руку и согнутым пальцем поманила кого-то к себе – на запястье блеснула и звякнула низка браслетов. Кого-то, кого она видела напротив себя.
Роман обернулся. Площадка была пустой. Он напряг зрение, и лицо девочки приблизилось к нему, как в объективе фотоаппарата. Он четко и ясно увидел ее улыбку, а она снова пошевелила в воздухе тонким пальчиком. Сомнений не было – жест обращен к нему!
Роман вытер руки о тряпку, бросил ее на пульт и, путаясь в собственных ногах, будто их было не две, а сорок две, двинулся вперед, через площадку, чувствуя, что голова наливается кровью, как перед инсультом. Если это ошибка, решил он, дойду до машины, обойду ее и пойду дальше, за угол. Ходить по такой траектории никому не возбраняется!
Пусть думает, что хочет. Могу даже равнодушно, насколько у меня получится, кивнуть ей.
Ему осталось преодолеть не более десяти ужасных шагов, а она уже совершенно четко кивнула ему и, не дожидаясь, когда он подойдет, впорхнула в двери мотеля. Сомнений не оставалось: все ее действия были направлены по отношению к нему.
Роман Иванович вспомнил, как недавно не мог вынырнуть из сна, и подумал, что и сейчас стоило бы проснуться. Но с ужасом и восторгом понял, что все это происходит наяву. Вот и двери мотеля. Они автоматически раздвинулись перед ним. Девочка стояла у стойки администратора, что-то говорила, а увидев его, снова махнула в воздухе рукой, указывая дорогу в конец коридора. И он пошел за ней, как завороженный, ориентируясь на этот жест, как собака.
Все это было необычно. И он мечтал только об одном – пусть этот коридор никогда не закончится, чтобы он видел, как покачивается перед ним эфемерный силуэт бабочки, плотно затянутый в тонкую черную кожу коротких шорт и куртки-«косухи». Лишь раз она обернулась – идет ли он за ней – и исчезла за дверью номера…
Теперь можно было спокойно повернуть назад, побежать, преодолевая боль в сердце и в висках, удрать, растаять в воздухе – она дала ему эту возможность. И выбор оставался за ним. Великолепная, чудесная, романтическая, умная девочка! Почему она выбрала его? Неужели действительно чувствует то же, что и он? Роман замедлил шаг. Вспомнил свое убеждение: путь к мечте – лучше, чем ее осуществление. Не оставить ли все так, как было, как есть? А потом вспоминать об этом случае все сорок два последующих года, которые он собирается прожить здесь?
Остановился перед приоткрытой дверью. Из щелочки повеяло тревогой. Ноги дрожали. Роман сделал несколько шагов вперед, закрыл за собой дверь.
Фарфоровую Девочку звали Ленни…
Об этом он узнал уже потом, когда под его ногами разверзлась, затрещала выжженная пустыня.
Но перед этим он увидел то, что хотел увидеть – с детства, со своих десяти лет: каким образом соединяются фарфоровые части статуэтки. Обнаружил не сразу – глаза долго привыкали к полумраку уютного номера, кровь заливала мозг, в ушах звенело. Когда все это стихло, на кровати проявилось то удлиненное, отшлифованное, без малейшей складочки и морщинки, фарфоровое тело, невыразительные, но и соблазнительные в этой неопределенности глаза, приклеенная и такая же невыразительная улыбка, обращенная внутрь себя – и тем самым еще больше возбуждающая.
Одна ножка девочки была согнута в колене.
Оно светилось, как китайский фонарик. Роман Иванович осторожно присел рядом и, немея от счастья, чуть-чуть прикоснулся губами к этому фонарику. Но теперь не ощутил того удушающего детского стыда, когда проделывал это тридцать лет назад с той статуэткой. Мальчик вырос, статуэтка ожила…
Он сильнее прижался к колену, покрывая его невесомыми прикосновениями.
В голове вертелось только одно слово: «Господи…»
– Это будет стоить триста евро, раша!
Она что-то сказала?
Неужели он слышит ее голос?
Ровный, спокойный голос, без всякой интонации.
Такой, каким и положено говорить фарфоровой кукле.
– Что?
– Триста евро, – повторила она.
На губах загорчил привкус алебастра. Роман выпрямился.
Почувствовал, как трескается и разваливается на куски нежный фарфор – ноги, руки, голова – все с грохотом разлетелось по углам – не собрать. Как и собственную жизнь.
И тогда он разрыдался.
Впервые за тридцать лет – так же, как тогда, когда родители поймали его с поличным – с кусками разбитой куклы в руках.
– Раша глупый и жадный, – сказала Фарфоровая Девочка, собрала свои вещи с пола, быстро оделась и вышла из номера.
Оксана:
«Гуцулка ксеня»
Душа была не на месте!
Вот скажи кому-нибудь так – и станет понятно: человеку не по себе. И начнут успокаивать, мол, ничего страшного, время от времени такое испытывает каждый. Особенно зимой и весной. Надо попить настойку пиона или эхинацеи, валокординчик, больше бывать на свежем воздухе, думать «о хорошем».
Но как объяснить, что даже после таких мер душа не возвращается! А как жить без души, кто подскажет?
Если бы Оксана встретила хотя бы одного человека с такой же проблемой, ей бы стало значительно легче. Они бы подружились, помогли бы друг другу.
Просто поделились бы своими впечатлениями и симптомами, как это делают больные с общим диагнозом.
Оксана обвела бы пальцем вокруг груди, слегка захватив верхнюю часть живота, и сказала бы, что вот тут у нее дыра – большая вакуумная пустота. И ее невозможно залить настойкой! Это неизлечимая болезнь. И чем дольше она тянется, тем становится интереснее для изучения. Если бы только он существовал, такой диагноз – «душа не на месте». Оксана могла бы многое рассказать врачам и, возможно, помогла бы науке. Вот, например, хотя бы такой симптом, который она назвала «включение фонарика».
Это когда внутри пустоты возникает боль. Она не острая, не мешает двигаться и справляться с повседневными делами, но она постепенно разгорается внутри, достигает размеров груди, давит на стенки и, как живое существо, высасывает из сосудов все соки.
Сначала Оксана думала, что у нее проблемы с сердцем.
Проверилась у врача. Сердце в порядке. Потом грешила на желудок, поджелудочную железу, легкие, почки. Пока не пришла к непреложному выводу – этот фонарик боли зажигается в том месте, откуда вылетела душа. Как раз посередине груди, немного захватывая живот.
А потом, понаблюдав за собой, сделала важное открытие: этот фонарик включается ровно в десять часов утра и выжигает организм вплоть до одиннадцати ночи. Затем гаснет. Дает передышку на ночь. А утром все начинается снова. Боль возникает и исчезает внезапно, как будто кто-то внутри щелкает выключателем: «раз» – и болит! Все как по часам – ни минутой раньше, ни минутой позже! – выключатель щелкает второй раз: можно передохнуть, отдышаться.




















