Читать онлайн Империум. Антология к 400-летию Дома Романовых бесплатно
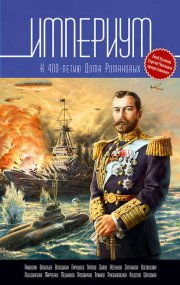
Россия во мгле
Дмитрий Володихин. Иное сказание
…Он приучил себя легко восставать ото сна и быстро одеваться. Нынче проснулся, от холода: печь давно остыла. Зябко. Болит левое предплечье, простреленное у Новодевичьего монастыря угорским гайдуком. Ноют два ребра, когда-то сокрушенные ударом литовской сабли. Немеет колено, много лет назад продырявленное воровским казаком. Зябко, зябко.
Пора зиме повернуть на весну, а ни солнца нет, ни ручьев, ни пташечьего пересвиста.
Вышел на крыльцо. О, стынь какая! Месяц лютый, что балуешься? Давно б переломился на теплынь! А ты, видишь как, беззаконно вонзил зубы ледяные свои в землю, и земля – чистый камень, ломом не пронять. Держишься, не уходишь, нет ни стыда в тебе, ни срама, ни дородства. Почему не уходишь? Голодно. Люди мрут по Москве, и не только люди, но и мужики торговые, и поселяне, и всякие служильцы…
В синеватой предрассветной мути отчетливо проступала иззубренная линия частокола, окружавшего двор. Над ним, до самого окоема, виднелись черные пальцы печных труб, воздетые к небу в немом молении. Пол-Москвы – печища… Храмы стоят закопченные, пустые, без пения. Копоти ныне, поутру, не видно, в дневную же пору мерзко глядеть на страшные ее пятна.
Кое-где поднялись над пустырями, меж печищ и развалин, широкие полосы дымов. Нашлись, значит, хозяйки, не устрашившиеся вернуться на дворища свои, развести огонь. Не боятся шальных казаков. А может, и боятся, но всё же хотят соблюсти родовое пристанище.
Издалека донесся стук плотницких топоров да собачий брех.
Москва, порфирой венчанный седьмохолмый град, крепкими мужицкими руками да простым снарядом плотников, землекопов, каменщиков залечивает раны, проделанные в огромном теле. И чуткое ухо улавливает, как от тела этого, искалеченного, обескровленного, обожженного, без сил раскинувшегося меж Яузой и Большими Лужниками, меж святой Екатериной на Всполье и Сокольничьим лесом, днем и ночью доносится стон.
Была в Москве великая сила. Град – полная чаша, град – Третий Рим, град – Второй Иерусалим… И ничего не осталось, ни Рима, ни Иерусалима, ни хоро́м, ни людей. Вся гордыня московская повержена, почиет на разбитых мостовых, припорошена снежной выпадкой. Одна лишь Богородица милосердная простирает, роняя слезы, покров свой над обожженной плотью Москвы, храня землянки погорельцев и редкие избы новоселов. Всё же Москва – Дом Пречистой, вот одна и осталась надежда, что не выдаст Матерь Божья, подсобит.
– Славен град Тверь!
– Славен град Тула!
– Славен град Галич! – перекликивались стрельцы у Сретенских ворот.
В утренней тиши звук их голосов доносился отчетливо. Молодцы, не спят. Казнишь двух дармоедов, и все остальные вот уже два месяца яко не спят на часах…
Ударил, созывая на службу, древний, среброязыкий колокол у Введения. И сейчас же ему в ответ тенькнул собрат с церковки на Пушечном дворе. Скороговоркою зачастила Покровка – по всей улице не колокола остались, а сущие воробьи.
Бом-м-м-м-м! Властно вмешался густой бас монастырский с Рождества, что у Трубы. Сберегли инокиньки, голодали, горели, хлеб весь отдали, лебедой какой-то питались, а колокол свой сберегли… Бом-м-м-м-м! Протягновенный глас его летел во все концы Первопрестольной. Нескончаемое послезвучие овевало пустые храмы надеждою: еще поднимитесь, чай, не последний день живем! Бом-м-м-м-м! Привычное ухо московское ловило истомную глубину и сладость колокольную.
Он улыбнулся:
– Сдюжим как-нибудь…
Князь Дмитрий Михайлович Пожарский вошел в хоромину и встал на молитву. Ему предстоял трудный день.
Облачился. Велел ключнице принести квасу с кислой ягодой. Кликнул пищальника Репу, стоявшего на страже у крыльца:
– Лобана ко мне на доклад.
Скоро в горницу к нему явился лохматый пес ростом с медведя и с медвежьими же ухватками. Медведь – зверь быстрый в движениях, он человека в лесу догонит, да хоть лося, если бежать недолго. Этот и был – ловкий, быстрый, космами обросший, один глаз выбит, второй смотрит остро и преданно. Пес, лешак! Как только по-человечьи говорить выучился…
Дмитрий Михайлович почувствовал неожиданное тепло к Лобану. Кому нынче довериться? Трое из четверых продадут ни за грош. Честных людей – раз-два и обчелся, всякий о корысти думает, такое времечко. А этот, шильник шильником – хоть обличьем, хоть нравом, – но всё же душа христианская, ни разу от господина своего не отступился. А два года назад из боя его вытащил, полуживого от ран, в беспамятстве хрипящего… Лучший боевой холоп из тех, кого отец оставил ему в наследство.
– Ныне сбираться в Кремле не станем. Завтра… завтра сбор последний, решится дело.
Лобан кивнул. Меньше ему работы. Всяко легче вкруг дома оборону держать, чем охранять князя, когда едет он через полгорода в Кремль, на соборное сидение.
– Явится к воротам старичок, на вид – юрод, попросит яблочка…
Лобан хохотнул. Яблочка ему среди зимы… ну, юрод на то юрод, чтоб чудить.
– Пропустить. Ко мне проведи.
Слуга поклонился, слова не сказав. Не его дело вызнавать, к чему понадобился Дмитрию Михайловичу юрод.
– Полуднем придет Лопата, а с ним полусотня дворянская. Полегчает нам тут.
– Спаси Христос! – ответил радостным голосом Лобан, а посмотрел с сомнением.
Шильник, а не дурак. Вторую седмицу осаждают казаки усадьбу Пожарского на Сретенке. Сколько их там? Пара дюжин. Да хоть бы и втрое больше, казак сыну боярскому не чета, сборище казачье разогнать – невелик труд. Но ведь кликнут казачки своих друзей-товарищей, и вместо дюжин явятся сотни. Тогда вызовет он к дому своему дворянское ополчение, так порубят и сотни эти… Вот только встанет тогда посреди Москвы большая война. Резать придется друг друга до полного истребления. И от той резни земскому делу выйдет поруха. Казаки – ворье, дрянь, корень смуты. А резаться с ними не надо бы. Все же родные, русские, вместе против ляхов стояли и постоим еще.
Резаться… только при крайней надобности… К примеру, завтра…
Лобан не уходил.
– Что?
– Поджигальщика словили. И еще…
Давно такого не случалось, чтобы Лобан затруднился с докладом. Не боялся ни ляха, ни татарина, ни самого беса. Князю служил без страха, за совесть. Жена не боялась его, косматого, – знала, что любит, а потому не прибьет до смерти. На остальных же Лобан наводил ужас. Всяк хотел обойти его стороной. А тут в единственном оке его мелькнуло опасение. Что за шутка?
– И еще, – справившись с собой, продолжил слуга, – перекидной. Гречане московские перекидного привели.
Так. Еще одна напасть ко всему.
– Поджигальщика – сюда. Перекидного – в клеть на дворе. Приставь к нему сразу троих, чтобы глаз с него не спускали, а кроме него и друг на друга поглядывали. Один зачудит, остальные двое сие диво в сабли возьмут. Вели рот завязать, чтоб ворожбы не понес. И глаза… сам знаешь.
– Уже всё исполнено. И рот… и глаза… и ноги в колодку забили.
– Ступай.
Поджигальщик трясся от ужаса. Глаза его бегали. Одетый в рванину, носил он хорошую заячью шапку и совсем не ношенные сапоги. Вот, стало быть, чем ему за лихое дело заплатили…
– Я тебя пытать не стану, мне тебя, мозгляка, на дыбу вздергивать противно и спину твою полосовать противно, ты ведь с первого удара калом изойдешь. Знаю, что ты не злодей, а дурак. И в великие страшные дела сунулся не по дерзости, а по одной дурости.
Поджигальщика всё еще одолевала крупная дрожь, но в глазах появилась надежда. Рябое лицо его застыло.
– Но ты не младенец. Стало быть, знал, на что шел. Сие дом рода моего. Слуги мои. Бойцы земские. А ты – что? Убить нас решился за обутку?
– Отк-куда…
Репа молча треснул поджигальщика по затылку, и тот заткнулся.
– А потому тебя станут судить. По закону, по статьям, какие в Судебнике писаны. А там для глупцов, вроде тебя, там одно наказание – смерть.
Поджигальщик открыл рот, захлопнул, опять раззявил, попытался что-то сказать, милости попросить, но лишился дара речи и только завыл, как воют бабы над мужниным мертвым телом.
Дмитрий Михайлович дал знак. Репа влепил молодчику по уху. У того мотнулась голова, но вой не прекратился. Пришлось крепче приложить его. Только тогда он, наконец, заткнулся.
– Но могу не давать тебя на суд. Если скажешь, кто послал тебя и зачем ему понадобился поджог.
– Да! Да! Не убивай меня! Да! Я из пахолков… ватамана Филища Максимова… не убивай!
– Зачем?
Рябой уткнулся лицом в пол и заговорил быстро, глухо, едва различимо:
– Братство стоит за Мишку… за государя Михайлу Федорыча… А ты ж с боярами за высокородных, за здрадцев…
– Молчать, – спокойно приказал ему Пожарский.
Как объяснить таким вот мерзавчикам, что боярское семейство Романовых – родом, чай, нимало не ниже знатностию всех прочих, о ком сказали на Земском соборе: «Сростно им ставиться в государи…»? Ну как им объяснить? Когда такой же, как ты, человек, у коего десяток поколений сосчитан, а то и полтора десятка, заводит спор, не о том он спорит. Среди своих, у кого кровь Рюрика в жилах, а не Рюрика, так Гедимина литовского, а не Гедимина, так верных слуг государевых, старой чади, старшей дружины, у престола стоявших и сто, и двести, и триста лет назад, разлад в одном: кто чуть повыше, а кто чуть пониже. Ну вот и Романовы, они же по-старому Захарьины-Юрьевы, а еще того старее, по древним родословцам, – Кошкины, они кого честию выше, а кого ниже? С князьями Мстиславскими да Шуйскими им, понятно, ровнею не быть, маловаты. А Шереметевы им самим не в версту – помене Романовых будут. А его собственный род, князья Пожарские, пусть и Рюриковичи из славного дома Стародубских князей, но с Романовыми тягаться не могут, честию ниже на много мест… Назвали же и Мстиславских, и Шуйских, и Романовых, и Шереметевых, и Пожарских, и много, много кого. Слишком много – свара идет неистовая. Как объяснить, что в кого пальцем не потычь, а всё выйдет здрадец, изменник, стало быть? Кто хоть раз не соблазнился за долгую Смуту? Кто чист? Кто не предавал, не корыстовался, не душегубствовал? Чья душа белей молока осталась? Да и кому тут объяснять… Максимов, небось, не просто так своих людишек подсылает. Кто таков сам «ватаман»? Шпынь, крыса. Серебро к нему, надо понимать, от Салтыковых притекло. Или от Черкасских. Или от князюшки Лыкова. Или от самого боярина Шереметева, великого лукавца и бойца изрядного… Ныне все они сгрудились вокруг романовского рода. Много их. А какие люди? Дрянь люди. Салтыковы – семейство, большой изменой меченное, злое семейство. Да и с прочими не сойтись. Кто из них тут, в Москве, с литвой и ляхами перемогался? Поищи-ка такого! А вот за ляшскими спинами кое-кто постоял, знатно постоял! Сильны. Осильнели ныне. Людишек своих привели. С казачьем столковались. Троица за ними… Вот что худо и непонятно: отчего же обитель преподобного Сергия заложилась за недостойных? Дело мутное, помыслить его невозможно… Одно их воровскому свету мешает: двое Романовых. Двое, а не один. Кого венчать? Старший, Иван Каша, честолюбец из честолюбцев. Да куда ему! Отца своего, большого вельможи Никиты Романовича, он то ли четвертый, то ли шестой сын… Колено сильное, да место слабое. Кто поклонится ему? Быть смуте новой, если его вознесут на трон. Но не вознесут, даже свои его в государи не хотят. Другое дело – мальчишка, Михаил, внук Никиты, притом сын первенца его, Федора. Но он же отрок, шестнадцатый год пошел, к делам державным не прикасался… Отец ему державной науки не дал – давно в плену у поляков, сына два с половиною года не видел. Кто править станет, когда Михаила на престол возведут? Те же Салтыковы, да Черкасские, да Шереметевы – мимо царя! А он во всем будет им поваден… Правда, если отца из неволи вызволит, тут другие дела пойдут: отец – тертый калач, вельможам спуску не даст… Но где ж его вызволить? Разворуют, разрушат, в ничтожество приведут Московское государство!
А таким вот простецам, за справные сапоги на своих же с огнем покушающихся… Что сказать? Как объяснить? Да ничего тут не объяснишь.
– Репа… Сего молодчика – выпороть и за ворота выбросить.
Пищальник сграбастал было казачьего подручника за шиворот и поволок свою добычу на двор, да князь вновь заговорил:
– У Лобана в клети за приставами один гультяй сидит. Его – сюда. Вести под крепкой сторо́жей.
Перекидные завелись на Москве то ли два, то ли три года назад. Ловили их и русские посадские люди, но больше – московские гречане. Бог весть по какой причине, а появлялись они чаще всего близ Никольского греческого монастыря и выглядели, говорят, ошалело: вертели головами, искали им одним ведомые приметы, вели себя словно пьяные, однако хмелем от них не пахло.
Вот и от сего хмелем не пахло. Тощий молодой монашек, не поймешь, бородка у него или щетинка. Нижняя губа разбита. Глядит печально, боится чего-то. Ряса небогатая, многошвенная, лоскут на лоскуте. А привели его в овчинном полушубке, заношенном вдрызг, да двух старых руковицах. На нечисть ничуть не похож. Человек и человек…
Только словил его никольский инок Никон, определив перекидного по явной, многим уже известной примете. Русский, он легко говорил на двух языках – своем и греческом. Но по-русски толковал так, будто полжизни провел среди греков. А по-гречески – со странными, никому не понятными словами, смесью греческой речи со славянской. Прежде раз в месяц, а потом раз в полмесяца, раз в седмицу ловили перекидных в самых странных местах. Иной раз – в запертом покое, куда никому хода не было. Иной раз – в погребе, едва живых от холода. Иной раз на крестце, у стрелецкой рогатки. Появлялся перекидной прямо из воздуха, и часовой, зябко потиравший руки у костра, мог сбежать от страха, пырнуть пришлеца бердышом или заорать, призывая на помощь товарищей, да скрутить непонятного человека. Ежели перекидного не убивали на месте, то конец ему всегда приходил странновидный. Пожив среди христьян, скоро умирал безо всяких причин, бывало, на глазах, а бывало – под охраной, за крепкими замками… Умерев же, пропадал вчистую, без следа. Никакая сила не могла удержать перекидного, даже крестное знамение, даже святая вода. Пропадал, и помину не оставалось.
Всё это вспомнил Дмитрий Михайлович, прикидывая, как бы ему начать разговор. По сю пору ни один перекидной вреда никому не творил. Разве что дрался, когда с ним самим дрались. Но сие, допустим, дело понятное… Люди, однако, говорили, будто водится за ними ворожба и дурной глаз, а более всего – крамольные речи. И за то перекидных побаивались. А кого боятся, того не любят.
– Кто и откуда?
Монашек робко улыбнулся:
– Грешный раб Божий Андроник… Черный дьякон… при обители Святой Троицы, что под рукою владыки Варсонофия…
– Которого владыки? Где?
– Рязанополиса.
Значит, настоящий перекидной. Значит, не ошиблись те, кто схватил его и привел сюда.
– Что ты здесь делаешь?
Черный дьякон потупился:
– Кир Деметрий, я не ведаю. Шел от лавки Печатного двора, что у Никольского крестца, к подворью владыки своего на Москове, искал тихой трапезы вечерней… Запнулся о кривую плашку на мостовой, упал, да встав, очутился тут. Окрест развалины, как при нашествии готов… огней нет… люди злые, косноязыкие…
Дмитрий Михайлович спокойно прервал его:
– Хватит.
Тот, замолчав, отвесил поклон. На лице его страх.
– Нелепы слова твои. На Рязани в архиепископах – владыка Феодорит, не Варсонофий. Готы сюда ни в которую пору не заходили… К чему тут готы? Разве только, отец дьякон, не зовешь ты готами ляхов – по их варварскому обычаю разорять и душегубствовать. И в толк не возьму, отчего зовешь ты меня Деметрием на греческий лад? Я Димитрий, а во крещении – Козьма, про то вся Москва ведает.
В глазах у монашка – вот диво! – загорелся огонь любопытства, на миг страх исчез. Он проговорил осторожно, будто пробовал новое яство:
– Мос-ква…
Потряс головой, словно отгонял наваждение, перекрестился.
– Москов. Москов? Москов же…
Юрод? Нет. Ума лишился? Нет. Нечисть? Был бы ею, не осенял бы себя крестным знамением. Хитрый враг, подсыл ляшский, либо от воровских казаков, либо… да откуда угодно. Не разобрать. Может, и лихой человек, в рясу облачившийся, яко волк в овечью шкуру… Но больно неловок, дурковат. Подсыл чесал бы яко по писаному, пока не припрут. А сей… сей – внятности внутри себя не имеет. Таким подсылам тайное дело поручать – себе дороже.
Между тем Андроник пробовал на язык имя воеводы:
– Ди-ми-трий…
Запнувшись, он спросил:
– Какой же… какая же Москва? Москов… Москва целешенька, палаты всюду, ряды торговые, улицы людом полны. На службу такой звон колокольный стоит, аж сло́ва в трех шагах оброненного, не слышно. Великий град! Ныне же слышу: дюжины с две колоколов бьют, притом великих всего-то три или четыре, прочие же…
Князь острожел:
– Бес тебя обуял! Умом тронулся, отец дьякон. Али спал беспробудно два лета? По той поре Москва-то и была… целешенька.
Тот истово закрестился, да принялся читать «Отче наш». Потом руки его стали двигаться с промедлением, а под конец и вовсе опустились. Слезы покатились из глаз Андроника.
– Не возьму в толк… не возьму в толк… Как же… Да где ж я? Господи!
Дмитрий Михайлович наблюдал за ним с брезгливостью. Хоть и подобает чтить иноческий сан, но ведь… баба же и баба! Смотреть противно. Что делать с ним? Предать пытке? Отдать дознавателям строгим, у кого времени поболе, чем у него, да и делами заняться? Или послать перекидного на подворье Троице-Сергиевой обители? Авось, там сыщется прозорливец, воззрит ему в душу да прочтет, какая там каша заварилась…
Монашек внезапно вскрикнул:
– Вели меня на двор вывести! Вели, вели! Вели, кир Димитрий! Христом Богом молю тебя! Смилуйся, вели!
Дмитрий Михайлович с пленником и в сопровождении Лобана вышел из дому. Дьякон завертел головой, всматриваясь, неведомо во что, а может, во всё сразу. Стоял таким образом ровно столько, сколько потребно на молитву Пречистой, если быстро ее проговорить. А потом ахнул и лицо руками закрыл.
Баба! Тьфу. Мяконький, яко мешок с трухой.
– Устретенка… – только и произнес Андроник перед тем, как бухнулся наземь без чувств.
– Волоки в дом, – приказал Дмитрий Михайлович с досадой.
Лобан взгромоздил пленника на лавку, крепко тряхнул, а когда тот отверз очи, сунул под нос ковшик с водой.
– Холодная… – только и сказал Андроник, напившись.
– Узнал? – деловито осведомился воевода.
– Узнал, – ответил тот упавшим голосом. – Москов. Москва… Но куда же всё подевалось? Куда пропало всё? Вчера… вчера я всё видел! Два года? Где я был два года? И почему мне тебя называть, стратиг, Димитрием, а не Деметрием? Неужто за два года еще и все имена переменились? Господи Иисусе!
Дмитрий Михайлович вздохнул с печалью. Все-таки ума лишился, и надо бы его к троицким попам…
Князь перехватил особенный взгляд Лобана. Тот стоял со злой усмешечкой, мол – знаем-знаем, как иной хитрованец узлов навяжет и простецом прикинется.
– Говори.
Лобан положил на стол серебряную монету и добавил:
– У него нашли четыре таких.
Князь взялся ее разглядывать.
– Что сие за невидаль?
Монашек ответил, пожав плечами:
– Кератий.
– А?
– Кератий Московского государства. Серебро как серебро, не ведаю, что с ним дивного. Деньги ходячие, не подделка.
Лобан сухо рассмеялся. Но воеводе было не до смеха.
– Мне от роду тридцать и шесть лет. Ходячую деньгу нашу русскую, слава богу, в руках держал. Достатком не обижен! Никоторый резчик на ней подобного не вообразит. Нет у нас кератиев. Небылица, а не деньги. Торговые люди не примут такую… А вот такие – примут.
И он выложил на стол горсть копеечек, вышедших с Ярославского монетного двора близ года тому назад. Все они были размером с ноготь мизинца, неровные, по виду – вроде чешуи, содранной с большой рыбины. На лицевой стороне – ездец с копьем, на оборотной – государево имя и титла, притом русскими буквами, русскими словами: «Царь и великий князь Феодор Иоаннович всеа Русии». Последний законный, природный государь перед Смутой… У копыт же коня две буковки – «яр». Ярославль, стало быть. А кератий – ровный, круглый, большой. На нем три ярославские копеечки легко уместятся. С одной стороны – Господь на престоле, с другой – всадник с крестом и надпись: «Феодор». Тоже, видно, кому-то имя старого государя дорого.
Андроник, прищурившись, колупнул «ярославку» ногтем. Уронил. Неловко ухватил ее вновь и поднес к глазам.
– Три фолла? Четыре? Отчего такая кривая?
Кривая? Всегда такие были. И при дедах, и при прадедах…
Одно понятно: к попам его отсылать рано. Странные речи, памяти лишился – одно. А вот серебро, кем-то чужим отчеканенное и на Русь присланное, – другое. Тут не крамола и не сумасбродство. Тут чей-то недобрый умысел… Но чей? Ляхи с литвой? Они своего королевича Владислава в царях на Москве спят и видят. Сделали бы денежку, так с именем его, яко уже бывало: «Владислав Жигимонтович». Свеи? Почему б ни свеи. Но какого ж Федора ищут они поставить на русский престол? Не Федор Шереметев точно, сей за Романовых тянет… Да как бы не князь Федор Иванович Мстиславский! Старый хитрый лисовин. Полякам ворота в Кремль открыл. Они ему потом голову разбили едва ли не до смерти – так любят своих русских приспешников… А когда земцы в Кремль вошли, князюшку свои же, русские чуть не прибили до смерти, за его старания ко вражьему благу.
– Кто сей? – Палец Пожарского уткнулся во всадника с крестом.
– Василевс Феодор. Государь.
– Какой государь – старый? Тот, что в могиле? Али какой другой?
Его собеседник растерялся.
– Тот… что правит. Как же в могиле? Молодой же совсем! К чему – в могиле? Отчего василевс Феодор в могилу ушел?
Час от часу не легче! Василевс откуда-то взялся, яко у греков. Два века с половиною их нет, и тут на тебе, выискались! Благодарствую, Боже, хоть на том, что не Федор Мстиславский – сей лукавец не юн, старый старинушка. Но не лжет ли монашек? Если лжет – худо. Серебряные деньги не измыслишь просто так. Чтоб их чеканку завести, надобен кто-то сильный и богатый… Как бы проверить?
И тут выхватил дьякон из рук у Лобана свою котомку, да так ловко, что тот одеревенел от изумления. Выхватил и вытряхнул на стол две большие книги.
– Разгни и чти! Кир Димитрий, за сии книги только вчера отдал я такие ж кератии людям Книгопечатного приказа в их лавке… Вот!
Самая обыкновенная Триодь Цветная. Богослужебная книга, какая должна быть во всяком храме. Переплета на ней пока нет, лишь собрана в тетради.
– Здесь… На последней странице! Чти же.
«Совершена же бысть сия печатная боговдохновенная книга Триодь Цветная в лето седмь тысящ сто двунадесятое, от Рожества же Христова тысяща шестьсот двунадесятое, месяца августа в день первый, на праздник происхождения Честнаго Креста, в седмое лето благочестивыя державы государя царя и великаго князя Феодора Борисовича, всея Руси самодержца, в пятое лето патриаршества отца его и богомольца великого господина святейшаго Ермогена патриарха Московскаго и всея Руси. В похвалу и честь и славу в Троице славимому Богу и Пречистой Владычице нашей Богородице и присно деве Марии и всем святым. Аминь».
У Дмитрия Михайловича глаза полезли на лоб.
– Вторую мне! Живо.
Перед ним легла Псалтирь свеженькой московской печати. То же семь тысяч сто двадцатое лето от Сотворения мира – к чему сия сущеглупость про Рождество Христово? На Руси счет лет испокон веку шел от Сотворения, а от Рождества считает латына… Ну? А?
И здесь помянут был покойный патриарх Ермоген – яко живой! – а вместе с ним неведомый государь Федор Борисович. Не Иванович, а Борисович! Что за выдумка?! Откуда взяться на Руси новому царю Федору, когда старый царь Федор – давно в гробу, царь Василий недавно у поляков в узилище с жизнью расстался, а другого царя ему на смену завтра придется выбирать всем миром?!
– Федор Борисович…
А ведь был один Федор Борисович… Был. Без малого восемь лет назад его прибили. Сыном государю Борису из годуновского рода приходился. Вот только сам – был ли истинно государем? Венчаться на царство не успел, ничего не успел, царствовал на полушку срока. А потом из него душу вынули окаянным способом.
– Годунов?
– Годунов-Дука, кир Димитрий. Первый василевс московский после Комнинов.
Видя недоумение в глазах Пожарского, дьякон попытался было разъяснить:
– Василевс Московский, болгарский и цареградский, великий князь владимирский, полоцкий, корсунский, коринфский, тверской…
Лобан матерно выругался.
В горницу без стука вошел Репа.
– Юрода привели…
Нельзя было просто так, ничего не решив, оставлять дело с перекидным. А как решить его, князь понять не мог. Но и от других дел, для всей земли наиважнейших, не смел отвлечься. Тут потребен иной ум. Не его, воеводский, а книжный, в стари́нах умудренный. И ум, будто нарочно для подобного дела наряженный, у князя под рукой имелся.
– Лобан, отведи сего… Андроника к нашему доброхоту дьяку Ивану Тимофееву, что третьего дни приехал из Новгорода Великого с вестями. Еще не встал он?
– Почивает у себя в покое.
– Разбуди, обскажи, пусть дознается, что к чему с сим рабом Божиим. Сам при беседе их будь… пригляди. Троих у дверей поставь. Теперь ты, Репа. Юрода – ко мне!
Скоро перед князем явился тощий, тощее смерти, человек, среди зимы ходивший босым, в рванине, с лицом, перемазанным копотью. От него шла вонь, как из выгребной ямы. На шее висел кованый крест в четверть пуда весом.
– Не обессудь, Дмитрий Михайлович, пришлось дерьмом в окна тебе кидать. По-иному мимо казачья не пройти, чтоб не приметили и не проследили, куда я да от кого я…
Князь всмотрелся, но признать не мог. А голос знакомый. Очень знакомый голос.
– Умойся. Выйдешь отсюда иначе.
Вновь зашел «юрод» с чистым уже лицом, да и вони поубавилось. Теперь изумился Пожарский. Как мог не вспомнить он человека, дравшегося с ним два года назад, когда Москва восстала на Страстную неделю и билась с поляками смертным боем?
Сын боярский Афанасий Торушенинов, издавна служивший семейству Голицыных.
– Садись, Афанасий Осипович, ждал тебя. Не желаешь ли отведать…
Торушенинов покачал головой отрицательно.
– Мне бы скорее назад, Дмитрий Михайлович. Чем скорее, тем лучше. Грамотки со мной никоторой нет, бумаге в такую пору тайных слов не доверишь. На словах же князь Иван Васильевич Голицын велел передать тебе, мол, готов он. Сотня с лишком бойцов приказа ждут у него на дворе и по дворам верных людей. С нами Бутурлины, у них еще три дюжины ратников. Наутро выступят, если ты слово сказать изволишь, с нами ли. Род Голицыных с твоим издавна дружен, в милости государя Ивана Васильевича не сомневайся. Да я тебя знаю, Дмитрий Михайлович, не о милостях ты думаешь, а о державе. Ну так будет о державе забота, какая пристойно, а не какая от изменников последовать может или от несмысленых отроков, ежели они на Москве воцарятся. Что передать господину моему, Дмитрий Михайлович?
А что тут передавать? С тяжелым сердцем шел князь Пожарский на великое и страшное дело. Завтра им драться со своими. Резать казаков, резать дворян, стакнувшихся за Романовых, резать всех, кто противустанет избранию Ивана Васильевича в цари. Своих, своих! Не ляхов, не литву, не наемных немцев, а своих…
Требовалось дать ответ. И воевода заговорил, желая дать согласие, но сердцем еще колеблясь:
– Князь Пронский с нами будет со всеми его людьми. Немалая выйдет подмога…
Тут на улице грянул пищальный выстрел, а за ним второй, и еще, и еще. Затем донесся глухой дробот, гик и свист конного наскока. Зазвенело железо.
Пожарский, схватив саблю, скорым шагом вышел на двор.
У крыльца валялось тело Репы. Чужим выстрелом ему снесло нижнюю челюсть.
Люди князя отворяли ворота. По телам обнаглевших казаков въезжали дворяне-земцы. Впереди – родич воеводы, красавец и щеголь князь Дмитрий Петрович Пожарский, прозванный Лопатой за широкие передние резцы. Из плеча его хлестала кровь.
Воевода помог Лопате спешиться. Тот улыбался, показывая, мол, ничто! – зацепило чуток, беды в том нет. Но был бледен. Передал ему грамотки от Козьмы Минича, полковые и земские. А потом лишился сил и грянулся наземь.
Лопату втащили в дом, Дмитрий Михайлович развел дворянский отряд по местам, занял ратниками ближайшие дома и вернулся поговорить с родичем. Пока ходил, занозой у него в голове сидел Торушенинов. Не хотелось ему говорить: «Назавтра сделаем дело!» Не хотелось, а надо было.
Лопата полулежал на соломенном тюфяке в теплом покое. Одной рукой он подносил ко рту чарку с брагой, другой пытался ухватить хлопотавшую у его постели дворовую девку за задницу. Девка взвизгивала, но уходить не спешила, и всё лепетала про какой-то целебный травяной отвар… Дмитрий Михайлович велел ей:
– Когда уйду, разденешь, обмоешь рану и сходишь за немчином Яковом, лекарем. А теперь – пошла прочь.
Девка поклонилась и ускочила за дверь.
– Извини, Митя, перин здесь не водится. Недавно я тут обустроился, а без меня пошалили разорители…
– Зачем отроковицу угнал? Ты гляди – так и липла! Яко оса на мед. Хор-роша…
– Великий пост, блазень.
Лопата заржал:
– За такую глазастую лоб на покаянии расшибу!
Пожарский поморщился. Хороший боец Митя. И люди за ним идут. И не трус, и не дурак. А вот как моча в голову ударит, так вчистую ума лишается.
– Что с раною?
Лопата пренебрежительно махнул рукой:
– Навылет. Не загнию, так живо затянется.
Дмитрий Михайлович помолчал. Не с кем ему сейчас посоветоваться. Не с Лобаном же! Может, и скажет ему умное слово сей бабник и бражных дел ценитель… Всё же – родная кровь, да и людям своим толковый начальник.
– Митя… сидит у меня Голицыных человек…
Раненый перебил его:
– Да всё сговорено давно. Готовы люди. Почитай с тысячу ратников за тебя встанут. Вытащим князя Голицына в государи на Первопрестольной, не сумневайся. Сам пойду. Слышишь ты? Чтоб наверняка. Чтоб приглядеть за всем. Дырявый, а всё одно поднимусь, пойду чашу смертную пить.
Пожарский, не приступая к главному вопросу, принялся рассуждать, почему без малой крови не обойтись. Кого на царское место ставиться выкликнули? Его самого, да он не пойдет, больно род его захудал. Много на Москве тех, кто выше честию Пожарских – не потерпят… новая смута подымется, до большой крови дойдет. Надо смириться. Мстиславского называли, но Мстиславский мерзок. Ранее под ляшскую руку их державу подводил и ныне подведет. Князь Иван Шуйский? Сидит в плену. Князь Воротынский? Сам отказался. Князь Пронский? Ни рыба ни мясо. Слаб, за сильными пойдет. Романовы? Иван Романов своим не люб. А Миша… что – Миша? Отрок.
– Небось бабу еще не поял ни одну… – встрял Лопата.
– Ничего он еще не знает. Во всем – девственник.
– На кой нам младенец? Пеленочник… – поддакнул собеседник.
– Трубецкой? Да, у сего заслуги. И род его высок, и с ляхами честно бился, когда прочие по запечьям отсиживались. Казачье его любит, а он их пирами потчует: встаньте за меня, вольные люди!
– Кривоват…
– А?
– Кривоват, я говорю, – и Лопата пояснил: – То за Шуйского, то за вора тушинского, то за вора псковского, ныне сам за себя. Извилист. Никому до конца не враг, никому до конца не друг.
Пожарский воззрился на Митю в удивлении. Похоже, Бог дал красавчику больше ума, чем тот показывает. Ведь и впрямь, мутен Трубецкой, хоть и заслугами украшен.
– Остается Голицын Иван Васильич. И военачальник славный, и разумом не обделен, и род его хорош, к Гедимину корнями уходит… Братья его украшены доблестью: один за русское дело стоял, и оттого в плену у короля Сигизмунда мучается, другой за русское дело стоял и жизнь отдал.
– А сей всем хорош, но к земскому нашему ополчению так и не пристал, – подал голос Лопата.
Больно ударил родич. Он, Дмитрий Михайлович Пожарский, силою своею сажает лучшего из тех, кто годен на царство. Ради рода его сажает. А ему говорят: «Лучший? Но тоже не без сквернинки…» И кто говорит – первейший его соратник!
– Кого ж тогда? Нет чистых.
Лопата вздохнул, и на лице его, лице немолодого уже и до смерти усталого человека, пусть и ярого до баб, пусть и лихого бойца, отразилась смертная печаль.
– Напрасно пытаешь ты меня. Ты ведешь нас, мы за тобой идем. Куда приведешь, там и будем. Иван Васильич? Твое дело. Не так и плох Иван Васильич. Одно мне тошно: своих рубить будем. Опять – русские русских, православные православных… Что-то не так выходит. Но раз Бог ничего другого не дает, ино пусть случится, чему не миновать. Я тебе верен. И хватит с меня, дай отдохнуть. Вели девке зайти. Не тревожься, не испорчу, темно перед глазами…
Дмитрий Михайлович покинул родича в смятении.
Торушенинов дожидался его весьма долго. Верно, обозлился уже и сидит, гневом налитой. Но воеводу ноги не несли к посланнику Голицыных. Слишком тяжелы слова, кои должно сказать ему. Согласишься, яко и надо б, по уму, на свою силу и свой разум положившись, и кровь прольется, но держава к лучшему устроится. Не согласишься, и… на одного Бога надейся, яко Он положит. Отрока на царство – Салтыковым с присными на корысть…
Князь пошел в другое место. Пока – в другое.
Тимофеев, худой старик, улыбался, будто праведник, увидевший ангела.
– Дмитрий Михайлович, благодарствую, усладил! Истинно усладил. Век не беседовал с книжным человеком, а сей дьякон до винограда словесной премудрости великий охотник…
Пожарский нахмурился:
– По делу-то до чего дошли?
Тимофеев потер лицо, потер макушку, почесал бок и нелепо притопнул. Потом опять потер лицо. Настоящий книжник! Умища много, вежества – никакого.
– Не ведаю, яко и сказать, – наконец заговорил он. – Разбираться в подробностях, так не час нужен. И не день. Может, за седмицу…
Уловил, чем наполнен взгляд Пожарского, и смутился.
– Я токмо про то, что времени мало. Невиданное дело! С какого бы конца приступить к нему?.. Того я в речах его не понял и сего не понял. Вкратце скажу, до чего дознался. Ты ведь, чай, по спокойной поре читывал летописцы наши древние али хронографы, Дмитрий Михайлович?
– Бывало.
Андроник уточнил:
– Хронографы – о василевсах и эпархах, об архонтах и друнгариях, о далеких градах и больших битвах…
– Не миновали меня хронографы, но о них ли ныне речь?
Тимофеев продолжал, будто не заметив его вопроса:
– И помнишь, верно, про одно и то же великое деяние в ином летописце сказано не раз и не два?
Князь кивнул. Случалось и такое. К чему ж ты ведешь, многоречивый дьяк?
– По первости начинается всё со слов: «В лето нынешнее князь некий пошел туда-то…» А только закончится первое сказание про то, куда он ходил и каких дел натворил, так начинается второе. И на первой строке его два слова: «Иное сказание».
Пожарский вновь кивнул. Видно, простого объяснения он не получит. Новой заботы не хватало…
– Так и у Бога, знать, про нас, грешных рабов его, в замысле имеется «иное сказание». А может, и дюжина разных «сказаний». И в каждом «сказании» – Москва, и в каждом «сказании» – Московское государство, иные державы, иные языки, иные цари. Те ж люди, те ж напасти. Целое везде сходно, малое расходится… Дьякон-то к нам из «иного сказания» пожаловал.
Воевода рукой показал: слушаю со вниманием. Вот откуда могло прийти ходячее серебро непривычного вида. Сходится? Сходится. Но… какая же небылица!
– Господь всемогущ. Отчего не завести ему, кроме нас… нас же, но чуть иных, в замысле своем?
Тут князь ничего возразить не мог. Тут бы богослова преухищренного послушать, да где его сыщешь?
Дьяк тем временем продолжал:
– В его «сказании» благоверный царь…
– Кир Димитрий! Василевс, а не цесарь… – поправил было Андроник, но Тимофеев даже слушать его не стал.
– …благоверный царь Мануил Комнин женил сына своего Алексея не на франчюжского короля дочери, а на дочери великого князя владимирского Андрея Юрьевича, имя коей в летописях наших не писано. И от брата Андреева, Всеволода, получил изрядную помощь ратью. С нею вышедши против безбожных измаильтян, поразил их у Мириокефалы…
– Мириокефалон, – вновь поправил Андроник.
– У Мириокефалы, – упорствовал Тимофеев. – Царство ромейское запустения не узнало, а сын его Алексей бесславною смертью не погиб. Дети их и наследники, сделались государями и ромейскими, и русскими. Соединились два великих царства в одно. Бояре и князья русские с боярами и князьями греческими породнились. С турками перемогались тяжко, а еще того пуще – с латыною; от тех битв Цареград запустел. Ныне он под нашею… под их вот, – он показал на Андроника, – державою, только градец ныне маленький и храмами оскудел. А с татарами бились всей силой греческой, болгарской и русской. По грехом умножились злые татарове… Татарове Киев им спалили, Киева нет ныне… там. Владимир умалился, одно имя осталось. Но под их ордынскими царями, яко у нас, держава не бывала. И под литву городки Руси Белой, Киевщина, да Волынь, да Полотчина не ушли. Русско-греческие государи ими властвуют, по нашему закону люди живут. Но самая радость – повсюду схолы да ликеи.
– Ликеи? – переспросил князь.
– Сиречь акадэмии славяно-эллинские, – пояснил Андроник. – Для научения людей молодых премудростям мирским и богословским.
Славно живут тамошние люди, одобрил про себя Дмитрий Михайлович. И растревожило его это соображение. Выходит, он уже и согласен, уже и не перечит, что есть неведомо где незнамо какая Эллинороссия, что имеется у Бога про русских «иное сказание»? Да ведь покамест сии словеса вилами по воде писаны, якобы неистовых баб басни! А его ждет Торушенинов, его ждут дела темные и тайные. И надобно знать, каким макаром поступить с перекидным…
– Дьяк, – говорит Дмитрий Михайлович, добавляя голосу твердости. – Довольно сторонних словес. Их оба вы плести горазды. Ответь: зачем он здесь? Чего ждать от него? Потребно ли от него опасение?
Тимофеев помялся, подбирая верный ответ. От великого усердия даже поднес ко рту ладонь и куснул ее. Будто не здесь он, с воеводой и перекидным, а унесся вдаль, откуда простой жизни не слыхать и не видать. Тогда Андроник сделал знак своему расспросчику: не лезь, сам обскажу! И заговорил со хмуростью:
– Му калос фили Иоанн не сможет. Трудно передать на словах… Я знаю великих мудрецов из Полоцкого ликея. Они много лет упражнялись в философии и теологии, дабы истина им открылась… Сказание – одно. Одна душа, одна жизнь, одно событие, одно слово, и других нет, не было и не будет. Но только… когда всё уже началось. Когда мир сотворен, кир стратиг. До того, до творения, до начала веков, всё сущее – в замысле Бога. А там может быть хоть тысяча сказаний, хоть мириад. Одни – чище, истиннее, красивее, другие же – чернее, гаже, исполнены лжи. Они толкаются друг с другом, ибо Господь думает мирами, миры – главы в книге его размышлений. Когда ложь мира становится нестерпимо велика, когда становится мир нечист, в него приходят люди из… «иного сказания», самого близкого по сути, ибо стены между «сказаниями» в замысле Его тонки. Люди же и события сего загрязненного мира размываются, принимая в себя мир иной, отдавая ему свое место и растворяясь в нем. Было два сказания, стало одно… Когда все миры растворятся, останется один, самый истинный, принявший в себя всю сложность и пестроту миров, в нем утонувших. Он-то и будет Господом создан… И какое «сказание» растворится, а какое останется, ведает Бог, более же никто. Одно слово, один поступок, одно «быть по сему» или «не быть», – и миру конец. Переполнится чаша скверны, распадется мир. Прости меня, ничтожного дьяконишку, грешного великими грехами, великий стратиг! Я здесь, ибо мир твой умирает. Случаем нимало не понятным принесло меня сюда, как и других, верно, приносит. Стены твоего «сказания» ослабли, люди делаются подобными воздуху, на их место идет «иное сказание», иные люди. Пока нас мало, мы заметны тут, но сами не ведаем, как у вас очутились. Обычные души русские, без вражды, лютости и гнева… Потом нас будет больше, но вы сольетесь с нами, перестанете видеть нас, перестанете быть… Поймешь ли меня, господин мой?
Андроник смотрел на него, как смотрит умный отрок на взрослого дядьку, ежели взрослый дядька дурак и надобно ему разжевать всякое слово, будто отроку.
Усмехнулся князь. Ликеи, стало быть…
А что земля и люди чистоты лишились, грехом испакощены, любовь топчут и веру на пустырях забыли, – то правда. Черна ныне Русь, да и Русь ли одна? Куда ни воззри, всюду темень! Всюду стынь морозная меж людьми…
– Внял я твоей риторике, черный дьякон. Мы еще не живем, мы не люди еще, мы всего лишь малая часть замысла Его. Сотворение мира еще не наступило. Мы скверны, и от того пропадем… Можем пропасть. А ты средь нас – человек случайный, ни богу свечка ни бесу кочерга. «Иного сказания» гражанин.
Андроник радостно закивал. Дурной народ книжники – больше жизни любят, когда им внимают. Вняли – а там хоть потоп! Им же главное, чтоб их драгоценные поучения до умов дошли нерасплесканными.
– Морозны слова твои. Ум от них отворачивается… Потом более расскажешь. Нынче исповедуешься и причастишься. Причастием испытан будешь. Если Господь не попалит тебя, то казни не опасайся, а за приставами пока сиди – целее останешься. Назавтрее пришлю к тебе троицких монахов, пусть-ка они разбираются, сколь на устах твоих вранья и сколь истины.
Сомнение мучило воеводу: концы с концами сходились, да слишком уж неслыханными и черными откровениями потчевал их Андроник.
Внезапно Лобан отверз уста.
– Мне бы не влезать в великие господские дела, рылом не вышел. Да послушай меня, Дмитрий Михайлович, раз. Дурное скажу – так пни сапогом, я отлечу, обиды не затаив.
Воевода кивнул в знак того, что готов слушать. Сегодня ему понадобится любой дельный совет, хотя бы и от человека низкой крови.
– Я пес твой и псом всегда был. Иду у твоей ноги, кого велишь – грызу. Я собака твоя. И нюх у меня собачий. Чую людей. Кто слаб, кто лжив, кто зол, кто глуп, кто ленив, а кто хитер и в спину бить горазд. Давно не обманывает меня нюх. И вот я нюхаю квашню сию, – он показал на Андроника, – и враньем не пахнет. Слабый человек, овца-человек, тетеря, на один жевок волчине, но лжи в нем нет.
Пожарский смотрел на слугу и думал, до чего же необычный день нынче. Всякий человек, ему близкий, выказал всё лучшее, что в душе у него имеется. И Лопата, и Тимофеев, и вот теперь верный его шильник. Может, Бог его желает наставить? Но в какую сторону следует ему вразумиться? Куда поворотить?
– Христос с тобой, Лобан, пинать тебя не за что.
Только сказав это, князь ощутил, как ум его поворачивается, будто санки, летящие по крутому склону прямиком в сосну. Вот оно, дерево, ударит в лоб и жизни лишит, вот оно, вот оно! И не спрыгнуть… А полозья находят какой-то доселе невидимый уклон и проносят мимо гибели.
Чистых нет? Чистый нужен человек? Да ведь Миша Романов чист, девствен. Смута не тронула его. Все кругом предавали, убивали, корысти своей достигали, а сей ни при чем. Молился, отца ждал из плена, ни в которую грязь не влез. Царство с чистого листа начинает жить, тьма за спиной у него, непроглядная ночь! Может, теперь Бог хочет поместить невинного отрока в сердце державы и Сам позаботиться о ней, яко заботился о ветхом Израиле до Христа? Может, не тот хорош, кто матёр, а тот, кто не знал скверны? Отрок на престоле – отчего ж худо сие? А и вовсе сие хорошо. Да, мимо него полезут править Салтыковы с Черкасскими. Но если вернуть отца его из плена, то встанет за спиной царя-девственника сильный державный человек, не даст растащить царство. А если не сможем вернуть? Ну так и сами, чай, не оставим государя без пригляда.
И своих в таком случае бить не надо, не надо дырявить душу большим грехом…
– Пойдем-ка со мной, Лобан.
Пожарский скоро дошел до горницы. Посланник Голицыных смотрел на него с яростью. Во взгляде его читалось: времени нет, каждый час на счету, а ты, князь, всё запрягаешь!
– Тебе требовалось слово мое… Вот тебе мое слово: нет.
– Отчего ж? На которую лесть поймали тебя, Дмитрий Михайлович?
Воевода ответил, чувствуя в душе покой:
– Положимся на Бога. И побережем своих.
Торушенинов вскинулся было, да Лобан вышел из-за спины воеводы и одним видом своим напомнил, где находится сын боярский да как ему следует себя вести.
– Отведи за ворота, Лобан. Кончен разговор.
К Тимофееву с Андроником воевода шел, чувствуя покой и радость. Бремя, все последние дни лежавшее у него на душе, пропало. Что поведает ему дьякон из неведомого Ромейско-русского царства о тамошней Москве, об эпархах, архонтах, друнгариях и прочих важных людях, чины коих памятны с тех давних пор, когда читал князь хронографы, но давно заметены снегом большой войны? Скоро ль начнут расходиться между собою две державы? Когда…
Кричал Тимофеев. Протяжно, с надсадою, словно ратник, коему отрубили руку, и кровь хлещет, и боль разгорается.
Дмитрий Михайлович вбежал в покой, оттолкнув людей, стороживших перекидного. Тимофеев стоял, вспрыгнув на сундук и касаясь левой рукой иконы в красном углу. Правой он истово крестился, не переставая кричать.
– А ну-ка цыц!
Дьяк немедленно заткнулся.
– Где Андроник?
Тимофеев закрыл глаза и для верности положил на лицо ладонь. Мол, не видеть бы такого, никогда бы не видеть, и сейчас видеть не стоит.
А близ окна медленно таял в воздухе человек. Вернее, уже не человек, а только очертания человеческого тела с пустотою внутри. Кажется, перед полным исчезновением он поднял руку, благословляя князя…
Майк Гелприн. Кабацкая лира
Я не вор, не тать, только им под стать
Иван Осипов (Каинов)
1. 1731–1740
Хорош у гостиной сотни купца Петрушки Филатьева дом, что на Ильинке стоит, в Китай-городе. В два этажа, каменный, убранство богатое, одной серебряной посуды три сундука. И двор большой, крепким забором обнесен, а при воротах сторож с колотушкой, в кафтане ситцевом, с нашивками. Во дворе на цепи медведь сидит, лютый, прожорливый, девка Авдотья того медведя сырым мясом кормит.
Под утро, петухи еще не пропели, дверь купеческого дома скрипнула, и на крыльцо малец выбрался. Огляделся и мимо сторожа, мимо медведя шасть неслышно к забору. Поднатужился да и перемахнул его. Постоял, ночную тишину послушал. Шмыгнул к воротам, уголек из-за пазухи достал и на воротах тех вывел:
- Пей воду, как гусь,
- Ешь хлеб, как свинья,
- А работай черт, а не я.
Звали мальца Ванькой Осиповым, и был он из самых что ни на есть неимущих крестьян, в услужение к барину за долги отданных. Шел Ваньке от роду четырнадцатый год, но ловок и смекалист был малец изрядно, за что и лупил его барин безжалостно. За нерадивость подзатыльниками угощал, за леность розгами охаживал, а за воровство, бывало, батогами берёзовыми, а то и кнутом.
Вдоль забора господского, в темноте хоронясь, пробрался Ванька к Ильинским воротам. К Посольскому подворью зайцем пуганым проскочил. Между мануфактурными цехами, что граф Апраксин да граф Толстой на том подворье устроили, ужом прополз. И выбрался на Никольскую.
Здесь Ваньку ждали. И не кто-нибудь, а Петрушка Смирной, сын солдата и сам беглый солдат прозвищем Петр Камчатка. Был Камчатка вором, нетрусливым, удачливым, и людей, каких надо, знал.
– Принес? – Ваньку за плечо ухватив, шепнул он.
Ни слова Ванька не сказал, а пояс крученый снял и вору подал. Были в поясе том четыре рубля запрятаны, которые, пока Петрушка Филатьев спал, в ларце лежали.
– Богато, – похвалил Камчатка. – Ну, пойдем, что ли.
У Всехсвятских ворот переждали вдвоем ночную стражу и вниз нырнули, на набережную, к Берсеневскому мосту, который на Москве называли Новым Каменным, а то и просто Каменным, как у кого язык повернется. Построил мост два десятка лет тому ученый старец Филарет, по приказу князя Васьки Голицына, что у царевны Софьи Алексеевны в фаворе был. Хорошо строил Филарет, старательно, особенно девятую арку, последнюю – место, которое знающие люди «девятой клеткой» звали. Под «девятой клеткой» ночи ночевали, питие пили да беседы беседовали добры молодцы, лихие, удалые, в воровском и разбойничьем ремеслах искусные.
– Этот малец со мной будет, – сказал сидящим вокруг костра людям Камчатка. – Под свою руку его беру. Наш малец, свойский. А это Волк, Жузла, – стал он называть прозвища друзей-приятелей, – Замчалка, Лебедь, Медведь, Бухтей, Баран, Шинкарка, Журка…
Начало как раз светать, и Ванька вгляделся в новых знакомцев. Были они большей частью молоды, кто его лет, кто постарше на год-другой. Лишь рябой Бухтей да сам Камчатка выглядели людьми опытными, пожившими. И еще сидел поодаль, насупившись и сгорбившись, совсем уж дряхлый старик, морщинистый, с волосами цвета прогоревшей золы, носом как у коршуна клюв, и с глазами черными, чернее ночи.
– Откуда будешь? – спросил у Ваньки долговязый, с подбитым глазом Жузла.
– У барина в услужении со усердием должность отправлял, только вместо награждения несносные побои получал, – прибауткой ответил Ванька.
– На офеньском говоришь ли?
Был офеньский языком особым, тайным, от офеней-коробейников произошедшим, лихим людям понятным и для нужд их сподручным.
– На офене мало-мальски ботаю, – ответил Ванька.
– А товар с безумного ряду на офене чего будет? – не отставал Жузла.
– Водка это.
– А немшоная баня?
– То изба пытошная.
– Ладно. А умеешь чего?
Ванька переступил с ноги на ногу, очи долу опустил.
– Петь могу.
– Да ну? Давай, спой!
Ухмыльнулся Ванька, подбоченился, плечи расправил и затянул:
- – Не ходи, мой сын, во царев кабак,
- Ты не пей, мой сын, зелена вина,
- Не водись, мой сын, со бурлаками,
- Со бурлаками с понизовыми,
- Со ярыгами со кабацкими,
- Потерять тебе, сын, буйну голову.
– Хорошая песня, душевная, – похвалил Жузла, когда Ванька закончил. – Ты ее откуда слыхал?
– Ниоткуда, сам сочинил, – сказал Ванька, и морозом посреди лета его пробрало – от того, как сверкнул на него глазищами старик.
– Кто таков? – спросил он Камчатку, когда добры молодцы один за другим разошлись на работу, воровскую работу, черную.
– Юродивый это, – Камчатка нос опростал и на землю сплюнул. – Родом он с дальних земель: не то немец, не то француз, не то еще какой турок. По-нашенски говорит странно, не всегда поймешь, и себя не помнит. Лет ему, дескать, под триста, а с чего живет – неведомо. Прибился к нам и не уходит, а мы и не гоним.
– А ну, подойди ко мне, – позвал Ваньку старик, когда остались вдвоем. Голос у него был, словно ворон каркал.
Подошел Ванька, стал глядеть в сторону, не в глаза же такому смотреть – боязно.
– Ты песню по правде сам сочинил? – каркнул старик. – Или, поди, наврал?
– Сам.
– А ну, попой мне еще.
Смутился Ванька, не хотел петь, страшный был старик, с глазами черными, как воровская работа. Но отказать не смог почему-то, почему – сам не ведал.
– Бес проклятый дело нам затеял, мысль картёжну в сердца наши всеял, – запел Ванька с опаской.
– Хорошо, – похвалил старик. – А вот я тебе тоже кое-чего спою:
- От жажды умираю над ручьем.
- Смеюсь сквозь слезы и тружусь, играя.
- Куда бы ни пошел, везде мой дом,
- Чужбина мне – страна моя родная.
- Я знаю всё, я ничего не знаю.
- Мне из людей всего понятней тот,
- Кто лебедицу вороном зовет.
- Я сомневаюсь в явном, верю чуду.
- Нагой, как червь, пышней я всех господ.
- Я всеми принят, изгнан отовсюду.
– Это чья же песня? – подивился Ванька.
– Моя, – сказал старик и засмеялся, словно филин заухал.
– А звать тебя как, старче?
Старик насупился.
– Я – Франсуа, – просипел он.
И добавил, помедлив:
– Я – Франсуа, чему не рад: увы, ждет смерть злодея, и сколько весит этот зад, узнает скоро шея.
Старик с заморским именем закряхтел, закашлялся. Сунул руку в карман ветхого, латаного сюртука, долго шарил там и вытащил на свет божий вещь диковинную, цвета медного, на крендель похожую, только мелкую, с полпальца.
– Знаешь, что это? – спросил.
Ванька замотал нечесаной и патлатой русой головой.
– Это лира, – каркнул старик. – Но не простая – кабацкая, она такая на свете одна всего. Заберешь ее у меня?
– Зачем? – изумился Ванька.
Старик хмыкнул.
– Жить вечно будешь. Если руки на себя не наложишь, сколько захочешь проживешь, без счета.
– Руки на себя накладывать – грех, – разозлился Ванька. – Брешешь сам не знаешь чего.
– А ты послушай. С кабацкой лирой бить тебя смертным боем будут – и не забьют. В каменном мешке гноить будут – и не сгноят. Казнить пожелают – не смогут. Слава о тебе будет, как ни о ком другом. Так возьмешь?
Повел Ванька плечами, поежился. Точно ведь брехал старый черт, а не поверить нельзя было. Словно строка из песни, что тот спел, в душу вошла – «я сомневаюсь в явном, верю чуду».
– Ну, возьму, – сдвинув брови, сказал Ванька. – И чего с ней делать?
– Чего хочешь, – зашептал старик. – Любые дела делай, с тебя всё будет как с гуся вода. Воруй, режь, казни – всё нипочем. И песни слагай, у тебя хорошие песни будут. За них и девки станут любить, а дела твои прощать. На, забирай. Только знай: когда устанешь, притомишься так, что сил никаких нет, что всё невмоготу, другого ищи.
– Какого другого? – не сообразил Ванька.
– Такого же, как ты да я. Нашего сукна епанчу. Там сам поймешь.
Забрал Ванька у старика вещь медную, диковинную, пощупал, в карман упрятал и спать завалился. А вечером Камчатка его растолкал. С богатой добычей Камчатка вернулся, полный кошель у купца на гостином дворе срезал.
– Выпей, малец, – сказал и чарку поднес. – За упокой души.
– Чьей души? – спросонья переспросил Ванька и чарку принял.
– Старик юродивый, пока ты спал, помре.
Наутро пошел Ванька в Китай-город, к гостиным дворам присмотреться да к господским домам. Только не дошел: попали ему навстречу люди с дома Петрушки Филатьева, сей же момент скрутили и обратно в Петрушкин двор привели. Обрадовался купец, велел платье всё с Ваньки скинуть и сечь его нещадно. А как досекли до того, что и ходить Ванька боле не мог, приказал рядом с медведем на цепь посадить и ни того, ни другого не кормить вовсе. А сам гостей позвал, чтоб подивились, как медведь Ваньку порвет.
До ночи Ванька к цепи прикованный просидел, а как гости купеческие угомонились да по спаленкам разбрелись, выскочила из дома Авдотья, девка дворовая, и медведю плошку с объедками с господского стола поднесла.
На другой день собрались гости во дворе дивное зрелище смотреть, но медведь Ваньку не тронул, рычал только да пасть скалил. Так вновь ни с чем спать улеглись, а ночью Авдотья опять во двор – с подношением.
– С месяц назад, – скороговоркой забормотала, – повздорил купец с заезжим ландмилицким солдатом.
– И чего? – спросил Ванька, сытому медведю завидуя.
– Цепами солдата угостили, а он возьми да помре. В сухой колодезь его сбросили, куда сор высыпают, там и лежит.
Наутро снова гости во двор выбрались на медвежью камедь глядеть. И закричал тогда Ванька, заблажил истово:
– Слово и дело за мной государево!
Взяли Ваньку в «Стуколов монастырь». Так люди знающие канцелярию тайных и розыскных дел называли, что в Преображенской слободе царь Петр Алексеевич основал. Вздернули Ваньку на дыбу, и что купец недосёк, то плетьми исправили. А донос получив, к Филатьеву наведались и из сухого колодезя ландмилицкого солдата вынули. К вечеру поменяли уже Ваньку с Петрушкой местами на дыбе, а наутро доносчика и отпустили, в награду пашпорт ему выправив и десятью копейками одарив.
Путь от Преображенской слободы до Китай-города неблизкий, особенно когда с драной задницей и ноги не держат. Нанял на дареные деньги Ванька извозчика, с ветерком доехал. И с того дня загулял.
Не ходи ночью, прохожий, по Москве по каменной. И днем остерегись. Бродит по улицам московским Ванька-вор со товарищи. Всё, что видят перед собой, себе забирают, а кто отдать не согласный, того палками уговаривают, а то и гостинцем – билом на подвесе, что на кистенище ясеневом.
– Все воруют, – учил Ваньку, в царевом кабаке сидючи, Петр Камчатка. – Наш брат – это еще что. Купцы крадут, бояре воруют, князья грабят и разбойничают, не чета нам. Раньше светлейший князь Алексашка Меншиков обозами воровал, теперь курляндский граф Эрнстишка Бирон старается. Одна только царица-матушка Анна Иоанновна не ворует, да и то потому, что ей без надобности.
Воровское дело – кабацкое. Удалому добру молодцу дом иметь постыдно, богатства наживать зазорно. Добычу воровскую не в ларец кладут, ее в кабаке прогуливают. Здесь пристало и в карты играть, и совет держать, и с девками любиться, и от полиции прятаться, благо кабаков на Москве множество великое.
Выдумщиком оказался Ванька, да еще каким. Такие дела затеивал, которые друзьям его доселе и во снах не снились. К придворному доктору Ерлиху, что у самого Кремля жил в доме каменном, императрицей ему пожалованном, ночью впятером в окно залезли. Пока сундукам да ларцам раструску делали, Ванька в спальню к доктору сунулся, где тот в срамном виде с непотребной девкой лежал. Расстроился Ванька сильно от зрелища такого и одеялом доктору срам прикрыл.
В дом боярина Татищева на Варварке добрым молодцам никак не возможно попасть было. Великим забором тот дом обнесен был. Где во дворе сторожей поставил, боярин от досужего люда таил. Тогда купил Ванька на рынке курицу, в щель забора того протиснул, и когда от кудахтанья переполох поднялся, в ворота заколотил.
– Пустите, – взмолился, – люди добрые, курица сбежала от меня, окаянная, словить надобно.
Той же ночью в гости к боярину вся Ванькина артель явилась. Сторожей связали и сундуки обухами потрогали.
К попу Елистрату, соседу купца Петрушки Филатьева, Ванька один залез. Но нашел лишь попадьи сарафан да долгополый кафтан. Сарафаном Ванька побрезговал, а кафтан впору ему пришелся. Стал с того дня Ванька попом рядиться. По московским улицам, рогатинами по ночам заставленным, простому люду хода нет, а батюшке – с дорогой душой.
Год прошел, другой минул, выбился Ванька из обыкновенных крадунцов в коноводы. На Москве о новом атамане поговаривать стали. Дескать, крикнет кто по ночному времени: «Когда мас на хаз, так и дульяс погас» – лучше сразу добро отдать, по-хорошему. «В дом ваш войду, фонарь враз потухнет» крик тот означает. То Ваньки-вора присловица, а что за фонарь такой, то неведомо. Может, и жизнь хозяйская потухнет, с Ваньки станется.
Кабацкую лиру Ванька пуще глаза берёг. На себе носил, а как собирался в ночной «заход», в землю прикапывал. Старик, под мостом померший, из головы у него не шел, но кого ни спрашивал Ванька, никто о старике толком не знал. Зато песни хорошие складывались. Бывало, соберутся добры молодцы, добычу ночную поделят и давай Ваньку уламывать, чтобы спел. Тогда подбоченивался он, шапку ломал и говорил людям так:
– Писано в кабаке, сидя на сундуке.
А когда притихали все, заводил:
- – Не былинушка в чистом поле зашаталася,
- Зашаталася бесприютная моя головушка.
- Бесприютная моя голова молодецкая!
Пять годов минуло, на Москве Ваньке прискучило. Собрал он шесть молодцов и на Волгу за собой увел, в понизовую вольницу, к атаману Мишке Заре. Много славных дел натворили там: с десяток гостиных дворов навестили, дюжину ярмарок покурочили, полсотни торговых стругов от товара облегчили. А уж сколько сундуков кованых распотрошили да кошелей очистили, то числом не счесть.
Ловили Ваньку не раз. И боем смертным били, и стул на шею вешали, чтоб пока плетьми секут, не ворочался, и в казематах морили без одежки и впроголодь. Не забили, не засекли и не уморили. Бежал из-под стражи Ванька – когда служивых подкупая, а когда так. А как матушка-императрица Анна Иоанновна помереть изволила, на Москву вернулся. Елизавета Петровна на трон уселась, надёжа-государыня, переметнулась империя великая с немецкого уклада да саксонского нрава на исконно русские. А вместе с ней и Ванька переметнуться решился.
2. 1741–1749
Всю осень рыскал по Москве Ванька, воров да разбойников проведывал, кто где жительство имеет, на ус наматывал. В кабаках часами сиживал, людей слушал, сам помалкивал. На таможенную заставу наведался, что да как с приезжими купцами делают, выспросил. А под Новый год явился в Сенат и у рейтара, что у дверей службу нес, поинтересовался:
– Кто на Москве наибольший командир?
Тем же вечером притопал Ванька на Воронцово поле, к «наибольшему московскому командиру» князю Кропоткину, и челобитную тому подал. Изумился князь, прочитавши, глаза протер и прочел по новой.
– Так ты, значит, вор? – спросил князь.
– Я не вор, не тать, только им под стать, – прибауткой ответил Ванька. – Но воров знаю. И разбойников. И лихоимцев. Где кто нахождение имеет, ведаю. Не только в Москве, а и в других местах. Посему ради государыни нашей желаю всех этих людей дерзких искоренить, а для того предлагаю себя в сыщики и доносители.
Тем же вечером приказал князь надеть на Ваньку солдатский плащ, чарку водки ему поднести и отправить в сыскной приказ.
Сняли с Ваньки в сыскном приказе пристрастный допрос. Признался он в мошенничестве и воровстве, а разбои и смертоубийства отверг. Князь Кропоткин, при том допросе присутствовавший, Ваньке поверил. Велел дать под его начало четырнадцать человек конвоя и подьячего, чтобы лиходеев изловленных подушно записывать.
Той же ночью прошелся по Москве Ванька, словно дворник с метлой. В Зарядье взяли два десятка воров с атаманом Медведем, бывшим Ванькиным дружком. В доме дьякона у порохового цейхгауза три дюжины лихоимцев взяли. В татарских банях – полтора десятка беглых солдат с фальшивыми паспортами. На стругах в устье Яузы – бурлаков с товаром, что без пошлины провезли. У Москворецких ворот на «печуре», квартире воровской – Бухтея с Лебедем и с ними три десятка разбойников.
– Ванька? – опешил, дружка бывшего увидав, Бухтей. – А ты как здесь?
– Берите его, – велел Ванька конвойным.
– Каин! – хрипел закованный в кандалы Бухтей. – Каин же ты, Ванька!
С того дня стал Ванька Каином, а в бумагах величать себя велел «доноситель сыскного приказа Иван Каинов».
Новая жизнь для Ваньки Каина началась – жизнь вора на должности государственной. Года не минуло, как в силу Каин вошел. Нет от него спасу ни ворам, ни лиходеям, ни фальшивым монетчикам. Все прошлые деяния Сенат Ивану Каинову за усердие его простил, а потом и особый указ издал – «Для ведома о славном сыщике московском и оному вспоможении».
Дом в Зарядье у Мытного двора себе Ванька нанял. Особый флигелек велел пристроить к нему, для отдыха. Бильярд во флигельке поставил и столы для игры в зернь да в карты. День-деньской гуляют у Каина, деньги шулерам проигрывают, с которыми Ванька в дружбе.
Левой рукой хватал лихих людей Ванька Каин, в темницы сажал, пытками пытал, клещами ноздри рвал и на каторгу провожал. Правой – разбой чинил, воровство разное, лихоимство, мздоимство и мошенничество. Хочешь торговать в Москве без опаски – плати пошлину не в казну государственную, а в лапу Каину. Хочешь лихой жизнью жить – проси Каина и подношеньем его уважь. Хочешь от добрых молодцев оборониться – Каин поможет, он добрым молодцам всем знакомец.
Хорош собой Ванька Каин, ростом высок, волосами рус и бородой кучеряв. А как начнет в кабаке песни свои петь, заслушаешься.
- Побывал бы я, добрый молодец, в каменной Москве,
- Только лих-то на нас, добрых молодцев, новый сыщичек,
- Он по имени, по прозванью Иван Каинов:
- Он не даст нам, добрым молодцам, появитися,
- И он спрашивает пашпортов все печатных;
- А у нас, братцы, пашпорты своеручные,
- Своеручные пашпорты – все фальшивые!
Дружбу с новыми людьми Ванька Каин свел. С секретарями и подьячими полицмейстерской канцелярии он стал теперь не разлей вода. Текут копейки и рублики у Каина между пальчиков, в карманах мужей государственных оседают.
Нет больше для Ваньки ничего невозможного. Девку Авдотью, что выручила его от медведя, встретил – ларцом, полным золота с жемчугами, одарил. Из Троицко-Сергиевского монастыря тот ларец привезли, пока Каин со старой знакомицей в кабаке бражничал. Дом в Зарядье, за шесть рублёв в месяц нанятый, на другой сменил – на свой дом, купленный, в Китай-городе, из окон Кремлевские башни видно. Две светлицы в доме, стены персидскими коврами завешаны, печь кирпичная, пол каменной лещадью выстлан, а спаленок да чуланов вообще не счесть. Во дворе конюшня стоит, рядом лавка, где денно и нощно ренским вином торгуют, пиво из бочек цедят, а кому невмочь, того и водочкой привечают.
На Рождество влюбился Ванька. В девку Арину влюбился, отставного сержанта Ивашки Телегина дочь. Пришел свататься. Не с карманом пустым пришел, богатых подарков с собой принес. Отказала Арина Ивановна, не пожелала замуж за Каина. Не стал долго Ванька раздумывать, а заплатил умелым людям два алтына серебряных. Написали те на девку донос, будто помогает она фальшивым монетчикам. Тем же днем взяли Аришку Телегину в сыскной приказ, угостили плетьми и каторгой стали стращать. А наутро Ванька явился.
– Пойдешь за меня? – спросил.
На Масленицу свадьбу сыграли, и приказал Ванька людей кормить от пуза, поить допьяна и веселить до упаду, задаром всё. У Мытного двора масленичные горы устроили, с плясками, с представлениями скоморошничьими. Неделю народ на Каиновой свадьбе гулял.
Любили Ваньку на Москве, легенды о нем слагали. И ненавидели – тем же временем. Ножи в него совали, из ружьишек палили, в кулачном бою извести старались – всё не впрок. Не брали Ваньку ни пуля, ни сталь, ни кистень, ни кулак молодецкий. Отлежится – и пойдет себе лихоимствовать. В силу кабацкой лиры Ванька свято уверовал, и всё ему нипочем стало. А как с попом Кондратием поговорил, человеком ученым, книжником, так и вовсе страх потерял.
– Франсуа Вийоном того человека звали, – отец Кондратий сказал. – Был он бродягой, вором и душегубцем французским. В темницах не раз сидел, казни ждал. Не дождался – миловал его ихний король. А куда Вийон под старость пропал и в какой земле помре, то неведомо.
Ваньке Каину то как раз было ведомо. Сложенные Вийоном баллады повторял Ванька нараспев, подобно тому, как богомольцы молитву читают.
- Глухой меня услышит и поймет.
- Я знаю, что полыни горше мед.
- Но как понять, где правда, где причуда?
- А сколько истин? Потерял им счет.
- Я всеми принят, изгнан отовсюду.
- Не знаю, что длиннее – час иль год,
- Ручей иль море переходят вброд?
- Из рая я уйду, в аду побуду.
- Отчаянье мне веру придает.
- Я всеми принят, изгнан отовсюду.
– Я всеми принят, изгнан отовсюду, – сказал Каин, явившись в Сенат. – Помощи и защиты прошу. Пишут на меня злые люди письма бранные, оклеветать и опозорить хотят. Потому как знают, что под корень их изведу и спуску никакого не дам.
Месяца не прошло, как указ из Сената в сыскной приказ пришел. «Ежели кто из содержащихся колодников или впредь пойманных злодеев будет на Каинова что показывать, того не принимать и им, Каиновым, по тому не следовать. Ежели в Москве случай допустит ему, Каинову, помянутых злодеев ловить и в той их поимке будет требовать от кого вспоможения, то в таком случае всякого чина и достоинства людям, яко верноподданным ее императорского величества, в поимке тех злодеев чинить всякое вспоможение».
Великую силу указом этим набрал Ванька Каин, никакой управы на него не стало. Любого Ванька продаст и купит, а надо будет – по новой продаст.
– Кто на Москве наибольший командир? – люди спрашивали.
– Известно кто, – другие люди отвечали, знающие. – Выше Каина командиров на Москве нет.
3. 1750–1755
Долго в России запрягают, да быстро ездят. Добралась и до Петербурга слава о делах Каиновых, до самой государыни-матушки Елизаветы Петровны. Две сотни доносов и челобитных в Тайной канцелярии десять лет томились, пока на свет божий выбрались. И приехал в Москву с указом генерал-полицмейстер Татищев Алексей Данилович, человек страшный, в покои императрицы запросто вхожий, а главное – мзду не берущий, честный.
Взяли Ваньку Каина в кабаке, где он с полюбовницей гулял, и пытать стали с пристрастием. Неделю Ванька рот на замке держал, но не выстоял, запел и знакомцев своих одного за другим сдавать стал. И прокурора сенатского Щербинина сдал, мздоимца, и графа Шереметева, разбойника, и советника Воейкова, на все руки мастера. А людей попроще полторы сотни назвал. И судей, писарей, секретарей сыскных, и дружков своих лихих, и учителя Камчатку в воровской реестр занес.
Трое суток Алексей Данилович Татищев признания Ванькины читал, коим несть числа было. А как прочитал, в гневе едва не велел Каина запороть, но одумался и отписал в Петербург, императрице. Для изучения дел Каиновых потребовал особую комиссию учредить.
Четыре года комиссия та сыск чинила. Четыре года Ванька в каменном мешке просидел, а плетей, батогов и кнута столько отведал, что на десятерых хватит. В темнице и песню сложил, самую свою знаменитую, которую люди потом по всей России пели, и в городах, и в деревнях, и в острогах.
- Не шуми, мати, зеленая дубравушка,
- Не мешай мне, добру молодцу, думу думати!
- Что заутра мне, доброму молодцу, в допрос идти,
- Перед грозного судью – самого царя.
- Еще станет государь – царь меня спрашивать:
- – Ты скажи, скажи, детинушка, крестьянский сын,
- Уж как с кем ты воровал, с кем разбой держал,
- Еще много ли с тобой было товарищей?
- – Я скажу тебе, надежа, православный царь,
- Всю правду скажу тебе, всю истину,
- Что товарищей со мной было четверо:
- Еще первый мой товарищ – то темная ночь,
- А другой-то мой товарищ – был булатный нож,
- А как третий товарищ – то мой тугий лук
- А четвертый мой товарищ – то мой добрый конь,
- Что рассыльщики мои-то калены стрелы.
- Что возговорит надежа, православный царь:
- – Исполать тебе, детинушка, крестьянский сын!
- Что умел ты воровать, умел ответ держать,
- Я за то тебя, детинушка, пожалую —
- Середи поля хоромами высокими,
- Что двумя ли столбами с перекладиною.
К смертной казни суд приговорил Каина. К колесованию с последующим отсечением головы. Ванька, как приговор услыхал, смеялся. А с дружком своим Шинкаркой, которого заодно с ним к колесованию приговорили, об заклад бился, что не бывать тому.
Заклад тот Ванька выиграл. По представлению юстиц-коллегии Сенат приговор смягчил. Выжгли Каину на лбу слово «ВОР», ноздри вырвали да на каторжные работы в Рогервик навек сослали. Только век тот коротким вышел. Пропал однажды ночью с каторги Ванька Каин, сбил кандалы и ушел невесть куда. С тех пор не видали его нигде.
4. 1912
Июльским вечером, когда городок Спас-Клепики, что в Рязанской области, изнывал от жары, а лошади осатанело гоняли хвостами мух, забрел в кабак «Семь тополей» нездешний старик. Страшный был старик и уродливый, с ноздрями драными и грязной повязкой поперек лба. Половой хотел было его шугануть, но в глаза глянул, заробел и отступил в сторону. Что-то нехорошее в глазах стариковских было, черное что-то плескалось.
– Водки, – просипел старик, усаживаясь за стол.
Подпер подбородок дряблой венозной рукой и уставился на кудрявого светло-русого паренька с бумагой в руке. Был паренек изрядно нетрезв и на ногах едва держался.
– Поэт, – объяснил прилизанный официант, поставив перед стариком запотевшую стопку с прозрачной жидкостью. – Стихи читать будет.
Старик кивнул и стал подносить стопку ко рту. Но не донес, потому что нетрезвый паренек читать начал.
- Бывало, пятерых сшибал
- Я с ног своей дубиной,
- Теперь же хил и стар я стал
- И плачуся судьбиной.
С полчаса старик, позабыв о родимой в стопке, слушал. Потом поманил паренька к себе. Сунул руку в карман видавшего виды латаного пиджака, долго шарил там и вытащил медный значок затейливой формы.
– Знаешь, что это? – спросил старик.
И, не дождавшись ответа, просипел:
– Это лира, но не простая – кабацкая, она на свете одна такая. Заберешь ее у меня?
– Зачем? – изумился паренек.
Старик хмыкнул.
– Жить вечно будешь. Если руки на себя не наложишь, сколько захочешь проживешь, без счёта. Любые дела делай, с тебя всё будет как с гуся вода. Воруй, режь, казни – всё нипочем.
Паренек расхохотался.
– Резать и казнить мне только не доставало, – отсмеявшись, сказал он. – Чудак ты, старик. Ступай отсюда.
– Казнить тебя никто не неволит, – насупился старик. – Ты, главное, стихи слагай, у тебя хорошие стихи будут. За них и девки станут любить, а дела твои прощать. Так возьмешь?
Паренек стал вдруг очень серьезным.
– Ты кто такой, старик? – спросил он.
– Какая тебе разница. Считай, что Иван, родства не помнящий. Последний раз предлагаю. Возьмешь?
Паренек тряхнул кудрявой головой.
– А давай, – сказал он бесшабашно. – Вечно жить, говоришь, буду, если руки на себя не наложу? Ну-ну. А тебе никогда не хотелось наложить на себя руки?
Старик закрыл лицо ладонями.
– Много раз, – глухо сказал он. – Да вот не сумел.
Эпилог
Его пошатывало. Он едва стоял на ногах.
– И тебе в вечернем синем мраке часто видится одно и то ж, – бормотал он, и ему было страшно, отчаянно страшно, потому что эти строки он уже написал.
- И тебе в вечернем синем мраке
- Часто видится одно и то ж:
- Будто кто-то мне в кабацкой драке
- Саданул под сердце финский нож.
- Ничего, родная! Успокойся.
- Это только тягостная бредь.
- Не такой уж горький я пропойца,
- Чтоб, тебя не видя, умереть.
Он ухватился за цоколь уличного фонаря, чтобы не упасть. Нашарил в кармане затейливую, отливающую медью диковину. Долго, пытаясь удержать взгляд, смотрел на нее. Размахнулся, собираясь запустить ею в темноту. Не смог, уронил руку.
– Я не вор, не тать, только им под стать, – вслух сказал он и побрел в ночь.
Шел 1925 год, смутный год, нехороший.
При написании текста использовались:
Даниил Мордовцев «Ванька Каин», 1887, СПб
Франсуа Вийон «Французские тетради», перевод И. Г. Эренбурга, Москва, ХудЛит, 1959
Иван Осипов (Каинов) – «Песни», «Российский гуманитарный энциклопедический словарь», Москва, Гумцентр «Владос», 2002
Сергей Есенин «Собрание сочинений в 6-ти тт.», Москва, ХудЛит, 1978
Виктор Точинов. Житие Лаврентия Б., или Яд и корона
(Криптоисторическое расследование)
Как же он может знать,
когда именно вы помрете?
Тем более, что он не врач!
М. Булгаков. Мастер и Маргарита
Где-то в запасниках петербургской Кунсткамеры хранится экспонат, на вид не особенно замечательный. Не поражающий воображение, в отличие от прочих заспиртованных уродцев. Вот какой: увесистый мешок, заполненный зубами. Самые обыкновенные человеческие зубы, никаких причудливых мутаций: потемневшие от времени, многие с глубокими кариесами…
Отчего же столь заурядные детали человеческого организма угодили на хранение в музей? Да еще в таком количестве?
Всё очень просто: зубы-то обычные, да вот зубодер, приложивший в свое время к ним руку, далеко не зауряден, – император Петр I, не больше и не меньше.
Дело в том, что когда в конце семнадцатого века русское Великое посольство неторопливо двигалось от одной европейской столицы к другой, с кем-то из послов случилась неприятность – прихватила зубная боль, да так, что дипломатия сразу стала бедолаге глубоко безразлична. Страдальца тут же к дантисту, к местному, к голландскому. По другой версии, случилась та история не в Голландии, а в Англии, что в принципе неважно. Важно другое – присутствовавший при сем юный царь Петр так вдохновился увиденным, что немедленно потребовал: научите и меня прогрессивной европейской стоматологии!
Высокому гостю отказать постеснялись. Даже не намекнули, что полный курс наук о зубных болезнях не один семестр занимает… И первичные, самые элементарные навыки зубодера царь-реформатор получил, на горе своим приближенным. Врачевать он их начал незамедлительно и продолжал драть зубы всем страждущим много лет, до самой своей смерти (вырванные зубы, неизвестно для какой надобности, бережно сохранял).
Понятное дело, «птенцы гнезда Петрова» быстренько сообразили, что к чему, и начали избегать не только жалоб на зубную боль – даже руку к щеке со страдальческим видом не прикладывали, во избежание. А то вырвет коронованный дантист не больной, а соседний здоровый зуб, – куда пойдешь жаловаться?
В общем, свита царя зубную боль, буде та случалась, терпела, но виду не подавала. А вот люди новые, не знающие о монаршем хобби, попадались. Курс лечения прописывался и исполнялся тут же, не сходя с места, – повсюду за самодержцем следовал слуга с надлежащим комплектом инструментария.
Кстати, версия о том, что пристрастился Петр Алексеевич к своим зубодерным забавам на Британских островах, по зрелому размышлению представляется неубедительной. Дело в том, что английские дантисты в те времена практиковали простой, но крайне эффективный метод обезболивания – без затей пихали в ухо пациенту кончик докрасна раскаленного железного прута. Зубы и уши, как известно, связаны троичным нервом – и ошалевший от новой боли мученик про прежнюю забывал мгновенно.
Так вот, применение Петром британской анестезии историки не отмечают…
Надо сказать, что про обезболивание, применяемое зубными врачами тех времен, вообще без содрогания читать невозможно. Напоить пациента до полусмерти, как делали в Голландии, – это еще самый мягкий и щадящий метод. Были способы и покруче… Например, в Испании сдавливали сосуды шеи до тех пор, пока клиент не приходил в нужное для дантиста бессознательное состояние. На севере Европы, в Скандинавии, практиковали обильные кровопускания, служившие той же цели. С простонародьем вообще не церемонились: в Германии всенепременной принадлежностью зубодера была киянка, то есть деревянная колотушка, – тюк по темечку, и копайся во рту без риска лишиться пальцев.
Хотя весьма эффективный анестетик, эфир, был изобретен алхимиками очень давно, около 1200 года. И еще в 1540 году знаменитый Парацельс подробно описал его обезболивающие свойства и возможное применение в медицинской практике. Но консервативные стоматологи упрямо предпочитали свои колотушки и раскаленные прутки. Лишь в середине XIX века наметился глобальный прорыв: в 1846 для зубной анестезии начали использовать эфир (в Англии), на два года раньше в США – закись азота, так называемый веселящий газ; в 1847 году шотландские врачи впервые применили хлороформный наркоз.
Но и здесь не обошлось без накладок. Открытый в 1859 году кокаин к восьмидесятым годам XIX века уверенно вытеснил все прочие анестетики: дешевый, безотказный, удобный в применении – если пациент (например, ребенок) боится инъекций, достаточно просто втереть порошок в десну… Правда, с годами проявился нежелательный побочный результат: к началу ХХ века среди просвещенной части общества и в России, и в Европе, и в США наблюдался повальный кокаинизм. Неинтеллигентные сословия сей бич эпохи затронул мало, пролетариев и крестьян зубодеры врачевали по старинке: деревянной колотушкой…
Однако же Петр I работал в старой доброй голландской традиции: чарка водки из царских рук, вот и вся анестезия.
Петр свой интерес к медицинским вопросам стоматологией не ограничил. К терапии, фармакологии и тому подобным дисциплинам царя не тянуло, там и в самом деле долго и скучно учиться надо. А вот хирургия – это по-нашему. Раз, два, отрезал, зашил…
Обучение повторилось по той же методе: короткий инструктаж, присутствие на нескольких операциях, приобретенный набор инструментов…
Интересовался монарх и патологоанатомией. Учредив в 1706 году первый в России анатомический театр, неоднократно своею царственной рукой резал там трупы. Однажды Петр Алексеевич даже приказал не вскрывать тело придворного пажа, случайно утонувшего в Неве, подождать, пока он, император, разберется со срочными государственными делами, – очень, дескать, любопытственно заглянуть внутрь утопленника.
Хоть Петр Алексеевич и считал себя знатоком медицинских наук, но самолечением предусмотрительно не занимался. Держал, как и полагается, при своей особе лейб-медика.
И вот тут появляется он, главный герой этой истории. Знакомьтесь: Лаврентий Лаврентьевич (он же Роберт Лауренс) Блюментрост, доктор медицинских наук, личный врач Петра Великого. Как можно понять по фамилии, происходил Блюментрост из немцев, но немцев уже несколько обрусевших – в Россию переехал еще отец нашего героя, тоже доктор медицины – Лаврентий Блюментрост-старший. Переехал и сделал недурную карьеру – стал придворным медиком царя Алексея Михайловича, а по совместительству руководил Аптекарским приказом.
Блюментросту-младшему напрямую унаследовать отцовскую должность не удалось – родившийся в 1692 году, был он слишком молод. Юного Лаврентия надолго отправили в Европу, учиться врачебному делу, набираться опыта, стажироваться у медицинских светил того времени.
Прослушал курс лекций Блюментрост в лучших университетах: в Галле и в Оксфорде, стажировался при Лейденском университете, там же и защитил диссертацию, кроме того, много лет практиковался в Германии, Италии, Франции, Англии. Получив докторскую степень, приехал на пару лет в Россию, затем вновь странствовал по Европе: пополнял медицинские знания, попутно выполняя поручения императора.
Окончательно вернувшись в Россию в 1719 году, Лаврентий Лаврентьевич после смерти шотландского доктора Роберта Арескина занял освободившуюся должность лейб-археатера – таким вот немецко-греческим словесным гибридом именовали в те времена главного придворного врача.
И началось самое странное и загадочное в этой истории…
Природа наградила Петра I здоровьем поистине богатырским. Жизненные передряги проходили для него почти бесследно. Разве что нервное потрясение, полученное в далекой юности, когда пришлось спасаться от мятежных стрельцов, оставило свою отметину – до конца жизни Петр страдал судорогами лицевых мышц в минуты сильного волнения. Остальные же приключения: бои, походы, безудержные пьянки на Всепьянейшем Соборе, – казалось, проходили без последствий.
Но так лишь казалось поначалу. Годы помаленьку брали свое, и Лаврентий Блюментрост без работы не остался. В Персидском походе 1722 года у императора впервые обнаружились урологические проблемы.
Началось всё с легких болезненных ощущений при мочеиспускании, и чем дальше, тем Петру становилось хуже… Ну что же, лечи, Лаврентий Лаврентьевич, не зря ж столько лет за казенный кошт в Европе обучался.
Блюментрост начал лечить. Вылечил или же просто устранил болезненные симптомы, – теперь уже не установить. Царь, впрочем, счел себя полностью исцеленным, вернулся к прежней активной жизни, и…
Дальнейшее хорошо известно: опрокинувшийся в Лахте баркас, вынужденное купание в ледяной воде, – и, как следствие, сильнейшая простуда, которая в начале 1725 года обострила прежние симптомы и доконала императора.
На престол вступила безутешная вдова, императрица Екатерина I (в девичестве – Марта Скавронская). Длилось новое царствование недолго, в 1727 году российский трон вновь опустел. Официальная причина смерти – простуда, вызвавшая пневмонию, однако же поговаривали, что быструю кончину матушки-государыни предопределило неуемное пристрастие императрицы к горячительным напиткам… Лечил Марту-Екатерину, естественно, Лаврентий Блюментрост.
Преемником стал юный Петр II. По молодости лет он в услугах Лаврентия Лаврентьевича не особенно нуждался, но… Но и его царствование промелькнуло быстро, как полустанок за окном курьерского поезда: эпидемия оспы не миновала юного императора, Блюментрост взялся за лечение… И в январе 1730 года вновь встал вопрос: кому наследовать российский трон?
Интрига вокруг опустевшего престола закрутилась нешуточная – с заговором, с подложным завещанием императора – однако закончилось всё тем, что царствовать призвали курляндскую герцогиню Анну Иоанновну, представительницу другой ветви Романовых – потомков Иоанна, родного брата Петра I. Призвали, опутав по рукам и ногам так называемыми «кондициями», превращавшими императрицу в подобие средневекового японского микадо: представительская фигура, реальной власти никакой. Править же страной, по их задумке, должны были «верховники» – члены Верховного тайного совета. Императрица, осмотревшись на новой должности, вскоре «кондиции» прилюдно разорвала, а «верховников», да и всю страну, держала в ежовых рукавицах… но речь не о том. А вот о чем: с воцарением Анны Иоанновны закончилась чехарда российских правителей, царствовала она достаточно долго, десять лет.
Почему?
Ответа нет. Есть лишь информация к размышлению: лечил Анну Иоанновну не Лаврентий Блюментрост, а личный, из Курляндии привезенный доктор.
Любопытная арифметика получается: в коротком временном промежутке между 1725 и 1730 годами на российском троне побывали четверо правителей, и трое из них умерли естественной смертью.
За всю историю российской монархии такого больше не случалось, ни при Рюриковичах, ни при Романовых. Раньше, в средневековье, бывало: великие князья киевские, а позднее владимирские мелькали вовсе уж стремительно. Но там иное: за великокняжеский стол шла напряженная борьба, соперников изгоняли, убивали, ослепляли…
Если порыться в свежих хрониках, то уже во времена генсеков можно обнаружить похожий период: даже за более короткий срок, между 1982 и 1985 годами, на вершине власти успели побывать четыре генеральных секретаря, и трое из них скончались. Однако сходство лишь внешнее: все трое почивших советских руководителей были людьми весьма пожилыми, все на восьмом десятке, и каждый страдал всевозможными сопутствующими возрасту хворями.
Пациентов же Блюментроста дряхлыми стариками никак не назовешь: Петр I умер на пятьдесят втором году жизни, Екатерина I – на сорок четвертом, а Петр II вообще не дожил до пятнадцати… То есть случай уникальный – три снаряда подряд в одну воронку. Вернее, в трон Российской империи.
Ну да, время было нелегкое, медицина относительно примитивная, средняя продолжительность жизни короткая, детская смертность высокая… Всё так. Но надо признать и другое: представители царствующих домов и питаются, и лечатся в любую эпоху лучше, чем большинство их подданных. В предшествовавшем XVII веке медицина была еще примитивнее, однако же российские монархи не умирали естественными смертями с частотой бабочек-однодневок…
А ведь кроме трех монархов, которых Блюментрост лечил, да не вылечил, не стоит забывать и членов их семей… Например, дочь Петра I, Наталья Петровна, единственная из рожденных в браке детей Петра и Екатерины, кто избег смерти в младенчестве, остальные умирали в возрасте максимум четырех лет (ее старшие сестры, Анна и Елизавета, ставшая в конце концов императрицей, – бастарды, брак родители заключили после их появления на свет).
Когда в 1725 году решался вопрос, кому править (Петр I не успел после смерти своего малолетнего сына назначить нового наследника), восьмилетняя принцесса Наталья вполне могла бы претендовать на трон. Не сама, понятное дело, – но в качестве знамени одной из партий, боровшихся тогда за власть. Почему бы и нет? Все-таки законная дочь Петра, кровь Романовых, в то время как Марта Скавронская родовитостью похвастать не могла, даже самым захудалым дворянством – не могла[1].
Однако ни на что Наталья Петровна не претендовала – заболела как раз в то время, когда началась схватка за корону, скипетр и державу. Лечил девочку Блюментрост. И принцесса Наталья очень быстро умерла, похоронили ее в один день с отцом…
Интересно отношение императрицы Екатерины I к доктору, не сумевшему вылечить ни ее мужа, ни их ребенка. Ни малейшего неудовольствия Блюментрост не вызвал у новоявленной самодержицы. Скорее наоборот… Блюментрост и место придворного лекаря не потерял, и вдобавок был назначен руководить всеми российскими учеными: стал президентом Академии наук! (С окладом в три тысячи рублей, деньги по тем временам очень большие: выписанные из Европы академики-иностранцы снимались с места и приезжали в Санкт-Петербург, прельстившись вдвое меньшим жалованьем.)
Здесь необходимо уточнить одно важное обстоятельство: медицина в наше время наука почтенная, и академик-медик пользуется не меньшим почетом и уважением, чем, например, академик-физик. А в XVIII столетии дело обстояло несколько иначе. Среди прочих наук медицина была, как затюканная Золушка среди своих благоденствующих сестер, никакого сравнения с респектабельным, например, богословием. По большому счету, медиков и за ученых-то не считали: так, нечто на уровне цирюльников… Причины объяснять не надо – достаточно вернуться на несколько страниц назад и еще раз прочитать о методах лечения, практиковавшихся в те времена.
И вот «клистирную трубку» ставят руководить всей российской наукой… В нашей истории случалось, что волею монарха оказывались на этом посту люди, еще менее достойные претендовать на звание ученых. Княгиня Дашкова, например. Но ее выдвинула Екатерина II, когда раздавала чины и награды своим сообщникам по заговору, сделавшему бывшую немецкую принцессу единоличной российской правительницей. Так за что же в таком случае Марта Скавронская наградила Блюментроста? За «успешное» лечение мужа и дочери?
К этому назначению (награждению?) Лаврентия Лаврентьевича мы еще вернемся. А теперь посмотрим, как дальше развивалась карьера нашего героя.
Итак, лечить Анну Иоанновну доктору Блюментросту не довелось. Однако на должности придворного медика он остался. И в 1733 году лечил от водянки родную сестру императрицы Екатерину Иоанновну – та номинально числилась мекленбургской герцогиней, но уже десять лет постоянно жила в России.
Лечение закончилось… ну да, правильно, торжественными похоронами.
И вот тогда-то наконец деятельность Лаврентия Лаврентьевича Блюментроста вызвала вполне резонный интерес: а почему, герр профессор, никому из ваших царственных пациентов никак выздороветь не удается? Причем заинтересовался не кто-нибудь, а сама государыня императрица, – из ее сестер умершая Екатерина была самой любимой.
По легенде, Анна Иоанновна сразу после смерти сестры вызвала к себе Блюментроста, и беседа их завершилась активным рукоприкладством, – исключительно со стороны самодержицы, разумеется.
Так оно было или иначе, неизвестно – беседа лейб-медика с царицей проходила тет-а-тет, без свидетелей. Но следствие началось незамедлительно – на самом высшем, естественно, уровне. Допрашивал Блюментроста лично Андрей Иванович Ушаков, генерал-аншеф и начальник Тайной канцелярии.
Ушаков – личность для той эпохи уникальная.
Не секрет, что в петровские и послепетровские времена фаворитизм расцвел при российском дворе пышным махровым цветом. И при очередной смене государя высшие чиновники – временщики, увешанные орденами, облагодетельствованные поместьями и деньгами, – лишались всего и отправлялись в какой-нибудь Тобольск, Пелым или Берёзов, отдыхать от государственных дел в полезном для здоровья сибирском климате.
Исключением стал Ушаков: на ниве тайного (т. е. политического) сыска он трудился при пяти сменившихся монархах, начиная с Петра I, а при Анне Иоанновне и Елизавете Петровне возглавлял российскую «сикретсервис». И это вдвойне удивительно: императрица Елизавета назначенцев своей предшественницы вычищала из госаппарата особенно тщательно, однако Ушаков должность сохранил – сугубый профессионал, он оставался в стороне от придворных интриг и никогда не искажал результаты расследований в интересах той или иной придворной клики. Ну, по крайней мере, старался не искажать…
Любопытно было бы узнать содержание разговора «Железного Феликса» самодержавия с лейб-медиком, для которого современные журналисты наверняка бы придумали какое-нибудь звучное прозвище, например Доктор-Смерть… Увы, протокол допроса не сохранился, был изъят и уничтожен при очередной смене монарха.
Остается лишь догадываться, о чем спрашивал Ушаков. А спросить он мог много о чем, не только лишь о последней жертве лечения и о трех до смерти залеченных самодержцах… Наверняка всплыли и более старые дела. Например, история о том, как Блюментрост начал свою карьеру врача при доме Романовых.
А начал он вот как: первый раз вернувшись из-за границы (в 1714 году из Лейдена), Лаврентий Лаврентьевич был назначен личным врачом Натальи Алексеевны, сестры царя, – самого Петра I опекал в те годы шотландец Арескин.
Ну и…
Вскоре царевна умерла. В сорок два года. От естественных, кто бы сомневался, причин. (Принцесс с именами Наталья в этой истории слишком много, немудрено и запутаться. Но что делать, если Натальями звали и мать Петра I, и сестру, и дочь – двум последним не повезло, стали пациентками Блюментроста; и внучку императора, дочь царевича Алексея, тоже звали Натальей.)
Ушаков, главный сыщик страны, для того на свой пост и был поставлен, чтобы не верить в случайности и совпадения, во всем докапываться до истинных причин. И хваткой отличался поистине бульдожьей, к тому же всегда считал, что лучше перебдеть, чем недобдеть. Маленький пример: одна глупая теща как-то пожаловалась Ушакову на зятя и среди прочего мельком помянула, что тот прячет от нее и от жены в кабинете какие-то бумаги. Разбирательство тянулось долго, и в конце концов выяснилось, что никакой крамолы в тех бумагах нет, сплошная «клубничка», но и зять, и теща просидели к тому времени несколько лет на нарах, – оба, кстати, происходили из потомственного дворянства, а теща к тому же была баронессой.
Надо полагать, что генерал Ушаков на естественные причины смертей не отвлекался и старался лишь выяснить, в чем именно повинен Блюментрост: в профнепригодности или же в преднамеренном убийстве?
И вот тут читатель может задать вполне резонный вопрос: а как, собственно, придворный врач может убить своих царственных пациентов, если прямого хирургического вмешательства не было? Ведь он, врач, лишь выписывает рецепт, по которому смешивает микстуру или толчет порошки уже аптекарь. А любой аптекарь немедленно доложит, кому следует, если обнаружит в рецепте дозу мышьяка или цианида, ну никак не совместимую с дальнейшей жизнью больного. Особенно если речь идет о здоровье венценосных особ – цареубийц в те времена предавали во всех странах казням изощренным и мучительным.
Ну и кто же готовил по рецептам Блюментроста декокты и пилюли, настои и порошки? Кто заведовал придворной аптекой?
Блюментрост заведовал. Родной брат нашего героя, Иван Лаврентьевич (Иоганн Готлиб) Блюментрост. Он же по совместительству девять лет руководил Медицинской канцелярией – то есть, современным языком выражаясь, был министром здравоохранения.
На этом совпадения не заканчиваются. Когда первая царственная пациентка Лаврентия Лаврентьевича скончалась, встал вопрос о наследстве незамужней и бездетной принцессы. И принадлежавшее ей огромное загородное имение Гатчинская мыза (ныне город Гатчина), вместе с полями, пашнями, лесами, деревнями и крестьянами царь пожаловал… кому бы вы думали? Нет, не Лаврентию Блюментросту. Его старшему брату, лейб-аптекарю Ивану Блюментросту.
Случалось наследовать недвижимость и Лаврентию Лаврентьевичу. Когда умер его предшественник на посту лечащего царского врача, шотландец Арескин, Блюментрост унаследовал не только должность, но принадлежавшее покойному имение Паколу. Скончался, кстати, Арескин скоропостижно – поехал подлечиться на вновь открытые Олонецкие марциальные воды, где и умер. А организовал тот марциальный курорт и руководил им… да-да, наш хороший знакомый, Лаврентий Блюментрост.
Любопытно, правда? Вот и Ушаков так считал.
А теперь отвлечемся немного от следствия и поговорим о людских фобиях, коих доктора насчитывают уже более тысячи и постоянно открывают новые и новые. В длинном списке человеческих страхов опиофобия – то есть боязнь врачей и лечения – занимает весьма почетное место. Фобия эта сложная, составная, и входят в нее:
– эргазиофобия – боязнь врачей-хирургов;
– дентофобия, она же одонтофобия – боязнь зубных врачей;
– фармакофобия – боязнь принимать лекарства;
– томофобия – боязнь хирургических операций;
– нозокомефобия – боязнь больниц;
– ятрофобия – боязнь врачей и вообще любых людей в белых халатах, включая процедурных сестер и даже безобидных санитарок.
Бывали в истории периоды, когда эти фобии становились катализаторами для приступов массового помешательства – и тогда, например, необразованные толпы убивали врачей, самоотверженно пытающихся остановить эпидемии: и в самом деле, появляются люди в белых халатах, уколы непонятные делают, а народ вокруг повально умирает, и недолго перепутать причину со следствием…
И так уж повелось, что обвинять врачей в отравлении известных пациентов считается у историков дурным тоном и признаком суеверного невежества. Проявлением, так сказать, опиофобии.
А почему, собственно? Клятва Гиппократа не дает поклявшемуся пожизненной индульгенции. Разве мало клятв нарушают люди?
Но историки стоят на своем. Характерен пример со смертью Наполеона: очень давно в волосах покойного императора обнаружили мышьяк в концентрациях, несовместимых с жизнью, однако историческая наука упорно не желала признать факт отравления, изобретая всевозможные объяснения. Точку в спорах поставил уже в наши дни французский суд, вынесший вердикт: император убит посредством отравления.
Однако, чтобы не уподобляться озверевшей толпе, убивавшей врачей во время чумных бунтов, постараемся разобраться с делом Блюментроста беспристрастно, на основе презумпции невиновности. У генерал-аншефа Ушакова такой возможности не было: императрица еще до начала следствия сама назначила виновного и требовала лишь найти доказательства.
Ушакову для успешного следствия требовался консультант, изрядно разбирающийся в медицине и фармакологии, – иначе полицейский генерал попросту ничего бы не понял в латинских терминах. Консультант, смыслящий в медицинской науке не меньше самого Лаврентия Лаврентьевича. Найти такого человека было не просто: доктора-иностранцы (в основном немцы) держались в чужой и чуждой стране обособленной группой, свято исповедуя принципы взаимоподдержки и корпоративной солидарности. Круговой поруки, проще говоря. А русских кадров достаточной квалификации подготовить пока не успели.
Однако отыскался такой человек, и очень быстро, – медицинское светило, готовое выступить экспертом в деле Блюментроста. Причем отнюдь не благожелательным к лейб-врачу экспертом, и даже не нейтральным.
Знакомьтесь: Николай Ламбертович (Николаас) Бидлоо, известный голландский врач, тоже происходивший из медицинской династии: отец, Ламберт Бидлоо – ученый-биолог и по совместительству придворный аптекарь штатгальтера Вильгельма Оранского, а родной дядя Говерт Бидлоо – известнейший анатом и ректор Лейденского университета.
Пригласил в Россию Николая Бидлоо посланник Матвеев по личному указанию Петра I. В подписанном в Гааге контракте значилось, что будет трудиться приезжий лекарь в должности лейб-врача в течение шести лет.
Не сложилось. Вокруг престола к тому времени сформировалась теплая компания медиков, поделившая все хлебные места, – и голландец-конкурент ко двору не пришелся, в прямом и в переносном смысле. Особенно напряженные отношения сложились у него с кланом Блюментростов.
Спустя недолгое время пришлось Николаю Бидлоо отправиться из столичного Петербурга в Москву, – а Первопрестольная в те годы медленно, но неудержимо становилась провинцией. Ссылку, впрочем, оформили вполне почетно: в Москве Бидлоо основал и возглавил Московский госпиталь с госпитальной школой при нем. Школа стала первым медицинским вузом в России, готовившим национальные кадры, а госпиталь существует до сих пор и называется Главным военным клиническим госпиталем им. Н. Н. Бурденко…
Названия должностей звучные, а на деле… На деле в подчинении у Бидлоо (кроме полусотни студентов) оказались четыре человека: лекарь с подлекарем, да аптекарь с помощником, – на всё про всё, и лечить, и учить. Причем, что характерно, финансировали деятельность госпиталя и школы не кто-нибудь, а братья Блюментросты – сначала Иван как глава Аптекарского приказа и Медицинской канцелярии, позже и Лаврентий как президент Академии наук.
Первые студенты-медики России блюментростовыми попечениями нищенствовали. Богатые частные пациенты, способные поправить дело, в госпиталь к Бидлоо не спешили: московский бомонд в раздоре между врачами-иностранцами решительно принял сторону клана Блюментростов: «…они на Руси уже век жили; коли кто из Блюментростов рецепт прописал, так его из рода в род, от деда к внуку передавали как святыню». А доктора Бидлоо москвичи обвиняли в тайном выкапывании и осквернении трупов, в ампутациях, сделанных ради научного интереса, а не по медицинским показаниям, и в прочих смертных грехах…
И пока Лаврентий Лаврентьевич лечил царственных пациентов и их приближенных, в госпиталь к Николаю Ламбертовичу шли со своими хворями отставные солдаты, монахи, подьячие… Даже нищих доводилось лечить.
Однако, странное дело, больные у Бидлоо почему-то выздоравливали гораздо чаще, чем умирали, – и солдаты, и подьячие, и даже нищие. Авторитет и госпиталя, и его руководителя постепенно рос, и – со временем, далеко не сразу – лечиться у Бидлоо начали первые люди Первопрестольной… Но, увы, по рангу тем людям всё же было далеко до пациентов Лаврентия Блюментроста. Провинция…
Возможно, вспоминая известную мысль Юлия Цезаря о том, что лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме, Бидлоо за годы ссылки смирился с тем, что стал самым популярным в Москве врачом, а столичная карьера не сложилась… Но в 1729 году произошло неожиданное: юный император Петр II вернул Москве статус столицы империи. Не просто вернул – переехал туда вместе со всем двором, со всем тогдашним высшим светом, со многими центральными ведомствами и учреждениями… И Бидлоо вновь стал столичным врачом.
Когда заклятые враги Николая Ламбертовича – братья Блюментросты – оказались на «его территории», выяснилось, что доктор-голландец не забыл и не простил давних обид. Старые враги вновь сошлись в схватке… Никакой метафоры здесь нет – сошлись в самом прямом смысле, лицом к лицу, – над постелью заболевшего императора. И дело чуть не дошло до рукопашной.
Блюментрост в крик кричал на Бидлоо, обзывая шарлатаном и неучем, и требовал выплеснуть дворцовым собакам прописанные голландцем микстуры, – проверить, не сдохнут ли, часом.
Бидлоо в долгу не оставался: «На ваших руках за три года умерли Петр Великий, матушка Екатерина и царевна Наталья. Теперь вы губите последнего Рюрика… Не слишком много славы для одного Блюментроста?!»
А юный император едва дышал и был не в силах прекратить научную полемику… Обоих корифеев, уже хватавших друг друга за грудки, взашей вытолкал из спальни Остерман.
Победила точка зрения Блюментроста – он был лейб-медиком, а Бидлоо всего лишь приглашенным для консультации врачом. Лечили Петра II согласно диагнозу Лаврентия Лаврентьевича, а лекарства по выписанным им рецептам составлял Иван Лаврентьевич…
Сомневаться в диагнозе оснований нет, симптомы оспы проявились у царя вполне характерные… Но дело в том, что оспа была болезнью опасной, однако не обязательно смертельной, – число заразившихся, но выживших превышало число умерших (хотя известны особо тяжелые эпидемии XV–XVI веков, уносившие жизни до девяноста процентов от числа заболевших).
Петр II не выжил.
Надо сказать, не всегда Лаврентия Лаврентьевича постигали фатальные неудачи в лечении – частные пациенты у него нередко выздоравливали. Вот что говорит изданная в 1830 году «История медицины» о Блюментросте:
«Слава учености и успехов его в удачной всегда приватной практике, незабвенной посреди многих знаменитых фамилий империи нашей; и теперь еще в рукописях показываются истлевающие рецепты его и хранятся как некоторая драгоценность, переходя от отца к сыну».
К этим истлевающим рецептам мы еще вернемся, но сейчас отметим лишь главное: лечить Блюментрост умел, по крайней мере, так считали его пациенты. Но, когда пациентами становились русские цари, умения лейб-медика таинственным образом исчезали.
Итак, эксперт у генерала Ушакова имелся, и при этом самый подходящий… Если даже раньше, когда Блюментрост был в расцвете карьеры, Бидлоо не побоялся обвинить его в смерти троих Романовых, то уж теперь… Голубиной кротостью Анна Иоанновна не отличалась и при нужде могла отправить семейство Блюментростов хоть в Пелым, хоть на плаху.
Не отправила. После недолгого, пять дней длившегося следствия братья лишились всех чинов и должностей, а заодно и недвижимости: у Ивана Лаврентьевича отобрали в казну Гатчинскую мызу, у Лаврентия Лаврентьевича – дачу в Стрельне, небольшой такой особняк в непосредственной близости от императорского дворца.
На том всё и закончилось. До суда «дело Блюментростов» в любом случае дойти имело мало шансов, больно уж тема щекотливая. Однако и внесудебным порядком, личным монаршим указом, братьев могли послать в дальние-дальние края, лечить аборигенов Подкаменной Тунгуски – не за отравление пациентов, за цареубийство однозначно полагалась смертная казнь, – за некомпетентное лечение. Так почему же не послали?
Надо полагать, не смогли доказать даже некомпетентность, не то что злой умысел. Но так ли нужны были доказательства? Все-таки на дворе стоял XVIII век и в России правило бал самодержавие: воля монарха стояла выше судов и законов. Да и признание, как известно, царица всех доказательств, – а у генерал-аншефа Ушакова хватало специалистов по добыванию признательных показаний самыми суровыми методами.
Всё так, но с братьями Блюментростами общее правило не срабатывало. Доказательства требовались, и доказательства железные. Отправить братьев в застенок недолго, – но у кого потом прикажете лечиться императрице? У русских бабок-знахарок? Или все-таки у тех же врачей-иностранцев? Так от них всего можно ожидать, даже Бидлоо едва ли одобрил бы бездоказательную расправу над Блюментростами, – кто знает, как потом жизнь повернется, у любого врача пациенты иногда умирают.
Русских врачей надлежащего уровня еще не было, несмотря на старания Бидлоо. Блюментросты (и возглавляемый ими клан немецких медиков) продвижению питомцев конкурента мешали, как могли, – в архивах сохранились письма Николая Ламбертовича к Петру I с просьбами о новых, независимых экзаменах для выпускников Медицинской школы – немцы-экзаменаторы безбожно «срезали» русских соискателей.
И все-таки: почему Бидлоо и Ушаков – врач высшей квалификации и следователь, не уступающий ему в своей области знаниями и опытом, – не смогли предоставить императрице необходимые доказательства?
А потому, что на стороне Блюментроста выступала «тяжелая артиллерия», авторитетнейшие светила европейской науки. Была у Лаврентия Лаврентьевича такая привычка – собирать консилиумы по поводу лечения венценосных пациентов. Как очные консилиумы, так и заочные.
Например, заболел Петр I – самой последней своей болезнью, ставшей смертельной, – и его лейб-медик собрал всех находившихся в Петербурге докторов. Все они были, разумеется, иностранцами и добрыми друзьями Блюментроста. Что случалось с недругами, мы уже видели на примере Бидлоо.
Мало того, во время последней болезни императора Лаврентий Лаврентьевич активно консультировался с лучшими европейскими докторами: правильно ли, дескать, лечу? Написал в Берлин Георгу-Эрнсту Шталю, лейб-медику прусского короля. Написал в Лейден старому своему знакомому, университетскому профессору Герману Боергафу… Написал и другим светилам, словно предчувствуя, что когда-нибудь придется держать ответ.
Надо учесть, что дело происходило задолго до эпохи Интернета, что даже изобретения телеграфа и телефона еще оставалось ждать и ждать, – и сообщения между медиками, живущими в разных странах, двигались со скоростью скачущего фельдкурьера, никак не быстрее. И подтверждения: правильно, мол, действуешь, Лаврентий Лаврентьевич, – приходили как раз к похоронам пациента. Но все-таки приходили, и несколько лет спустя Блюментрост смог их предъявить своим обвинителям. Авторитет европейской науки перевесил и мстительную экспертизу Николаса Бидлоо, и даже неприязнь самой императрицы…
Чем же занялись братья Блюментросты, угодив в опалу, лишившись должностей и недвижимого имущества?
Поселились в московской Немецкой слободе, понемногу подрабатывали частной практикой, а в основном активно интриговали, пытаясь вернуть потерянное. Когда столица и императорский двор вернулись в Петербург, Блюментросты потянулись следом и некоторое время жили вдвоем – в одном доме на Аптекарском острове, очевидно из экономии. Оставшиеся у братьев связи были задействованы в попытках вернуть расположение императрицы, но та оставалась непреклонна: при дворе Иван и Лаврентий в ее царствование так и не появились.
Лаврентий Лаврентьевич, устав от бесплодных попыток возвратить утерянное, через пару лет уехал в Москву. Иван Лаврентьевич, более настырный, остался, – не прекращая своих закулисных стараний; да и то сказать, в материальном смысле пострадал он куда сильнее, чем брат: имение размером почти с весь нынешний Гатчинский район, – не шутка! В архивах сохранилось прошение Ивана Блюментроста, датированное 1736 годом и адресованное Анне Иоанновне. Бывший лейб-аптекарь жаловался в нем на скудость средств и просил хотя бы вернуть деньги, вложенные им в восстановление Гатчинской мызы, разоренной войной со шведами. Жалобное письмо получилось:
«…Не жалея никакого иждивения в состояние приводил; и которые войною разорение <…> той мызы с деревнями собирал своим коштом, хлебом и лошадьми и снабжал скотом; заводи и пашни, и сенные покосы расчищал и размножал, и всякое строение наемными работниками строил, и желая, чтоб оная была во всяком довольствии, хлеба и скота чрез многие годы малое число в санкт-петербургский дом мой брал, а большую часть для хранения и содержания той мызы с деревнями оставлял, отчего себе действительно великий убыток понести принужден был…»
Императрицу жалобы не растрогали, челобитная осталась без ответа.
А Лаврентий Лаврентьевич, пока брат его соловьем разливался на тему «всё, что нажито непосильным трудом», собрал вещи и переехал в Москву, в вотчину своего заклятого врага Бидлоо.
И вскоре после переезда заклятый враг умер. Заболел и умер. Совпадение? Возможно, возможно… Но тогда вот еще одно совпадение, произошедшее немедленно за первым: едва Николая Ламбертовича похоронили, Блюментрост тут же занял обе его должности – возглавил и госпиталь, и госпитальную школу.
Кто лечил заболевшего Бидлоо, теперь уже не выяснить. Ясно лишь, что не Блюментрост, – того бы и близко к постели больного не подпустили. И никаких доказательств причастности нашего героя к смерти давнего врага и конкурента не сыскать… И всё же некий фамильный почерк Блюментростов в этом деле явственно прослеживается.
А теперь обещанный небольшой рассказ о том, как Лаврентий Лаврентьевич Блюментрост руководил всей российской наукой. К делу о повальной смертности среди русских императоров это руководство отношения не имеет, но личность нашего героя характеризует неплохо.
Поначалу Блюментрост и сам признавался, что оказался на посту главы Академии наук не совсем по заслугам. (Либо заслуги его перед императрицей Екатериной I были таковы, что публично о них не объявишь…) Вот что писал новоиспеченный президент Академии знаменитому немецкому ученому-энциклопедисту Христиану фон Вольфу:
«Хотя Академия могла бы иметь более славного и ученого президента, однако не знаю, нашла ли бы она более усердного, который бы с такой ревностью, как я, хлопотал о ее благосостоянии».
То есть корифеем наук Блюментрост себя благоразумно не объявлял: я, дескать, всего лишь научный администратор, но усердный и ревностный. Первое время некоторое усердие и впрямь имело место – например, стараниями Лаврентия Лаврентьевича академики получили в качестве резиденции конфискованный дом П. Шафирова, опального барона-выкреста.
Но затем двор вместе с придворным медиком переехал в Москву, Блюментрост лишь наездами бывал в Академии, оставшейся в Санкт-Петербурге, – возложив непосредственное руководство на своего заместителя Шумахера.
Шумахера к светилам той или иной науки тоже причислить нельзя: известен он в основном как библиотекарь Петра Великого. Причем методы пополнения библиотеки практиковал Шумахер специфичные: накладывал руку на книжные собрания попавших в опалу придворных, не гнушался и прямого грабежа в городах, занятых русской армией в ходе Северной войны. Например, в оккупированной Митаве удалось Шумахеру очень неплохо поживиться: две с половиной тысячи рукописей и редких книг, – день, как говорится, прошел не зря…
А еще по совместительству подрабатывал Шумахер экскурсоводом в учрежденной Кунсткамере, демонстрировал почетным гостям заспиртованных уродцев и прочие диковинки. Спору нет, кое-какие научные познания для такой работы требуются, но всё же не слишком глубокие.
И вот этот-то экскурсовод и библиотекарь-мародер замещал Блюментроста. Руководил де-факто российской наукой, а заодно безбожно разворовывал отпущенные на оную науку средства – тащил всё, что плохо лежало. Что хорошо лежало, тащил тоже, по старой своей библиотекарской привычке. Академики от его руководства взвыли, постоянно писали жалобы президенту, – но Блюментрост, надо полагать, был в доле, и во всех конфликтах неизменно принимал сторону своего протеже Шумахера.
В результате академики – серьезные ученые, с большим трудом и за большие деньги заманенные в Россию, – уезжали, едва заканчивался срок их контрактов. Например, уехал Даниил Бернулли, выдающийся математик и физик-универсал, «отец» гидродинамики как научной дисциплины. И последствия этой потери для российской науки трудно оценить. Если бы последние полвека своей жизни Бернулли жил и творил не в Базеле, а в Санкт-Петербурге, то…
Нет, конечно же, слишком смело утверждать: останься в России и он, и Герман, и ряд других ученых, сбежавших от попечений Блюментроста и Шумахера, – и в России никогда бы не вставал на повестку дня унизительный лозунг «Догоним и перегоним Запад!». Но, вероятно, наука у нас была бы другая. Да и техника тоже.
Однако самая показательная история произошла с немецким ученым-энциклопедистом и доктором медицины Даниилом Готлибом Мессершмидтом. В апреле 1718 года он прибыл по приглашению царя в Санкт-Петербург, но при дворе не задержался – как мы помним, возглавляемый Блюментростами клан придворных медиков вновь прибывших конкурентов не жаловал. И Мессершмидта отослали с глаз долой, да не в Москву, как Бидлоо, гораздо дальше… Уже в ноябре того же года Петр I подписал указ: доктора Мессершмидта отправить в Сибирь «для изыскания всяких раритетов и аптекарских вещей: трав, цветов, корений и семян и прочих статей в лекарственные составы».
Этот указ ставил Мессершмидта в непосредственное подчинение Медицинской канцелярии (руководимой Иваном Блюментростом), – именно туда Мессершмидту надлежало присылать все собранные материалы и откуда должна была производиться в Сибири выплата ему жалованья и прогонных денег. Должна была… А на деле…
На деле же молодой врач – тридцать с небольшим лет, не знающий даже русского языка, не говоря уж о туземных наречиях, очутился в Сибири, в Тобольске, в самом центре обширного дикого края, о котором даже в столице империи представление имели более чем смутное: ну живут какие-то инородцы, платят ясак мехами… вот и вся информация.
Никакой внятной инструкции Мессершмидт не получил: исследуй край, собирай коллекции животных, растений и минералов, – вот и всё. Не было установлено никакого срока его пребывания в Сибири, не имел он и сколько-нибудь четкого маршрута путешествия. Не было необходимых инструментов, не было помощников: ни специалиста-картографа, ни таксидермиста (в просторечии чучельника), ни… Никого не было. Одинокий немец в центре Сибири. А обещанное жалованье и погонные… Мы уже достаточно знаем о братьях Блюментростах, чтобы не задавать этот бестактный вопрос.
Мессершмидт не запил с горя. Не сбежал обратно в столицу. Не стал засыпать письменными жалобами Блюментроста. Он начал работать.
Нашел помощников среди шведских пленных, давно живших в Сибири, вкладывал в экспедицию собственные деньги, сам осваивал мастерство препаратора, картографа и рисовальщика… На девять лет растянулась сибирская эпопея Мессершмидта: Тобольская и Красноярская губернии, Хакасия и Саяны, Барабинская степь и Прииртышье, Бурятия и Нижняя Тунгуска…
Поставленная Блюментростом задача была выполнена и перевыполнена: помимо собранных коллекций, Мессершмидт открыл залежи угля и графита на Тунгуске, другие месторождения, оставил подробные этнографические описания двух десятков сибирских народов и даже составил краткие словари их языков, подробно картографировал все свои маршруты… Учитывая условия, в которых пришлось работать, иначе как научным подвигом не назвать исследование Сибири Мессершмидтом.
И как же встретил Санкт-Петербург вернувшегося в 1728 году путешественника? Всенародное ликование, чины и награды, признание заслуг, место во вновь учрежденной за годы странствий Академии?
Петербург встретил научного героя неласково… Немедленно по приезде у него по приказу братьев Блюментростов отобрали всё привезенное с собой имущество – в самом прямом смысле отобрали: пришли гвардейцы, опечатали сундуки и баулы. Под арест угодили не только научные коллекции, но и личные вещи доктора. Сами, дескать, разберемся, что ты тут насобирал вдали от начальства за девять лет.
Разбиралась комиссия Академии, назначенная Лаврентием Блюментростом. Разобралась и постановила: то, за чем доктора Мессершмидта в Сибирь посылали, принадлежит Академии однозначно. Те же коллекции, что он собрал сверх задания и за свой счет, – тоже отобрать в пользу Академии, но выплатить компенсацию, целых двести рублей! Двести… За девять лет трудов…
Личное имущество, правда, вернули. Но не всё, лишь малоценные мелочи. В архивах сохранилась жалоба Мессершмидта на пропажу собственных его вещей – тюк и пять сундуков изъяли без расписки, на основании устного распоряжения Лаврентия Блюментроста… Чувствуется набитая рука Шумахера, наверняка не обошлось без участия библиотекаря-мародера, – потому что именно в его вотчине всплыли позже бесценные коллекции Мессершмидта: много лет пылились без всякой пользы для российской науки в запаснике Кунсткамеры, там и погибли при пожаре 1747 года.
Жалоба осталась без ответа. Мессершмидта посадили на корабль и выпроводили на родину, не забыв предварительно взять расписку: не имеет, дескать, он права публиковать за границей научные работы, пользуясь добытыми в сибирской экспедиции данными.
Умер великий исследователь Сибири в нищете и полной безвестности, не дожив до пятидесяти лет.
Паскудная история, другого определения не подобрать. И очень хорошо характеризующая братьев Блюментростов.
Свою притеснительницу, императрицу Анну Иоанновну, братья Блюментросты пережили, хоть и царствовала она вдвое дольше, чем в совокупности двое ее предшественников на троне. Пережили и недолгое правление регентши Анны Леопольдовны. А потом на престол взошла Елизавета, дочь Петра. Взошла в лучших традициях романов Дюма-отца: ночь, гвардейцы-заговорщики врываются во дворец, шпаги блестят под луной… И барабан, вспоротый штыком, – дабы никто не поднял тревогу.
Пострадавших при Анне Иоанновне новая императрица реабилитировала гуртом, не особо вникая в суть обвинений, по принципу «ее враги – мои друзья».
Появилась и у Блюментростов надежда вновь обрести былое могущество и влияние. Не сложилось: чины и награды им вернули, однако недвижимость, о которой столько хлопотал Иван Лаврентьевич, осталась за казной. А к делу охраны здоровья императрицы братьев и близко не подпустили – опасаясь заговора и цареубийства, осторожна была Елизавета Петровна до маниакальности, даже ночевать дважды подряд в одной и той же комнате дворца боялась, случайным образом меняя спальни. Как тут допустить к царственному телу врача и аптекаря с подмоченными репутациями…
К тому же еще одно обстоятельство наложилось: много лет назад ко двору Петра I прибыл молодой талантливый врач-француз… И попробуйте угадать, чем закончилась его попытка конкурировать с немецким медицинским кланом братьев Блюментростов? Гадать тут, собственно, можно об одном – куда именно отправили молодого доктора в ссылку. Правильный ответ – в Казань. Хотя справедливости ради отметим, что причина тому имелась: француз отличался свойственной своей нации женолюбивостью, и дело закончилось беременностью дочери придворного шута Лакосты. Любому другому такая шалость сошла бы с рук, но только не конкуренту Блюментростов.
И надо же так случиться – за прошедшие годы француз (звали его Иоганн-Герман Лесток, и это имя еще в нашем рассказе прозвучит) вернулся из ссылки и весьма сблизился с принцессой Елизаветой Петровной, державшейся в стороне от схваток за трон, стал ее личным медиком… А потом – переворот 1741 года, Лесток принимает в нем активнейшее участие, получает графский титул и становится не просто личным медиком, но одним из доверенных лиц императрицы. Блюментростов, судя по всему, новоиспеченный граф не забыл и не простил.
Лишь в 1755 году (Лестока к тому времени удалили от двора) Лаврентий Лаврентьевич вновь получил заметную государственную должность – был назначен куратором Московского университета. Согласитесь, есть большие основания сомневаться, что назначение это пошло бы университету на пользу… Однако ничего заметного совершить Блюментрост в новой своей ипостаси не сумел – в том же году он умер, а брат его скончался годом ранее.
На этом история братьев Блюментростов заканчивается. И начинается самое интересное – конспирология. Надо же, в конце концов, попытаться найти ответ на вопрос: ОТЧЕГО так часто умирали российские императоры, вверявшие братьям свое здоровье?
В этой истории уже дважды упоминались рецепты, выписанные Лаврентием Блюментростом своим обычным, не венценосным пациентам, и хранившиеся в семейных архивах. Во второй половине XIX века кое-какие из этих полуистлевших бумажек стали доступны читающей публике на страницах «Русской старины» и «Русского архива». И сразу выяснилось много любопытного.
Нет, конечно же, цианистый калий больным Блюментрост не прописывал, да и не был еще изобретен в те времена этот мгновенно действующий яд. К тому же, как мы помним, в частной своей практике братья Блюментросты врачевали страждущих достаточно успешно.
Однако на основании старых рецептов можно сделать вывод: Лаврентий Лаврентьевич был убежденным и последовательным сторонником металлолечения. Прописанные им препараты приготовлялись на основе серебра, меди, свинца, цинка, железа, ртути и их соединений… А металлы, особенно тяжелые, и их соединения – субстанции весьма ядовитые.
Хотя еще Парацельс учил, что нет в медицине лекарств и ядов, любое лекарство – яд, и любой яд – лекарство, различие лишь в показаниях и в дозировке… Всё так, но тем не менее методы лечения Лаврентий Блюментрост применял достаточно рискованные, вполне способные отправить пациента на тот свет при случайной или намеренной передозировке. Ведь даже в двадцатом веке учебник фармакологии советовал всегда иметь под рукой флакон универсального противоядия от металлов, так называемого Antidotum metallorum, в тех случаях, когда назначена активная металлотерапия.
Интересно, что за микстуру доктора Бидлоо приказал выплеснуть дворцовым собакам Блюментрост? Не Antidotum metallorum случайно? У дворцовых собак уже не спросить…
По свидетельству современников, умирал Петр I в страшных муках – и кричал, пока оставались силы, так громко, что было слышно далеко вокруг. Непосредственная причина диких болей – закупорка мочевыводящих путей: почки царя уже не работали, что привело к накоплению в крови азотистых шлаков…
А наука фармакология учит, что тяжелые металлы, попадая в организм, отлагаются прежде всего в печени, в почках, в селезенке и в костном мозгу. Отлагаются и накапливаются, обладая аккумулирующим действием, – влияние многочисленных малых доз постепенно суммируется. Проблемы с почками, напомним, Петр заметил спустя пару лет после того, как Блюментрост выписал царю свой первый рецепт…
Однако в 1725 году болезнь обострилась резко, что никаким аккумулирующим эффектом от небольших доз металлов объяснить нельзя. Значит, была введена доза ударная? Возможно… Но почему именно тогда, не раньше и не позже?
Ответ, вероятно, пересекается с ответом на другой вопрос: отчего Екатерина столь щедро вознаградила лекаря, не сумевшего вылечить ее мужа?
Дело в том, что в последние месяцы перед смертью Петра I будущая государыня-матушка в буквальном смысле ходила по лезвию ножа. Или по лезвию палаческого топора, такое сравнение гораздо вернее обрисовывает ее положение. Знаменитое «дело Монса»: стареющий монарх неожиданно обнаружил, что жена ему изменяет с молодым камергером Виллимом Монсом – по злой иронии судьбы любовник оказался родным братом Анны Монс, давней пассии царя, тоже сумевшей наградить его рогами. Не везло Петру с этим семейством, прямо скажем.
Причем дело обернулось не просто заурядным и тайным адюльтером: многие высшие придворные знали о сердечной привязанности царицы, и искали благосклонности ее фаворита, и обращались к нему с прошениями, и вручали немалые взятки…
Головы Виллим Монс лишился очень быстро – стремительное следствие, несколько дней жестоких пыток в личном присутствии царя, – и на плаху. По официальной версии – за взятки, императорская корона с рогами никак не сочетается, по крайней мере в публично оглашаемых приговорах…
А вот что делать с провинившейся царицей… Тут Петр призадумался. Свозил благоверную посмотреть на отрубленную голову любовника (обожал он такие наглядные демонстрации, достаточно вспомнить мертвых стрельцов с челобитной в руках, повешенных у окошка кельи царевны Софьи). Свозил, но окончательного решения не принял.
Екатерина могла лишь догадываться, чем закончатся раздумья супруга, и никаких оснований для радужных догадок у нее не было… Первую свою жену, царицу Евдокию, в результате долгих раздумий венценосный муж законопатил в дальний монастырь, – а она и в адюльтере-то никаком не была замечена, не сошлись супруги характерами, с кем не случается…
Да и о своем сыне, о царевиче Алексее, – возвращенном из Австрии и вроде как прощенном, – Петр тоже думал, думал, думал… Закончилось всё пыточным застенком, смертным приговором и тайным ночным умерщвлением, во избежание позора публичной казни.
В общем, ожидать Екатерина могла всего. И тут, избавлением от мук ожидания, – резкое обострение болезни и смерть императора. Случайное везение? Или?..
Ближайший сподвижник Петра, светлейший князь Меншиков, кстати, имел ничуть не меньшие основания опасаться за свою судьбу. Меншиков последние годы находился под непрерывным следствием: всё новые и новые комиссии расследовали все новые его вскрывавшиеся злоупотребления, всё новые громадные штрафы изымались в казну… Значительную часть доверия царя Меншиков утратил, а тут еще, как на грех, вскрылись неприятные детали в «деле Монса» – знал светлейший о шашнях царицы, и писал[2] ее фавориту записочки, именуя «любезным другом и братом», и просил о заступничестве в очередном грозящем расследовании… Терпение царя вполне могло лопнуть. Могло… Но раньше лопнул переполненный и воспаленный мочевой пузырь.
Интересы царицы и светлейшего князя совпадали полностью, и выздоровление Петра являло сильнейшую угрозу обоим. И что любопытно: Петр еще мучался, а его супруга и Меншиков буквально за стеной проводили секретное совещание с офицерами гвардейских полков – в деталях прорабатывали план переворота, который чуть позже возведет на престол Екатерину.
А накануне Меншиков наложил руку на государственную казну, приказав перевезти ее в Петропавловскую крепость, под охрану преданного светлейшему коменданта. Позволил бы Александр Данилыч себе такую вольность, оставайся хоть один шанс из ста, что приступ окажется не смертельным, что император если не выздоровеет, то по меньшей мере на недолгое время вернется к управлению делами?
Едва ли…
Не рискнул бы светлейший. Случались в русской истории прецеденты: лежал Иоанн Грозный при смерти, вот-вот, всем казалось, к небесному царю отправится, за земные дела ответ держать…
Бояре, не стесняясь, уже должности и казну делят, не отходя от постели умирающего, – и тут самодержец негаданно поправляется и начинает припоминать всё сказанное у его якобы смертного одра. Нет, не рискнул бы Меншиков. Значит, знал наверняка: царь умрет в самое ближайшее время.
Красивая версия: Блюментросты вступают в заговор с Екатериной и Меншиковым – и осторожно, день ото дня увеличивая дозу тяжелых металлов, сводят Петра в могилу… Рычаги давления на братьев при нужде отыскались бы без труда, та же история со смертью царевны Натальи и Гатчинской мызой.
Но такое построение позволяет объяснить лишь одну смерть из достаточно длинной их цепочки. Потому что следующее звено в той цепи – сама потенциальная заговорщица, императрица Екатерина.
Последние дни Екатерины сопровождались частыми удушьями, конвульсиями, лихорадками… Симптомы, кстати, достаточно характерные для отравления медью и ее соединениями. Но не сама же императрица, терзаемая угрызениями совести, отравила себя при помощи братьев Блюментростов?
Допустим, в деле был замешан один лишь Меншиков. Но и ему травить Екатерину вроде бы незачем… Ее правление – пик могущества светлейшего князя: комиссии, расследовавшие княжьи взятки, злоупотребления и прямые хищения, распущены, получен чин полного адмирала, да и все нити, управляющие внешней и внутренней политикой России, оказались в руках Александра Даниловича. Позже, при Петре II, благоденствовал Меншиков недолго, хоть и успел выхлопотать чин генералиссимуса, но на том карьера и завершилась – бесславной смертью в Берёзове, в ссылке.
Надо искать другое объяснение… Ну что же, поищем.
Версия номер два: происки мировой закулисы. Скажете, что такие версии хороши лишь для бульварных журнальчиков, – тех, что изначально печатались на дешевой желтой бумаге? Так-то оно так, но… Но есть прецеденты в российской истории, причем связанные как раз с придворными врачами.
Самый одиозный пример – уже упоминавшийся в нашей истории лейб-медик Лесток, увековеченный актером Владиславом Стржельчиком в фильме «Гардемарины». Пресловутый фильм к исторической науке отношение имеет весьма косвенное, но реальный Иван Иванович (Иоганн-Герман) Лесток и в самом деле был личностью многогранной – придворный врач императрицы Елизаветы шпионил чуть ли не на все европейские разведки[3]: на шведскую, прусскую, австрийскую… А в первую очередь, конечно же, на родную французскую. Был разоблачен, пытан в Тайной канцелярии, приговорен к смертной казни, замененной бессрочной ссылкой.
То есть придворный медик, активно действующий в интересах иностранной державы, – явление в XVIII веке отнюдь не уникальное.
Однако встает закономерный вопрос: что за держава? Какая страна была заинтересована в смерти трех подряд российских монархов? К тому же не просто заинтересована, но и способна претворить свои интересы в цареубийство?
Ответ имеется.
Но, прежде чем его огласить, необходимо разобраться с некоторыми особенностями политики того времени.
Большая политика – всегда, во все времена – была делом грязным, а в изнанке своей даже кровавым. Но, опять же во все времена, имелись некие принципы, переступать через которые считалось недопустимым. В описываемое время, когда большинство европейских стран возглавляли наследственные монархи, одним из таких основополагающих принципов была неприкосновенность венценосных особ.
Монарха враждебной страны можно было пленить на поле боя, но жизни его при этом ничто не угрожало. Запрашивали огромные выкупы – деньгами, провинциями, дипломатическими уступками – но на кол не сажали, на плаху не отправляли… Убить в сражении – можно, казнить плененного – непозволительно. Отчасти это объяснялось собственными интересами: военное счастье переменчиво, сегодня ты угодил в плен, завтра я, ни к чему подавать дурные примеры.
Тайные покушения случались, но именно тайные, ни одна уважающая себя европейская страна никогда не взяла бы на себя ответственность за убийство монарха враждебной державы. Да и своих свергнутых, низложенных, отрекшихся королей и императоров порой убивали, но старались обставить всё благопристойно: геморроидальная колика, дескать, или апоплексический удар. Особа помазанника божьего неподсудна и неприкосновенна, точка. Но помазанника законного, легитимного, – а самозванца вполне можно сжечь и выстрелить пепел из пушки. Или без затей на плаху, как юного Конрадина…
И лишь одна-единственная европейская страна нарушала этот нигде не записанный принцип, причем нарушала открыто: Англия, с 1707 года именовавшая себя Великобританией. Нет никаких табу, есть realpolitik и британские интересы.
Маленький пример: XVI век, монарх сопредельной державы даже не в плен попадает – всего лишь просит политического убежища, спасаясь от собственных взбунтовавшихся подданных. А вместо того получает многолетнее заточение, сфабрикованный процесс и плаху с топором… Имя жертвы – Мария Стюарт, королева Шотландии. Ее внуку Карлу, волею судьбы оказавшемуся на английском троне, подданные устроили то же самое шоу, что и бабушке: процесс и эшафот. Какое уж после этого уважение к чужим монархам, какая еще их неприкосновенность… Realpolitik, и никаких сантиментов.
И, что немаловажно, имелся у гордых бриттов инструмент для проведения грязной, кровавой и при этом тайной политики: секретная разведывательная служба, созданная еще в XVI веке лордом Уолсингемом… Широчайшая шпионская сеть, раскинутая англичанами на континенте, состояла из самых разных агентов: в интересах realpolitik работали и уголовники, готовые перерезать глотку за пару монет, и люди, принадлежавшие к верхушке общества, – дворяне, купцы, видные чиновники. А еще наследники Уолсингема испытывали какую-то нездоровую страсть к людям искусства: немало писателей и драматургов дополняли литературные гонорары шпионскими…
Россия, буквально-таки ворвавшаяся при Петре Великом в большую европейскую политику, без сомнения, находилась в сфере пристальных интересов британской разведки. Нет сомнения и в другом: поток молодых русских, отправленных царем в Европу для обучения разным наукам и профессиям, – идеальный материал для вербовки. Европа богата соблазнами для оторванных от дома вьюношей, царь-батюшка крут на расправу, а британские резиденты уже тогда знали толк в изощренных провокациях. Наверняка среди возвращающихся в Россию молодых специалистов были агенты, завербованные англичанами. И в потоке иностранцев, устремившихся на службу в молодую империю, таковых хватало.
Не осталось никаких свидетельств, что Лаврентий Блюментрост в заграничных странствиях «попал на крючок» старейшей европейской разведслужбы, свои секреты она хранить умела и умеет. Однако кандидат в шпионы был из Лаврентия Лаврентьевича – лучше не придумаешь. Во-первых, вращался в самых высших сферах, выше уж некуда. Во-вторых, моральный облик доктора… Про корыстолюбие и прочие милые качества Блюментроста рассказано уже достаточно.
Однако шпион-информатор – заурядная история, англичане давно поставили их производство на поток, на конвейер. Но серийный убийца монархов – дело новое, небывалое. Чтобы подвигнуть Блюментроста на ТАКОЕ, нужен не просто интерес к происходящему в России, а куда более основательные причины.
Попробуем разобраться: где же интересы России и Англии пересеклись настолько остро, что возникла нужда в цареубийстве?
Первая половина Северной войны, столь важной для России и ее соседей, прошла для стран Западной Европы почти незамеченной. У них в те же самые годы своя война приключилась – Война за испанское наследство. Франция, и без того доминировавшая на континенте, получила шанс объединиться под одним скипетром с Испанией и ее многочисленными и обширными колониями. Знаменитая фраза Людовика XIV «Нет больше Пиренеев!» напугала англичан куда больше, чем претензии амбициозного русского царя на какие-то малозначительные прибалтийские провинции. Все силы Англии и созданной при ее участии коалиции были брошены против франко-испанского альянса: и армии, и флоты. И, соответственно, разведслужбы.
Полтавская битва – поворотный пункт в русско-шведском противостоянии – не вызвала у англичан особого интереса. Главное внимание было приковано к состоявшейся в том же 1709 году битве при Мальплаке: армия антифранцузской коалиции с герцогом Мальборо и принцем Евгением Савойским во главе начала прямое наступление на Париж и даже разбила преградившие путь французские войска, но, оставив на поле боя тридцать тысяч бойцов, союзники были вынуждены прекратить наступление… Вот о чем тогда взахлеб толковали и в лондонских гостиных, и в кабинетах секретной службы. А тут какая-то Полтава… Это где? Это о чем?
Единственное, что заботило английских дипломатов и разведчиков, – чтобы не удались попытки французского короля Людовика XIV втянуть Швецию в войну на своей стороне (союзников Петра I – Данию и Саксонию – Карл XII к тому времени разбил поодиночке и принудил к заключению сепаратных мирных договоров, Россию же после разгрома под Нарвой никто в Европе всерьез не принимал).
А вот шведов участники антифранцузской коалиции побаивались… Хорошо помнили, что натворила шведская армия в Центральной Европе в прошлом веке, во время Тридцатилетней войны: получив щедрые французские субсидии, потомки викингов железным катком прокатились от Балтики до Праги.
Но в 1707 году Карл, ярый защитник протестантской религии, заявил открыто: на стороне Людовика, преследовавшего гугенотов, Швеция не выступит, – и со странами коалиции были подписаны соответствующие договора.
Англичане перевели дух и предоставили русским и шведам без помех со стороны выяснять отношения – не до них, дескать. Однако быстрой и безоговорочной победы Карла все-таки опасались: импульсивный и непредсказуемый характер шведского короля был хорошо известен. А Людовик, находившийся в крайне затруднительном положении, мог и вернуть французским протестантам права, полученные теми при его деде, Генрихе IV, – и вновь попросить шведской помощи…
Поэтому симпатии Британии по меньшей мере до 1714 года были на стороне русского оружия. Даже помогали кое-чем англичане Петру (например, продавали боевые корабли, построенные на британских верфях).
Однако Война за испанское наследство завершилась на семь лет раньше Северной. В результате Утрехтского и Раштаттского мирных договоров больше всех получила Австрия, захватившая большую часть итальянских и нидерландских владений Испании. Не остались внакладе и англичане, удержавшие захваченные в ходе войны Гибралтар и Минорку. Но самое главное – приказал долго жить проект франко-испанского государственного монстра, грозящего подмять под себя всю Западную Европу, и британская дипломатия смогла наконец обратить пристальное внимание на Европу Северную.
А там обнаружились много интересного: Россия, которую никто всерьез не принимал несколько лет назад, не просто обзавелась вполне современной и боеспособной армией, не просто отвоевала некогда утраченные по Столбовскому миру земли (Карелию и Ингерманландию), но и продвинулась далеко на северо-запад: русским принадлежала уже и Лифляндия, и Эстляндия, и Южная Финляндия… Курляндия, сохранив юридическую независимость, выступала, по сути, вассалом российской короны, и всё сильнее становилось русское влияние в северных немецких герцогствах… В общем, далекая варварская страна чуть ли не в одночасье превратилась в сильного (и опасного для Британии) игрока на европейской арене.
Позиция Лондона была однозначна: Северную войну пора прекращать. Причем немедленно, пока поймавший военный кураж царь Петр еще что-нибудь не завоевал. К тому же Швеция, испытывая недостаток ресурсов для армии и регулярного флота, активно выдавала каперские свидетельства всем желающим испытать удачу: пираты «с патентом» стали подлинным бичом Балтийского моря, атакуя идущие в российские порты торговые корабли. В том числе и те, что шли под британским флагом, – а это уже стало для «владычицы морей» прямым вызовом.
Россия, в принципе, была не против мира на условиях сохранения сложившегося к тому времени статус-кво – все стоявшие в начале войны задачи выполнены, даже с преизрядным избытком.
Но Карл XII, недаром прозванный современниками «Железной башкой», мириться не хотел категорически. Верил в свой военный талант, в удачу, и в то, что сумеет отвоевать обратно всё утраченное. Увещевания, посулы и угрозы англичан король-полководец пропускал мимо ушей…
В 1716 году англичане пошли на прямое военное вмешательство: предоставили русским свою флотилию (совместно с кораблями Дании и Голландии). Объединенный флот под командованием Петра быстро очистил Балтийское море, покончив с каперством. Но «Железная башка» остался непоколебим: активно воевал в Померании, вторгся в Норвегию… А сколько-нибудь значительную сухопутную армию истощенная войной Англия выставить против Швеции не могла.
И тогда произошла случайность – из тех случайностей, что меняют судьбы королевств. При осаде норвежской крепости Фредрикскальд шальная пуля убила Карла XII. Шальная – по официальной версии. Но, что любопытно, угодила она королю в затылок, прилетев из шведских окопов…
Нет оснований безоговорочно утверждать, что меткий стрелок имел отношение к английской секретной службе, среди утомленных войной шведов хватало противников непримиримого короля. Но и отрицать возможность «английского следа» никак нельзя – больно уж вовремя и больно уж удачно для Англии всё произошло…
Позиции английской дипломатии оказались чрезвычайно сильны при дворе Ульрики-Элеоноры, сестры убитого Карла, унаследовавшей трон. Но…
Но на заключение мира Швеция все-таки не пошла. И дело не только в амбициях покойного Карла… Для Шведского королевства обладание южными провинциями было вопросом жизни и смерти. Причем голодной смерти.
Почвы и климат Скандинавии плохо приспособлены для земледелия, и почти всё зерно, выращиваемое в королевстве, шло с полей потерянных южных провинций. (Кстати, отнюдь не Стокгольм, а захваченная русскими Рига была первым по численности населения шведским городом, за столицей оставалось второе место.) Но и прибалтийского хлеба Швеции не хватало, Прибалтику по урожайности полей с Черноземьем не сравнить, приходилось закупать недостающее за границей – и главный поток зерна шел через порт-крепость Ниеншанц. Между прочим, русское население полученных по Столбовскому договору земель (в том числе Ниеншанца и окрестностей) шведы не изгоняли и особо не притесняли, лишь вели вялую пропаганду добровольного перехода в лютеранство. Не желавших менять веру оставляли в покое: живите, пашите землю, растите хлеб для державы.
А теперь из развалин Ниеншанца русские возводили свою новую столицу Санкт-Петербург. И не собирались снабжать заклятого врага провиантом и фуражом.
Англичане к шведским резонам прислушались… С одной стороны, кто знает, где надумают отвоевать потомки викингов новые плодородные земли. А с другой стороны, неплохо бы и ограничить аппетиты страны-великана, нависшей вдруг над северо-востоком Европы.
А аппетиты Петра, надо заметить, росли пропорционально его военным успехам: в 1719 и 1720 годах русские десанты высаживались уже на скандинавское побережье Швеции, причем наносили удары непосредственно по пригородам Стокгольма.
В результате вектор английской политики на Балтике сменился на полностью противоположный. Между Швецией, Ганновером и Англией был заключен военный союз, в Балтику вновь вошел английский флот – но уже направленный против русских.
В конце концов принудить Петра к миру и достигнуть компромисса со Швецией удалось. Завоеванные земли остались за Россией, а хлебный вопрос решили следующим образом: согласно шестому артикулу Ништадского мирного договора, завершившего в 1721 году Северную войну, Россия обязывалась ежегодно продавать Швеции хлеба на пятьдесят тысяч рублей, причем без каких-либо налогов и пошлин. Данное соглашение срока действия не имело, заключалось «на вечные времена». И первые сорок лет свой паек шведы получали бы фактически бесплатно – предыдущий артикул того же договора обязывал Россию выплатить двухмиллионную компенсацию за приобретенные территории.
Вывод: конфликт между Россией и Великобританией имел место в ходе Северной войны. Но был более или менее успешно разрешен военными и дипломатическими путями. Британская тайная разведслужба, естественно, в стороне не оставалась, но действовала более традиционными методами, не посягая на жизнь русского монарха. По крайней мере, случаи шальных выстрелов из собственных окопов по Петру I не отмечены.
Надо искать другие причины…
Долго искать их не приходится: едва отгремели сражения Северной войны, едва Россия утвердилась на новых западных границах, Петр I в 1722 году затеял очередное расширение державы – на сей раз в восточном направлении. Отчего бы, в самом деле, не повторить на Каспии то, что столь удачно сумели совершить на Балтике? Да и противник на порядок слабее и потребуется куда меньше сил и времени для победы.
В историю русско-персидская война 1722–1723 годов вошла под названием Персидского похода.
Но если победа на Балтике широко распахнула двери в Европу, то контроль над Каспием должен был открыть путь в Индию.
Вот оно и прозвучало!
Слово-пароль, слово-ключ: Индия!
На Англию, на старину Джона Буля, слово «Индия» в чужих устах всегда действовало, как красная тряпка на быка. Индия должна быть Британской. Точка. Обсуждению не подлежит.
Великобритания имела множество интересов во всех уголках мира. Но над локальными интересами высился громадным небоскребом интерес глобальный, суперинтерес, мегаинтерес: ИНДИЯ!
Рискнем заявить, что именно мечта об Индии сделала Англию морской и колониальной державой. А великой морской и великой колониальной – награбленные в Индии несметные богатства.
Северная Америка и Карибский бассейн, где активно отметились завоеваниями англичане, – в общем-то побочный продукт при движении к главной цели (недаром много лет именовали те края Вест-Индией, а местных жителей до сих пор зовут индейцами).
Именно путь в Индию искал Джон Кабот, когда в 1496 году открыл Ньюфаундленд и исследовал берега Канады. И Ченслер, приплывший в следующем веке в Архангельск, тоже искал проход в Индию с севера. Гудзон, Баффин и прочие исследователи арктических вод Северной Америки искали одно: путь в Индию, в Индию, в Индию…
Но ко времени нашей истории – к первой четверти XVIII века – пути к Индии были разведаны и нащупаны (не англичанами, правда, а португальцами): вокруг Африки и через Индийский океан. Индийский, заметьте, не какой-нибудь еще! Лишь как путь к заветной Индии виделось европейским мореплавателям вновь открытое водное пространство.
Не одни англичане, разумеется, участвовали в индийской гонке. Другие страны Европы тоже рвались к заветным богатствам субконтинента. Но испанцы и португальцы к описываемому времени уже сошли с дистанции, серьезных игроков осталось двое: Англия и Франция. Голландия, имевшая преизрядные аппетиты, в дележе континентальной Индии почти не участвовала, обратив всё внимание на большие острова, которые позже назовут Голландской Индией, а еще позже – Индонезией.
Но Англия рассчитывала победить в борьбе, и не без оснований: созданная еще в 1600 году Ост-Индская торговая компания скупала (при самой широкой государственной поддержке) земли у индийских раджей, прибрала к рукам бывшие португальские колонии, – в результате английские владения в Индии превосходили и площадью, и численностью населения сами Британские острова.
У французов, естественно, были свои планы. Они тоже овладели на юге субконтинента немалой территорией с общей численностью населения около тридцати пяти миллионов человек и тоже готовились к решающей схватке, – к схватке на два фронта, ибо номинально верховная власть над большей частью индийских земель оставалась у династии Великих Моголов, имевших резиденцию в Дели, но реально правили властители больших и малых княжеств.
И тут, откуда ни возьмись, на горизонте появляется новый соискатель – молодая, полная амбиций Россия. Соискатель, имеющий заведомые конкурентные преимущества: одно дело перебрасывать в Индию войска и снаряжение кружным путем, через два океана: тут вам и цинга, и пираты, и шторма, и прочие неизбежные на море случайности, недаром же самую южную оконечность Африки прозвали Мысом Бурь… А совсем другое дело, если экспедиционные корпуса пойдут в Индию путем сухопутным, от Астрахани (при условии, конечно, что лежащие на пути державы будут либо повержены, либо превращены в безоговорочных союзников русских).
И, в общем-то, всё у Петра поначалу получалось… Войска и Персии, и вассальных ей закавказских ханств ничего не могли противопоставить закаленной в Северной войне русской армии, которую к тому же поддержали союзные ополчения – армянское и грузинское. Пал Дербент, пал Баку, – первоклассные, по кавказским меркам, крепости. Штурмом был взят Решт – уже собственно персидский город.
Персидский шах (которого с другой стороны не упустила случай атаковать Турция) спешно запросил мира и был вынужден передать России провинции Ширван, Гилян, Мазендеран и Астрабад (первая на территории современного Азербайджана, остальные – на территории современного Ирана). Заодно уж присоединили кое-какие мелкие ханства и султанаты Закавказья.
Впереди была Хива, которой предстояло отомстить за предательски перебитый в 1716 году русский отряд князя Черкасского, и низовья Амударьи, и… Казалось, вот-вот он и откроется, заветный путь в Индию…
Но так лишь казалось, потому что именно в Персидском походе Петр I занемог, и доктор Лаврентий Блюментрост приступил к активному лечению императора…
А чем оно завершилось, известно.
Проследим корреляцию между смертностью российских монархов и их политикой на восточном (т. е. на индийском) направлении.
С Петром I всё понятно: двадцать с лишним лет «воевал шведа», трижды ходил походами на турок, и не брали царя ни пули, ни болезни, – но едва лишь двинулся в сторону Индии, долго не прожил.
Екатерина I и Петр II собственной внешней политики как таковой не имели. А те, кто их именем политику вершил, слишком были озабочены внутренними дрязгами. И внешнеполитическая деятельность Российской империи по инерции катилась путями, проложенными покойным императором Петром I: по инерции заигрывали с северогерманскими князьями, по инерции отправляли Камчатские экспедиции к берегам Америки, по инерции держались за отвоеванные у Персии провинции, по инерции готовились к марш-броску в сторону Индии… Последнее, как представляется, уже само по себе было смертельной болезнью, несовместимой с жизнью пациентов. И пациенты – оба – скоропостижно скончались при активном участии Лаврентия Блюментроста.
А затем на престол взошла Анна Иоанновна. И царствовала десять лет. Но только ли потому задержалась на троне, что удалила от своей особы Блюментроста? Отчасти – да, но грош цена спецслужбе, имеющей в своем распоряжении лишь одного исполнителя, способного работать на высочайшем уровне. Мало ли какая еще неприятность с монархом может произойти: несчастный случай на войне или охоте, или террорист-одиночка с кинжалом, или близкий родственник, нестерпимо вдруг возжелавший верховной власти… Трудна и опасна жизнь самодержца, что и говорить.
Но Анна Иоанновна резко поменяла внешнеполитический курс (вернее, поменял Остерман, которому императрицей была отдана на откуп вся внешняя политика): империя вновь обратила свой главный интерес на юг и на запад – на Польшу и на Турцию, совершенно позабыв о востоке, о персидских прожектах Петра Великого, и это на фоне тесного союза с Англией и конфронтации с Францией. То есть действовала именно в той роли, что еще с допетровских времен realpolitik отводила России.
Более того, при Анне Иоанновне петровские территориальные приобретения на востоке вернули обратно: по Рештскому договору 1732 года и Гянджинскому трактату 1735 года Персия получила все потерянные провинции. Положительно, Остерман вполне заслужил от английского двора по меньшей мере орден Подвязки…
И персидско-индийский проект был благополучно забыт наследниками Анны Иоанновны на шестьдесят лет. Что характерно, никаких скоропостижных и загадочных смертей среди русских императоров и императриц в тот период не наблюдается… Ну разве что Петр III, но история его свержения и смерти хорошо известна и изучена.
Вспомнила о Персии и о пути в Индию Екатерина II. Персы, собственно, сами напомнили: вторглись в союзную Грузию, разграбили Тбилиси… И вновь из дальнего шкафа были извлечены и очищены от пыли старые карты, планы и диспозиции с пометками, сделанными рукой Петра I: поход русской армии под предводительством В. А. Зубова в точности повторял путь Петра – Дербент, Баку, прикаспийские провинции Персии… Примечательно, что ключи от сдавшегося Дербента вынес Зубову глубокий старец – по утверждению местных жителей, именно этот стодвадцатилетний аксакал вручал в свое время те же самые ключи Петру I. Аборигены, надо полагать, врали, но намек их прозрачен: пришли вы, русские, как в тот раз, и уйдете вскорости так же.
Зубов уходить не собирался. Наоборот, он имел приказ императрицы не останавливаться, пока не будут заняты русскими гарнизонами все важные пункты от Каспия до Тибета (путь в Индию, заветный путь в Индию!).
Маниловщиной планы императрицы не были. В русскую армию постоянно шли из России подкрепления, и начав наступление с тринадцатитысячным корпусом, к концу первого года кампании Зубов стоял, после всех понесенных потерь, уже во главе тридцати шести тысяч человек – отборных солдат, прошедших турецкие и польские войны. Командир был под стать своим бойцам: молодой генерал (всего двадцать шесть лет) был обязан должностью главнокомандующего отнюдь не постельным успехам старшего брата Платона в спальне императрицы – повоевал к тому времени изрядно и успешно, по штабам не отсиживался, жарких схваток не чурался, потерял ногу в польской кампании и ходил на чудо-протезе, сотворенном знаменитым механиком Кулибиным.
В ноябре 1796 года русская армия встала на зимние квартиры у слияния Аракса и Куры, готовясь к весеннему наступлению. Персы не имели ни сил, ни средств, чтобы остановить грядущий марш в глубь страны «Генерала-Железной ноги», как они называли Зубова. И что творилось при получении персидских вестей на Даунинг-стрит, 10, в резиденции британских премьеров, вполне можно представить…
Чем всё закончилось, хорошо известно. Екатерина II умерла. Неожиданно. Скоропостижно – ни смертельной болезни, ни консилиума у ложа умирающей, ни последнего причастия…
Персидско-индийский поход на том и закончился: вступивший на престол Павел ненавидел род Зубовых и все начинания матери, – и тут же вернул войска в Россию.
Случайность? Очередная случайность?
Не верится… Братья Блюментросты давно лежали в могиле, но, как было сказано в одном культовом фильме: «У Абдуллы очень много людей…»
И уж никакой случайностью не объяснить то, что произошло менее чем пять лет спустя.
Павел I в 1801 году совершил очередной внешнеполитический кульбит: отныне дружим с Францией, а с Англией и с Австрией – враги навеки. На континенте удар по супостатам нанесет Бонапарт, а тем временем Россия ударит по неиссякаемой британской кубышке, по главному источнику английских богатств… По Индии.
Ну и… Прожил после этого решения император два месяца. Апоплексический удар табакеркой в висок…
Но здесь следы остались – слишком много людей участвовало в заговоре и убийстве, слишком много свидетелей и свидетельств… И свидетельства однозначны: многие, очень многие нити заговора тянулись в английское посольство.
Британцы ныне, припертые к стене документами, даже не отпираются. Ну да, оступился, дескать, их посол Витворт. Но не следуя инструкциям с Даунинг-стрит, а самочинно, по великой любви: влюбился, понимаете ли, без памяти в Ольгу Жеребцову, родную сестричку стоявших во главе заговора братьев Зубовых. Любоффь дело такое… а Индия и индийский поход русских ну совершенно тут ни при чем.
Не будем спорить с нынешними продолжателями realpolitik. Однако зададимся вопросом: отчего впервые английская сикретсервис сработала в России так грубо? Фактически полностью засветившись и спалившись? И это старейшая разведслужба Европы, многие операции которой так и не стали никогда известны…
Ответ прост: всё дело в характере Павла, слишком импульсивном. Индийский поход оказался сплошным экспромтом: сегодня решил, и никакой проработки плана кампании – чуть ли не завтра же донские полки поскакали через степь… Вслед скакали курьеры с дополнительными, впопыхах позабытыми инструкциями императора: что делать с оказавшейся на пути Бухарой, как обойтись с Хивинским ханством…
Соответственно, у британцев не было времени на тщательную подготовку плана устранения. Отсюда и столь топорная работа…
Ну и конечно же, не успело остынуть тело отца, Александр I тут же вернул обратно двадцатитысячную армию, приближавшуюся к персидским рубежам.
Можно продолжить выяснять взаимосвязь между судьбами императоров династии Романовых и их деятельностью на персидско-индийском направлении: впереди еще немало любопытных фактов и странных совпадений. Однако ограничимся XVIII веком, чтобы не слишком удаляться от времени жизни нашего главного героя – Лаврентия Лаврентьевича Блюментроста.
Лишь один, последний пример стоит вспомнить, ибо показывает он, что история ходит кругами, и трагедия иногда повторяется как фарс, но чаще – опять как трагедия…
Итак, акт последний: русские войска в очередной раз входят в Персию… На дворе уже 1941 год, и «красному императору» товарищу Сталину вроде бы опасаться нечего: англичане – наши союзники в жесточайшей войне с Гитлером, и персидская операция проводится совместно с ними. Да и трон императора Индии уже качается под седалищем британского монарха, и считаные годы осталось Британии владеть субконтинентом… Казалось бы, всё в прошлом.
И тем не менее…
Прошло несколько лет, Гитлера разбили, союз с британцами распался… А «красный император» обнаружил вдруг, что придворные врачи лечат его как-то странно… Неправильно как-то лечат, лишь хуже становится от их лечения.
…Весна 1953 года была холодной, но в марте на старинном Смоленском кладбище, неподалеку от могилы Блюментростов, проклюнулся на проталине первый цветок.
Подснежник неприятного, ядовито-фиолетового цвета.
Дмитрий Костюкевич. Потешные войска
Не будучи сыном России, он был одним из ее отцов.
Екатерина II о Минихе
Царь убит!.. Русский царь, у себя в России, в своей столице, зверски, варварски, на глазах у всех – русскою же рукою…
Позор, позор нашей стране!
Газета «Русь»
1741 год: простая арифметика
– Суд Всевышнего примет мое оправдание лучше, чем ваш суд! В одном лишь внутренне себя корю – что не повесил тебя, Трубецкой, во время войны с турками, когда был ты уличен в хищении казенного имущества. Не председательствовать ныне ты должен, а костями в земле лежать. Вот этого не прощу себе до самой смерти!
– Вы, Миних, вы сами!.. Скольких вы угробили в своих военных кампаниях! Солдаты не зря прозвали вас Живодером!
За ширмой Елизавета Петровна лениво поднесла к подбородку скованную шелком кисть. К круглым окнам взгляда императрицы прильнуло нетерпение, всмотрелось в мир людей.
– Достаточно. Прекратите заседание. Отведите Миниха в крепость.
Эшафот возвели на Васильевском острове, вблизи набережной Большой Невы, напротив двенадцати трехэтажных близнецов коллегии. Расчерченный линиями[4], Василеостровский район Санкт-Петербурга тянулся к дождливым гроздьям неба каменными наростами строений – по-прежнему обязывал перемещенный на остров Петербургский порт. Тянулся вверх и «амвон» для экзекуции – как мог, в силу роста плохо обструганных досок.
После воцарения на престоле дочери Петра I, Елизаветы Петровны, удалившийся от дел фельдмаршал Бурхард-Христофор Миних и вице-канцлер Остерман были приговорены к четвертованию. Плаху построили именно для этого действа. Финального акта, в котором большой топор и тела опальных немцев сыграют свои роли. Люди – последние.
Два графа. Два политических соперника.
Четыре ноги. Четыре руки. Две головы.
Простая и жуткая арифметика четвертования.
Небо переливалось оттенками потерянного рассудка. Гюйс, поднятый спозаранку на Флажной башне Петропавловской крепости, безвольно сносил удары ветра. На куртинах дремали сизые и озерные чайки, до последнего откладывающие расставание с предзимним Петербургом. В холодной Неве купались кряквы и молодые морянки.
Петровские ворота выпустили приговоренных – в сопровождении офицеров стражи Миних и Остерман двинулись к месту казни. Через мост. С Заячьего острова, на котором Петр Великий основал Санкт-Питер-Бурх, на Васильевский, первым каменным зданием которого стал Меншиковский дворец.
Миних шел уверенной походкой. В чистых поскрипывающих лосинах, в лучшем мундире, в красном фельдмаршальском плаще. С фантомным грузом сфабрикованной государственной измены, пособничества герцогу Бирону, мздоимства и казнокрадства. На чисто выбритом лице светилась холодная уверенность. В блестящих ботфортах отражался безумный небосвод.
– Военный человек должен быть готов к смерти, – бодро сказал Миних идущему справа офицеру. – Смерть – она везде. Разнятся лишь дороги к ней. Короткие, как этот мост, ведущий к плахе, или длинные, как осада Данцига.
– Вы проявили в Данциге истинный талант полководца, фельдмаршал, – кивнул конвоир.
– За что получил упреки в долгой осаде и бегстве французского выдвиженца Лещинского, – усмехнулся граф. – Девять немецких миль окружения, тридцать тысяч солдат внутри крепости… но я всё равно взял ее, не имея и двадцати тысяч.
– Да, фельдмаршал.
– Этот эшафот кажется менее неприступным. Какие свершения ждут меня наверху?
Офицер не ответил. Миних облизал покрытые туманной сыростью, словно капельками крови, губы и закрыл глаза.
Перед внутренним взором он расположил щит, на котором собирался нарисовать свой герб. Сначала разделил щит на четыре части – гуманное четвертование искусства. На золотой ленте, ровно посередине большого щита, Миних поместил малый щит, по сторонам которого зачернел коронованный орел, а сверху зазолотилась графская корона. В самом щитке раскинулось серебряное поле, в центре появился босоногий монах в черной тунике. В левой части общего щита, над лентой с орлом, окунулся в лазурное поле серебряный лебедь. В правой части опрокинулись в серебряное поле два красных стропила. В нижних частях гербового щита зазеленели в серебряном поле три трилистника (слева), а над красной карнизной стеной в лазурном поле взошла луна (справа). Между нижними частями расположилась пирамида с обелиском, оплетенным золотыми змеями. Упала у колонны золотая голова Януса, увенчанная зубчатой короной.
Золотые веки Януса распахнулись…
Миних открыл глаза.
Незавершенный герб утонул в промозглом тумане набережной. Без венчающих его шлемов, знамен, щитодержцев и геральдики.
Что-то говорил офицер справа:
– …наступление в Молдавию принесло перелом. Я восхищаюсь вашей военной хитростью, фельдмаршал, это удар справа, при обманной атаке слева. Турки бежали за Прут, как побитые собаки от палки.
– До этого был Крым, – холодно сказал граф. – А уж он испил нашей крови. И у Перекопа, и Гезлева, и у Ахмечета, и у Бахчисарая. И у Очакова – мы омыли стены крепости кровью, и если бы не артиллерия…
– Если бы не вы! Идти в строю с батальоном, собственноручно установить гвардейское знамя на башне крепости!
– Солдатам нужен пример, нужен наставник и отец. И помощь небес, защита от проклятых тифа и чумы.
Золотой шпагой, осыпанной бриллиантами капель, прорезал тучи солнечный свет, и тут же колючая жменя ветра ударила в лицо, а с холодной Невы прилетел черный силуэт, словно истерзанный полупрозрачный плащ. Тень двигалась рывками, из стороны в сторону, но все-таки вперед, на Миниха. В последний миг она бросилась влево и упала на стражника.
Накрыла офицера, опала лепестками призрачных краев.
Точно сложившийся зонт. Секунду спустя чувства и желания офицера стали вторичны. Черный силуэт завладел телом.
Миних это видел.
Он один.
Фельдмаршал обернулся к шагающему за спиной Остерману, но не нашел в грузном лице соотечественника какого-либо беспокойства. Разумеется, кроме предстоящего четвертования. У Остермана отросла клочковатая борода, грязный парик прикрывала бархатная ермолка, а на плечах висела старая лисья шуба. «Жалкая хитрая лиса».
Идущие сзади офицеры охраны старались не смотреть в сторону Миниха. Словно что-то отталкивало их взгляды.
– Это не отвага, а безрассудство, – произнес чешуйчатым голосом офицер-тень. Чешуйки слов опадали, словно их счищали ножом. – У войска не должно быть отца – только хозяин. Остальное – смерть и бессмертие боя. А вошь в гриве льва ничем не храбрее вши в хвосте зайца.
Президент Военной коллегии при императрице Анне Иоанновне ощутил холод в сердце. Морозный ветер гулял в клетке ребер. Шаг Миниха сломался, он едва не споткнулся о брусчатку.
– Зачем ты здесь? Что изменилось? – хриплым шепотом спросил граф. – Эта дорога в один конец?
– Нет, – ответил демон. Миних видел, как глазное яблоко офицера трескается ручейками крови. Что сотворит с телом стражника тень? – Тебя ждет ссылка, Бурхард. Там, на плахе, тебя ждет ссылка.
– Да, ты говорил. В камере.
– Трубецкой равелин располагает к откровениям. Правда, не больше, чем к самоубийству. Но это не про тебя. Твое выбритое лицо очень красноречиво – охрана дала заключенному бритву, значит, не сомневалась, что ты встретишь смерть мужественно, а не от собственной руки в холодной камере. Но ты по-прежнему сомневаешься в моем пророчестве?
Миних покачал головой.
– Нет.
Собравшаяся за войсковым оцеплением толпа встретила Миниха и Остермана разношерстным гулом. Солдаты подбадривали и выражали восторг, пестрый люд жаждал расправы. Кудахтали старики, кричали мужики, гомонили дети.
Первым к плахе подвели старого фельдмаршала.
– Посторонись! – рыкнул Миних, двигаясь через строй. – Не видишь разве, кто идет?
Он решительно взошел по крепким, густо пахнущим свежесрубленным деревом ступеням, провернулся на каблуках и замер лицом к фасаду Двенадцати коллегий. Воздух пах смолой и табаком. Толпа – потом и предвкушением. Аудитор – пыльным париком и луком.
Лобное место окружили гвардейцы, не менее пяти тысяч. Миних приветствовал товарищей своей былой славы глубоким кивком и взглядом широко открытых глаз, окуриваемых порохом минувших сражений.
Демон, оставив офицера-чревовещателя утирать идущую носом кровь, вырвался из клетки человеческого тела и теперь бросался призрачными камушками в толпу. Тень отрывала кусочки темного тумана от своего силуэта, комкала и швыряла в зевак. Развлекалась. Один из «камушков» угодил Остерману в макушку, и вице-канцлер вздрогнул.
Фельдмаршал позволил себе прозрачную улыбку, которую словили и вознесли зрители.
Знать свою судьбу – не так уж плохо. Особенно, когда в прогнозах ошибается большинство, предвкушающее твою смерть.
Аудитор (из-за величественного, высокого роста Миниха казалось, что человек в парике стоит на коленях) зачитал приговор: «Рубить четыре раза по членам, после чего – голову».
Миних встретил его при деле – срывал с пальцев перстни и кольца, раздаривал их солдатам. Ждал, когда объявят новый вердикт, казнь заменят ссылкой, и он сможет спуститься на далекую-близкую землю.
По ступеням поднялись палачи.
– Вы можете произнести последнее слово, – сказал аудитор. Толстый палец ткнул вниз. – Они услышат его.
– Очистите меня от жизни с твердостью, – сказал он палачам. – Прощаюсь с вами с величайшим удовольствием…
С Миниха стянули плащ, положили на косо сколоченные брусья, стали привязывать к перекладинам.
Распяли на Андреевском кресте.
Фельдмаршал не сопротивлялся. Не мог поверить. Демон обманул его.
Оставалось одно – не потерять лицо. Смерть – она везде. Его – здесь и сейчас.
Миних услышал шепот тени, смесь ветра и собственного тяжелого дыхания.
– Тимофей Анкудинов, Степан Разин, Иван Долгоруков… конец их истории написан топором. Сначала ноги, потом руки, затем голова. Твое имя будет вписано рядом.
Миних старался не слушать.
Возможно, это очередной обман, очередной сон, очередной…
Сбитые косым крестом брусья приподняли и закрепили наклонно.
Дай мне сил не закричать, попросил граф у склонившегося раненого неба. Дай мне сил на большее – высвободить руку из веревочного узла, сподобиться на последний удар, последний ответ сильного человека… Если смог убийца Карла I, генерал-майор Томас Харрисон… после нескольких минут в петле, со вскрытым для потрошения животом, смог приподняться и ударить палача… почему не смогу я?
Миних не видел, как опустился топор. Почувствовал.
Холод, в мгновение обернувшийся адским жаром, отделил его левую ногу, затолкав в обрубок требуху алой боли и крика. Его тело разделили, будто двух влюбленных, и пытка разлуки поглотила Миниха, точно единственного верного и бесконечно любящего, не способного совладать с потерей.
Стараясь перекричать боль, граф мысленно молил о беспамятстве. Но вместо темноты, вместо вытекающей из культи крови, в него проникала новая боль, голодная многоножка агонии.
Его немолодое тело предало его, как дезертировавшее войско.
Боль. Была. Ужасной.
Но он смог придушить ее до бесконечного стона.
Ненадолго.
До следующего падения топора. До следующей разлуки.
К такому нельзя быть готовым…
Безногий фельдмаршал забился на косом кресте.
Миних открыл глаза.
До эшафота оставались считаные сажени. В голову просочился шум расступающейся толпы и утренний туман. Чья-то рука преградила путь.
Остановились. Граф посмотрел на офицера, с которым говорил по дороге из крепости, во сне и наяву (тот глядел в сторону плахи), потом на свои ноги.
Их было две. Арифметика удушающего облегчения.
Конвой провел узников Петропавловской крепости коридором из зевак и гвардейцев. Фельдмаршал искал в неровных людских стенах демона, но тени оставались на своих местах – на привязи к человеческому телу. Как и должно.
Аудитор выкрикнул его имя.
Подавив озноб недавнего видения, Миних поднялся на эшафот и подошел к деревянной колоде, в которую уткнулся острым профилем огромный топор, тот, что совсем недавно…
Фельдмаршалу удалось поднять глаза и обвести набережную взглядом несломленного человека. Покрытое испариной лицо Васильевского острова ответило на это болезненным чихом – ветер затрещал в ветвях, завыл в каменных промежностях.
«За мной идет моя слава, – успокаивал себя Миних. – Она – истинный плащ, алый плащ побед и триумфов, мою славу развевает над плечами ветер. А сны остаются снами. И гниют под ногами».
На помосте, за спиной аудитора, стояли палачи. Это расхождение с ужасным видением собственной казни немного успокоило графа – он помнил, как коренастый человек в ярко-красной рубашке поднялся на эшафот уже после объявления приговора.
Второй раз за день Миних выслушал приговор о четвертовании. Еще более стойко, чем в первый – что-то лопнуло внутри, растеклось чернилами по вызревшему пузырю пустоты. Граф молча стоял на плахе, высокий и неподвижный, точно вбитый в помост клинок. Он будто бы и не заметил, как палач извлек из колоды топор, убаюкал топорище на свободной руке, словно чужое угловатое дитя.
Далекий выстрел заставил замолчавшего аудитора вздрогнуть – полдень отметился пушечным залпом с Нарышкина бастиона. Миних не шелохнулся.
– …милостивым решением императрицы смертная казнь заменяется вечной ссылкой. Христофор Антонович Миних ссылается в Сибирь, в деревню Пелым, – услышал он обрывок нового приговора.
Не переменившись в лице, фельдмаршал сошел с эшафота, на который поднялся Остерман и грохнулся там в обморок. С головы слетели ермолка и парик. Вице-канцлера привели в чувство, зачитали смертный приговор, заломили руки, освободили шею под топор. Великолепно разыгранный спектакль, который закончился объявлением места ссылки – Берёзов, в котором некогда жили Меншиков и Долгорукие.
– Руби его! – кричал рванувший к эшафоту народ. – Руби!
Из-за частокола штыков тянули руки, хлестали призывы к расправе.
Раздавленный Остерман попросил вернуть ему парик. Жизнь продолжалась, и теперь вице-канцлер боялся простуды.
После этого избежавших топора немцев отвезли на санях в Петропавловскую крепость, на куртинах и башнях которой не осталось ни одной чайки.
И была ночь.
И был дождь.
И был первый день ссылки.
Судьба любит ироничные сценки.
Экипажи Миниха и Бирона сошлись на столбовой дороге. Фельдмаршала везли в Пелым, герцога Курляндского – из Пелыма. Елизавета Петровна, памятуя о хорошем к себе отношении Бирона, велела возвратить того из ссылки, правда не в Петербург или Москву, а в Ярославль.
На мосту через Булак взгляды бывших великих сановников столкнулись. В этих взглядах стояла ночь с 9 на 10 ноября 1740 года, когда преображенцы по приказу Миниха, обещавшего поддержку Анне Леопольдовне, арестовали Бирона в спальне Летнего дворца. Той ночью закончилось регентство Бирона, когда он, разбуженный и испуганный, выпал из-под расшитого громадными розами одеяла, пытался спрятаться под кроватью, пытался отбиваться, получил прикладом по зубам, а после, избитый и униженный, с забитым в рот кляпом и без штанов, был выволочен на мороз. Герцога и его прозелитов направили в Шлиссельбург, где за великие и неисчислимые вины приговорили к четвертованию, впоследствии замененному ссылкой на Северный Урал. В Пелым, где для Бирона скоро возвели четырехкомнатный дом-тюрьму – по чертежам Миниха. После ссылки Бирона в Сибирь, Миних удостоился поста первого министра по военным, гражданским и дипломатическим делам. Но вскоре подал в отставку, в результате происков Остермана.
Теперь дороги Миниха и Бирона снова пересеклись, чудным перевертышем, словно кто-то вздумал скрестить эфесы клинков.
Не кивнув один другому, граф и герцог молча разъехались.
В Пелыме фельдмаршал оказался в доме Бирона, в доме, план которого начертил собственноручно.
Счет пошел на годы, десятилетия.
Арифметика ссылки.
Вице-канцлер Остерман умер шесть лет спустя, в доме Меншикова в Берёзове, на краю света, обдуваемом забегающими с тундры ветрами. Берёзовцам запомнились лишь костыль и бархатные сапоги вице-канцлера. Когда Остерман помер, сапоги пустили на ленточки для подвязывания причесок местных модниц. Костыль пропал.
Миних прожил на двадцать лет больше. Сердце фельдмаршала остановилось на восемьдесят пятом году жизни, 16 октября 1767 года. Остатки жизненных сил старого графа вытекли в трещину кратковременной болезни.
Но всё это случилось в далеком-близком 1767 году. Сейчас же, в 1741, Миниха ждали двадцать лет в капкане дремучих сибирских лесов.
Небольшая деревянная крепость на шестьдесят хижин. Идущие из Тобольска и других отдаленных городов товары и припасы. По три рубля на содержание ежедневно.
В Пелыме граф писал мемуары, учил местных детишек математике, выращивал овощи, разводил скот, занимался физическим трудом, молился провидению, иногда беседовал с тенью.
– Выберусь ли я отсюда? – выведывал Миних.
– Жди, – отвечал демон.
– Это значит – да? – спрашивал распятый на циферблате часов старик.
– Как угодно.
Огород граф устроил на острожном валу, после – развел огород в поле. Под оком полярных ночей, у которого ампутировали веко, Миних сортировал семена и ладил сети для грядок. С наступлением лета пелымцы видели фельдмаршала на лугу – в выгоревшем мундире, с косой в крепких руках.
Фельдмаршал старался оставаться равнодушным к постигшему его несчастью. Он черпал силы в разрастающейся внутри черной пустоте, в поддержке супруги и пастора Мартенса, последовавших за ним в ссылку.
Его всё чаще преследовали мрачные сны. Смерть на Андреевском кресте из брусьев, долгая, рубящая. Смерть от пули у турецкой крепости Хотин, быстрая, жалящая. Смерть в снежно-диком сибирском лесу от предательства самого близкого друга – собственного сердца. И еще десяток различных смертей.
Временами Миних адресовал в столицу предложения определить его сибирским губернатором. Адресовал в пустоту.
Он разрабатывал военные и инженерные проекты, остававшиеся без внимания внешнего мира, но труды графа ждал огонь. Один из находившихся при Минихе солдат, арестованный за воровство, рассказал о нелегальных чернилах и перьях, доставляемых фельдмаршалу вопреки запрету. Опасаясь проверки, Миних сжег все свои бумаги.
Случилось это в 1762 году.
В последний год ссылки.
Сенаторский курьер принял отсыпанные рубли с благодарственным кивком.
– Заслужил, всё до последнего рубля заслужил, – сердце Миниха преисполнилось безграничной признательностью и громким пульсом счастья, к которому он оказался совершенно не готов, как к чертовски крепкому напитку. Задохнулся, прослезился. – Такую весть принес, дорогой. Как перед богом истину скажу – спас ты старика, оживил, разбудил.
Императорский указ дрожал в руке фельдмаршала. Петр III, занявший место почившей Елизаветы Петровны, приглашал Миниха в Санкт-Петербург, даровал амнистию. Из присланных денег на дорогу граф подарил радостному вестнику ровно половину.
Двадцать лет…
Миних развернулся к дверям спальни и окликнул супругу:
– В Петербург, Элеонора! В Петербург, душа моя!
1762 год: настоящее, прошлое и еще немного прошлого
(С повозки на яхту)
По дороге в Петербург Миних спал наяву.
Два десятилетия службы, знамена пяти европейских армий, работа, войны, дуэли – его сон был соткан из разноцветных лоскутков воспоминаний.
Он снова шел под знаменами принца Евгения Савойского и герцога Мальборо.
Снова стрелялся с французским полковником Бонифу в 1718 году – взведенные курки, тридцать шагов сократившиеся до двенадцати, выстрел, рухнувший на землю полковник.
Снова ссорился с фельдмаршалом Флемингом в 1719 году, на службе в польско-саксонской армии Августа II, решив сменить знамя и господина.
Снова демонстрировал Петру I чертежи нового укрепления Кронштадта и слышал от царя: «Спасибо Долгорукову, он доставил мне искусного инженера и генерала».
Снова устраивал судоходство на Неве, прокладывал дороги, возводил крепости, строил Балтийский порт, проводил первый Ладожский канал, убеждал императора перенести загородную резиденцию в Петергоф, начальствовал генерал-губернатором в Петербурге.
Перед пробуждением Миних вспоминал взятие снежной крепости на льду Невы, организованное им по случаю официального въезда коронованной Анны Иоанновны в Петербург. Отраженное от холодных стен солнце слепило глаза, яркие солнечные копья рикошетили от льда и летели в лицо графа.
И еще, и еще.
Пока яркая белизна не продавила дыру в реальность.
Опальные вельможи въехали в Петербург весной.
Бирон и Миних.
Семидесятидвухлетний герцог Курляндский, перечеркнувший ссылку накинутой через плечо Андреевской лентой, возвращался лихим шестериком в пышной карете, облаченный в мундир обер-камергера. Царствование Елизаветы Петровны Бирон прожил в большом доме, в окружении слуг, мебели, серебряной посуды и книг. Казна отпускала немалые деньги на его содержание, но герцог всё же оставался пленником – его сопровождали даже на охоте.
Сановник свергнутой Анны Леопольдовны ехал в скрипящей дорожной кибитке, в рваном полушубке, мужицкой сермяге и поношенных сапогах. На подъезде к столице старого фельдмаршала встречали многочисленные родственники. Когда из фельдъегерской повозки выпрыгнул бодрый, высокий и бравый семидесятивосьмилетний старик – сын, внуки и правнуки бросились обнимать и целовать Миниха.
Граф заплакал. Не так, когда получил радостную весть об амнистии, не так, когда провожал взглядом окрестности своей двадцатилетней темницы в Пелыме – тогда в глазах стояли слезы, не переливаясь через край.
В объятиях родных рук и голосов граф плакал последний раз в своей жизни.
Петр III даровал фельдмаршалу меблированный дом и свою милость.
В Зимний дворец граф пожаловал в возращенном чине генерала-фельдмаршала. Ордена-висельники блестели на мундире. Осыпанная бриллиантами шпага свободно висела у левого бедра – эфес выглядывал из шпажных ножен, вложенных в лопасть портупеи и пристегнутых крючком.
За столом Миних и Бирон сидели рядом, через стул, по левую руку от императора. Вражда политических исполинов прошлого не иссякла, среди кружащих по залу юных царедворцев герцог и граф напоминали ожившие статуи предков.
Стол ломился от яств. Говядина в золе, гарнированная трюфелями, хвосты телячьи по-татарски, пурпурная ветчина, белый сыр со слезой, глазастые раки, смоляные бусинки икры, филейка по-султански, говяжьи глаза в соусе, овощные гарниры, нежный паштет из куриной печени, усатые устрицы, грозные омары, круглобокие фрукты, дымящиеся супницы и бульонницы…
Фельдмаршал трапезничал без аппетита.
Пережевывая кусочек рулета, Миних закрыл глаза и увидел узкий стол в пелымской избе. Куриный навар, серая горбушка, грязного оттенка квас, квашеная капуста, пареная репа, грибные соленья, моченые ягоды. Иногда в силки попадался заяц, птица или рыба.
Иногда. Но не сегодня, не в этом видении.
– Прощайте, фельдмаршал, – неожиданно раздался из более далекого прошлого голос умирающей в своей постели Анны Иоанновны. – Простите всё.
Миних открыл глаза.
За его спиной стоял Петр III, царские ладони легли на плечи гостей.
– Передо мной два старых добрых друга, – с чувством сказал император. – Они просто обязаны чокнуться.
Петр III наполнил фужеры примирения графа и герцога. Сочная карминовая капля стекла по ножке бокала Миниха, расплылась по скатерти.
– Ну же! Поднимайте, поднимайте свои…
Императора прервали гулкие шаги.
– Ваше императорское величество, разрешите, – генерал-адъютант Гудович приблизился к столу и что-то прошептал в царский парик.
– Выпейте без меня, – кивнул Петр III гостям, позволяя увести себя в сопредельную комнату.
Пахло чесноком, гвоздикой и остро приправленной ненавистью. Миних поставил бокал и поддел плечевую портупею большим пальцем, повел вниз, немного оттягивая пояс из золотой парчи.
– Наши кубки соприкоснутся единственно искренне, если только в вашем окажется яд, – произнес Бирон.
– Такой трус и идиот, как ты, издохнет раньше – от скулящей немощи. Или моего клинка. – Ладонь фельдмаршала коснулась овального навершия шпаги, нырнула вниз, пальцы пробежали по обтянутой кожей рукояти, по овальным пластинам чаши, по дуге гарды, вернулись к рукояти.
– Ха! Уж не угрожаешь ли ты мне, старый дурак?
– Старый? Во мне жизни больше, чем в роте Биронов, грязная ты скотина.
– В тебе одни распри и гниль, подлая свинья! Warum zum donnerwetter!..5
Шпага Миниха ударила в шею герцога возле позвоночного столба, проткнула насквозь сверху вниз. Трехгранная игла вышла под адамовым яблоком, брызнула кровь – на присыпанные желтком зеленые щи, бекасы с устрицами, гато из зеленого винограда и украшенную голубым пером щуку.
– Сдохни, blindes hund[5], – выдохнул граф, ворочая клинок в ране.
Глаза Бирона выкатились, рот распахнулся порванным карманом, но вместо слов оттуда вылился ручеек крови. Миних уперся ногой в стул и снял поверженного врага с клинка, точно кусок свинины. Герцог рухнул на пол, увлекая с собой тарелку с румяным куском пирога.
В конце зала кто-то пронзительно закричал.
Миних открыл глаза.
Бирон сидел слева, вполоборота, с бокалом в руке. Словно отражение.
Соперники опустили фужеры на стол одновременно. Злобные взгляды столкнулись над свободным стулом и развернули хозяев спинами друг к другу.
Фельдмаршал пододвинул к себе блюдо с крошеными телячьими ушами, соусницу, благоухающую ароматом грибов, вин и пряностей, но есть не стал. И без того маявшийся в дверях, аппетит поспешил раскланяться. Миних склонил взгляд на золоченый эфес шпаги. Был ли он разочарован тем, что оружие осталось в лакированных ножнах, а не тяжелило руку?
Да.
Нет…
Когда ты ведешь внутренний спор с самим собой, даже посредством нереализованных видений, зачастую последнее слово остается за трусливым «я», более практичным, более светским.
Землю продолжали потрошить, извлекая богатства, начиняя взамен покойниками. Слово, произнесенное в надлежащую минуту, создавало новые миры. А в соседней комнате генерал-адъютант Гудович пытался убедить императора в реальности готовящегося дворцового переворота.
– Государь, медлить никак нельзя. Нужно действовать.
– Будет вам. Лишь слухи, – отмахивался Петр III. – Вы путаете колокольчики шута с набатными колоколами.
– У Екатерины Алексеевны был князь Дашков. В день смерти Елизаветы Петровны.
– Капитан лейб-гвардии Измайловского полка?
– Да, государь. Офицеры-измайловцы готовы к перевороту. Они поддержат Екатерину Алексеевну. Как и другие гвардейские полки. После роспуска лейб-компаний и вашего расположения к голштинцам… войска озлоблены и раздражены.
Гудович промолчал об унижении. Гвардия, переодетая в мундиры прусского образца, загнанная на плацу, вахт-парадах и смотрах, была еще и унижена. Военное дело для Петра III являлось скорей забавой, чем предметом изучения. Если Петр Великий, дед императора, со своими «потешными войсками» постигал искусство войны, то Петра Федоровича увлекали лишь выправка солдат, красота мундира, разводы караулов и построения. Несколько полков солдат, привезенных в Россию из Голштинии, играли роли «потешных войск» Петра III. Являлись мишенями для камушков императорского пристрастия. Как зрители вокруг эшафота на Васильевском острове, в которых демон швырял комочки теней.
– Всего лишь слухи и мелкие недовольства, – покачал головой император. – Екатерина, несомненно, из тех людей, кто выжимает весь сок из лимона и выбрасывает кожуру, но она остается моей супругой. К тому же теперь у меня есть Миних. Если я прикажу, он пойдет воевать за меня в ад.
Ночь Миних провел очень плодотворно.
Жил.
Помимо возвращения из ссылки Миниха, Бирона и других опальных государственных деятелей, Петр Федорович начал царствование с издания указов, упразднявших обязательную службу дворян и Тайную канцелярию. Но расположения правящего класса не добился.
Воспитанный в духе лютеранской религии, Петр III пренебрегал православным духовенством, оскорблял указами Синод. Занявшись перекройкой русской армии на прусский лад, император настроил против себя духовенство, армию и гвардию. Во дворце русских генералов учили «держать ножку», «тянуть носок» и «хорошенечко топать».
Прусские симпатии побудили императора отказаться от участия в Семилетней войне и всех русских покорений в Пруссии. За это Фридрих II произвел Петра III в генерал-майоры своей армии. Дворянство и армия негодующе откликнулись на принятый царем чин. Мало того, Петр Федорович направил войска в Голштинию, чтобы поквитаться с Данией за старые обиды предков.
«Трактат о вечном между обоими государствами мире» воспевал совершенную дружбу между Россией и Пруссией. Подписание трактата вылилось в грандиозный пир. Петр III утоп в вине, не держался на ногах, что-то бессвязно бормотал посланнику Пруссии.
Во время пира на тост русского монарха «за августейшую фамилию» встали все, кроме Екатерины. Генерал-адъютант Гудович был послан спросить о причинах такого возмутительного поведения.
– Августейшая фамилия – это император, я и наш сын, – ответила Екатерина Алексеевна генерал-адъютанту. – Посему не вижу смысла пить стоя.
Петр III выслушал ответ, вскочил и закричал через весь стол:
– Дура!
Миних видел, как ухмыляется устроившаяся под потолком тень.
Разгневанный царь приказал арестовать императрицу. И лишь дядя императора, принц Георгий Голштинский, насилу умолил отменить приказание.
Петр III не оценил величия духа августейшей своей супруги.
Екатерина, дочь немецкого князя Ангальт-Цербстского, возглавила оппозицию гвардии. Пока император находился в загородной резиденции в Ораниенбауме, она свершила дворцовый переворот в Петербурге.
Миних ожидал возвращения императора в Петергофе.
Часовой нашел его в Верхнем парке, в обществе позолоченных фонтанов, свинцовых статуй и невидимого собеседника, с которым старый фельдмаршал тихо общался. Наверное, с самим собой.
– Ваше благородие, императрица исчезла!
Миних повернулся к солдату.
– Как? Когда?
– Не могу знать. Нет ее во дворце. Нет… Я видел двух барышень, утром, утром из парка направлялись…
– Бестолочь! Слепой башмак! Слуг ко мне!
– Слушаюсь!
– Fort har ab![6]
Миних медленно двинулся следом, к сверкающим позолотой куполам Церковного корпуса. Маскароны Большого каскада смотрели на него с ухмылкой.
– И снова в бой, граф? – усмехнулась за спиной тень. – В твоей неспешности есть мудрость: будущее приходит само, и лишь прошлое приходится постоянно воспроизводить.
– Я должен был поехать с императором.
– Чтобы смотреть на дорогу из кареты? Ты можешь увидеть всё прямо сейчас. Присядь.
Миних подчинился – прислонился к каштану напротив позолоченного Самсона, возвышающегося в центре ковша.
– Постою. – Граф поднес ко рту головку темно-коричневой сигары, предварительно срезанную, густо пахнущую табачным листом. От удара кремня о кресало брызнул сноп искр, и тут же занялся огнем качественный трут. Миних склонил к огниву открытый срез сигарной ножки, превратил его вдохом в раскаленную рану. Затянулся.
Бриллиантовые струи били в небо. Демон повел сотканной из черного тумана рукой, и в полотне воды, ниспадающем перед разрывом мраморной балюстрады, возникла дорога.
Подрессоренная пружинами золоченая карета несла императора в Петергоф. Солнечный июльский день изливался в открытую коляску, на августейшее лицо Петра Федоровича, угловатый лик прусского посланника фон дер Гольца и круглое личико графини Елизаветы Воронцовой, фаворитки государя. Следом пылила вереница экипажей – придворные и прекрасные дамы спешили на празднование именин императора, предвкушая веселие торжественного обеда.
Картинка исчезла, какое-то время Миних видел лишь зелень парка за прозрачной пеленой, а потом на «полотне» появился генерал-адъютант Гудович. Недалеко. На подъезде к Петергофу. Увидев спешащих к нему слуг, Гудович придержал коня. Выслушал, выругался, развернул жеребца, дал шпоры и разогнал в галопе.
Фельдмаршал, демон и позолоченные барельефы смотрели генерал-адъютанту в спину.
– Я должен послать слуг в Ораниенбаум, навстречу государю. Я должен подготовить войска, – сказал граф. – И возможный отъезд государя.
Миних затянулся, пополоскал во рту дым.
– Должен, – повторил демон, словно пережевывая словцо. – В любом слове заложено абсолютно всё, даже его ложное значение.
В водопаде Большого каскада Гудович приближался к карете императора.
Петр III оставался полулежать в коляске, даже когда генерал-адъютант замолчал. Новость будто бы заморозила его.
А потом император сел и что-то сказал Воронцовой. Громко. Нервно. Рефлекс грома. Отзвуки вчерашнего загула.
Дамы высыпали из экипажей, точно бисер.
Через минуту кони сорвались с места и во всю прыть понеслись в Петергоф.
Картинка исчезла. Вернулся шум воды и циркулирующий в сигаре ароматный дым.
Демон отслоился от ущербно-ленивой тени фонтана и исчез в радужных переливах над Большим каналом. Миниху показалось, что он услышал одно слово.
«Переворот».
Император распахнул двери павильона, в котором жила Екатерина Алексеевна, и кинулся с бранью в спальню. За ним проследовал Миних. В роскошь здания, в смрад царского гнева.
Вид Петра Федоровича, ползающего на коленях возле кровати, смутил фельдмаршала. Он замер в дверях, глядя на стремительно мрачнеющую за окном зелень. «Уж не солнце ли он там ищет?»
В узких, сильно зашнурованных сапогах император едва мог согнуть колени, отчего выглядел еще более жалко. С трудом поднявшись, Петр III стал распахивать шкафы, бросать на пол вещи императрицы, затем выдернул из ножен шпагу и принялся с остервенением колоть бархат панелей и потолок. От царя разило прокисшим в желудке вином. Он несколько раз проткнул платье императрицы, сшитое к сегодняшнему празднеству и оставленное на кровати. Как упрек. Как насмешка.
– Эта женщина способна на всё! – закричал Петр Федорович и выругался по-немецки.
Миних спокойно наблюдал за императором.
– Будет! Хватит этих загадок! – Государь швырнул шпагу на кровать, на испорченное платье императрицы. – К заливу, на воздух!
К пристани шла шлюпка. Когда император окликнул сидящего на корме офицера, гребцы налегли на весла. Офицер вскочил, упал, снова встал, вцепившись в борт, да так и стоял, пока не вывалился на мостки.
– Здравия желаю, ваше императорское величество!
– К черту церемонии! – гаркнул Петр III. – Кто?!
– Поручик бомбардирской роты Преображенского полка Бернгорст, ваше императорское величество!
Над темной полосой Петербурга поднимался дым.
– Что там? Почему над городом дым?
– Я доставил фейерверк! Для государевых именин! – пробасил офицер.
– К черту фейерверк! Отвечайте, что в Петербурге! Иначе расстреляю!
– Слушаюсь, ваша милость.
– Не слушайте, а рассказывайте, – хмуро улыбнулся Миних.
Некогда рухнув с высоты административных высот, он не страшился нового падения. Понятные игры людей и необъяснимые игры демонов. А он по-прежнему нужен и тем, и другим.
– Не видел ничего этакого, – доложил поручик. – Правда, был шум в Преображенском полку. Солдаты носились, кричали.
– Вы расслышали, о чем кричали? – спросил фельдмаршал.
– Желали здравия императрице Екатерине Алексеевне, стреляли вверх. Большего не слышал – было приказано везти фейерверк.
– Фейерверк, – хрипло повторил Петр Федорович, глядя то на поручика, то на Миниха.
– Не угодно ли во дворец, ваше величество? – сказал граф, сочувственно посмотрев на императора. – Час обеденный.
Император покорно двинулся прочь от залива.
Подбежал Гудович, вытянулся струной.
– Ваше императорское величество, доставили записку от Брессана!
– Кто принес?
– Слуга Брессана, чудом выбрался из Петербурга. Войска перекрыли мост, никого не выпускают.
– Фельдмаршал, прочтите.
Генерал-адъютант вручил Миниху записку, переданную через посланца парикмахера императора. Граф развернул, пробежал глазами, прежде чем прочитать вслух то, что уже знал.
Петр III остановился, принял записку, прочитал, бросил на песок аллеи и пошел дальше, глядя прямо перед собой пустым протрезвевшим взглядом. Записку подняли и пустили по рукам, пока она не оказалась в хвосте процессии.
В прошлом.
Миних терпеливо выслушал непоследовательные, бесталанные приказы царя об организации силой голштинских войск обороны Петергофа.
– Ваша милость, у нас всего несколько полков. Не хватает картечи и ядер.
– Мы должны защищаться! – Маленькая голова Петра III багровела в тени большой шляпы.
– В Кронштадте надобно искать спасения и победы, в одном Кронштадте, – настаивал фельдмаршал. – Там мы найдем многочисленный гарнизон и снаряженный флот. Мы сможем противопоставить Петербургу почти равные силы.
– Нет!
Елизавета Воронцова, не вернувшаяся, вопреки приказанию царя, в Ораниенбаум, коротала тревожные часы в парковой беседке в компании родственницы и дам. Любовница царя была бледна и растеряна. Одна из девиц плакала.
Император медлил.
В это время Екатерине Алексеевне, бежавшей из Петергофа в карете с Алексеем Орловым, под давлением офицеров присягали Измайловский и Семеновский гвардейские полки. С согласия императрицы, братья Орловы собирались вывести гвардию в сторону Петергофа.
Император сомневался.
Петр III отправил к Екатерине Алексеевне канцлера Воронцова, в надежде, что тот убедит императрицу в преступности и безысходности переворота. Петр Федорович принялся диктовать манифесты и приказы, которые подписывал прямо на перилах моста, чая что-то изменить. Император выставил на защиту голштинцев с артиллерией, направил в Петербург за своим кавалерийским полком, организовал гусарские пикеты по окрестным дорогам, чтобы переманить на свою сторону наступающие войска, отправил полковника Неелова за тремя тысячами солдат с боеприпасами и продовольствием.
– Мы проиграем сражение, – сказал фельдмаршал. – Силы неравны.
– Сюда идет гвардия, – надломленно произнес император, прикладываясь к бокалу с бургонским. – Она спустила на меня гвардию…
Прусский мундир и ордена Черного орла царь сменил на российскую форму, ленту и знаки Андрея Первозванного. Ел и пил Петр Федорович прямо на мосту.
Император был испуган.
Император сдался напору Миниха.
– В Кронштадт, – Петр III обратил лицо в сторону пристани. – В Кронштадт, друг мой.
Армия Екатерины Алексеевны подходила к Петергофу. Об этом сообщил один из адъютантов императора.
Дворцовые часы отмерили половину восьмого вечера. Императорской резиденцией овладели панические сборы.
Дворцовые часы отмерили восемь часов вечера. Императорской резиденцией распоряжалась пыльная тишина.
Наспех попрощавшись с заливом, яхта и галера стремительно удалялись от причала. Попутным ветром в направлении виднеющегося на горизонте Кронштадта, ходу – какой-то час. Император бежал из Петергофа, прихватив сановников, дам и слуг. Петр Федорович отплыл на галере, в окружении тех, кому доверял: фельдмаршала Миниха, своего дяди – принца Гольштейн-Бека, Алексея Григорьевича Разумовского, прусского посланника Гольца, Елизаветы Воронцовой.
– Надеюсь, де Виейра и Барятинский удержат гарнизон и крепость Кронштадта на нашей стороне, – сказал император Миниху, испивая вино в своей каюте.
Фельдмаршал отказался от кубка.
– У вас хватит финансов на беспрепятственный отход в Германию, если что-то пойдет не так?
– Денег более чем достаточно, – уверил император и тут же поменялся в лице. – Но вы же не думаете, что…
– Мы вынуждены предусмотреть всякий исход.
Подошедшие со стороны Петергофа императорская яхта и сопровождающая ее галера остановились у фортов, в тридцати шагах от стенок пристани. Уперлись в боны.
Ночь навалилась белесым брюхом на гавань Кронштадта. Ее щекотали караульные огни на бастионах.
Петр III, уверенный, что комендант Кронштадта Нуммерс всего лишь исполняет посланный с де Виейрой приказ «никого не впускать в Кронштадт», вышел на палубу и поднялся на капитанский мостик.
– Я сам тут, спустите шлюпку, уберите боны!
– Не приказано никого впускать! – прокричал с бастиона караульный.
Петр Федорович потряс кулаками:
– Позовите генерала де Виейра! Я император Петр III!
– Нет теперь никакого Петра III, – ответили с берега, – а есть Екатерина II! Ежели суда тотчас не отойдут, в них будут стрелять!
От Петергофа шагал гром, перебирая ногами молний. В одно мгновение возмутились мирные морские воды. И тут же крепость окончательно проснулась набатными колоколами тревоги.
Государь ошарашенно молчал. На стенку набегали солдаты.
– Прикажу огонь! Уходите! – рявкнула крепость.
– Капитан, рубите якорный канат! – скомандовал Миних. Громоздкий истукан заслонил императора от движения на крепостных стенах. – На веслах! Отходим!
Невидимая кисть закрашивала звездное небо широкими мазками. Крепчал ветер. До покидающих гавань кораблей долетел клич собравшейся толпы, выстреливший с причала, точно пушечное ядро: «Прочь! Да здравствует императрица Екатерина!»
– Фельдмаршал, – тяжело выдохнул Петр III, он был в полуобморочном состоянии, – я виноват, что не исполнил скоро вашего совета, что медлил с отбытием в Кронштадт… Вы бывали часто в опасных обстоятельствах… Что предпринять мне в теперешнем положении? Скажите, что теперь мне делать?
Миних придержал бледного царя за плечи.
– Спускайтесь в каюту, государь. Для начала сделайте это.
Остаток ночи Миних смотрел в прошлое. В прошлое Кронштадта, в его решительные перемены вчерашнего дня, закрывшие императору дорогу в крепость.
Шторм прошел стороной. В звонком безветрии темную тушу воды секли весла – море безразлично затягивало раны. В пушечных портах торчали бронзовые монокли оружейных стволов – трехфунтовые пушки смотрели в ночь, в настоящее. Миних – в замочную скважину минувшего, указанную в небе демоном.
Стоя на покрытом орнаментом балконе, фельдмаршал вперил взгляд в звездную сцену над массивным львом корабельного носа. Рельефы бортов, скульптуры богов, наяд и тритонов молчаливо глазели по сторонам.
Каким-то образом Миних не только видел прошлое, но и «слышал его мысли» – немые сцены не оставляли сомнений в намерениях «актеров». Граф «слышал» внутреннюю радость коменданта Нуммерса после привезенного де Виейрой предписания – ожидать императора. Нуммерс, не знавший о случившемся в Петербурге до появления полковника Неелова, уже готовился грузить войска на суда, когда получил новое распоряжение. Ждать было проще.
Корабельный секретарь Федор Кадников высадился на пристань около семи часов вечера. При нем был запечатанный конверт для Нуммерса. О содержимом конверта Кадников ничего не знал – Миних «слышал» это.
В пакете оказался орден за подписью адмирала Талызина, непосредственного начальника Нуммерса. Коменданту Кронштадта предписывалось запечатать ворота крепости: никого не впускать и никого не выпускать. Нуммерс прочел орден в одиночестве и решил действовать предусмотрительно. Он не вмешался в арест Кадникова, которого де Виейра отправил вместе с Барятинским в Петергоф.
Вскоре к Кронштадту причалила шлюпка с адмиралом Талызиным. Миних чувствовал натянутую струной осторожность адмирала, который при свидетелях на расспросы Нуммерса отвечал уклончиво – не из Петербурга, плыву с дачи, о беспорядках в столице слышал мельком, решил, что мое место здесь.
Уже в доме Нуммерса адмирал предъявил именной указ Екатерины Алексеевны. Коменданту предписывалось беспрекословно подчиняться приказам Талызина. Второй раз за вечер Нуммерс испытал облегчение.
По приказу адмирала гарнизон крепости и экипажи всех кораблей присягнули Екатерине II – перед взглядом Миниха в небо Кронштадта троекратно вспорхнуло немое «ура!». Генерала де Виейра арестовали и посадили в каземат. Усилили посты и караулы, гавань со стороны Петергофа перекрыли бонами, принялись взбадривать крепость учебными тревогами.
Пока в начале ночи не появилась двухмачтовая императорская яхта…
В царскую каюту Миних явился рано утром.
Шесть больших венецианских окон смотрели на кормовую раковину, два других, прорезанных в бортах, вглядывались в темные воды Финского залива. Стены каюты украшала резьба, потолок кровоточил ярко-красным дамастом, пол устилал расшитый золотом ковер.
Петр Федорович сидел на краю дивана, обшитого бахромой. Монарх выглядел немного лучше, вырванный у ночи кусочек пошел ему на пользу. Над головой государя раскачивался фонарь.
– Я жду вашего совета, друг мой. Что нам делать?
Миних бегло глянул на заплаканных дам – сомнительное украшение каюты, наряду с многочисленными зеркалами, мраморным камином, красным деревом, палисандром и литой бронзой.
– Забудьте об Ораниенбауме. Надобно плыть в Ревель к тамошнему флоту, мой государь, – ответил фельдмаршал. – В Ревеле мы сядем на военный корабль и уйдем в Пруссию, в Кенигсберг, где находится армия Фермора. Имея восемьдесят тысяч солдат, мы вернемся в Россию.
Миних глянул на императора, тот молча ждал. «Большой ребенок, – подумал граф. – Ждет, когда за него решат взрослые. Большой ребенок, который подарил мне свободу и которого я должен спасти».
– Мы вернемся в Россию, и, даю вам слово, не пройдет и шести недель, как я освобожу для вас престол. Верну державу вашей милости. Что скажете, государь? – Гордый подбородок Миниха смотрел в бортовое окно.
Петр III мелко тряс головой, глаза полузакрыты, рот приоткрыт. Фельдмаршал тяжело вздохнул: кажется, он поспешил с благоприятной оценкой здравия императора.
– В Ревель? – послышался женский шепот. Усилился, перешел в гул.
– Невозможно! – закричали дамы. – Матросы не в силах грести до Ревеля!
– Весла донесут их до Гребецкой слободы[7]!
– Боже, что с нами будет?
Миних распрямил плечи.
– Что ж, – возразил граф, – мы поможем гребцам! Все примемся за весла!
– Вот уж нет! – запищала графиня Воронцова. – Это немыслимо!
Каюту затопили бурные протесты. Графиня Брюс плакала в голос. С переборки на переборку перепрыгивали тени высоких причесок.
Захлебнувшись в женском визге, император дернулся, глотнул воздуха и, вздрагивая всем телом, попытался встать с дивана. Не получилось.
– Оранб…
Все замолчали.
– Оранб… – снова попробовал Петр Федорович и только с третьей попытки смог: – Ораниенбаум… мы плывем в Ораниенбаум…
Так решил государь.
Миних поклонился большому ребенку и покинул каюту под звук хлопающих ладошек.
«Всё кончено», – подумал фельдмаршал в дверях.
Гвардии Екатерины Алексеевны без боя заняли Петергоф.
Яхта Петра Федоровича пристала к берегу Ораниенбаума, где императора ждали отошедшие голштинские войска.
Силой женского убеждения фаворитки своей Воронцовой и бессилием постигшего положения Петр III отказался от побега в Польшу. По приказу царя распустили войска. Миних с негодованием смотрел, как со стен и высот снимают пушки – ослепляют позиции. Как уходят голштинцы.
– Неужто вы не желаете умереть как истинный император перед своими солдатами? – гневно сказал Миних.
– Я уже не император, – устало ответил Петр Федорович, снимая шляпу.
Старый граф тенью навис над своим жалким избавителем.
– Возьмите в руки не шпагу, а распятие, ежели страшитесь сабельного удара. Враги не посмеют ударить вас, а я поведу войска! – воскликнул фельдмаршал во вдохновении и ярости. Горячность его к битвам не охладела с годами. – Я буду командовать в сражении!
– Нет, фельдмаршал. Слишком поздно.
– Для войны никогда не поздно. Даже когда всё кончено – никогда не поздно умереть с честью!
– Нет. Я не хочу кровопролития. Здесь много женщин и детей.
И тогда Миних отступил от человека, раздавленного грузом нелюбимой империи.
Свергнутый государь обратился к предавшей его супруге с отречением от престола и просьбой о беспрепятственном отъезде в герцогство Голштинское. В Петергоф к Екатерине Алексеевне был послан генерал-майор Измайлов, который, передав бумаги, немедля присягнул Екатерине II на верность и отправился в Ораниенбаум верноподданным императрицы, с первым поручением.
Измайлов привез Петру Федоровичу новый текст отречения, который надлежало подписать без малейших изменений. Бывший монарх переписал отречение собственной рукой, а затем подписал «в удостоверение перед Богом и всею вселенною».
Вместе с Измайловым в Ораниенбаум вошел отряд под командованием генерал-поручика Суворова. Пленных солдат и унтер-офицеров разделили на две части. Уроженцев России привели к присяге, а голштинцев конвоировали в бастионы Кронштадта. Офицеров и генералов освободили под честное слово, отправив на их квартиры.
Как только карета с Петром Федоровичем, Елизаветой Воронцовой и Гудовичем появилась в Петергофе, солдаты, завидев свергнутого государя в окне экипажа, принялись кричать: «Да здравствует Екатерина II!» На подъезде к дворцу Петр упал в краткий обморок, а очнувшись, увидел избитого Гудовича и рыдающую Воронцову, с которой сорвали украшения. Униженный монарх сорвал портупею со шпагой, сбросил ленту Андрея Первозванного, скинул ботфорты, мундир и уселся на мокрую траву. Окружившие Петра – босого, в рубашке и исподнем белье – солдаты заливисто хохотали.
Уже во дворце Петр Федорович заплакал. Он старался поймать руку графа Панина для поцелуя, Воронцова бросилась на колени, моля остаться при опальном государе.
Гудовича увели во флигель (после отправили в его черниговскую вотчину), Воронцову поместили в одном из павильонов (после выслали в одну из подмосковных деревень), а Петра, отказав во встрече с императрицей, накормили обедом.
После – в сопровождении караула отвезли в собственную мызу, в Ропшу, под арест. С часовым у дверей спальни. С зелеными гардинами на окнах. С солдатами вокруг дома. Со смехом пьяных офицеров за дверью. С испрошенными скрипкой, собакой и негром.
Через неделю Петр Федорович умер. От приступа геморроидальных колик, усилившегося продолжительным употреблением алкоголя.
Так сказали России.
Карета доставила Миниха к главному подъезду Большого дворца. Арестованного привели к императрице.
Екатерина Алексеевна предстала перед фельдмаршалом в платье из серебряного глазета, вышитого золотой нитью – государственные гербы украшали весь костюм императрицы. Граф не мог не отметить красоту и величие этой женщины, особенно в столь роскошном наряде, достойном коронации. Узкие плечи с украшенными кружевом рукавами, тонкая талия, сильно расширенная книзу юбка на фижмах из китового уса.
– Генерал-фельдмаршал Бурхард-Христофор Миних, – представился граф.
Императрица разложила веер, окантованный растительным орнаментом, расправленный на позолоченных пластинах панциря черепахи. С лицевой стороны веера были изображены сидящая дама и играющий на волынке мужчина. «Жалкий музыкантишка. Я никогда не желал быть таким, даже в юности, – подумал Миних. – Даже сейчас. Я не буду петь, я буду говорить. Правду».
– Вы хотели против меня сражаться, граф? – Екатерина наклонила голову к правому плечу и обмахнулась. Волосы императрицы были зачесаны назад: гладкая, неукрашенная прическа.
– Именно так, государыня! – сказал Миних.
– Но ныне намерения эти оставлены?
Фельдмаршал склонил голову.
За свою жизнь он присягал и подчинялся стольким людям и нелюдям, что – одним больше, одним меньше… Его истинным долгом была жизнь. Ее жалкий остаток.
Но если заглянуть правде в глаза, – в эти налитые кровью воронки со стоком черноты в центре, точь-в-точь как у демонов, командующих «потешными войсками» людей, – то там тонул еще более простой ответ: несмотря на притязания всей жизни, Миних привык подчиняться. Даже руководя многотысячными войсками. Особенно – руководя.
Давешний бес главенствования, мучивший Миниха до ссылки, исчез, издох.
– Я хотел жизнью своей пожертвовать за государя, который возвратил мне свободу! Но теперь долг мой – сражаться за вас! Ваше величество найдет во мне верного слугу, – с прямотой старого солдата ответил Миних. Без раболепия и страха.
– Верю, – кивнула императрица.
И подарила свое предобеденное великодушие.
И командование Ладожским каналом, Волховскими порогами, Ревельским, Рогервикским, Нарвским и Кронштадтским портами.
Демон явился к Миниху после смерти Петра Федоровича.
Генерал-губернатор как раз закончил письмо императрице – «Сон почти не смыкает моих глаз. С разными планами я закрываю глаза и снова, проснувшись, обращаю к ним свои мысли» – и, отложив перо, запахнул полу халата, откинулся на спинку кресла, крытого зеленым бархатом.
– Хочу, чтобы ты увидел, – сказала тень.
– Я видел настоящее и прошлое. Теперь ты покажешь мне будущее?
– Не сегодня. Смотри на огонь.
И граф увидел.
И Ропшу. И обеденный стол. И рюмки с водкой. И последнего императора, которого он не смог защитить.
В поданной Петру Федоровичу рюмке был яд. Миних это знал (в прошлом много подсказок, даже без теней), а Петр догадывался – он отказался от алкоголя. Тогда Алексей Орлов схватил его за подбородок, вонзил огромные пальцы в щеки, запрокинул над щелью рта рюмку. Петр в отчаянии мотнул головой – и яд выплеснулся на шею. В схватке с огромным Орловым у свергнутого царя не было шансов – будучи рядовым в лейб-гвардии Преображенского полка, Орлов одним ударом сабли отсекал голову быку, мог раздавить яблоко между двумя пальцами или поднять коляску с императрицей, – но близкая смерть сделала Петра сильнее.
Последний ненужный подарок.
Петр вырывался как бык с еще не отрубленной головой. На помощь к Орлову бросились Барятинский и Потемкин. Навалились, опрокинули, стянули шею императора салфеткой. Раскрасневшийся Орлов уперся коленом в грудь Петра.
– Урод, – прошипел Потемкин.
– Пусти, – прохрипел Петр.
Не отпустили…
Погубили душу навек…
Свеча на столе потухла без видимых на то причин.
1881 год: взрывы на набережной
Божественная.
Так он обращался к ней в письмах.
Divine Imperatrice!
Миних чувствовал, что это нравится Екатерине Алексеевне. Та отвечала своему старому фельдмаршалу:
«Наши письма были бы похожи на любовные объяснения, если бы ваша патриархальная старость не придавала им достоинства. Дверь моего кабинета всегда отворена для вас с шести часов вечера. Я чту ваши труды и величие души».
Он жаловался ей на слухи – одна из привилегий старости.
«Не обращайте внимания на пустые речи, – отвечала императрица. – На вашей стороне Бог, Я и ваши дарования. Наши планы благородны. Берегите себя для пользы России. Дело, которое вы начинаете, возвысит честь вашу, умножит славу Империи».
«Бог, – думал Миних. – В этом я очень сомневаюсь…»
Он смело доверял ей свои мысли: «Величайшее несчастье Государей состоит в том, что люди, к которым они имеют доверенность, никогда не представляют им истины в настоящем виде. Но я привык действовать иначе, ибо говорю с Екатериною, которая с мужеством и твердостью Петра Великого довершит благодетельные планы сего Монарха».
Он не оставлял идеи завоевать Константинополь, выгнать турок и татар из Европы и восстановить Греческую Монархию, как намеревался Петр Великий.
Екатерина II участливо отказывала.
Старый полководец тешился воспоминаниями. В одном из них не жалила картечь и не рвали дымное небо ядра – там был Петербург, турецкий посол и сам покоритель Очакова. 1764 год.
– Слыхали ли вы о Минихе? – спросил через переводчика Миних.
– Слыхал, – был ответ посла.
– Хотите ли его видеть?
– Не хочу, – поспешно возразил турок. А потом с робостью обратился к переводчику: – Что этот человек ко мне привязался? Зачем мучит меня вопросами? Скажи, чтобы он ушел… уж не сам ли это Миних?
В июне 1766 года Миних, как избранный Екатериной судья, раздавал венки победителям игр захватывающего карусели[8], вместившем четыре кадрили: славянскую, римскую, индейскую и турецкую.
Произнеся перед разноцветными ложами речь, в которой «к слову» назвал себя старшим фельдмаршалом в Европе, он спустился с возвышения амфитеатра, специально возведенного по случаю праздника, и двинулся к набережной. За спиной остались палаточные городки, отгремели выстрелы адмиралтейских пушек, а мысли фельдмаршала порхали от прошлого к будущему: он то вспоминал карусель – дам на колесницах и рубящих манекены мужчин, то крепко задумывался над предстоящей закладкой тройного шлюза в Ладожском канале.
Набережная Екатерининского канала тактично встретила его влажной пленкой на чугунной балюстраде и зовущими к воде спусками. Возле одного из таких он остановился, повернулся спиной к реке, уткнул в камень громадную трость и закрыл глаза.
И вскоре почувствовал присутствие.
– Не желаешь немного сменить обстановку? – спросила тень. – Хоть раз взглянуть на дворцовую кутерьму со стороны?
Фельдмаршал устало пожал плечами.
– Я насмотрелся на империю со стороны. Во время ссылки, в Пелыме.
– Но даже там ты оставался игроком, влиял на события. Я же говорю, про абсолютное отстранение.
– Я…
– Ты хотел увидеть будущее. Немедля!
Они переместились.
Миних почувствовал переход – из старческих легких выкачали и закачали воздух. Морозный воздух еще не пробудившейся весны.
А потом он увидел.
Падал снег.
Перед ним по-прежнему простиралась гранитная набережная Екатерининского канала, но уже другая, заснеженная, застуженная, изменившаяся в архитектурных деталях.
– Где мы?.. В каком году?
– Хороший вопрос – правильный, – одобрил демон. – Сейчас 1 марта 1881 года.
– Что мы здесь делаем?
Казалось, что тень пожала плечами. Миних перевел взгляд немного в сторону: смотря на демона боковым зрением, граф видел объемную фигуру из черного дыма. Словно поглядывал через систему зеркал. Но вот глаза… Желтые змеиные глаза – были реальны всегда.
– Беседуем. Смотрим на плоды всего и всея. Прошлое, отраженное в настоящем этого дня. Настоящее, плюющее в колодец будущего. – Темный ангел фельдмаршала на секунду замолчал, а потом прочел:
- И грянул взрыв с гранитного канала,
- Россию облаком укрыв.
- А ведь судьба нам предвещала,
- Что вскроет роковой нарыв.
- И выпал стрит кровавых карт —
- Так начинался для России этот март.
«Я в будущем, – отстраненно подумал Миних. – Слушаю стихи из уст демона, стоя у парапета канала, названного в честь Екатерины II. Мертвой в этом времени. Как и я».
– Смотри, – сказал демон.
Справа, с Инженерной улицы на набережную свернула карета, сопровождаемая конвоем. Императорская карета, понял Миних. Навстречу ей, волоча по предсмертно-серому снегу корзину, шел мальчик в шубном кафтане. В том же направлении по тротуару ступал высокий офицер, а на другой стороне набережной напротив Миниха стоял мужчина. Молодой человек сжимал в руках сверток, он смотрел на реку Кривушу сквозь фельдмаршала, напряженно и нервно, словно его интересовало совсем другое…
Приближающийся экипаж.
Неожиданно Миних понял, что произойдет, и в то же мгновение молодой человек швырнул сверток под поравнявшуюся с ним карету.
И грянул взрыв.
Миних инстинктивно укрылся рукой – бомба взорвалась под блиндажом кареты всего в нескольких метрах от чугунной решетки, у которой стоял граф.
Места в первом ряду.
Осколки не причинили фельдмаршалу никакого вреда. Его здесь не было, не могло быть. Он не чувствовал жара и гари, зато видел, как занесло карету, видел агонию рысаков на кровавом снегу, слышал стоны раненых черкесов и крики кучера, взывающего к царю:
– Государь, не выходите! Доедем! И так доедем! Во дворец!
Император вышел из поврежденного экипажа. Александр II. По каким-то причинам Миних знал имя императора, которому ему не доведется служить, знал, как и имя кучера – Фрол Сергеев, как и многое другое. Будущее вливало в него ложку за ложкой подсказки, точно крестьянскую тюрю из кваса и хлеба.
Блиндированная карета дымила. Ехавшие за ней сани сбавили ход.
Казак из конвоя неподвижно лежал на спине, посеченное осколками лицо уставилось в небо огромным красным глазом. Лежали убитые лошади, молотили в снег копыта раненых. Мальчика отшвырнуло к реке. Миних поискал взглядом его корзину, но не нашел.
Бросившего бомбу схватили, заломили за спину руки, ударили по лицу. Александр Николаевич, пошатываясь, подошел к метальщику. Император был оглушен взрывом. С минуту он смотрел в лицо несостоявшегося цареубийцы. Тот не отводил взгляд.
– Ты бросил бомбу? – хрипло спросил царь.
– Да, я, – ответил метальщик.
– Кто такой?
– Мещанин Глазов, – был ответ.
Вранье, понял наблюдающий Миних, его фамилия Русаков.
– Хорош, – после паузы произнес Александр II, а затем резко повернулся в сторону реки (Миниху показалось, что царь заметил его – на секунду, но заметил) и добавил тихо: – Un joli Monsieur[9].
Было видно, что император немного не в себе.
– Скачите во дворец, государь! Во дворец! – кричал кучер.
Александр II не послушал. Он наклонился над убитым черкесом, шагнул в сторону раненого мальчика, корчившегося на снегу, потом двинулся к саням. Навстречу бежал задыхающийся полковник Дворжицкий:
– Ваше величество, не ранены?
Царь остановился и указал на мальчика.
– Я нет… Слава богу… Но вот он…
– Что? Слава богу? – усмехнулся скрученный Русаков.
И тут Миних увидел, как от решетки канала отделилась фигура (как я не видел его раньше?) и бросила между собой и Александром Николаевичем сверток.
Рванувшая бомба свалила обоих с ног – императора и второго метальщика. Газовый фонарь плюнул осколками. Массивная колонна из снега и дыма дрогнула и распалась на части. Пороховое облако поволокло в сторону Зимнего дворца.
Набережную покрывали тела убитых и раненых. Те, кто мог ползти, – ползли, по саже и крови, кускам изорванной одежды, эполет, сабель и человеческих конечностей. Император и его убийца сидели друг напротив друга. Александр II – у изломанной взрывом кареты, метальщик (Гриневицкий, узнал Миних) – у парапета набережной. Царь упирался руками в землю и пытался что-то сказать. Дымящаяся шинель свисала лохмотьями, император был полугол. Лицо – засечки рваных ран, правая ступня оторвана, ноги раздроблены.
– Помогите… Жив ли наследник? – Невидящие глаза Александра Николаевича шарили по каналу.
Какое-то время император умирал в одиночестве. Потом появились кадеты, жандармский ротмистр и какой-то человек со свертком (Миних получил ответ: третий метальщик Емельянов). Бомбу Емельянов не бросил – царь был обречен.
Императора подняли и положили в сани.
– Снесите во дворец… Там умереть… – прошептал Александр II.
Сани покатили по кровавому снегу, ротмистр поддерживал голову государя.
Какое-то время Миних смотрел им вслед, а потом набережная Екатерининского канала опустела.
Остался лишь снег и ветер, злобы которого граф не чувствовал.
– Так оборвалась череда его везений, – сказал демон, и фельдмаршал дернулся. Он совсем забыл о тени.
– Череда? – ошарашенно спросил фельдмаршал.
Старое сердце колко стучалось в ребра.
– Апрель 1866 года, стреляли по пути к карете. Стрелявшего толкнул крестьянин – пуля пролетела над головой императора. Май 1867 года, выстрел в Париже, пуля убила лошадь. Апрель 1879 года, пять револьверных выстрелов в Петербурге, все мимо. Ноябрь 1879 года, взрыв поезда под Москвой. В Харькове сломался паровоз свитского поезда, и царский поезд поехал первым. Мину взорвали под четвертым вагоном второго. Февраль 1880 года, взрыв на первом этаже Зимнего дворца. Александр II обедал на третьем этаже. Март 1881 года…
Демон развел призрачными руками.
– Это подстроил ты? – тихо спросил старик.
– Я? – Миних услышал жуткий смех, который отвратительно отозвался в его зубах – будто по ним провели точильным камнем. – О, нет. Это сделали вы – люди. Всегда – только люди.
Помолчали.
– Знаешь, – сказал граф, – мне часто снится та казнь… как меня рубят на эшафоте. И другие смерти.
Тень издала нечто похожее на свист.
– Ты действительно умер в одной из реальностей. Казнь на Васильевском острове – не сон, не видение.
Крупные градины дрожи ударили в старческие ладони Миниха.
– Это ложь…
– Это твой поводок, твой военный контракт с другой стороной. Ты ведь чувствовал черную пустоту, возникшую после несостоявшейся казни, – демон не спрашивал.
– Я не понимаю… Это ничего не объясняет. Мы все… все люди когда-нибудь чувствуют нечто похожее.
– Да. И дают россыпь имен этой пустоте – уныние, усталость, старость. Когда на развилках судьбы гибнут твои «двойники» – рвутся нити, связывающие тебя с миром живых. Но однажды ветвление прекращается, побеги начинают отмирать. Тебя отсекают от источника света, радости, стремлений. От тебя режут по куску. Пережить всех своих «я» в смежных измерениях – та еще пытка.
– Другие реальности?.. – слабым голосом спросил граф.
– Именно. Пространства. Слои. Искривленные отражения. Как ни назови. Ты и другие, в начале пути – словно расходящиеся из точки лучи. Жизненная энергия человека напрямую зависит от целостности конуса, очерченного этими лучами. Конуса будущего. Когда лучи начинают меркнуть, энергия утекает в прорехи, конструкция теряет надежность, в нее проникает тьма. Вот почему так чисты и энергичны дети, а старики беспомощны и раздавлены – их конус превратился в хлипкий шалаш из гнилых ветвей. Но ты – крепкий дед, твои лучи гасли с большой неохотой, твои солдаты держались до последнего.
– Всего лишь игра в слова…
– Всего лишь игра? Зависит от ставок.
Миних пытался осмыслить, пытался подавить пурпурный зов паники. Перед мысленным взором стоял перевернутый на крышу дворец – не конус, – в разбитые окна и стены которого проникал чернильный мрак.
А потом – кольцо из солдат с одинаковыми лицами, прореживаемое пулями неприятеля. Потешное в своей нереальности войско близнецов, которые валились лицом в черную землю.
А потом – падающее широкое лезвие топора.
– Та казнь?.. Ее заменили на ссылку… Вы спасли меня? В этой реальности?
Золото змеиных глаз демона обожгло графа.
– Нет. Мы убили тебя. Толкнули с развилки на топор, чтобы получить над тобой власть. Чтобы сделать своим слугой.
– Но зачем? Вы никогда не приказывали… только обличали и предрекали… что я должен был сделать?..
– Жить. А властвовать и менять – не всегда приказывать. Порой – просто быть рядом.
Миних опустил взгляд и надолго замолчал.
Эта игра страшила его: вопросы, ответы на которые не хочешь знать, однако получаешь их. Награды же достаются тем, кто приказывает слушать.
Снег падал сквозь сидящие на парапете фигуры. Старика и демона.
Время ускорило бег. Черно-золотой императорский штандарт скользнул вниз по флагштоку Зимнего дворца, скорбно сообщая, что хозяин умер.
Очередной мертвый император. В кусочке будущего, показанного Миниху.
Через какое-то время руки фельдмаршала перестали трястись.
Что ж… Может, вся его жизнь была лишь затянувшимися учениями перед тем, как он возглавит другую армию иного мира?
Фельдмаршал, граф, фортификатор, боец, горлопан, бахвал, ландскнехт, наемник, готовый продать свою шпагу хоть черту, снова обратил лицо к демону.
– А дальше? – спросил он. – Какие войска вы доверите старику на этот раз?
Миних открыл глаза.
Брест, март-май 2013
Андрей Марченко. Межвременье
(Аппарат Лессингера)
Между високосным шестнадцатым и несчастливым семнадцатым лежит Тайный год. Он полностью выстроен и наполнен: дома ждут своих жильцов, в полях июля ветер гоняет золотые волны спелой пшеницы. Его изрядно исследовали, однако же ни единого человека в нем обнаружить не удалось. Пока это единственный обнаруженный Тайный год, но дней не в счет, недель про запас – хватает.
Классическая темпоральная теория называет такие дни «карманами времени», но отнюдь не объясняет их. Неклассические – скорей запутывают, нежели проливают свет на данный вопрос.
Тайный год похож на потерянный континент, Атлантиду. Туда уже не ступит нога человеческая. Ибо, как всякое прошлое, оно закостенело. Но впереди много подобных несущественных и несуществующих дат. И порой хочется покинуть вторник, но явиться в среду лишь через пару дней отдохнувшим, или посреди Великого поста получить скоромную неделю. Верно и то, что, прожив эти тайные дни, вы станете старей своих сверстников на оное время – внутренние часы не обмануть.
Но это мелочи…
– Наверное, в этом доме произошло несчастье? – спросил кто-то за спиной.
Шарманщик обернулся. Незнакомец в почтительном жесте приподнял широкополую соломенную шляпу, столь обычную в этих летних краях. Он с любопытством рассматривал и шарманку, которая мурлыкала за спиной шарманщика, и обезьянку, сидящую на инструменте. Но куда больше его занимали люди, которые с почтением несли печальные цветы в дом с окнами, задрапированными черным сукном.
– Несчастье случится завтра, – сказал шарманщик. – Умрет купец первой гильдии Иностранцев. Вот и спешат выразить уважение пока живому.
– У вас в городе имеется аппарат Лессингера?..
Шарманщику оставалось лишь кивнуть:
– Высочайшей милостью дарован городу. Вы же наверняка знаете, что государь благоволит нашим краям.
Приезжему то было ведомо. Он лишь указал глазами на купол храма, стоящего на площади. Шарманщик печально улыбнулся и кивнул. Все церкви мира словно сговорились и к работам Лессингера относились неодобрительно. Неодобрение менялось в широких пределах: одни церкви сулили ад хоть раз взглянувшим в окуляр аппарата, другие, в частности православная, полагали это грехом, но не столь уж неискупимым – вроде гадания или столоверчения.
В самом деле: скорая смерть купца Иностранцева ни для кого в городе не составляла тайны – болезнь грызла его тело давно, изрядная часть барышей уходила на оплату докторов и поездки в разные лечебницы. Битва с хворобой долгое время шла с переменным успехом, но последнее время она стала одолевать. И в один день купец отослал докторов, но призвал священника, исповедовался в грехах совершенных и задуманных. Должным образом было написано прошение в соответствующий департамент, и городской думой оно было без промедления удовлетворено. Затем аппарат был извлечен из хранилища в подвале отделения Государственного банка.
– Говорят, вход в рай расположен где-то вблизи пятницы, – заметил шарманщик. – У господина Иностранцева есть все виды туда попасть. Оператор видел его в четверге, но не в субботе.
– Как уместно, – сказал приезжий.
Его взгляд скользнул по уличной тумбе. С одной афиши гостей и жителей города зазывали в электротеатр. Сулили новейшую ленту синематографического ателье «Пате – Попов», снятую по последней столичной моде – в цвете и со звуком. Рядышком ветер трепал извещение о том, что в это воскресенье состоится открытие традиционной Азовской регаты на кубок цесаревича Павла. И внизу улицы, за красными куполами храма Николая-мученика расплескалось море. На нем белели запятые парусов, да британский эсминец в сопровождении французских канонерок шел к берегу. Дым поднимался к облакам.
Приезжий подобрал саквояж и уже собирался идти, к гостинице, как почувствовал, что кто-то тянет за рукав его чесучового костюма. Мужчина обернулся. Обезьянка протягивала ему билетик счастья.
– Берите, берите, – подбодрил шарманщик. – За счет заведения.
Когда мужчина всё же взял билетик, шарманщик заспешил прочь, в глубину сквера, к фонтану. Шарманка покатилась вслед за ним. Приезжий пожал плечами и отправился в иную сторону.
Из окна недорогой пивной штабс-ротмистр рассматривал, как внизу, на бирже, с плоскодонных барок, спустившихся по реке, перегружали приазовское зерно на баржи, стоявшие на рейде. Уже тянули за город железнодорожную ветку, уже строился новый, большой порт. Но в хлебной гавани еще только мостили волноломы, и зерно покамест грузили тут. Хлеба в этом году уродили, и в былые времена маклеры и купцы потирали бы руки, предвкушая барыши. Однако же былые, старые добрые времена остались где-то там, до Великой войны. А сейчас зерном приходилось расплачиваться за долги и кредиты.
Пять лет назад, когда еще не закончилась Гражданская война и хозяйства стояли разоренные, когда на Кавказе еще колобродили горцы, в Сибири и даже в плавнях Кубани прятались банды, ударила засуха. Удалось не допустить превращения недорода в голод, но произошло немыслимое: империя, которая ранее кормила всю Европу, – завозила зерно. Закупала в долг, под обещания концессий, в урон своему престижу… По требованиям союзников пришлось даровать независимость Польше, Прибалтике. Финляндия получила ее чуть раньше – в обмен на военную помощь, на стотысячный корпус, вошедший в мятежный Петроград с севера.
Украину удалось удержать, впрочем, даровав ей автономию вроде довоенной финской, Раду и собственные войска – десять тысяч реестровых казаков, подчиненных гетману. При этом гетман, хоть и утверждался государем, выбирался Радой.
Как раз по мостовой куда-то вниз, к морю прошелся офицер в форме сотника Войска Запорожского. Уж что он делал в этих краях – непонятно. Навстречу гайдамаку из подворотни выскочил юноша в темно-зеленом мундире связиста, юркнул в пивную и сел напротив штабс-ротмистра за уже заказанную, но изрядно степлившуюся кружку пива..
– Хлебнем мы еще горя с этими самостийниками, – зевнул офицер, провожая взглядом удаляющегося гайдамака.
Юноша, не обращая внимания на слова старшего по званию, схватил кружку и начал пить. Пил быстро и, влив в себя за какие-то секунды половину кружки, после, отер рукавом губы, зашептал горячо, быстро и испуганно:
– Они – существуют! Они уже где-то рядом…. Они – уже в сегодня!
– Они?.. Кто – они? – поморщился офицер. – Не так быстро.
– Прыгуны во времени!.. Они тут, где-то среди нас. Они из будущего!
– Что за ерунда. Признайтесь, у вас тепловой удар?
– Тогда как вам это?
Из кармана мундира связист достал полуполтинник, протянул его офицеру.
– Смотрите, смотрите…
И посмотреть было на что. Судя по дате на монете, ее должны были отчеканить через пять лет. Затаив дыхание, штабс-ротмистр перевернул монету. Романовы были весьма похожи друг на друга, как и надлежит родственникам, и, чтоб исключить путаницу, справа и снизу имелись монограмма и подпись.
– Император Всероссийский Константин Первый, – прочел он задумчиво. – Фокус какой-то. Мистификация. Быть такого не может.
И дело было даже не в том, что великий князь Константин был в порядке престолонаследия отнюдь не на первом месте. Темпоральная теория Зворыкина однозначно считала прошлое незыблемым, поскольку на его плечах стоит настоящее. Будущее, напротив, иногда высоковероятно, но отнюдь не абсолютно. Следовательно, возврат в прошлое невозможен.
– Это ничего не доказывает, – покачал головой офицер. – Возможно, это остроумная подделка.
– Послушайте… Это настоящее серебро. Я еще не встречал таких подделок, просто чтоб потешить свое остроумие.
– Где вы его взяли?
– Принес какой-то нищий. Все знают, что я – нумизмат.
В самом деле – в годы Гражданской войны многие стали вынужденными коллекционерами. На базарах в те времена более всего ценились старые деньги Романовых – особенно монеты. Куда меньше веры было керенкам – с уже раскоронованным, но еще орлом. Совдензнаки вовсе шли по цене грязной бумаги. Немногим лучше были гривны и карбованцы украинской выделки. После войны дети, играя в магазин, часто расплачивались не листиками с деревьев, не рваной бумагой, а вышедшими из употребления кредитными билетами. Некоторые, однако же, их хранили, полагая, что со временем коллекция вырастет в цене.
Офицер еще раз вгляделся в профиль на монете. Безусловно, это был Романов – хотя без усов и бородки, с какой-то модерновой прической. Штабс-ротмистр попытался вспомнить, как выглядит великий князь в анфас, но из памяти всплыло нечто смутное – публика мало интересовалась его личностью, он не являлся на приемы, редко мелькал в газетах.
– Что делать? – стал торопить офицера связист. – Ведь мы должны что-то предпринять?
– Что?! – спросил офицер так, словно отрезал.
– Ну, это же очевидно. В город завтра прибудет цесаревич с семейством. Я читал, что будет и великий князь Константин Георгиевич… И, значит, его жизнь в опасности! Мы должны предотвратить…
– Почему его жизнь в опасности?
– Ну, это же очевидно! Ведь если он становится императором, то остальные цели неважны, мелки. Цесаревича с семьей, видимо, устранят обстоятельства… Император слаб здоровьем… Видимо, кто-то расчищает путь к престолу. Кто у нас следующий в очереди?
Офицер совершил жест, словно что-то перечеркнул. Собеседник замолчал. Но ненадолго.
– И всё же… Уверен, мы должны предотвратить приезд великого князя и предупредить цесаревича об опасности.
– А тебе не приходило в голову, – прищурил глаз штабс-ротмистр, – что некто как раз пытается спасти семейство цесаревича?.. Мне надобно снестись с Петербургом.
Глотнули пива. После из карманов френча штабс-ротмистр достал две потертые записные книжки. И, сверяясь с первой, стал черкать во второй. Закончив, переписал мешанину букв на салфетку и подал ее связисту.
– Допивайте пиво и идите к себе на службу. Телеграфный адрес вам известен. Когда поступит ответ – тотчас же ко мне…
У проходившего мимо полового офицер попросил огня. В пепельнице сжег ненужные уже листки, вырванные из записной. От огонька в пепельнице прикурил папироску и благостно откинулся на спинку стула.
– Вы не вернете мне монету? – набравшись смелости, спросил связист.
– А зачем? – Офицер пожал плечами. – Если это правда, через пять лет таких монет будет много.
В гостинице «Континенталь» приезжий представился Ильей Сургучевым, киевским журналистом, на которого телеграфом был забронирован номер. Комнату он получил выходящую окнами не во двор, но и не на центральную Екатерининскую, а на тихую Харлампиевскую. С дороги принял душ и, освежившись, снова надел костюм, вышел в город.
Время склонялось к вечеру. Бриз нес по променаду запах кофе, где-то ниже в кафешантане голосом с едва заметной трещинкой пел шансонье. Чуть ниже, на другой стороне улицы около касс синематографа стояла небольшая очередь. Сургучев купил билет, рядом – в киоске с сельтерской водой – неприлично сладкое мороженое. Неспешно пошел вниз по улице. Доел мороженое уже в самом низу, там, где по Базарной площади грохотали трамваи. Выбросив палочку, озаботился чем-то вытереть пальцы, вспомнил про билетик счастья. Аккуратно извлек его из кармана, развернул и прочел единственное слово: «Оглянись!»
И оглянулся. Справа – грохоча и звеня, приближался трамвай. Слева – некто в мундире штабс-ротмистра переходил улицу, за ним в саженях тридцати с почти перегородившей проезжую часть повозки сгружали арбузы. Арбузы были некрупными, видимо с баштанов, которые окружали город.
И вдруг краем глаза Сургучев заметил: воздух впереди трамвая задрожал, стал плотней, как то бывает при миражах. Из этого марева раздался гул, а после вынырнул могильно-черный «Протос». Голову шофера почти полностью скрывали шлем, очки, но щеки его были белы как мел. Появившееся авто смело растерявшегося штабс-ротмистра с ног, отбросило с мостовой на тротуар, словно тряпичную куклу. Казалось, далее машина неизбежно врежется в повозку с арбузами, задавит незадачливого грека, покалечит запряженного мерина. Но снова вздрогнул воздух, и авто исчезло, как и появилось.
«Мираж? Фата-моргана?» – пронеслось в голове Сургучева, да и не только в его.
Но в воздухе еще явно чувствовалось кисло-сладкое дыхание мотора, а в луже, что образовалась около уличного фонтанчика с питьевой водой, остался след протектора. И, разбивая вдребезги последние мысли о мираже, кто-то закричал высоко и пронзительно.
Сургучев бросился со всех ног и был около военного первым, однако ничем помочь уже не мог. Сбитый лежал странной марионеткой, у которой разом обрезали все нити. Кутаясь в серую оболочку пыли, текла по брусчатке кровь. Из разжавшейся ладони мертвеца выкатился серебряный кругляш и, звеня, откатился к ногам Сургучева. Тот тут же наступил на монетку.
Кто-то звал врача, кто-то – полицейских.
Будто поправляя шнурок на туфле, Сургучев нагнулся, подобрал монету.
Появилась полиция, стала спрашивать свидетелей происшествия. Тех было в избытке, однако никто не решался начать первым – уж слишком невероятным было увиденное. Толпа собиралась, но из почтения к смерти была нешумна. Люди переговаривались полушепотом. Сургучев позволил себя оттеснить от места происшествия. Он занял место в трамвае, который остановился перед толпой, перегородившей рельсы. Вагоновожатый нервно трезвонил: задавили мотором кого-то – что с того, трамвай должен идти по графику, чтоб разминуться на кольце со встречным. Улочки города узки, движение в обе стороны шло по одному пути попеременно.
Наконец трамвай тронулся, побежал.
Сургучев никогда не был в этом городе и теперь с интересом разглядывал через окно протекающий мимо мир: дома и заборы, обыватели в своей ежедневной суете, повозки и автомобили. Порой в разрыве меж домами и в туннелях улиц отливало бирюзой море. Сделав поворот, трамвай вышел к вокзалу, у которого на кольце его уже дожидался встречный вагон.
Дело шло к вечеру, и с пляжа, расположенного за станцией, тянулись господа отдыхающие. Прибывшие в город на однодневный отдых садились в дачные поезда, кои ждали пассажиров всего в полусотне саженей от линии прибоя. Иные занимали место в ожидающем трамвае. Те, кто брезговал садиться в тесную и жаркую коробку, шли в город пешком.
В центре трамвайного кольца, что-то складывая, возились строители. Сургучев, переводя взгляд, встретился глазами с местным хохлом в вышиванке, который, видимо, ехал с базара к себе на окраину.
– А ведь строится город, – сказал Сургучев.
– Та то капличку відбудовують. З нагоди порятунку цесаревича Георгія. Червоні зламали, а зараз – відбудовують.
– Зрозуміло, – кивнул Сургучев.
Всё действительно было понятно. Еще несколько лет назад город переходил из рук в руки по три раза на дню. Махновцы выбивали белых, белых теснили красные. Красных с моря вышибал союзный десант. Во время какой-то перемены слагаемых досталось часовенке – может, задело шальным снарядом, может, кто-то не весьма трезвый бросил гранату в символ, по его мнению, отжившего.
Сургучев подумал, что, пожалуй, часовенку возвести как-то в двойном объеме…
…На самом излете девятнадцатого века, летом года Господнего 1899-го, цесаревич Георгий Александрович, большой любитель технических новинок, разбился на своем мотоцикле. Тяжело пострадав, он пролежал без сознания полторы недели. К тому же открылось кровотечение в легких, вызванное чахоткой, и доктора давали очень мало шансов, что цесаревич поправится.
Всем было известно о слабом здоровье родного брата императора Николая II. Из-за чахотки он избегал сырого климата Петрограда, жил на Кавказе или в Крыму, а в Москву не ездил, дабы не утомлять себя долгой дорогой.
Уже был подготовлен указ о даровании титула цесаревича великому князю Михаилу – третьему сыну Александра III, а в иностранных державах писали траурные адреса и определяли, кто же поедет на похороны. Некоторые, учитывая дальнюю дорогу, выезжали заранее.
Но случилось чудо: цесаревич пришел в сознание, чахоточные каверны затянулись. Он встал на ноги, хотя оставался слаб.
Авария в чем-то пошла на пользу Георгию. Как после шутили: на своих похоронах он познакомился со своей женой. Принцесса Виктория Уэльская прибыла в Тифлис, где находился на излечении кузен-цесаревич. Визит вежливости несколько затянулся, и через полгода молодые люди объявили о своей помолвке. Об этом писали в газетах, но не на первой полосе. После рождения у царствующего брата наследника – сына Алексея, Георгий лишился титула цесаревича.
По-прежнему на приз великого князя Георгия проводились мотогонки и состязания на катерах с газолиновым мотором. Всё так же Сикорский нарочно летал в Крым, дабы покатать Георгия на аэроплане. Однако о князе постепенно забывали – всегда находились вести важней: война с японцами, а позже – Великая война, революции. Меж войнами и революциями – убийство Столыпина и дело Бейлиса. О Георгии постепенно забыли. Даже отрекаясь от престола, Николай вспомнил лишь о Михаиле, сочтя третьего брата слишком слабым, далеким…
А уже в восемнадцатом, когда от большевиков наступило муторное похмелье, красные к своему неудовольствию, а белые к радости обнаружили, что великий князь Георгий, хоть и в плачевном здравии, но жив. Мало того, в браке с английской принцессой родилось два сына – Павел и Константин и дочь Мария.
Трамвай шел вдоль Приморского шоссе. Справа на склонах белели пансионы, от которых серпантином сбегали лесенки и дорожки, слева – между дорогой и морем – сейчас строили железную дорогу. Сургучев, сидя у окна, переводил взгляд то на море, то на монету, лежащую на ладони.
Трамвай остановился на конечной станции, у здания возводимого нового пароходства. Строительство шло неспешно – былой уверенности в огромных прибылях не имелось. Намереваясь соперничать с пароходствами, американская компания тянула железнодорожную ветку от Одессы через Херсон и Мариуполь на Таганрог. Ожидалось, что, пока Азовское море будет лежать во льдах, по железной дороге можно будет возить грузы по побережью, да и летом отнимать изрядную долю барышей у пароходств.
Из всех пассажиров, ранее занимавших трамвай, до пароходства доехали только Сургучев и хохол. Последний, сойдя с подножки, тут же растворился в лабиринте улиц. Сургучев же огляделся: от моря его сейчас отделяла высокая стена, и о его существовании вовсе нельзя было бы догадаться, если бы не чайки, повисшие в небе. Но он ехал сюда не к морю.
Он не был тут никогда прежде, но нужное место увидал сразу. На вершине кручи почти до облаков дотягивался шпиль радиомачты.
Калитку Сургучеву открыл вызванный трелью электрического звонка какой-то получеловек. Так иногда бывает: сделав человека побольше, израсходовав материала на двоих или троих, природа лепит иного из того, что осталось, да и то как-то по-странному. Ростом хозяин чуть более сажени, лысый, с узким туловищем, но с горбами на спине и груди такими, что казалось, словно у него нет ни левого, ни правого плеча, а есть плечо переднее и заднее. Кроме того, получеловека сильно потрепала жизнь: не хватало пальцев на левой руке, левого же глаза, а вся кожа была испещрена синими пороховыми ожогами.
Получеловек пожал протянутую для приветствия руку и указал гостью на домик, стоящий у основания антенны. Дверь в дом была по-летнему распахнутой, и лишь ветер трепал занавеску, повешенную от мух.
Пахло еловой стружкой, на полу, на столах, на шкафах и даже подвешенные к потолку – были видны устрашающие веретенообразные снаряды.
Сургучев подобрал лежащую на стуле книжку, вчитался в обложку.
– Читаете Циолковского? Нынче он весьма популярен в столицах…
– Бред и ересь! – отмахнулся хозяин. – Жюльверовщина какая-то.
– Как ваши изыскания?
– Прошлый снаряд согласно записи барометрического самописца достиг высоты в полверсты за полминуты.
– Вашими разработками, вероятно, заинтересуется военное ведомство.
Получеловек отмахнулся как от чего-то назойливого:
– Но я не интересуюсь военными. Земля, которую можно занять, похоже, в мире уже закончилась. Всякий новый передел принесет лишь горести и убытки. Вести войны уже невыгодно. Впрочем… Исследования требуют значительных трат. Чуть не после каждого пуска следует начинать всё заново.
– Ах да, простите… – Порывшись в бумажнике, Сургучев протянул чек. – Обналичите в Государственном банке.
Чек хозяин взял без благодарностей.
– Пороховая ракета – это слишком просто, да и, похоже, – недостаточно, – рассуждал он меж тем. – Будущее за ракетами на жидком топливе. Желаете кофе? Хороший есть.
От кофе Сургучев не отказался. Чашки были немытыми, но кофе действительно был неплох.
– Готов ли тот прибор, что я вам заказывал? – спросил Сургучев.
– Вы прибыли несколько раньше, чем я полагал: обещали быть в субботу. К субботе я управлюсь.
Гость несколько с раздражением кивнул.
– Но зачем ЭТО вам?..
– Вы, кажется, знали Лессингера?.. – ответил вопросом на вопрос Сургучев. – Работали с ним?
– Ну, как сказать… – помялся получеловек. – С ним никто не работал. Не уживался Лессингер ни с кем. Эдисон будто сказал, что вклад в науку от Лессингера отрицательный и выгнал из лаборатории. Тесла – так вовсе не взял.
– А Розинг?.. Он же поступил к Розингу?
– К Розингу он не поступил, а, скорей, завелся, как заводятся, положим, тараканы. А добрейший Борис Львович из-за врожденной деликатности не мог его выгнать. Только и всего. Никто не мог сказать, чем этот скрытный сукин кот занимается. Забудьте о том, что гений и злодейство несовместимы. Кто говорит так – ни бельмеса не петрит ни в злодействе, ни в гениальности. Если бы не полиция, он бы до сих пор чудил со своим прибором.
Полиция заинтересовалась, откуда у простого ассистента дорогой особняк и мотор с лихачом. В ходе следствия у Лессингера обнаружили некий странный прибор, – нечто среднее между ведьмовским хрустальным шаром и телевизором, разрабатываемым в то время Розингом. Случилось это в 1916 году, и, как выяснилось, вероятностный прибор использовался уже около двух лет. Его сокрытие казалось властям возмутительным, ибо сколько бед удалось бы избежать с его помощью. Чудом избежав огласки, Лессингера сгоряча арестовали, подозревая в доступе к государственной тайне.
– А вы занимались прибором?
– Я работал в другой лаборатории, – пожал своим задним плечом получеловек. – Прибор передали Розингу и Зворыкину. Они его усовершенствовали и дали описание. Вы его, верно, читали.
– А что сталось с Лессингером после? Не знаете?
– Его освободили будто в семнадцатом. Потом я читал о нем где-то в начале двадцатых. После освобождения он опубликовал свои расчеты, ему даже собирались вручить Нобелевскую премию. Но многие были против.
– И было за что!
В благодарность освободителям-большевикам Лессингер построил для них несколько своих приборов. Поэтому в Гражданскую войну прибор применяли обе стороны, что, в известной мере, его обесценивало. Впрочем, целых полтора года – от обнаружения до революции, империя владела прибором исключительно и тайно. В лаборатории Розинга было изготовлено три модели, позже переданные на фронт. С их помощью удалось предотвратить несколько вражеских наступлений и организовать одно вполне успешное свое. Но, когда грянула революция, оказалось – смотрели не туда.
– А вы могли бы опознать его при случае?
Получеловек пожал всеми плечами:
– Не знаю. Столько времени прошло, паче человеком он был прозрачным, никаким. Не бросался он в глаза. А что?
– Есть подозрения, что он сейчас в городе.
– Батюшки! А зачем?
– Видимо, готовит покушение.
Получеловек хотел спросить на кого, но догадался, прикрыл рот ладонью.
– Я бы хотел воспользоваться вашей радиостанцией. Подозреваю, что официальные каналы ненадежны.
– Да-да, конечно… Но она у меня немного с характером. Я, знаете ли, несколько доработал конструкцию.
– Ерунда, – отмахнулся Сургучев. – Как вы уже знаете, я имею чин генерал-электрика.
– Почему вы полагаете, что пропавшая монета столь важна? – спросил связиста следователь.
– Мне показалось… Да и он так говорил.
– Кто он?
– Покойный! Только еще когда покойным не был.
Следователь носил довольно скромный мундир коллежского секретаря и имел фамилию Окаянчик. Казалось бы, с такой фамилией – прямая дорога в шпану, в хулиганы или хотя бы в лихачи. Но вот же: стал следователем, человеком въедливым, скучным и даже нудным.
По глазам, по дрожи в голосе видел Окаянчик, что врет посетитель. И доказать, что врет, – возможно. Выписать ордер на использование прибора Лессингера, с ним обследовать прошлое убитого, найти место встречи их беседы… Но хлопотно. Прибор громоздок, имеет привязку к месту и позволяет осматривать лишь будущее или прошлое того места, где находится, да и то в скверном отображении. На то многие преступники и полагаются: не всякое преступление становится явным, не за каждым карманником с прибором побегаешь.
– Что еще покойный говорил? – вздохнув, спросил Окаянчик.
– Что это как-то связано с покушением на кого-то из августейшей семьи.
Коллежскому секретарю вдруг нестерпимо захотелось удушить этого юнца. Ведь был же вполне приятный летний день. После службы он намеревался выпить пива, а вечером взять извозчика и отправиться с семьей за город, на море. Ничего этого не будет. На службе придется задержаться, и выдохнуть он свободно не сможет, пока цесаревич не покинет город. Была еще возможность изловить заговорщиков до открытия регаты, однако относительно своего дарования Окаянчик не заблуждался.
Окаянчик перевел взгляд на пыльный портрет государя, висящий над столом. Георгий Первый не по погоде был одет в мантию из чего-то белого и пушистого, смотрел на следователя с небольшим злорадством и полуулыбкой.
– Что еще вам известно? – продолжал опрос Окаянчик. – Кем вообще был этот офицер?
– Он был отправлен в город от Министерства внутренних дел. Я был приставлен к нему в помощь. Департамент почт и телеграфов относится к МВД.
– Тогда о его смерти следует донести начальству?
– Я уже отправил телеграмму. Ответ пока не поступил.
Новая вспышка злобы: теперь огласки не избежать. Впрочем, винить телеграфиста не в чем: он сам пришел, узнав о гибели офицера. Конечно же, следует известить об этом градоначальника. Он уже звонил, спрашивал о странном наезде. Коллежский секретарь рассказал о случившемся, доложил, что с божьей помощью следствие зашло в тупик. Городничий обругал Окаянчика дураком, фантазером и бросил трубку.
Отпустив связиста, коллежский секретарь задумался: что следует сделать?
Никто не запомнил номер на машине, но один прохожий заметил, что по форме и цвету он походил, скорее, на местный. В прессе много говорилось о необходимости введения единообразия в номерных автомобильных знаках по всей империи. Но всякий раз Дума находила дела поважнее, и законопроект откладывался в долгий ящик. А покамест каждый уездный город устанавливал свои форму и цвета знака, стараясь перещеголять соседей.
Автомобили даже в провинции уже не были редкостью, однако по всей империи ездили всё больше на отечественных «Руссо-Балтах», на «Рено», «Цитроенах» выпущенных по лицензии, или дешевых «Фордах», которые сейчас производили в Екатеринославле. Германские «Протосы» встречались нечасто.
Эти обстоятельства позволили определить, что в прошлом году черным «Протосом» владел доктор Хампер, здешний гласный. Окаянчик поговорил с ним, и доктор сознался тут же. Прошлой осенью его что-то выхватило посреди пути и выбросило на несколько секунд в лето. Доктор клялся, будто ничего не успел разглядеть, но машину же втайне починил и продал куда подальше – в Царицын.
Когда точно это произошло, Хампер сказать не мог. Окаянчик искренне презирал доктора за то, что тот не сообщил о наезде сразу по возвращении из будущего. Но в уголовном уложении не имелось статьи, по которой его можно было бы привлечь.
…По дороге двигались панцерники украинского реестрового казачества. Бронежалюзи и люки, как и положено на марше, были открыты, но ни одна машина не остановилась около путника. Зато сразу же после них у обочины остановилась двуколка, коей правил мичман.
– Вы до города? – спросил Сургучева мичман. – Садитесь, подвезу.
Сургучев сел на указанное место, двуколка тронулась. Возвращаться в город он решил не по Приморскому шоссе, а по тракту, что шел через степь, по вершинам холмов, по кручам.
Город был уже виден. Над ним к небесам поднимались рыжие дымы металлургических заводов «Русского Провиданса». В безветрие или особенно при ветре слабом, направленном в городские улочки, воздух становился коричневым, со странным вкусом, а крыши и стены домов покрывались коричневой коркой.
Сургучев оглядел повозку. Меж сидений был воткнут карабин с оптическим прицелом. На него накинут самодельный патронташ, опустевший где-то наполовину. Пули имели внутреннюю полость – выточку. На войне пойманным с такими пулями отстреливали пулеметом конечности, но на охоте, особенно против здешних свирепых диких кабанов, подобная экипировка не была чем-то необычным.
– Хороший карабин, – заметил Сургучев. – Не разбираюсь в оружии, но, кажется, немецкий?..
– Так точно.
– А прицел? Тоже германский?
– Австрийский «Калес Миньон». Вполне приличный охотничий прицел.
Дорога обещала быть недальней, но попутчику из приличия надлежало развлекать водителя.
– Я, знаете ли, тоже охочусь иногда. У меня есть ружьецо «Монтекристо».
Мичман снисходительно улыбнулся: так лихачи смотрят на мальчишек, катающихся на дощечках с колесиками.
– А вы, видимо, местный, – спросил Сургучев.
– Да, – улыбнулся мичман. – Вы по профилю догадались? Грек из здешних. У нас тут как американцев намешано: и хохлы, и греки, и немцы. Ну и русские, само собой. А вы приехали на регату или просто на отдых?
– Скорей первое.
– Спортсмэн?
– Журналист…
Мичман посмурнел.
– Не люблю газетчиков – все беды от вас.
Впрочем, из своей повозки попутчика не высадил – и за то спасибо.
– Как вам нравятся гетманские броневики? – спросил мичман после некоторого молчания. – Хохлы стягивают к городу отряды, словно готовят переворот.
– Бросьте. Цесаревич и великий князь Константин – шефы многих казачьих полков. Константин, как говорят, свободно изъясняется на украинском.
– Скажите: на малороссийском… Константин… Когда-то Екатерина Великая назвала так внука, полагая, что он воссядет не в Стамбуле, а Константинополе. А нынешний заигрывает с самостийниками!
– Вы не монархист?
– Отчего же? Как и всякий честный флотский – монархист. А вы, видимо, нет?
– Я, скорее, сочувствую октябристам.
– Ну, спасибо, хоть не большевикам.
– Нынче это немодно. А что касается хохлов, то вспомните – большевиков разбили не без их участия. Врангель со своим приятелем Скоропадским отбили Москву.
Мичман кивнул: да, это было так. Кроме того, в обмен на признание независимости Маннергейм атаковал Петербург и помог Юденичу взять его. Из Сибири подпирал Колчак – судьба большевиков оказалась решена. Ленин бежал из Первопрестольной, переодевшись в женское платье, но не успев сбрить усы. Затем он перебрался через Германию в Швейцарию, Троцкий уехал в Мексику, Свердлов осел где-то в Африке. И, разъехавшись по миру, большевистские вожди писали мало кому интересные мемуары да вяло спорили меж собой, по чьей же вине революция пошла наперекосяк.
– И всё равно, – не сдавался мичман. – Как вам проект Константина о переносе столицы в Иркутск? Дума, конечно, сочла проект несвоевременным. Финансы расстроены, и всё такое. Государь будто тоже был против. Ну вот, скажите на милость, зачем нам столица в Сибири? Это значит, мы уйдем из Европы?
– Мы бы укрепились в Азии…
– Ай… Пустое. Слава Господу, наследник у нас Павел. У него семья, сын. Константину не добраться до трона. Государь не отличается крепким здоровьем… Верно, грешно так говорить, но смею надеяться, молодая кровь на престоле даст о себе знать.
Сургучев задумчиво кивнул: он понимал, о чем шла речь. Положение империи странное. Будто Россия и оказалась заодно с победителями и несла тяготы войны не менее остальных, взамен ничего не получила и даже растеряла земли. И теперь смотрела на союзников с надеждой: а не скостят ли они хоть часть долга?.. Оттого в державе, особенно среди военных, бродила злоба. Многим хотелось прижать инородцев, устроить победоносную войну.
Двуколка въехала в город, и около почтамта Сургучев расстался с мичманом.
Город чем-то напоминал пирамиду или какую-то башню, на каждом ярусе которой жило особое общество. Внизу у моря, около базара и далее по пойме реки жил народ простой – рабочие с заводов, мастеровые, а то и просто грузчики. Под стать себе и развлечения они предпочитали простые: гармонь, водку, поход в цирк братьев Канарис. Выше, по склонам холма, на котором стоял город, селились мещане, купцы средней руки. Они уважали вино и коньяки из недорогих, предпочитали всякие новинки: радио и синематограф. А там, где городские подъемы заканчивались, обитал провинциальный бомонд. Там пили недешевые вина, ходили в театр. Порой спектакли были заведомо скучны, но положение обязывало.
В те летние дни город словно вывернулся наизнанку.
В театре ставили какую-то из новых пьес Горького. Тот, после разгрома большевиков, выехал из Астрахани в Персию, а оттуда перебрался в Италию. Но позже, получая из России гонорары, вернулся. Пьесы его обычно шли с успехом, но сегодня к кассам мало кто подходил. Да и сама заезжая труппа вместо репетиций прогуливалась не по здешнему проспекту, поросшему липами, а по короткой набережной.
Рядом, на пирсе уже сбили лавки и подмостки, с которых цесаревич объявит о проведении регаты. Свои места на специально сколоченном помосте обживали пресса, кинематографисты. В этом году имелась новинка: с иконоскопом возились техники из лаборатории Зворыкина. Они намеревались совершить ранее небывалое: по беспроволочной связи передать изображение за тысячу верст, в Москву.
На рейде уже появилась белоснежная яхта великого князя Константина, и многие рассматривали ее через бинокли, пытаясь угадать сына государя в фигурах, появляющихся на палубе. Особенно старались здешние модницы: в шляпках-колокольчиках, узких юбках, в чулочках столь тоненьких, что ножки казались голыми. У них был свой интерес.
Говорили о том, что в семье цесаревича не всё гладко, что у Павла Георгиевича отнюдь не платонический роман с молодой московской актрисой Любовью Орловой. Вспомнили и о брате цесаревича.
– А не кажется ли вам ненормальным то, что Константин до сих пор холост? – спросила одна модница другую, стоявшую рядом с Сургучевым. – Не припомню, чтоб о его избраннице где-то в прессе упоминали…
– Может, это потому, что на брак великого князя должен давать дозволение государь. А он этим выбором недоволен. Вот Константин и выжидает, – ответил Сургучев.
Барышни фыркнули и удалились.
У пирса плескалась позеленевшая вода. С поверхности рыбки воровали крошки. Сургучев достал из кармана монетку с профилем Константина и бросил ее в бычка. Не попал, но рыбка всё равно обиделась и уплыла вниз.
Меж тем гости съезжались. Над гаванью покружил и приземлился тяжелый четырехмоторный гидросамолет. Тут же заспорили, чей бы это мог быть: похожий «Сикорский» имелся у государя. Вспомнили, что на коронацию в Первопрестольную Георгий на три дня летал именно на таком аэроплане. Как отмечала пресса, Императору Всероссийскому при этом сильно нездоровилось. Злые языки говорили, что царь долго не протянет, более оптимистически настроенные предупреждали, что Георгий будет кашлять на чужих похоронах еще долго. С той поры прошло достаточно времени, и подобные аэропланы появились у цесаревича, председателя Совета министров и гетмана.
К самолету был выслан катер, который, к неудовольствию обывателей, отвез пассажиров на яхту Константина.
Услышав музыку, Сургучев обернулся. На углу играла шарманка, обезьянка раздавала билетики. Увидав журналиста, шарманщик улыбнулся, приподнял шляпу. Сургучев учтиво кивнул.
С пристани он вернулся в город. Прошелся мимо мещанских домиков тремя окнами на улочку. На подоконниках меж горшками с геранью грелись кошки. Во дворах за высокими сплошными заборами, судя по табличкам – злые собаки. Что поделать – от добрых собак в мире никакого проку.
К указанному в билете часу подошел к электротеатру, занял место в наполненном зале. Фильм, который показывали, был снят по патентованному методу Прокудина-Горского: действо через светофильтры фиксировали на три камеры с обычной черно-белой пленкой. Затем размноженные копии развозили по кинотеатрам, где их также прокручивали через три аппарата. Метод сей имел множество недостатков, главным из которых была трудность синхронизации во времени и пространстве. Порой какая-то лента забегала вперед, превращая полотно в футуристическую картину.
В журналах говорили о широкой пленке и аппаратах, в которых бы кадры записывались по три в ряд. Это требовало специальных проекторов. Химики Императорского Казанского университета возражали, сообщая, что разработка цветной пленки – дело ближайшего будущего.
Сценарий фильма писали, очевидно, специально для цветного синематографа, что явствовало даже из названия: «Боязнь зеленого». Сценарист был дарования среднего, отчего многие зрители, в том числе и Сургучев, вышли раньше.
На улице стемнело и посвежело. В пивной на углу Сургучев, взяв кружку, постоял за столиком, послушал, о чем судачит народец.
В иные дни говорили бы о жаре, коя, верно, спадет только к осени, о привычно засушливом лете, маклеры обсуждали бы цены на хлеб. Но нынче город до последнего увлекся политикой.
Допив пиво, Сургучев отправился в гостиницу. Поднявшись в свой номер, он было начал стягивать пиджак, но почувствовал нечто. Он успел дотянуться до несессера. Ладонь обняла рукоять револьвера. Но поздно – меж лопаток ткнулся ствол чужого пистолета.
– Без резких движений, пожалуйста. Я их с войны не люблю.
– Грабеж?..
– Полиция.
– Где монета?
– Какая монета?
– Которую вы подобрали около убитого.
Через аппарат Лессингера удалось рассмотреть выроненную монетку, человека, который ее подобрал. Последовательно перемещая прибор, удалось установить, откуда этот человек вышел. Монетка была будто единственной зацепкой, но при обыске ее найти не удалось.
– Подобрал, – кивнул Сургучев. – Но куда дел – не помню. Кажется, отдал кондуктору в трамвае. Что в этой монете разэтакого?
Коллежский секретарь не знал. Вероятностный прибор, имеющийся в распоряжении города, обладал скверным разрешением. Подумалось: хорошо, если б Лессингер придумал что-то, заглядывающее вместо будущего в головы сограждан.
Во дворе гостиницы ровно стучал газолиновый мотор, вращая привод динамо-машины. Под потолком горела люстра. Ее электрический свет был довольно ярким, ровным, но неживым. И был ли тому виной этот свет или усталость, накопившаяся за день, но Окаянчику показалось, что этого человека, это лицо он уже сегодня видел.
– Кого-то вы мне напоминаете…
– В самом деле? – вскинул бровь Сургучев. – Кого же?
– Пока не могу припомнить. Только вы совсем не тот, за кого себя выдаете.
– В самом деле?.. И кто же я?
– Это мне также пока не ведомо. Но вы не репортер. Вы видели смерть того военного, видели машину, вылетевшую из ниоткуда и пропавшую в никуда. Будь вы репортером, вы бы бросились отсылать телеграмму в свою редакцию.
– Чтоб ее тут же перехватила цензура? Я отправил заметку другим образом – она будет в редакции не позже понедельника.
Коллежский секретарь задумался. Мысли ворочались в голове тяжело и неохотно. Без этого приезжего было бы проще. Всякий приезжий – повод для беспокойства.
– Знаете, я мог бы вас арестовать или хотя бы выслать из города под конвоем.
– А я подам на вас в суд, и наш адвокат выест ваш мозг кофейной ложечкой.
Окаянчик еще раз проверил документы, стараясь рассмотреть малейшие признаки подделки. Их не было.
– Михаил Сургучев. Какая у вас уместная, канцелярская фамилия.
– Фамилия ничем не хуже и не лучше иных.
– Не скажите. Еще латыняне говорили: «Оmen est nomen». Сие значит: «Имя имеет значение». У меня был знакомый – Бутылкин. Как следует из имени – наш человек.
– И что с ним далее было?
– Да что с ним могло быть? Спился…
Он зевнул, осмотрел рукав мундира, застеснялся его засаленности.
Нет, удалять приезжего из города – мысль не из лучших. Он может вернуться incognito или, что хуже, пришлет кого-то иного, незнакомца.
– Сегодня поздно, пожалуй… Зайдите ко мне завтра в отделение.
– Право, не знаю, смогу ли я выбрать время.
– А чтоб легче было время выбрать, я, пожалуй, возьму ваши документы. Вот завтра и верну. Спокойной ночи.
Коллежский секретарь вышел из гостиницы. Закурил под тополем, глядя на окна номеров. И был ночной воздух чист и свеж, напоен влагой, несомой бризом с моря. С проспекта неслись музыка и смех, а также запах парфюмов. Хотелось пива и покоя, но работа была категорически против. По улочке, идущей параллельно главному городскому проспекту, он поднялся к зданию почтамта.
Крыши здешних домов украшали антенны различных конструкций, вдоль улиц, по столбам было натянуто такое множество телефонных проводов, что казалось, будто в городе поселился какой-то особенно крупный паук. В отличие от других городов, здесь городская дума отказалась предоставлять монопольную лицензию на телефонную связь единому поставщику, что, с одной стороны, множило провода еще более, но с другой – конкуренция заставляла чаще радовать потребителя новинками и ценами. Кто-то предлагал связь с другими городами, кто-то сообщал об установке автоматической станции – быстрой и полностью защищенной от прослушивания любопытными барышнями-телефонистками. Другой оператор обещал городской управе убрать провода с глаз долой под землю. Под это рылись туннели и колодцы, которые постоянно затапливало, отчего общение превращалось в мучение.
Солидные организации также ставили у себя телеграфные аппараты, имелся он и в полиции. Но фототелеграф в городе был один.
Почтамт был открыт и практически пуст. За окошком приема телеграмм скучал телеграфист, уже знакомый коллежскому секретарю.
Он удивленно вскинул бровь.
– А что поделать, – зевнул связист. – Моя смена. Давайте, что у вас.
– Снимите копию с этого, – распорядился секретарь, протягивая документ Сургучева. – И передайте в Киев с припиской, чтоб они срочно сверились со своей картотекой. Телеграфный адрес…
Подумалось: ничего из этого не выйдет. Качество изображения, переданного по фототелеграфу, оставляло желать лучшего. Фотографию сперва переснимали на металлическую пластину. Затем щуп скользил по пластине, прибор определял – есть ли под щупом краска или же чистый металл. И за многие версты самописец иного прибора вырисовывал нечто похожее. Пересъемка, передача занимали много времени. Порой связь обрывалась, и требовалось всё начинать заново. Почти всегда на линии возникали помехи.
Секретарь зевнул и взглянул на часы: хорошо бы оказаться дома к полуночи.
Но хорошее иногда случается.
– Эй, – сказал телеграфист, – да я ведь знаю, кто это.
И после сбивчивого, но краткого объяснения Окаянчик понял, почему лицо Сургучева показалось ему знакомым.
Заказав кофе в номер, Сургучев читал довольно потрепанную книгу Уэллса, но прочитанное не лезло в голову, где хороводили иные мысли. После – попытался уснуть, но выпитый кофе не пускал разум на отдых.
В номере было жарко. Огромный кондиционер, судя по словам распорядителя гостиницы, был уже куплен и даже погружен на корабль. После получения кондиционер намеревались присоединить к системе вентиляции и гнать через нее охлажденный воздух.
Сургучев ворочался, несколько раз то проваливался в полудрему, то снова просыпался. Два раза вставал выпить воды. Во второй раз – взглянул на наручные часы. Был ровно час ночи.
И вдруг где-то ниже по улице громыхнул странно одинокий винтовочный выстрел. Забрехали собаки, кто-то засвистел в свисток – то ли полицейский, то ли мучимый бессонницей дворник.
Сургучев пригнулся. Но после скользнул к окну. Выглянул на улицу. Улица была пуста, и непонятно для кого светили фонари.
Ожидая новых выстрелов, Сургучев прислушался. Но – тишина. Это было странно. В империи после войны имелось достаточно оружия. И перестрелки, просто пальба по звездам с горя или радости были частыми. Но один выстрел?.. К тому же в городе винтовка неудобна – хороши были пистолеты, револьверы.
Более ничего не происходило. Сургучев лег, чтоб лучше думалось, прикрыл глаза…
И заснул.
Ночью умер купец Иностранцев. Поскольку желающие с ним уже попрощались и к похоронам всё было подготовлено, похоронили купца еще до полудня по утренней прохладе. И, хоть ветер трепал траурные полотна и ленты, забыли о покойном тут же, благо для бесед имелись другие, более веселые поводы.
Коллежский секретарь дремал за чашкой кофе в буфете гостиницы, ожидая, когда спустится постоялец Сургучев. Портье, как и было условлено, растолкал Окаянчика, но пока тот пришел в себя, понял, зачем он тут, – Сургучев успел выйти из гостиницы. Окаянчик бросился вослед. Когда выскочил на улицу, оказалось, что Сургучев, изрядно отойдя от гостиницы, уже кликнул извозчика и сейчас садился в пролетку.
– Господин… – попытался окликнуть коллежский секретарь гостя города, но вдруг оказалось, что забыл фамилию, значащуюся в документе.
Потому Окаянчик окликнул садящегося в повозку человека его настоящим именем:
– Константин Георгиевич! Подождите!
Великий князь посмотрел на Окаянчика печально и устало, а после глазами показал на место рядом с собой.
– На набережную, – распорядился он извозчику, после повернулся к Окаянчику. – Всё же догадались…
– А я ведь голову ломал: откуда мне лицо ваше знакомо, ваше императорское высочество. А я же на лицо вашего батюшки каждый день смотрю.
– Я хотел бы попросить вас об услуге. Для всех вокруг и для вас я должен остаться журналистом Сургучевым.
– Отнюдь, – возразил Окаянчик. – Вы в самом деле думаете, что будете ходить по моему городу, в котором зреет нечто неспокойное, без охраны?
– Хотите стать наследственным дворянином? Я попрошу отца, сегодня же оформят…
– Пытаетесь меня купить? К тому же не я один об этом знаю.
– Кто еще?
– Телеграфист, который был приставлен к сбитому вчера офицеру.
– Это немного.
– Но он уже донес телеграфом в Москву.
– Кому?
– Говорит – в МВД.
Собеседник кивнул, чувствуя зыбкость этого «говорит».
– Может, я лишь человек, похожий на великого князя?..
– Тогда я вас, пожалуй, арестую до выяснения обстоятельств.
Прибыли на набережную. Белоснежная яхта всё так же стояла на рейде. Вокруг скользили яхты поменьше – тех, кто готовился к регате. Гидросамолета, впрочем, уже не было. Интерес к яхте спал, и обыватели занимались своими привычными делами. Узкий городской пляж был усеян телами отдыхающих.
Вдоль линии прибоя шел шарманщик рядом с фотографом, который зазывал господ отдыхающих сфотографироваться с обезьянкой. Сама обезьянка семенила за самодвижущейся шарманкой, которая то и дело вязла в песке.
На помосте с иконоскопной установкой возились техники. Их камера, поверх голов еще несуществующей толпы, была направлена на трибуну, за которой ветер трепал флаги держав, заявивших о своем участии в регате.
Сходя с пролетки, Сургучев отправился ко второму помосту, вокруг которого кружили мальчишки. Полицейский, охраняющий место, попытался возразить, но, узнав коллежского секретаря, отступил.
– Где-то здесь буду стоять я. А мой брат станет вот там, – Сургучев указал на микрофоны. – А убийца… Как вы думаете, откуда мог бы стрелять убийца?
Лет пять назад, когда город был под большевиками, сквер у набережной изрядно проредила шрапнелью артиллерия кораблей союзной эскадры, расчищая путь десанту. Но с той поры выросли новые деревья, прикрыв нижние этажи домов.
Над крышами дрожал раскаленный воздух.
Гильзу нашли на третьей крыше. До помоста было саженей сто: для хорошего стрелка – не расстояние. Сургучев ее обнюхал – она пахла свежим порохом.
– Вы не желаете мне что-то пояснить? – спросил Окаянчик.
– Если бы я всё понимал…
– Ну, так скажите, что понимаете.
– Вы про карманы времени слыхали?
– Безусловно.
– Ежели существуют непрямые пути из вторника в четверг, то, вероятно, есть иной, короткий путь, который позволит из понедельника попасть, скажем, в четверг. Мы не способны увидеть этот лаз в надлежащий прибор, поскольку времени меж этими днями нет или же его очень мало.
– Не пойму я вас никак. А свой прибор для чтения мыслей снес в починку. Вы прямо мне сказать можете?
– Сегодня ночью кто-то вытолкнул пулю в межвременье. Она, видимо, вернется в наше время дня через два, когда площадь эта будет полна народа.
– Но это невозможно…
– Возможно, – покачал головой Сургучев. – Это секретная разработка. Пробный прибор уже испытывают в военном ведомстве.
– Так это были военные? Это они сбили того офицера?
– Наверняка нет. В то время, из которого явился автомобиль, военный прибор был только в чертежах. Кто-то другой сумел его построить и раньше и лучше.
– Лучше?..
– Военный прибор только зашвыривает что-то из настоящего в будущее. «Протос», как вы помните, был возвращен назад.
Делать было нечего, и по скрипучей пожарной лестнице спустились на землю.
– Так, выходит, вы – будущий царь?..
– Возможно.
– А монета?
– Я сам не знаю, откуда она…
– А как же Павел?
– Ай… – отмахнулся Сургучев. – Узнаете в свое время…
Они ступили на мостовую и тут же едва не попали под колеса лихача, обдавшего пешеходов густым бензиновым запахом.
– Нет уж, я сейчас же звоню городничему. Вам небезопасно ходить так по городу.
– Прошу вас, дайте время хоть до утра. Утром прибудет мой брат. Я откроюсь сам.
– Да вы подумайте! Где мы, а где завтра! – вскипел Окаянчик. – Да вас тут до утра убьют три раза! Слушайте, я знаю, что запрещено через прибор Лессингера вникать в жизнь августейшего семейства. Но обстоятельства особые! Чего проще: взять прибор и посмотреть сквозь него – в кого и откуда стреляли. После попросить будущую жертву стать на сажень влево или вправо. Вытащить убийцу.
– На меня покушались дважды. На отца в войну – семь раз. Тут если создать прецедент…
– А на брата?
– Что «на брата»? – не сразу понял Сургучев.
– На брата сколько раз покушались? На Павла?
– Ни разу…
Утром, без четверти девять, как и ожидалось, над летным полем за городом завис огромный дирижабль «Генерал от инфантерии Михаил Дмитриевич Скобелев». Из гондолы сбросили канаты. Их закрепили в барабаны лебедок, и моторы, заревев, мягко притянули огромное воздушное тело к земле. На поле сошел цесаревич Павел с семьей. Их встречали лучшие люди города во главе с городничим, и вскоре открытое ландо везло их в город.
В гостинице «Континенталь» они заняли верхний этаж. На лестницах и у дверей появился караул. Во дворе стали блиндированные авто. На улице, на каждом углу появилось по полицейскому. Они подозрительно глядели на зевак, но вели себя учтиво.
В три часа пополудни в управе городничий дал разорительный то ли поздний обед, то ли ранний ужин.
Городничий полагал, что неожиданность – лучшее средство для безопасности, поэтому об угощении никто в городе не знал до последней минуты. Полицмейстер был в ярости и, взметнув тревогой подопечных, нагнал столько полицейских, что весь бульвар стал синим от полицейских мундиров.
Еще полицмейстер был зол на Окаянчика за то, что тот о появлении великого князя доложил напрямую городничему, и тайно намеревался стереть подчиненного при случае в порошок. Однако отказался от такого намерения, узнав, что коллежский секретарь получил приглашение на обед. Не вышло бы хуже.
Приглашение получил и телеграфист. От этого он впал в панику и даже подумывал сбежать из города, но сгреб себя в кулак и всё же пошел. В застегнутом на все пуговки вицмундире было жарко и тесно. Девушки на выданье с любопытством глядели на невесть откуда взявшегося молодого человека.
– А мне что говорить, когда спросят, как я сюда попал? – спросил Окаянчик у Сургучева.
– Скажите, что некогда довелось служить вместе, – ответил тот. – В свое время меня помотало по стране.
В то время как Георгий, находясь преимущественно в Краснодаре, был символом Белого дела, оба его сына воевали. Павел служил во флоте, а Константин в чине подполковника командовал отрядом бронепоездов. Исколесил всю Украину, где и набрался симпатии к местному населению. После участвовал во взятии Москвы, в боях был дважды ранен.
Было много военных. Среди них оказался и мичман, недавно подвозивший Сургучева. Узнав недавнего попутчика в великом князе Константине, он изрядно стушевался и покраснел.
– Вы? – удивился мичман.
– Вы? – ответно удивился Сургучев. – Как вы тут очутились?
Ангельский чин мичмана отнюдь не открывал двери подобных празднеств.
– Я пришел с отцом, – зарделся мичман еще более. – Он купец первой гильдии…
И постарался тут же сменить тему, однако едва ли удачно.
– Как остроумно вы пошутили про то, что вы октябрист! – сказал он.
– А я и не шутил.
Мичман напрягся, вспоминая, что же он еще наговорил в дороге, но Сургучев пресек раздумья. Порывшись в карманах, он достал и протянул неприметный светло-коричневый камень.
– Возьмите.
– Что это? – спросил мичман.
– Пару лет назад в Астраханской губернии упал метеоритный дождь. Я был в экспедиции, разумеется incognito. Один осколок я оставил себе на память. Думаю, наука от этого пострадает незначительно. Теперь я отдаю его вам.
– Он дорогой?
– Говорят, на вес золота.
Мичман смотрел недоверчиво.
– Вы, верно, полагаете, что я хочу им купить ваше расположение, – сказал Сургучев. – Отнюдь. Я даю, но не дарю его. Потрудитесь-ка вернуть его обратно – на небо.
Началась официальная часть. Цесаревичу дарили всяческие курьезные пустяки, в городе изготовленные: ажурную чугунную трость, огромный пирог, выпеченный нарочно к его приезду. Ответно цесаревич известил о своем новом даре городу – учреждение ремесленной школы.
Пока шел обмен дарами, Окаянчик прощупывал взглядом толпу. На таких обедах, как на свадьбах, порой появлялись какие-то посторонние люди. Всякий, законно присутствующий, полагал, что этого гостя пригласил кто-то иной, не он. Однако же визитер был ничьим, залетным.
Окаянчик заметил одинокого подполковника в пестром мундире дроздовца. Его лицо искажали шрамы, но делали не уродливым, а скорей наоборот. Он был еще совсем не стар, однако волосы серебрила седина. Грудь его украшали два ордена Святого Георгия, орден Святой Анны в петлице с мечами, а также орден за поход Яссы – Дон. Еще один орден – Святой Анны четвертой степени украшал темляк сабли.
Коллежскому секретарю пришлось потратить время, чтоб узнать, кто это. К его удивлению, лучше всех осведомлен оказался мичман.
– Как? А вы не знаете? Это же подполковник Гипотенузов. Мой кумир! Лучший русский стрелок Великой войны. Двести девятнадцать убитых германцев. Из них – семьдесят два офицера и семь вражеских снайперов. А уж большевиков он накосил – на целый погост. Еще было выпущено пять открыток с ним. Разве не видели?
Пропаганды и агитации ради в те времена издавалось множество, и запомнить хоть что-то не представлялось возможным.
– Я, кажется, нашел вашего убийцу, – сказал Окаянчик, подойдя к Сургучеву.
– Какого убийцу?
– Того, кто вчера ночью стрелял в вас завтрашнего! В вас или вашего брата. Вам известен подполковник Гипотенузов?
– Что-то слышал. Забавная фамилия, запоминающаяся.
Это было так. В круговерти Февральского восстания, большевистских и прочих мятежей документы легко терялись, и этим многие пользовались, меняя фамилии на иные, порой более благополучные, иногда наоборот, на невзрачные, незаметные, как потертый пиджак. Изредка кто-то облагораживал свою фамилию, добавляя какую-то пикантную приставку.
Конечно же, Гипотенузов – смешная фамилия. Но, с другой стороны, – пусть и нестарый, но дворянский род. Опять же, не будь дворянства, уйдя на фронт вольноопределяющимся, он вернулся подполковником – великолепная карьера за десять лет. Дурная ли фамилия или нет – но она известна. Бывало, лишь одна она холодила сердца врагов страхом.
– Я использовал хорошую трехлинейку, иногда с пятикратным прицелом Герца. Но зимой он запотевал, и удобней было бить с открытого прицела, паче цель можно было быстрей захватить, – как раз рассказывал Гипотенузов корреспонденту «Нивы».
– А пули-то? – спросил подошедший Сургучев. – Пулями какими пользовались?
– В Великую войну – обычными. Безоболочечные, как знаете, запрещены были. А в Гражданскую чем, бывало, не стрелял. Война без законов, пули иногда только свинцовые. Бывало, пульнешь рассверленной, так полгруди – долой. Дыра что триумфальная арка, внутренности наружу.
– А в город-то вы зачем прибыли? На регату?
– Нет-нет. Сегодня же вечером уезжаю.
Когда отошли, Окаянчик отчаянно зашептал:
– Надобно его арестовать!
– Да за что же?
– За попытку покушения! На вас или на Павла! Ай, всё равно! Узнаем от него!
– А если не скажет? Да и нет у вас никаких доказательств.
– Тогда следует отменить регату! Я тотчас скажу городничему.
Сургучев покачал головой:
– Не скажете, и вот почему. Сейчас мы хотя бы знаем, где и когда всё сойдется. А если они начнут менять планы – мы окажемся в неведении. Пуля уже летит.
– Что тогда делать?
– Это я вам скажу. Окажите мне услугу… Я дам вам письмо. С ним отправляйтесь за город, в Моряцкий поселок. Место найдете сразу же – там имеется высокая радиомачта. Ее владелец передаст мне нечто. Сделал бы сам, но теперь, вашими стараниями, я шагу не могу ступить без чьего-то присмотра.
Известно всякому, живущему не в городе: ежели землю бросить – пропадет она.
Пусть предки веками свой надел перепахивали, а пройдет хоть пару бесхозных лет – и нет на ней следа человеческого. Щирица, чертополох ли, рогоза – это понятно, это беда малая. Но вот скажите, откуда камни берутся, хотя бабка-покойница самые крошечные, даже размером с ноготь, выбирала? А тут булыжники – лопата ломается. Плодятся они, что ли? Растут, пока человек другим занят?
А что делать, когда по полям к тому же война прошла? Гильза или патрон – сгниют. Но, бывает, лемех вывернет снаряд, а то и чьи-то кости. Оно, конечно, прах к праху. Но надо остановиться, похоронить по обычаю христианскому. Хотя, может статься, убитый воевал как раз за то, чтоб кресты посшибать.
Городничий изволил выразиться, что большевицкому бунту Россия должна быть обязана за то, что общество чрезвычайно оздоровилось. Всякие бездельники, неблагонадежные лица либо в эмиграции, либо истреблены.
Если это и верно, то лишь отчасти – обезлюдела земля. Сколько лет прошло, а стоят поля нераспаханные. По деревне едешь, то там, то сям – разрушенные, брошенные дома. Скалит война зубы. На выезде из города долго валялся раздолбанный из трехдюймовки броневик – лишь в прошлом году его разрезали на металл. И что-то таилось нехорошее в таких вот поселках, слободках.
Владельца дома под антенной Окаянчик не застал на месте. Но сказали соседи – пошел он в пивную, что в конце улицы.
Получеловек действительно был там, солил темное пиво. Окаянчик ждал беды, думал увидеть кого-то из своих нехороших знакомцев, из-за профессии образовавшихся. Но тут он иного не знал. Впрочем, обратное могло быть ошибочно, поэтому он вел себя скромно. Сев около получеловека, он протянул письмо, прислушался к разговорам.
– …Мы имели великую империю.
– …Это, скорей, империя имела нас. Вы думаете, что еще немного – и старые добрые времена вернутся? Так вот шиш!
– Наше время – век прогресса. Никто бы сейчас не прибивал Христа гвоздями. Его бы прикрутили шурупами.
– Святохульник! Война до победного конца!..
– Три империи почили в бозе с этой войной. Так что мы еще легко отделались.
Прочитав письмо, получеловек зевнул.
– Пойдемте.
Уже на улице спросил:
– Так вы, выходит, тоже приятель нашего будущего царя?
– Царя?.. – удивился Окаянчик. – А как же Павел? Ведь он же наследник?..
– Об этом не знают, но Павел намерен отречься от престола, развестись и жениться на своей возлюбленной юной Орловой. Отречется от престола он, видимо, после смерти отца: давно замечено, что потрясения народ переживает легче, когда они происходят скопом, а не отдельно. Царем станет либо сын Павла Андрей при регенте Константине, либо сразу коронуется Константин. В любом случае будет править он.
Оставив спутника у основания гигантской антенны, получеловек ушел в дом, откуда вернулся с коробкой.
– Я ждал Костю…
От такой фамильярности Окаянчик вздрогнул.
– Я написал коротенькую инструкцию. Думаю, Костя разберется. Когда реальность даст трещину, а вероятность отклонится от единицы, он обозначит разлом и немного сдвинет время. Чуда не обещаю, но, полагаю, что поможет.
После раздумий получеловек задал вопрос, который Окаянчик тогда не вполне уразумел:
– Не пойму только, зачем Костя лезет под пулю. Ты не знаешь?
– Ума не приложу…
У калитки получеловек протянул руку, коллежский секретарь пожал ее.
– Боже, царя храни?
– Боже, храни хоть кого-то, хоть как-то…
На том и расстались.
Возвращаясь, Окаянчик рассуждал: кто готовит покушения?
После Великой войны в какой-то лаборатории эсерам удалось синтезировать яд, убивающий человека лишь через три дня после приема. Оттого у принявшего отраву террориста не было пути назад, что добавляло решимости. Но недавно в Императорском Казанском университете удалось выделить противоядие, что практически свело на нет поток смертников – большинство сдавались добровольно. Король русского террора Савинков будто был ранен и утонул при попытке перехода пограничной реки, но, по слухам, выжил и скрывался то ли в Польше, то ли в России.
Популярность получали русские фашисты – они твердили об обособленном пути России, но не имели лидера, отчего очень страдали. Но все они твердили о реванше, о новом походе на Балканы, о единстве славян.
Может, руки тянутся из-за кордона? Будто бы Пилсудский недоволен границей и намерен ее отодвинуть на восток.
В тот памятный день не то что площадь, а весь город, кажется, был не в силах вместить всех желающих. Пляжи опустели, закрылись лавки и почти все питейные заведения. Не ходили трамваи – всё одно по городу не проехать. С площади людское море выплескивалось в смежные улицы и проезды. Заняты были и крыши, в том числе и та, на которой найдена злополучная гильза.
Размахивая служебным жетоном, Окаянчик протиснулся через толпу. И как раз вовремя. Из блиндированного «Руссо-Балта» вышел цесаревич с семьей, потом с места водителя поднялся Сургучев.
– Ваше императорское высочество! – бросился к нему Окаянчик. – Остановитесь!
Сургучев обернулся.
– Я узнал!.. – зачастил Окаянчик. – Приглашение на обед Гипотенузову было выдано от Министерства Императорского двора. И телеграфный адрес в Петрограде, по которому слал раздавленный офицер телеграммы, – тоже. Вы понимаете, что это значит?
– Признаться, не совсем…
Сургучев указал на помост с репортерами:
– Глядите. На помосте одно место свободно! Как думаете, кого не хватает?
– Ума не приложу…
– Телевиденья! Я звонил сегодня в лабораторию Зворыкина. Они говорят, что никого к нам не слали. Это как раз и были военные со своими приборами. Вы понимаете? Заговор наверху…
Он не стал говорить, о чем думает: старая библейская история про двух братьев могла повториться здесь, в городе.
– Ай, не всё ли равно, кто покушается? – отмахнулся Сургучев.
– Да я же вас не пущу туда, под пулю! Остановитесь!
Помост охранял личный гетмана гайдамацкий полк. И Сургучев кивнул одетым в малиновые жупаны гайдамакам:
– Господа! Молодому человеку в толпе нездоровится. Помогите ему, выведите его на свежий воздух.
Те легко подхватили Окаянчика под руки и поволокли его прочь. Толпа расступалась, он что-то кричал, но на это никто не обращал внимания – мало ли безумцев бывает. Окаянчик видел, как великий князь поднимается на помост, словно на эшафот.
…Его оставили на перекрестке, когда до площади было саженей сто. Здесь народу было так мало, что можно было свободно пройти, а речи, произносимые с помоста, слышались в гулком отзвуке.
Расстроенный Окаянчик сел прямо на асфальт. Раскаленный на солнце, он пек даже сквозь штаны.
За спиной послышались скрип колес, музыка и две пары шагов: неспешные и мелкие торопливые. Тихий голос произнес:
– Сейчас на площади случится нечто неспокойное… А я ведь только того и хотел, что покоя. Этот город был нескончаемым курортным сезоном.
– Вы… – не вполне понимая, начал Окаянчик.
– Я пытался предотвратить. Сочинил ту аварию, выбросил пару монет с ликом будущего царя. Всё без толку. Кто-то противодействовал мне…
Окаянчик кивнул:
– Павел. Он желает убрать брата. Если Константина не будет, он может остаться хотя бы регентом.
– Не Павел… Он не будет царем в любом случае.
– Тогда…
Окаянчика осенило:
– Тогда это Константин! Он расчищает путь…
– Уже ближе, – кивнул шарманщик. – Покушение готовит не он, но он ему содействовал… Не противился, как сказал бы старый Толстой.
– А вы… Вы Лессингер?..
Поскольку дело Лессингера было засекречено, его фото нигде нельзя было найти.
Шарманщик кивнул:
– Только сегодня и только для вас… Розинг и Зворыкин – блестящие ученые. Но они не поняли главного в вероятностной машине и в самой вероятности тоже. Чем крупней событие, тем сложнее его предотвратить. Можно одно из его проявлений ликвидировать, но оно случится иначе – в другое время, в другом месте. Это всё равно что справиться с потоком, затыкая все дыры в плотине. Понимаете, о чем я?
– Андрей… Все против Андрея?..
– И ничего-то вы не поняли. Ждите, уже недолго.
Первым читал речь городничий. Он говорил много, витиевато и походил на свадебного генерала. После – уступил место цесаревичу.
И тут началось. Будто грянул сухой гром. Пространство и время дали прореху. Она вспыхнула так ярко, что на некоторых кинокамерах оказалась засвечена пленка. Яркий след пролег от крыши к помосту, к месту, где только что стоял цесаревич, секундой назад ступивший к трибуне, тем самым открыв своего сына Андрея.
Мальчишка смотрел удивленно и испуганно. Ему, да и всем остальным казалось, что нечто горячее с неотвратимостью летящей гири движется на него. Время стало медленным и вязким, как патока. Но как ни медленно двигалась пуля, еще медленней двигались люди.
Уже никто не успевал выдернуть мальчика из-под удара. Но в последнее возможное мгновение его своим телом прикрыл великий князь Константин, и тут же был отброшен, рухнул на помост.
Прореха закрылась, время обрело привычную скорость. Толпа многоголосо выдохнула. Испуг, нехороший шепоток по толпе – убили? Потом: будто бы жив, но плох. Пуля застряла в бумажнике. Как позже написали в прессе – была бы она обычной, остроконечной, прошила бы насквозь и кошелек, и тело. Но злодей высверлил в ней выемку, из-за которой пуля смялась, расширилась и застряла в коже бумажника.
Великий князь всё же получил травму и доставлен в здешнюю больницу.
Экстренные выпуски газет вырывали из рук разносчиков, и утром, как сообщила пресса, жизнь великого князя была вне опасности, но тем не менее его спешно самолетом перевезли в Москву.
– Это как геометрия Лобачевского, но только не для пространства, а для времени, – пояснил на следующий день Окаянчику шарманщик.
За спиной на волноломе шарманка играла мелодию, популярную следующим летом, а на тот день даже невыдуманную. Обезьянка грелась рядом, запасая тепло на зиму.
Рядом два обывателя-рыбака спорили о том, что следует считать величайшим изобретением человечества – диван или всё же мышеловку. Жизнь в городе успокаивалась.
– Как уместно, что карета скорой помощи стояла сразу за помостом, – заметил шарманщик.
– Скорая помощь всегда дежурит на таких мероприятиях, – возразил Окаянчик.
– А самолет гетмана, что прилетел еще в четверг?.. На нем, кстати, привезли хирурга. Вы сами-то верите, что это совпадения?
Окаянчик пожал плечами:
– Он спас ребенка, рискуя своей жизнью.
– Да бросьте. Стрелять через два-три дня – всё равно что стрелять в упор. Они стреляли в то место, где стоял великий князь. Он ответно мог лишь выбрать место, где бы в него попали. Ребенок, оказавшийся за его спиной, – хороший ход. Только как он узнал, что стрелять будут в грудь?
– Он за день до этого разговаривал со снайпером. Тот выболтал даже какими пулями пользуется.
– Тогда понятно. Константин наверняка прилично играет в шахматы. Вы, кстати, играете?
– Только в шашки.
– Это напрасно… Так вот, ежели до покушения шансы Константина удержаться на троне были неблестящими, то сейчас они хорошо за шестьдесят процентов. В России, как знаете, любят больных и оскорбленных. Если ему удастся продержаться десять лет и избежать войны с Японией в 1930 году, то к 1935 году будет объявлено о начале освоения внеземных колоний Российской империи. Но вероятность подобного – лишь десять процентов, хотя она и продолжает расти.
– Любопытно…
Помолчали. Солнце пекло просто адски. Шарманщик надвинул соломенную шляпу на глаза. Окаянчик разглядывал гавань. С якоря снималась яхта великого князя. Цесаревич отбыл еще вчера, регату сочли за лучшее в этом году отменить. И теперь спортсмены бороздили море для собственного удовольствия.
– А скажите… Если меняется судьба империй… Вы бы могли изменить немного жизнь одного человека? Мою?
Шарманщик щелкнул пальцами. По сигналу обезьянка проснулась, вытащила из ящика билет и протянула его Окаянчику.
Александр Просвирнов. Империи минуты роковые
А. К. Толстой. История государства Российского от Гостомысла до Тимашева
- Веселая царица
- Была Елисавет.
- Поет и веселится,
- Порядка только нет.
Пролог
Студенты дружно встали вместе с профессором. Тот раскрыл папку с большим гербом, поправил пенсне и начал читать:
– Божией поспешествующей милостью, мы, Алексей Пятый, Царь и Государь Всероссийский, Московский, Киевский, Владимирский, Новгородский; Царь Казанский, Царь Астраханский, Царь Польский, Царь Сибирский, Царь Херсонеса Таврического, Царь Грузинский, Великий Князь Прусский и Саксонский, Великий Князь Финляндский и Литовский, Князь Эстляндский, Лифляндский, Курляндский, Аляскинский и прочая, и прочая, и прочая… Господин Шикльгрубер! – Преподаватель прервал чтение. – Если вы опоздали, четко доложите и попросите разрешения войти, а не пробирайтесь тайком вдоль стены. Итак, какой указ я не дочитал из-за вас?
Высокий стройный блондин поднял глаза и несмело ответил:
– Ваше высокоблагородие, полагаю, вы зачитывали указ его императорского величества государя Алексея V от 1993 года «О днях воинской славы и памятных датах России», ибо сегодня, 9 октября – один из таковых. Двести пятьдесят лет назад, в 1762 году, корпус генерала Чернышева взял Берлин, что положило начало окончательному разгрому Пруссии и ее вхождению в состав Российской империи на правах автономного великого княжества.
– Что ж, неплохо, сударь, – одобрительно кивнул профессор. – Только прошу вас больше не опаздывать! Простите, запамятовал, раскольник и сепаратист Адольф Шикльгрубер кем вам приходится?
– Прадедом, – чуть слышно откликнулся студент.
– Так-так! Если мне память не изменяет, только вашего отца и его братьев государь император милостиво вернул из аляскинской ссылки? Ступайте на свое место…
Профессор закончил чтение указа и обратился к другому студенту:
– Ну-с, господин Иванов, теперь слово вам. Дамы и господа, сейчас господин Иванов в вольной художественной форме поведает нам о последних событиях царствования государыни Елизаветы Петровны, а также об их последствиях через сорок лет. Изложит, так сказать, свой взгляд на ту далекую эпоху. Потом обсудим сей историко-литературный реферат. Прошу вас к трибуне, милостивый государь!
Часть первая
Императрица Елизавета Петровна болела давно и тяжело. В сырой опочивальне стоял смрад от язв, покрывавших тело государыни. К нему примешивался острый запах лекарств. Но великая княгиня Екатерина Алексеевна, не в пример молодым фрейлинам, мужественно терпела неудобства, часами молясь у изголовья больной. Время от времени императрица в раздражении велела уходить жене племянника, но та, смиренно исполнив монаршую волю, на следующий день неизменно возвращалась.
А недавно великая княгиня заметила, какие внимательные взгляды изредка бросает на нее юная фрейлина Мария Долгорукая. Может быть, императрица велела княжне следить за женой наследника престола? Екатерина горько вздохнула. А на что она еще рассчитывала? С грехом пополам произвела на свет запасного наследника, да и то через девять лет. И больше не нужна при дворе ни единому человеку, тем более проклятому голштинцу. Заходит иногда к тетке, покружит, словно стервятник, и снова исчезает. Известное дело – к Лизке Воронцовой торопится.
А сегодня что-то надолго задержался. Императрица задремала, и великий князь Петр Федорович внимательно вглядывался в обрюзгшее лицо тетки. Внезапно та проснулась, брезгливо посмотрела на склонившихся над ней фрейлин и лейб-медика, повернула голову к сидящему в стороне Ивану Шувалову, и грозный взгляд императрицы несколько смягчился.
– Ванечка, поди-ка сюда, – попросила она хриплым голосом. – А вы все…
Сказанное далее на отборном гвардейском языке не требовало дополнительных разъяснений. Великий князь с облегчением зашагал прочь, за ним, сдержанно хихикая, семенили фрейлины, а замыкала процессию гордо ступавшая Екатерина Алексеевна, на ходу осеняя себя крестным знамением.
Юная княжна Мария Долгорукая немного отстала от остальных фрейлин, а потом и вовсе остановилась. Великая княгиня с недоумением глянула на нее, но задерживаться не стала. Оставшись одна, Мария неторопливо зашагала в другую сторону. Судя по рассеянному взгляду, мысли фрейлины витали где-то далеко. Глубоко задумавшись, девушка вдруг налетела на рослого и крепкого гвардейского поручика и испуганно ойкнула.
– Здравствуйте, Маша! – с улыбкой приветствовал ее офицер. – А я только что о вас вспоминал. И тут вы – как в сказке. Остановился, жду… Но только вы, кажется, думали совсем о других материях.
– Не угадали, князь! – улыбнулась девушка. – Я именно вас искала – поговорить о важном деле. Давно хотела вам кое-что сказать, но не решалась.
– Маша, я к вашим услугам! – Офицер попытался поцеловать девушке руку, но та отстранилась.
– Подождите, князь… Николай, а то я не решусь начать. Тут, наверно, дело государственной важности. А я кто такая? Глупенькая девушка, у которой голова кругом идет. Помогите разобраться! Государыня милость проявила, нашу семью из ссылки вернула, меня в услужение взяла. Вас я хорошо успела узнать, вы честный офицер и преданы государыне. В отличие от некоторых… Пойдемте куда-нибудь, где нас никто не услышит…
Выслушав девушку, Николай сразу стал серьезным. Он покрутил длинный ус и задумался.
– Да, Маша, вы правы – дело нешуточное. Умоляю: пока молчите! Не дай бог, они догадаются о ваших подозрениях! А вот что делать – не представляю. Оно б, конечно, лучше сразу к Александру Иванычу. Да только вдруг он на смех поднимет: скажет, померещилось девице с перепугу. Еще и зло затаит. Впрочем, есть у меня один друг, уж он-то точно подскажет.
В доме Орловых среди клубов сизого дыма за столом, уставленным закусками и винами, сидели два офицера и сержант. Николай, крутя длинный ус, негромко рассказывал. Гвардейского поручика с напряженным вниманием слушали братья Орловы: крупный, массивный Алексей и чуть уступающий ему в богатырской стати красавец Григорий.
– Так она уверена, что сие голштинец сказал? – горячился Алексей. – Машка твоя по-немецки шпрехает?
– Сударь, я прошу вас!
– Ладно, не горячись, Николай, – Григорий махнул рукой. – А ты, Алешка, поаккуратнее. Все-таки княжна, фрейлина, а ты – Машка…
– Да, Маша совершенно уверена, что голос принадлежал великому князю, – подтвердил Николай. – Она отлично знает и французский, и немецкий. Великий князь сказал, что старуха мучается сама и мучает остальных. Она якобы будет только благодарна, если ее незаметно избавят от страданий. Женщина отвечала очень тихо. Маша не поняла, кто это был. Но ей кажется… – Офицер смущенно потупил глаза.
– Что? – Григорий поднялся над столом во весь свой богатырский рост. – И ты, мой друг, смеешь говорить такое о Екатерине Алексеевне?
– Не знаю, что и думать, – Николай развел руками. – Муж и жена – одна сатана!
– Муж! – Григорий презрительно сплюнул и махом осушил бокал вина. – Будто сам не знаешь… Ладно, Николай, спасибо, что предупредил. Только, ради Христа, молчи пока. А Марии вели наблюдать. Голову даю на отсечение – не Екатерина это Алексеевна. Когда, говоришь, Мария это слышала? Ага, вот точно знаю – не было великой княгини в тот день во дворце, – Григорий многозначительно ухмыльнулся. – Так ты говоришь, на Рождество наметили?
Через несколько дней, 25 декабря, в покои умирающей императрицы степенно вошел граф Петр Шувалов, сверкая драгоценностями, которыми был обильно расшит костюм. Фрейлины с неодобрением глянули на щегольской наряд графа, а тот с некоторым презрением покосился на своего двоюродного брата, по-прежнему скромно сидящего в стороне от государыни. Елизавете Петровне с утра стало несколько лучше, и она улыбнулась вошедшему.
– Ну, здравствуй, Петр Иванович! Небось, опять с каким-нибудь государственным проектом пожаловал? Ты погодил бы, голубчик, худо мне еще.
– Боюсь, что дело не терпит отлагательства, ваше императорское величество, – с почтением ответил граф. – Ни отлагательства, ни огласки. А посему, как только проведал я о воровских крамольных умыслах, не медля ни мгновения, осмелился без вашего высочайшего дозволения пригласить сюда начальника Тайной розыскных дел канцелярии камергера Александра Шувалова и его людишек. Не извольте гневаться, ваше императорское величество!
При одном появлении мрачного Александра Ивановича в опочивальне воцарилась напряженная тишина. Полная противоположность брату, он хмуро осмотрел каждого, наводя почти суеверный ужас на девиц. На глазах изумленной императрицы следом за Шуваловым-старшим трое чиновников Тайной канцелярии внесли в покои противень с углями и с почтением, но решительно вывели из опочивальни великого князя с супругой, Ивана Шувалова и отца Савватия. У постели остались лейб-медик, братья Шуваловы и все фрейлины. Двое гвардейцев охраняли покои снаружи.
– Ваше императорское величество, не удивляйтесь, но мы вынуждены проверить ваших фрейлин, – заявил Шувалов-младший. – Вы должны видеть сие сами, иначе мы бы не осмелились побеспокоить ваше императорское величество. Прошу вас, Александр Иванович!
Двое хмурых чиновников аккуратно подвели первую из девушек к столику, уставленному лекарствами. Шувалов-старший самолично взял уголь щипцами и прижег руку фрейлине. Та дико завизжала, но ее крепко держали под руки. Доктор взял баночку с мазью, которой пользовали язвы императрицы, и обработал свежую рану. Девушка притихла, сдерживая рыдания.
– За что, ваше сиятельство? – спросила она сквозь слезы.
– Узнаете после! – жестко ответил Александр Иванович.
Девушку вывели из покоев и взялись за следующую фрейлину. И вновь раздался дикий крик и запахло горелым мясом.
– Что ж ты зверствуешь, Александр Иванович? – недовольно спросила императрица. – Почто девок-то моих калечишь?
– Если я их не покалечу, сегодня умрете вы! – жестко отрезал Шувалов. – Ничего, девки здоровые, крепкие; до свадьбы заживет.
Третьей по очереди оказалась двадцатилетняя Василиса Апухтина. Она стиснула зубы и не вымолвила ни слова, когда раскаленный уголь прижег ее белую нежную кожу. Но как только доктор взял мазь, девушка с нечеловеческой силой вырвалась из лап охранников и дико закричала:
– Не-е-ет!!! Я не хочу умирать! Простите, ваше величество!
Она упала на колени перед императрицей.
– Я не хотела! Я думала, вы будете меньше страдать! Он так сказал!
– Кто он? – Елизавета поднялась на постели и грозно воззрилась на Василису. – Кто ж тебя, паскуда, надоумил на такое? Аль я обидела тебя чем?
Девушка испуганно посмотрела по сторонам, как затравленный зверек, и бессвязно забормотала:
– Никто, ваше императорское величество… Бес сказал, бес попутал… Казните!
Она вдруг вскочила, молниеносно схватила баночку, запустила руку в мазь и проглотила пригоршню лекарства. Камергер удержал своих людей, пытавшихся было помешать Апухтиной.
– Зря старалась, голубка! – засмеялся Шувалов. – Сие другая банка. Ту, в которую ты подсыпала яд, мы заменили. Так что будешь жить, девка, разве что пронесет тебя в нужном чулане.
Императрица захохотала.
– Ай да Александр Иванович! Ну, хитрец!
За государыней засмеялись все мужчины, только перепуганные фрейлины молчали. Василиса, воспользовавшись всеобщей расслабленностью, пулей промчалась мимо всех к окну и, с ходу разбив стекло головой, выпрыгнула вниз. Раздался дикий крик, а затем наступила тишина.
– Ай-яй-яй, Александр Иванович! – покачал головой Шувалов-младший. – И как мы теперь узнаем злодея, что девку надоумил? Ваше императорское величество, своей жизнью вы обязаны в первую очередь фрейлине Марии Долгорукой. Это она услышала воровской разговор во дворце, вот только голоса не узнала и попросила помощи у гвардейского поручика князя Николая Мстиславского. Он посоветовался с товарищами – братьями Орловыми, а они тут же поведали тайну великой княгине Екатерине Алексеевне. А она план придумала, как злоумышленницу разоблачить и изловить. Потому как все они всецело преданы вашему императорскому величеству.
А вечером в своих покоях Екатерина рассказывала Григорию Орлову, как разоблачили Василису. После гибели коварной фрейлины к государыне привели собаку, прижгли углем и обработали рану той мазью, что успели заранее тайком забрать со столика. Собака околела через полчаса.
– Между прочим, я сразу на Василиску подумала, – призналась Екатерина. – Она с Лизкой Воронцовой дружила, полюбовницей моего голштинца. Показалось мне, влюбилась в него тоже. Вот дура! Наверное, он и воспользовался.
– Катя, а что ж ты Шувалову про великого князя не рассказала? – осторожно поинтересовался Орлов.
– Гриша, да Александр-то Иванович меня ненавидит после тех глупостей с Шетарди. И без того с голштинцем стравливал. Уважает моего урода. Не поверил бы, сказал бы, мстит. Небось, думает, всё равно скоро помрет Елизавета Петровна, а новый император его не забудет. К тому же Василискин голос Мария не узнала! Значит, и с голштинцем могла ошибиться. Мы-то с тобой понимаем, что Мария не ошиблась, а императрица… Она ж такая сентиментальная. Ах, он сестру Анну напоминает! Несчастный ребенок, бедный племянник! Пригрела змею на груди. Осталась бы Василиса жива, быстро б призналась. В Тайной канцелярии и не такие говорить начинают…
– Что же делать, Катя?
– Пока молчать. Я и Долгорукой то же велела. А доказательства мы всё равно раздобудем. Только их в другом месте надо искать. Я подумаю и Петру Ивановичу расскажу. Кажется, императрица простила меня за прошлое. Сказала сегодня, что всех наградит. Алешку твоего в офицеры произведут, Николая в полковники и в Пруссию пошлют командиром полка. А ты со мной останешься!
Она прижалась к Григорию, и тот погладил ее по округлившемуся животу.
– Когда?
– В апреле. Толкается уже. Такой же богатырь будет, как ты!
Она засмеялась, и оба рухнули на постель.
Через полтора месяца Елизавета Петровна настолько окрепла, что вновь вернулась к государственным делам.
– Какие вести, Петр Иванович? – поинтересовалась она у графа Шувалова, накануне вернувшегося из Пруссии. – Эка ты, голубчик, вырядился сегодня!
Действительно, в новом мундире с бриллиантовыми пуговицами известный щеголь смотрелся празднично.
– Ваше императорское величество, дело весьма важное, – граф Шувалов склонился в почтительном поклоне. – Я побывал в войсках, испытал новые пушки, ознакомился с общим положением дел. Полагаю, что генерал-фельдмаршал граф Бутурлин недостаточно активно ведет прусскую кампанию. В позапрошлом году мы не удержали Берлин не только из-за союзников, но и просчетов нашего военного командования. А посему бью челом вашему императорскому величеству за подполковника Александра Васильевича Суворова. Поверьте, сие выдающийся офицер. Сейчас он в штабе, но какие мысли о военном искусстве! Ежели ваше императорское высочество милостиво повелеть соизволит дать Александру Васильевичу генеральское звание и поставить оного главнокомандующим, не сомневаюсь, Суворов прославит русское оружие как в прусской кампании, так и в последующих.
– Суворов? Что-то не припомню, – засомневалась императрица. – Ладно, Петр Иванович, верю тебе, как самой себе. Подготовил указы? Бутурлина тогда к Суворову в помощники? Ты тоже так подумал? Что ж, быть посему!
Передовой отряд полка князя Николая Мстиславского лихо прошел через Берлин, не встретив по пути ни одного обывателя. Бюргеры в страхе попрятались в своих домах, наглухо закрыв двери и окна. Солдаты, опьяненные вчерашней битвой, в которой под прусской столицей полегли несметные неприятельские полчища, спешили за своим командиром, оглашая бодрым русским матом раскисшие под апрельским солнцем берлинские улицы.
– Вперед, вперед, братцы! – время от времени покрикивал полковник Мстиславский. – Как бы не ушел клятый Фридрих!
Королевский дворец встретил отряд стрельбой из окон. Но осажденных было слишком мало, чтобы всерьез противостоять сотням подоспевших за командиром русских солдат. Один за другим замолкали прусские мушкеты. Десятка два солдат подхватили огромное бревно и принялись бить им в ворота дворца. Через полчаса преграда рухнула, но тут из нескольких окон показались белые флаги, привязанные к штыкам.
– Стоп, братцы! – скомандовал князь Мстиславский. – Прекратить огонь! Сдаются пруссаки!
Один за другим из ворот потянулись изможденные прусские солдаты, которые бросали оружие к ногам победителей и с поднятыми руками шли к колонне пленных. Князь Николай в окружении нескольких офицеров быстро зашагал в глубь дворца. Дисциплинированные вышколенные слуги, подобострастно кланяясь победителям, показали дорогу к покоям своего короля.
– А бедно как живут! – разочарованно вздохнул поручик Бабичев. – Господин полковник, нешто сие королевский дворец? Вот у нашей матушки-государыни дворец так дворец!
Дверь в комнату Фридриха оказалась запертой.
– Сдавайтесь, ваше величество! – крикнул Мстиславский по-немецки. – Война для вас закончена!
За дверью послышался глухой звук выстрела.
– Так мы, значит, сдаемся! – взорвался Бабичев. – А еще немцы, дисциплина! Господин полковник, разрешите!
Под натиском богатыря-поручика дверь слетела с петель, и русские офицеры ворвались в покои прусского короля. Фридрих II, чья армия еще недавно была самой большой в Европе, спокойно развалился в кресле и, казалось, невозмутимо смотрел на победителей, как-то странно склонив голову. Правда, рот его был открыт, веки не моргали, а из раны на виске лилась кровь. У кресла лежал выпавший из правой руки короля дымящийся пистолет.
– Он не захотел сдаваться, – тихо сказал князь Мстиславский, перекрестился и обнажил голову. – Настоящий солдат!
Его примеру последовали остальные офицеры. Помолчав с минуту, они разошлись по кабинету, с любопытством осматривая скудную обстановку.
– Посмотрите, господин полковник! – крикнул поручик Бабичев. – Фредерик перед смертью жег какие-то бумаги.
Князь Мстиславский внимательно рассмотрел горку документов на полу. Некоторые успели сгореть, но большинство уцелело. Видимо, появление русских офицеров помешало Фридриху полностью уничтожить свой архив. Полковник взял наугад несколько бумаг, бегло просмотрел их, и брови его удивленно поднялись вверх.
– Господа офицеры! – очень серьезно сказал он товарищам. – Не подведите, братцы! Молчите, Христа ради, что мы здесь нашли. Дело государственной важности. С ним в Петербурге разбираться будут. Не дай бог, раньше там что-то узнают, несдобровать государыне. А ты, Бабичев, собирай сии бумаги в сундучок, бери взвод лучших солдат и скачи во весь опор в столицу. Передашь архив лично Григорию Орлову. Я дам тебе письмо – Григорий Григорьич примет тебя в любое время дня и ночи. Остальные – за мной. Сейчас сам Александр Васильич подъедет, надобно доложить ему по всей форме.
Братья Шуваловы почтительно стояли перед императрицей и молчали, пока та изучала привезенные из Берлина документы. Глаза Елизаветы Петровны наливались кровью.
– Вот ведь что удумал, паразит! – раздраженно заметила государыня. – Отравить не получилось, так он какого-то механика надоумил адскую машинку смастерить. Нашли этого мастера, Александр Иванович?
– Нашли, ваше императорское величество, – с поклоном ответил Шувалов-старший. – Во всем признался. Правда, помер намедни, хлипковат оказался. Слава богу, не успел эту бомбу с часиками доделать, забрали у него. Хорошо, что от полковника Мстиславского поручик Бабичев быстро приехал, успели мы вовремя. В общем, как это ни прискорбно, но письмо механику с инструкциями тоже рукой великого князя написано. Вот-с, извольте взглянуть. Сей мужлан не сжег письмо, хотя внизу и приписка соответствующая имеется. На механизмах помешан, рассеянный. А вот эта бомба. Не извольте беспокоиться, пороха там нет.
Императрица, качая головой, долго разглядывала хитрый механизм, который Шувалов поставил перед ней на столе.
– Только на вас и гвардейцев я могу положиться! А придворные… Сволота одна, – с горечью вздохнула Елизавета. – Петр Иванович, указ подготовь: Мстиславского в генералы произвести, Бабичева в капитаны. Ордена им и Александру Ивановичу пожаловать. Господи, родной племянник! Чего ему не хватало, ироду? Петр Иванович, вели привести сюда паразита.
Через полчаса великий князь предстал перед императрицей и с изумлением посмотрел в ее налитые кровью глаза. Выражение лица тетки не предвещало ничего хорошего, и Петр Федорович невольно сжался под тяжелым взглядом Елизаветы Петровны.
– Александр Иванович, голубчик, покажи-ка ему письмецо. Вот это, – сквозь зубы процедила императрица и взяла листок с переводом. – «Великий Фридрих! Припадаю к Вашим стопам! К сожалению, своевременно устранить старуху не удалось. Замечательный яд, что Вы передали, добавляли малыми дозами, и все видимые симптомы болезни были налицо: язвы, кровотечение из носа, глубокие обмороки. 25 декабря доза была усилена, смерть императрицы ни у кого не вызвала бы удивления. Однако по неизвестным причинам Тайная канцелярия разоблачила фрейлину Апухтину. Девушка проявила исключительную преданность и покончила с собой, не выдав Вашего покорного слугу. В ожидании Ваших новых инструкций я рискнул заказать механику, о котором сообщили надежные люди, бомбу с часовым механизмом. Изобретение новое, ранее не испытывалось. Будем надеяться, что на старухе оно сработает…»
Императрица прервала чтение и сняла тряпицу с механизма.
– Так-то ты отплатил за доброту мою, Петруша! – жестко произнесла Елизавета. – Слава богу, Анна, сестрица, не дожила до такого позора. Гнить бы тебе, Петруша, в твоей Голштинии. Только моей милостью стал ты наследником российского престола. А ты, внук Петра Великого, такое злодейство измыслил! Что скажешь, паразит?
– А что теперь говорить, ваше императорское величество, – медленно произнес великий князь и склонил голову. – Я виноват и не смею просить о снисхождении. В вашей власти отдать меня в руки палачей и казнить. Это уже не имеет никакого значения. Великий Фридрих проиграл войну варварским русским ордам, Пруссия уничтожена. Король погиб, не желая сдаваться. Мне же суждено умереть от руки палача. Я к этому готов. Прошу вас только об одном. Пощадите Елизавету Воронцову, моего сына и жену. Никто из них не знал о моих планах и ни в чем не виноват. И никакие пытки не заставят меня утверждать обратное.
– Плохо ты знаешь Александра Ивановича и его канцелярию, – вздохнула Елизавета. – Пыток не будет, если ты сам назовешь своих сообщников. Иначе все твои слуги будут сосланы в Сибирь. И не забудь, что я отменила смертную казнь в России. Так что ты останешься в живых. Но – в крепости. Рядом с Ивашкой! Александр Иванович, немедленно в каземат его! И чтоб забыли все о нем, как о том брауншвейгском выродке! Петр Иванович, готовь указ. Об измене великого князя не сказывать ни слова. Объявить, что Петр Федорович тяжко болен, отправлен на лечение и не может быть наследником престола. Цесаревичем назначаю великого князя Павла Петровича. До его совершеннолетия, если помру, регентом при нем станет великая княгиня Екатерина Алексеевна. И быть посему!
На балконе наконец-то отстроенного Зимнего дворца стояла одетая в роскошную соболью шубу императрица и зябко ежилась под порывами холодного декабрьского ветра. Рядом расположились Петр Шувалов и Екатерина Алексеевна, державшая за руку восьмилетнего цесаревича Павла Петровича. На почтительном отдалении сзади находились Иван Шувалов, Алексей Разумовский, братья Орловы и остальные придворные. Внизу на площади в предвкушении дивного зрелища ликовал простой люд, аккуратно сдерживаемый солдатами.
– Матушке нашей Елизавете Петровне слава! Государыне – слава! Ура!!! – время от времени раздавалось снизу.
Императрица улыбалась, махала народу рукой, а внизу при этом слуги кидали в толпу серебряные монеты из специально припасенных к торжеству мешков. Всякий раз из-за денег начиналась давка, но солдаты в происходящее не вмешивались.
– Запамятовала я, Катюша, что вы мне там намедни с Петром Ивановичем насчет Речи Посполитой втолковывали, – Елизавета повернулась к великой княгине.
– Ваше императорское величество, нехорошо, что между Россией и вашими новыми прусскими владениями какая-то Польша, как кость в горле, – заметила Екатерина Алексеевна. – И Петр Иванович с этим согласен. Король Август III слаб, польская армия развалена. А Станислав Понятовский – наш союзник. Если его поддержать, мы получим послушного короля. Но можно и сразу ввести войска для защиты православных. У вашего императорского величества есть несколько обращений от наших польских единоверцев.
– Ой, Катюша, мудрено-то как! – Елизавета махнула рукой. – Вы еще подумайте с Петром Ивановичем, потом решим. Ну, давайте теперь любоваться на наших молодцов. Ай, орлы! Ай, молодец, Петр Иванович, что Александра Васильевича нашел!
Внизу раздался холостой выстрел из пушки, и оркестр грянул торжественный марш. В толпе кричали «ура!» и кидали вверх шапки. На площади на породистом белом коне, при виде которого с завистью вздохнул Алексей Орлов, появился молодой генерал-поручик Александр Васильевич Суворов.
– Генералу Суворову – слава! Победителю Фридриха – слава! – закричали в толпе.
За главнокомандующим проскакали кавалеристы, за ними маршировала пехота. Народ радостно приветствовал победоносную армию. Екатерина Алексеевна остановила взгляд на бравом капитане Бабичеве и больше не сводила глаз с рослого офицера. В конце колонны шагали гренадеры, которые несли знамена и штандарты поверженной прусской армии. Под радостные крики толпы эти трофеи бросали под балкон, на котором стояла императрица. Шествие завершали пленные немецкие генералы и офицеры. А как только начало темнеть, небо над Петербургом расцветилось десятками фейерверков. На площадь выкатили десятка два бочек браги и вина, поставили столы с закусками, и всенародное ликование приобрело подлинный размах.
Офицеры и генералы прямо с парада проходили в парадный зал дворца. Здесь после торжественной речи императрицы многие из них получили ордена и были приглашены на бал. Екатерина Алексеевна улучила время и остановила Бабичева.
– Наслышана о вашей храбрости, господин капитан, – с улыбкой сказала она. – Слышала, вы с полковником Мстиславским чуть не пленили Фридриха. Государыня по заслугам оценила вашу доблесть, примите и мои поздравления.
– Рад стараться, ваше императорское высочество, – с поклоном ответил Бабичев. – Остаюсь преданным слугой государыни и вас.
– Примите это от меня на память – за вашу доблесть, – Екатерина подала офицеру табакерку.
Если бы поблизости находился Григорий Орлов, он бы, конечно, вспомнил, что не так давно получил от полуопальной великой княгини такой же подарок. Но оба Орлова в это время обнимали и поздравляли князя Николая Мстиславского: императрица разрешила ему жениться на Марии Долгорукой и назначила его генерал-губернатором Пруссии.
Но разговор Екатерины и Бабичева внезапно прервала фрейлина.
– Ваше императорское высочество, с Павлом Петровичем нехорошо. Знать, простыл на параде. Сильный жар у цесаревича.
Екатерина поспешно зашагала за девушкой, одарив на прощание молодого офицера многообещающим нежным взглядом.
Горе императрицы было неописуемым.
– Господи, бедный мальчик! – повторяла она. – Что за напасть! Сестра моя померла, на фейерверк любовалась, простыла. Теперь вот внук ее. На кого ж я российский престол оставлю? Неужто голштинцу измену простить?
В эти скорбные дни Екатерина Алексеевна почувствовала, как над ее головой сгущаются тучи. Сколько еще протянет императрица? Год? Два? Три? И быть бы Екатерине правительницей при Павле. А кому нужна она, если нет уже Павла? И тут в голове великой княгини созрел план.
– Гриша! – уговаривала она Орлова. – Это наша единственная возможность! Знаю, князь Мстиславский в таком деле нам не помощник. Но есть Бабичев. Уговори Николая, пусть оставит капитана на несколько дней в Петербурге. Алешке всё обскажи. Пусть найдет хорошего копииста. У меня еще остались собственноручные письма голштинца. Решайся, Гриша! Иначе после смерти императрицы нас из дворца вышвырнут. А без твоей помощи у меня не получится ничего. Ты ж меня любишь?
– Люблю, Катя! – тяжело вздохнул Григорий. – Всё для тебя сделаю.
Императрица, глубоко задумавшись, сидела за столом. В кабинет широким бодрым шагом вошел Петр Шувалов.
– Ваше императорское величество, отечество спасено! – радостно сообщил граф. – Вот письмецо. Оно обгорело немного, но главное видно. Капитан Бабичев его в полевом мундире у себя нашел. Когда Фридриха кабинет обследовали, подобрал где-то в углу, в карман положил, да и позабыл. Намедни денщик мундир чистил, чуть письмо не выбросил. Но Бабичев успел бумагу просмотреть и сразу принес мне. Извольте взглянуть: Петр Федорович Фридриху пишет, что граф Алексей Бобринский вовсе не Гришки Орлова сын, а его! Великий князь нарочно Екатерину Алексеевну оклеветал, чтобы развода добиться и на Лизке Воронцовой жениться.
Императрица жадно прочитала письмо и перекрестилась. Лицо ее сразу просветлело.
– Господи, ты услышал мои молитвы! Петр Иванович, давай-ка беги к брату, пусть к голштинцу в крепость едет, да поживее! Не дай бог, тот помрет там раньше времени. Пусть Александр Иванович получит от него показания, что всё в этом письме правда, что младенец Алексей в Бобриках его сын. И сразу готовь указ о назначении цесаревичем Алексея Петровича. Регентом по-прежнему при нем Екатерина Алексеевна, а в помощники ей тебя, Александра Ивановича, Ивана Ивановича и обоих Орловых, да, Панина еще Никитку. Головастый мужик. Ну, теперь и помереть не страшно!
– Ваше императорское величество, вы еще всех нас переживете! – с улыбкой поклонился Шувалов и тут же закашлял. – А за Александра Ивановича не извольте беспокоиться, племянничек ваш ему всё подпишет! Пусть только попробует запираться!
Шувалов ошибся, когда предсказывал, что императрица всех переживет. Через месяц после того, как незаконнорожденного Алексея Григорьевича Бобринского привезли из Бобриков Тульской губернии и торжественно провозгласили цесаревичем Алексеем Петровичем, Елизавета на радостях закатила роскошный бал. Она пела и танцевала, словно в молодости, а на другой день слегла.
С каждым днем императрице становилось всё хуже и хуже. Жестокая рвота с кашлем подтачивала силы государыни. Слабеющими руками она подписала указ о помиловании многих преступников. Впрочем, в этом списке не оказалось двух человек – Ивана Антоновича и Петра Федоровича. Шувалов едва успел с этим указом: уже на другой день Елизавета не узнавала близких людей и бредила. Несколько раз она впадала в глубокие обмороки, и только слабое дыхание свидетельствовало, что императрица еще жива.
Екатерина Алексеевна почти неотлучно находилась при государыне и молилась за ее здоровье. В один из мартовских дней 1763 года великая княгиня с лукавой улыбкой, не замеченной никем из окружающих, удалилась ненадолго в свои покои, а через полчаса под ее дверями появился Григорий Орлов.
– Григорий Григорьевич, нету никого, – преградил ему путь камердинер Шкурин. – Фрейлин вон и то великая княгиня отпустила.
– Чего ты брешешь? – рявкнул Орлов. – Мне уже доложили, Екатерина Алексеевна к себе прошла. Не мешай!
– Не ходите, Григорий Григорьевич, Христом богом прошу! – взмолился Шкурин.
– Прочь! – Орлов отшвырнул слугу, точно куклу, и решительно зашагал в комнаты Екатерины.
Шкурин поднялся, перекрестился и забормотал себе под нос:
– Господи, беда-то какая! Сбегаю-ка я за Алексеем Григорьевичем, иначе совсем худо будет. Только он с братом справится. Где-то ж во дворце был…
Орлов вошел к великой княгине и с изумлением застыл на пороге. Довольному смеху Екатерины в постели вторил знакомый басок Бабичева. Григорий яростно распахнул полог и воззрился на любовников.
– Катя, как ты могла! Как ты могла! – закричал он и в бешенстве схватил возлюбленную за горло.
Насмерть перепуганный Бабичев выскочил из постели в чем мать родила и застыл у стены. Офицер, не кланявшийся пулям и ядрам на войне, в опочивальне великой княгини вдруг оробел, не в силах пошевелиться. Он только смотрел, как обезумевший от ярости Орлов трясет Екатерину за шею и повторяет:
– Как ты могла!
Но вот за дверью послышались шаги, и в спальню ворвался Алексей Орлов. Он оторвал брата от великой княгини и с ужасом глянул в ее посиневшее лицо.
– Братушка, что ж ты наделал! Ты ж Екатерину Алексеевну убил! Не сносить тебе головы!.. Ан нет, не ты!
Алексей выхватил шпагу и мгновенно пронзил обнаженную грудь Бабичева. Потрясенный офицер и не думал сопротивляться, мужественно приняв смерть.
– Вот он, злодей! – прорычал Алексей. – Слышишь, братушка? Уже сейчас Шкурин появится, за ним Александра Иваныча жди с его людишками. Не забудь: когда ты вошел, он ее душил. Ты ее защищал, потом я подоспел и убил ирода.
Через несколько минут в покои прибежал Шкурин с двумя фрейлинами и замер на пороге, не веря своим глазам. Девицы дружно заголосили.
– Господи, беда! – запричитал камердинер. – Это как же так? Елизавета Петровна только что скончалась, Екатерину Алексеевну убили!
– Не успели мы, Шкурин! – вздохнул Алексей. – Что ж ты Григория-то не пускал, может, успел бы он ее спасти. Теперь все будем держать ответ. Беги уже сам за Александром Иванычем! Эй, девки, хватит голосить! Покои запирайте, пока из Тайной канцелярии люди не придут. Пошли, братушка, нам теперь с Петром Иванычем надо посоветоваться, как державой с младенцем-государем править.
Алексей под руку вывел из опочивальни мало чего понимающего от потрясения Григория и жарко зашептал ему:
– Держись, братушка, стой на своем! Бабичев убийца, а не ты! Посиди во дворце, выпей чего-нибудь, а я к крепости поскачу. Как узнают, что и императрица померла, и великая княгиня, жди беды. Найдутся, чай, желающие кто голштинца провозгласить, кто Ивашку. А нам с тобой надобно за Алешку твоего держаться. Есть у нас в полку лихие молодцы, подпустим в крепость красного петуха. Только один должен быть наследник российского престола!
Часть вторая
Алексей II сидел в кресле и слушал старика Алексея Орлова. Сорокалетний государь, высокий и крепкий мужчина, часто слышал от придворных, что своей богатырской статью удался в великого пращура Петра I. Но сам император частенько ловил себя на неприятной мысли, что больше похож на единственного из оставшихся в живых бывших опекунов. Конечно, ни в какой опеке государь давным-давно не нуждался, но к советам старого генерала порой прислушивался, пусть тот давно в отставке и занят только своими рысаками.
– Ваше величество, вы все-таки с Бонапартом поаккуратнее, – осторожно рассуждал Орлов. – Ордена, чины он, конечно, заслужил, но особо приближать его ко двору, по моему скромному разумению, не следует.
– Граф, мне непонятна ваша давняя неприязнь к Наполеону Бонапарту, – император пожал плечами. – Он много раз доказывал нам свою преданность и исключительный талант. Только благодаря его полководческому гению нам удалось присоединить к империи все оставшиеся германские земли и не допустить, чтобы Австрия получила польские области. Мы должны возблагодарить господа за то, что Бонапарт захотел служить у нас и учиться у великого Суворова, царствие ему небесное. Какой еще государь мог похвастаться, что имел сразу двух таких выдающихся полководцев? Как бы мы тогда вели одновременно успешные войны против Австрии и Турции?
– Всё это так, ваше императорское величество, – согласился Орлов. – Но я слышал от близких Бонапарту офицеров и генералов, что он с симпатией отзывался о французской революции и якобинцах.
Император поморщился, словно от зубной боли.
– Граф, я высоко ценю ваш опыт и вашу помощь мне в те времена, когда я был несовершеннолетним отроком. Но, боюсь, вы отстали от жизни. Да, Тайная канцелярия мне докладывала о подобных высказываниях. Но я считаю, пусть Бонапарт болтает и в десять раз больше. Мы живем в просвещенное время. Если бы вы читали, что мне порой довольно смело писали Вольтер и Дидро, вы бы не придавали значения так называемым крамольным речам Бонапарта. Сие сущая безделица.
Орлов понял, что аудиенция закончена, и поднялся с кресла.
– Не смею больше беспокоить ваше императорское величество! – Генерал поклонился и отправился к выходу, но столкнулся в дверях с царским адъютантом.
– Беда, ваше императорское величество! – выкрикнул тот и осекся, увидев Орлова.
Император нахмурился.
– Останьтесь, граф! Возможно, понадобится ваш совет. Говорите, Василий Петрович, от генерала Орлова у меня нет секретов.
– Только что пришло донесение: Наполеон Бонапарт предал ваше императорское величество. Он объявил в Великом княжестве Прусском и Саксонском, что государь самозванец и не имеет права занимать российский престол. В Берлине на площади был зачитан крамольный документ, что государь будто бы бастард… Губернатору Мстиславскому было предложено оставить свой пост, но тот с верными гвардейскими частями выступил против Наполеона и геройски пал в сражении. Вся Пруссия под властью Бонапарта, теперь тот движется в Великое княжество Польское. Вероятно, через Прибалтийские княжества он намерен направиться к Петербургу.
Император нервно забарабанил пальцами по столу.
– Что я вижу, граф, вы побледнели? – обратился он к Орлову. – Признаться, я тоже в замешательстве. Положение, надо признать, весьма неприятное. Вы оказались правы. Я не разглядел амбиций господина Бонапарта.
– Ваше императорское величество, вам лучше покинуть столицу, – посоветовал Орлов. – Сил противостоять армии Бонапарта явно недостаточно. Какой смысл понапрасну лить кровь, подобно князю Мстиславскому? А вот когда подоспеет Кутузов – другое дело.
– Пожалуй, вы правы, граф, – после некоторых раздумий согласился император. – Мир с турками подписан, скоро нарушить его они не решатся. Поэтому Кутузов может двигаться с армией к столице. Конечно, народ будет недоволен, сравнит меня с Дмитрием Донским, который оставил Москву перед нашествием Тохтамыша. Ну, ничего, когда подавим бунт, я найду, чем успокоить народ. Спасибо, граф, я вас больше не задерживаю. Сейчас отдам необходимые распоряжения.
Народ в Петербурге ликовал. Вот она, долгожданная свобода! Больше нет царя, отменено крепостное право. Есть только временный правитель Наполеон Бонапарт. Оно, конечно, немножко дивно, что иноземец, но ничего. По-русски отлично говорит, да как умно и правильно всё. Тем более Алексей-то, оказывается, незаконнорожденный, а вовсе не царского роду! Кончились, выходит, Романовы на Елизавете Петровне. Бог даст, Земский собор решит, что дальше делать. Избрали ж когда-то Михаила Романова на царство. Вот и теперь найдут законного наследника престола! Верно правителевы комиссары толкуют: звали ж предки Рюрика варяжского княжить, может быть, Бонапарт второй Рюрик и есть!
Впрочем, через месяц поводов для ликования стало гораздо меньше. Армия Наполеона, набранная в основном в Пруссии и Польше, оказалась слишком малочисленной, чтобы взять под контроль огромные российские просторы. Уже первая стычка войск правителя с армией Кутузова при Бородине вынудила Наполеона сгруппировать все силы для обороны столицы. На Рязанщине, Смоленщине и прочих русских землях было объявлено, что все речи о незаконнорожденном Алексее – клевета бунтовщика Наполеона. Более того, именно государь Алексей Петрович собирался отменить крепостное право, а Бонапарт просто воспользовался идеей императора.
Император расположился в Твери и с раздражением читал копии донесения некоего чиновника Тайной канцелярии, которыми Наполеон наводнил Россию. Некий кабатчик слышал, как в трактире капитан Бабичев во хмелю хвастался, что якобы ему принесли фальшивое письмо Петра Федоровича о мнимом признании Алексея своим законным сыном, тогда как младенец сей рожден в блуде Екатериной от Григория Орлова. А он, Бабичев, разыграл комедию у Александра Ивановича Шувалова, будто бы письмо это у Фридриха во дворце нашел. И Шувалов, и Елизавета Петровна поверили. Но только об этом – тс-с-с! Государственная тайна! Кому какое дело, кто отец младенца? Главное – есть наследник престола, и слава богу!
Император был в полном смятении и велел генералу Аракчееву искать всюду проклятые донесения. Алексей Андреевич взялся за дело с душой. Если хоть в одной избе находили такой документ, жестоко пороли всю деревню. Результат не замедлил сказаться очень скоро – больше ничего не находили. И разговоры, что царь, дескать, ненастоящий, сразу пошли на убыль.
Тем временем Кутузов постепенно окружал Петербург, а верный законному императору флот наглухо запер город с моря. Из Эстляндии выступил корпус расчлененной наполеоновской армии и попытался прорвать блокаду извне, но был наголову разбит. Положение осажденных резко ухудшилось. В столице заметно поубавилось хлеба и мяса, а подвезти неоткуда. Народ, который совсем недавно ликовал, начал потихоньку роптать.
Однажды ночью у расположения российских войск со стороны осажденного Петербурга появилась темная фигура в плаще.
– Стой! – заорал солдат, узревший незнакомца. – Бросай оружие!
– Стою, стою, – откликнулся тот. – Веди меня, скорее, голубчик, к командиру. Скажи, адъютант Наполеона поручик Мстиславский сдаться решил.
– Наполеона? – У солдата открылся рот от изумления. – А не врешь, ваше высокоблагородие?
– Веди уже, – с раздражением произнес офицер.
После короткой беседы с командиром батальона поручика срочно проводили к самому Кутузову.
– Ну, здравствуй, Денис Николаевич, – холодно приветствовал молодого князя Мстиславского генерал. – Вот уж не думал, что ты бунтовщику служить пойдешь, после того как твой старик-отец в битве пал. Помню ж, как ты лихо турок бил, как же в бунт-то пошел?
– Потому и пошел, что за отца хотел отомстить, – глаза поручика загорелись яростью. – Что толку было мне глупой смертью погибать! Я ж ранен тоже был, а Буонапарте меня узнал. Предложил идти к нему в штаб. Вот и подумал, что пригожусь еще государю, если в самом змеином логове побуду. А узурпатору сказал: только в штаб, стрелять в русских не пойду. Думал, оставит в покое. Нет, согласился. Только всё равно серьезного мне ничего не доверяли, чувствовал, что проверяли. Мальчиком на побегушках был. Зато Наполеон всюду хвастался: вот, мол, сын прусского наместника мне служит. Пусть теперь государь меня судит, отдаюсь в его руки. Теперь самое главное, ваше превосходительство. Наполеон сейчас раненый во дворце лежит. Об этом мало кто знает. Обходил на днях позиции, недалеко шальное ядро разорвалось. Рана не очень серьезная, но крови много потеряно, еще и горячка началась. Охраняют узурпатора, как зеницу ока. А в остальном смятение. Я документы кое-какие в этой неразберихе из кабинета Наполеона прихватил. Взгляните, ваше превосходительство. Вот то донесение, которым они народ мутят. Слышал я, откуда оно появилось. Шувалов-то Александр Иваныч незадолго до смерти дом в Варшаве купил. Потом наследники его продали, и поселился там польский полковник Домб-Кшиштофский. И как-то в письменном столе нашел это донесение, черт знает сколько лет там провалялось, видите, заплесневело всё. И рукою Александра Ивановича начертано: «Гнусная клевета!» Этих слов в копиях нет. А Домб-Кшиштофский донесение Наполеону показал. Вот у того и созрела идея. Он, кстати, умнейший человек. Да что я вам рассказываю, вы ж знакомы хорошо. А вот, извольте взглянуть, наполеоновские планы о Франко-России. Он в Австрии когда был, наслушался там речей: вроде как есть мысли Австро-Венгрию создать. Вот Наполеон и загорелся почти всю Европу так под себя подмять. И еще кодекс какой-то законов, я тут не понял ничего, не стряпчий же. Государь пусть почитает, может, что полезное найдет.
– Так ты говоришь, Наполеон ранен? – Кутузов хитро прищурил единственный глаз. – Если дам тебе отряд отборных молодцов, проведешь их во дворец к нему?
– Так вы верите мне, ваше превосходительство? – Глаза поручика загорелись. – Я ж за вас и за государя в огонь и в воду! Не извольте беспокоиться!
– Верю, Денис Николаевич! Много важного ты мне рассказал, бог даст, раздавим теперь осиное гнездо. Адъютант тебя проводит к отряду, а я сейчас генералов соберу. Помоги нам, господи!
Император, вернувшийся в свой дворец, мрачно смотрел на стоящего перед ним Наполеона в арестантской робе. Тот только недавно оправился от ран, и лицо его было бледным.
– На что вы рассчитывали, Бонапарт? – поинтересовался государь. – Неужто вы и впрямь думали с горсткой немцев и поляков захватить всю Россию? Это урок для меня. В российской армии больше не будет национальных частей. Она станет многонациональной. Уж я найду способ это сделать, не сомневайтесь. И Российская империя по-прежнему будет незыблема от Кельна и Берлина до Аляски. А бунтовщикам в Сибири места хватит.
– Вы победили благодаря предательству моего адъютанта, ваше величество, – дерзко ответил Наполеон. – Да, я просчитался с этим человеком. Моя ошибка. Но ничего. Эти сто дней, что я правил в Петербурге, стоят всех остальных лет моей жизни, которой вы меня теперь лишите.
– Вы забываетесь, Бонапарт! – нахмурился государь. – Елизавета Петровна отменила смертную казнь, и я решение великой императрицы не изменял. Вы будете сосланы на Соловки. Есть у нас такой глухой остров.
Когда Наполеона увели, император велел позвать дожидающегося в приемной Орлова.
– Садитесь, граф, – любезно предложил он старому генералу. – Вот, ознакомьтесь с донесением Тайной канцелярии и скажите, как на духу: то, что рассказал пьяный Бабичев, убийца моей матери, правда?
– А вы как сами думаете, ваше императорское величество?
– Думаю, правда. Мне всегда казалось, что я похож на вас и еще больше на покойного Григория Григорьевича.
– Пустое, ваше величество! – Орлов махнул рукой. – Спалите этот документ в камине и велите Аракчееву вырвать языки тем, кто будет повторять эти глупости.
– Документ-то я сожгу, – вздохнул император. – Но я так и не понял, можно ли вам верить. Бог вам судья! В любом случае мне и при жизни, и после смерти ходить с этим клеймом незаконнорожденного. Но языки никому вырывать я не буду. Не нужно понапрасну озлоблять мужика. Хватит нам уже Пугачевых и Наполеонов. У Бонапарта, кстати, в его кодексе много интересных мыслей. Воспользуемся сим трофеем. В ближайшие дни я подпишу указ с подтверждением отмены крепостного права, а потом манифест о конституции, ограничении власти императора и созыве Государственной думы. Пора, пора нам приобщиться к европейской цивилизации. Лучше отдать часть власти во имя сохранения монархии как таковой.
– А не боитесь, ваше императорское величество? – спросил Орлов.
– Боюсь, – признался император. – Но сделать сие нужно. Да, будет много недовольных среди дворян, но смирятся, никуда не денутся. Разберутся в конце концов, что не нужно дожидаться, когда чернь снова поднимется, словно во Франции. А мы сделаем так, чтобы мужлан сам с поклоном пришел к дворянину и попросил его выпороть. Вот так-то, граф! Думаю, что бог в этом деле с нами.
Эпилог
Студент закончил чтение реферата и с облегчением вздохнул.
– Спасибо, господин Иванов, очень любопытно, – профессор одобрительно кивнул. – Конечно, для реферата ваши гипотезы вполне допустимы, но признаем, что в ряде случаев мы имеем дело только с косвенными свидетельствами, пересказом каких-то слухов и сомнительных документов, вполне вероятно, сфабрикованных Бонапартом. В конце концов, судя по портретам, Алексей II похож на Петра Федоровича.
– Но тогда еще не было дагерротипии! – не сдавался Иванов. – Придворные живописцы могли и приукрасить кое-что, изменить облик. А поскольку после сильного пожара в крепости останков Петра Федоровича и Ивана VI не нашли, генетическую экспертизу провести невозможно. Могила Григория Орлова тоже потеряна.
– Хорошо, – согласился профессор. – Сами понимаете, двести с лишним лет прошло, каких только версий за это время не было. Потому и столько самозванцев появилось, включая Пугачева, под именем Петра Федоровича, дескать, не сгорел великий князь при пожаре. Ну а насчет графов Орловых вы, пожалуй, через край хватили: убийцы, поджигатели. И Петра Федоровича тоже совсем уж падшей фигурой представили. Никаких доказательств о его связи с фрейлиной Апухтиной нет. Скорее всего, девица сия была безумна и действовала в одиночку. А уж про мнимую адскую машину, по-моему, есть только одно косвенное упоминание в литературе на эту тему. Скорее всего, князь Мстиславский привез из Берлина шпионские донесения великого князя – именно из-за них Петр Федорович угодил в крепость, а не из-за того, что замышлял убийство царственной тетки.
– Ваше высокоблагородие, я намерен провести дополнительные исследования в архивах и на основе данного реферата писать дипломную работу. Сопоставить все версии и степень их достоверности.
– Отличная тема! – одобрил профессор. – А теперь, дамы и господа, давайте немного пофантазируем. Допустим, в декабре 1761 года Елизавета Петровна действительно бы скончалась и в России воцарился ее племянник как Петр III. Как бы тогда развивалась отечественная и мировая история?
Студенты наперебой заговорили. Все сходились на том, что наверняка Фридрих был бы спасен от разгрома, а Пруссия осталась самостоятельным и весьма сильным государством. В таком случае Россия уже не была бы столь могущественной империей. И, возможно, амбициозный Наполеон не захотел бы пойти в русскую армию, зная, что потеряет там одну ступень в чине. С таким полководцем уже Франция могла бы вести успешные войны, а к чему бы это привело – неизвестно.
– Отлично, дамы и господа, – подвел итоги семинара профессор. – Мне понравились данные варианты альтернативного развития истории. На следующее занятие вам задание, господин Шикльгрубер. Возможно, не все помнят, что Государственная дума в свое время приняла закон, и император его подписал, о создании особой социально-экономической зоны на Сахалине. Тогда дали возможность депутатам Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу на практике применить их социалистическое учение. Эксперимент провалился, но позже профессор права Владимир Ульянов реформировал марксизм. Став премьер-министром, Владимир Ильич попытался практически использовать свои радикальные идеи. Господин Шикльгрубер, попробуйте воссоздать модель коммунистического государства, которое хотел построить Ульянов. Эту попытку вы должны помнить. Государь Алексей III отдыхал тогда в Ялте, а премьер объявил, что император болен, и пытался узурпировать власть и установить личную диктатуру. Допустим, путч господина Ульянова и его соратников в 1917 году не подавили. Что ждало бы Россию?
Александр Тюрин. Служилый
1. Златоглавая
Москва поразила его храмами и многолюдьем. Золотые или лазурные в звездах купола церквей – они словно в небо готовились взлететь вслед за ангелами божьими. Сказали ему, что в стольном граде обитает сверх десяти тысяч народу всякого чина, не считая их чад и жен. Раньше было много более – до резни и пожара, устроенных ляхами в марте 1611 года.
В Тобольске имелась сотня-другая лавок, где торговали все, кому не лень: от стрельцов до ямщиков, отсыпающихся в лавке после долгой сибирской дороги. А здесь за прилавками настоящие торговые люди – суконных, гостиных, черных сотен, знающие толк в любом товаре.
Торговые ряды начинаются, как площадь Красную перейдешь. У каждого изделия свой ряд: холсты и сукна, шкатулки и ларцы, утварь, глиняные игрушки, кадки с ягодой, корзины с пряниками печатными, чернослив, изюм в бочках, меды белые, красные, ягодные, осетры и сиги во льду, меха, среди которых и туруханские соболя – долго же они сюда добирались. Есть даже ряд, где целый дом по бревнышку приобрести можно. Еще полно в Китай-городе харчевен, поварен, бань, квасоварен, крытых дерном кузниц.
В толчее и кукольники, и медведчики, и скоромохи; шутки у них срамные, порой липнут как банный лист к заднице. Пусть архиереи их не любят, а гнать подзатыльником нельзя – честь их защищает Судебник царский.
Площадные подьячие предлагают составить дарственную, купчую или что еще. Возле церкви Ильи Пророка люди армянские торгуют шелком. Немало других восточных купцов, маджусы с выкрашенными хной бородами, у которых мертвецов птицы расклевывают. Порядком голландцев в туфлях с металлическими пряжками и черных фетровых шляпах. У них впервые увидел он квикзильвер, что еще меркурием прозывают. Словно из живых шариков состоит, и пальцами поймать невозможно. Немало забавят их стекла увеличительные, где нога блохи размером с куриную кажется. Товары голландские затейливы, но без смысла часто, да еще до́роги против наших. Нелегки пути в царстве российском для вывоза и ввоза изделий разных. Голландские флайты приходят летом на архангельскую пристань, ящики и тюки перегружаются на дощаники, которые плывут вверх по Двине, ждут зимы в Холмогорах и на санях добираются до Москвы.
А более всего глянулся ему литейный двор на Неглинной, особливо бляуофены, что выше высоких дерев, дымят как вулканы. Подают жару огромные мехи, что от водяных верхнебойных колес в движение нагнетальное приводятся. Льется из печей огненная река да в земляные берега, остывают ряды могучих стволов под ядра в 20 гривенок, светясь плутоновым светом.
Спасский мост тоже приметен: там книги печатные и свитки рукописные продаются, продавцы голосят: «Подходи-бери повесть о Савве Грудцыне, Горе-Злосчастии, о Петре и Февронии, всего копейка. И Землемерная наука, геометрией именуемая – за алтын». Но чтение для него – занятие более тяжкое, чем копейный бой, хотя отец Питерим учил его два лета и даже похваливал.
Были и те, что принуждали сердечко шибко забиться: красавы в высоких киках, усыпанных самоцветами, в узорочье закутанные. С ними из ворот всегда выходила мамка. А за воротами видны были сады, средь которых прятались высокие горницы с карнизами-гребешками, наличниками-кокошниками и резными коньками. На иных стояли и терема со смотрильными башенками…
Василий Венцеславич, сын боярский[10], доставил в Москву ясак от инородцев Ленского края. Ясак был взят посильный, десятинный, в знак признания ими власти белого царя. Пришел Василий на Лену-реку из Тобольска с отрядом Навацкого одним из первых в 1628 году. По Нижней Тунгуске шел, по Чоне с переволоком на Вилюй и далее на Лену. После сидения в острожке от нападения туземных князьцов Нарыкана и Бурухи, Василий и еще несколько служилых были отправлены начальником отряда на Туруханское зимовье. На обратном пути стреляли по ним санягири – поразили Венцеславича в плечо зазубренным наконечником. Вылечила тунгусская шулма травами, битьем в бубен и горячим своим телом.
Василий со товарищи построили дощаник, поплыли из Туруханского края по Енисею, с него переволоклись на Кеть, что в Обь течёт, далее по Иртышу, Тоболу и Туре, по Бабиновской дороге через Камень, шли по Каме и Волге до Новгорода Нижнего. Сказали там, на низовье Волги опять неспокойно, калмыки великим скопищем идут и ногаев с собой увлекают. У Нижнего ударили по ним из пищалей – поранило товарища, от огневицы потом страдал, но удалось тех разбойников навек угомонить. Рожи у них все в шрамах были, видно, еще с паном Лисовским на Русь явились.




















