Читать онлайн Аркадия бесплатно
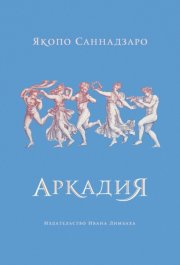
Петр Епифанов Якопо Саннадзаро и его Аркадия
I
Имя Аркадии – преимущественно горной, лесистой области в центральной части Пелопонесского полуострова – не из самых звучных в политической и культурной истории Древней Греции. Города Аркадии не имели славы центров торговли, ремесел и искусств, как Афины или Коринф. Ее племена объединялись в союзы, чтобы противостоять воинской силе мощных соседей – Спарты и Фив, – но не ставили перед собой более амбициозных задач. В общеэллинских военных мероприятиях аркадяне участвовали, скорее принуждаемые необходимостью, чем привлекаемые надеждами на добычу и желанием славы.
Еще Гомер пишет об аркадянах, делая акцент на их воинском мужестве:
- Живших в Аркадии, вдоль под Килленской горою высокой,
- Близко могилы Эпита, мужей рукопашных на битвах;
- В Феносе живший народ, в Орхомене, стадами богатом,
- В Рипе, Стратии мужей обитавших и в бурной Эниспе,
- И Тегеи в стенах, и в странах Мантинеи веселой;
- В Стимфале живших мужей и в Парразии нивы пахавших, —
- Сими начальствуя, отрасль Анкеева, царь Агапенор
- Гнал шестьдесят кораблей; многочисленны в каждом из оных
- Мужи сидели аркадские, сильно искусные в битвах[1].
Аркадяне, в отличие от остальных участников похода, плыли не на своих кораблях – им предоставил свои суда Агамемнон: пастухи и пахари, «они небрегли о делах мореходных»[2], поясняет Гомер.
На передний план в истории Эллады аркадяне вышли только на закате ее независимого существования. Многолетний стратег Ахейского союза аркадянин Филопемен, твердо отстаивавший его самостоятельность от Рима, заслужил у историков имя «последнего героя эллинов». Незаурядными политиками своего времени были и сторонники «осторожной» партии – стратег Ликорта и его сын, будущий историк Полибий (вероятно, наиболее известный уроженец Аркадии). А погибло последнее независимое греческое государственное объединение вместе с гибелью в 146 году до н. э. его стратега Диэя, тоже аркадянина, впрочем не обладавшего талантами, рассудительностью и нравственными достоинствами упомянутых выше. Аркадия на века осталась тихой и непритязательной глубинкой римской провинции Ахайя.
Померкнув исторически, Аркадия получила своеобразную известность с весьма неожиданной стороны: она приобрела особое значение в культуре и идеологии своих завоевателей – римлян. После окончания гражданских войн в Риме, в правление Августа, трудами Вергилия, а вслед за ним и другого ведущего поэта эпохи, Овидия, был создан (или развит из темных преданий, – что, впрочем, менее вероятно) «аркадский миф», которому суждена была долгая и увлекательная жизнь.
Миф устанавливал якобы уходящее корнями в глубочайшую древность прямое родство между Римом и греческим миром. Легендарный прародитель римлян Эней, традиционно считавшийся троянским вождем, спасшимся из уничтоженного ахейцами родного города, по версии Вергилия, в Италии был гостеприимно встречен старым царем Эвандром, сыном вещей нимфы, который за шестьдесят лет до Троянской войны, выполняя веление богов, вместе с матерью и дружиной переселился из аркадского города Паллантия в Альбу Лонгу, на место будущего Рима, где научил прежде диких туземцев скотоводству, земледелию, письму и религиозным обрядам, принеся с собою и почитание аркадских богов[3]. И вот теперь он, помня свою давнюю дружбу с Приамом и троянцами, вступил с троянским героем в вечный союз, предоставив ему в помощь своих воинов.
Овидий в «Фастах» подхватил аркадскую тему. У него Кармента, мать Эвандра, названная им «аркадской богиней», вступая на Италийскую землю, в священном восторге произносит пророчество о грядущем величии Рима:
- Боги желанных краев! Привет вам! – она восклицала. —
- Славься, земля! Небесам новых богов ты сулишь!
- (…) Разве неправда, что здесь холмы станут мощной твердыней,
- Иль что законы подаст эта земля всей земле?
- Издавна этим горам обещана власть над вселенной,
- Кто бы поверил, что здесь осуществится она?
- (…) Побеждена, победишь, и павши, восстанешь ты, Троя:
- Гибель, поверь мне, твоя сгубит твердыни врагов.
- Жги же Нептунов Пергам дотла ты, победное пламя, —
- Даже и пепел его выше всего на земле!
- Вот благочестный Эней принесет святыни и с ними
- Старца-отца: принимай, Веста, троянских богов!
- Время придет, и одна будет власть над вами и миром,
- Сам при святынях твоих будет священствовать бог;
- Августы вечно хранить неуклонно отечество будут:
- Этому дому даны небом державы бразды[4].
Лежало ли в основе «аркадского мифа» какое-то устное римское предание, или Вергилий сам, силой воображения, связал Рим и Аркадию связью якобы извечного божественного замысла, – находка была весьма удачна. Память самой Аркадии не хранила ничего о Эвандре и его переселении в Италию, но эта горная пастушья страна не имела ни разработанной мифо-графической литературы, ни записанного эпоса, и возражать Вергилию здесь было некому. Не блистая образованностью, аркадяне, бывшие по крови потомками автохтонов-пеласгов, хранили множество древних легенд, то переплетавшихся, то противоречивших друг другу, что никого не смущало – их носители жили замкнутыми мирками. Обитателям этих мирков нетрудно было верить, что их прадеды не откуда-то извне восприняли бытовые и трудовые навыки, а сама Мать-Земля научила их через мудрого, рожденного ею первопредка.
В сказаниях аркадян говорится, что Пеласг был первым человеком, который жил в этой земле. (…) Поэт Асий вот что сказал о нем:
- Богоподобный Пеласг на горах высоколесистых
- Черной землею рожден, да живет здесь племя людское.
Именно Пеласг, став царем, придумал строить хижины, чтобы люди не мерзли и не мокли под дождем, а с другой стороны, не страдали от жары; точно так же он изобрел и хитоны из шкур овец: в таком одеянии еще и до сих пор ходит бедный люд в Фокиде и на Эвбее. Кроме того, Пеласг отучил людей от употребления в пищу зеленых листьев деревьев, травы и кореньев, не только не съедобных, но иногда даже и ядовитых; взамен этого в пищу он дал им плоды дубов, именно те, которые мы называем желудями[5].
Как видим, Пеласг выступает для своей страны примерно тем же, чем Эвандр станет для аборигенов Альбы Лонги. Важно отметить, что мудрость и знание Пеласга идут из самой природы, из недр породившей его Матери-Геи. Подобным образом аборигены древнего Лация верили, что их предков, «дикарей, что по горным лесам в одиночку скитались, / Слил в единый народ и законы им дал» непосредственно Сатурн[6].
Овидий, писавший тремя десятилетиями позже Вергилия, развил тему перехода от дикости к начаткам культуры. Один из крупных исследователей «аркадского мифа» в искусстве, американский искусствовед Эрвин Панофски считает трактовки Аркадии у обоих великих поэтов Августовой поры полемическими по отношению друг к другу: Вергилий, по его мнению, изображает ее сколь возможно более благожелательно, а Овидий, напротив, не видит в ней ничего, кроме дикости[7]. Как представляется мне, здесь мы имеем дело не с полемикой – младший поэт разрабатывает аркадскую тему, не повторяя старшего, но учитывая все, что им сказано:
- Не был еще и Юпитер рожден, и луна не являлась,
- А уж аркадский народ жил на Аркадской земле.
- Жили они как зверье и работать еще не умели:
- Грубым был этот люд и неискусным еще.
- Домом была им листва, вместо хлеба питались травою,
- Нектаром был им глоток черпнутой горстью воды. (…)
- Жили под небом открытым они, а нагими телами
- Были готовы сносить ливни, и ветер, и зной.
- Напоминают о том нам теперь обнаженные люди
- И о старинных они нравах минувших гласят[8].
В этом фрагменте «Фаст» я, в отличие от Панофски, не вижу никакой сгущенной тенденциозности. Не менее дикими Вергилий устами Эвандра описывает автохтонов Альбы в их первоначальном состоянии, до благотворного влияния Сатурна:
- Племя первых людей из дубовых стволов тут возникло.
- Дикие нравом, они ни быков запрягать не умели,
- Ни запасаться ничем, ни беречь того, что добыто:
- Ветви давали порой да охота им скудную пищу[9].
Я сказал бы, что аркадяне у Овидия представляют исторического человека как такового, в его первом и последнем пределе. Первый факт истории «железного века» у Овидия – нечестивый и зверский поступок аркадского царя Ликаона, сына Пеласга; рассказ о Ликаоне помещен в самом начале «Метаморфоз»[10]. Опыт человеческого зла и страстей как бы начинается в Аркадии; но зато в ней сам Громовержец, царь богов, является между людьми как один из них. А в «Фастах» у того же Овидия сама Аркадия, устами вещей Карменты, дает предсказания о высшей, конечной цели истории – собирании мира под мудрой волей римлян. Между этими полюсами загорается дуга исторического мифа.
Овидий, проводя свою линию, имеет перед собой уже готовую идею, данную Вергилием в «Энеиде». Вергилий работал над этой темой в течение всего творческого пути; в «Энеиде» мы видим лишь конечный пункт его аркадского путешествия, начатого в самом первом стихотворном цикле – «Буколиках». Уже там Аркадия сближается с Италией, только не в глубинах незапамятной древности и без прицела на исторические обобщения, а очень просто и непосредственно. Аркадия – это как бы и есть Италия. В первой и предпоследней эклогах «Буколик» один «аркадский» пастух уходит в изгнание, а другой, лишенный своей земли, свобод и прав, вынужден работать на своего обидчика, при этом жалуясь на судьбу соседних Кремоны и Мантуи, пострадавших от репрессалий гражданской войны 41–30 годов до н. э. (Читатель мог при этом вспомнить и другие города, других людей, ставших жертвами кары за сочувствие проигравшей стороне.) Аркадия Вергилия – отнюдь не «царство ничем не нару-шимого блаженства»[11]и даже не мечта о нем. Это попытка набрать в легкие побольше воздуха, когда чувствуешь, как вокруг становится тяжело дышать. «В идеальной вергилиевской Аркадии человеческое страдание диссонирует со сверхъестественно совершенной средой, – пишет Панофски. – Ощутив этот диссонанс, поэт должен был преодолеть его, и преодолением оказалась… сумеречная смесь печали и покоя»[12]. По моему мнению, покоя в «Буколиках» нет и в помине. Вот их последние строки:
- Встанем: для тех, кто поет, неполезен сумрак вечерний,
- Где можжевельник – вдвойне; плодам он не менее вреден.
- Козоньки, к дому теперь, встал Геспер, – козоньки, к дому![13]
Перед нами не изящная виньетка в конце главы. Закрывая книгу, читатель остается с зябким чувством холода и близкой темноты, а в памяти звучит настойчиво подгоняющий призыв: «К дому!» Поиском дороги к дому и является весь цикл. Домой – после всех разорений, потерь, похорон, изгнаний, разочарований, обманутых надежд. Домом явится не империя Августа, которая, провозглашая на каждом шагу возвращение к корням, традициям, старым добрым нравам, на деле выстраивает новый, еще небывалый деспотический строй. Домой – это значит: в мир лесов, полей, стад и бедных сельских домов, их нехитрого уюта. Вергилий зовет к возвращению от кровавого безумия войн, от лукавства безжалостной политики, от покорения царств и решения мировых судеб – в среду естественных и простых, обусловленных самой природой чувств, отношений, радостей, первичных ценностей жизни. Их-то и олицетворяет Аркадия:
- Здесь, как лед, родники, Ликорида, мягки луговины,
- Рощи – зелены. Здесь мы до старости жили бы рядом.
- Но безрассудная страсть тебя заставляет средь копий
- Жить на глазах у врагов, при стане жестокого Марса.
- Ты от отчизны вдали – об этом не мог я и думать! —
- Ах, жестокая! Альп снега и морозы на Рейне
- Видишь одна, без меня, – лишь бы стужа тебя пощадила!
- Лишь бы об острый ты лед ступней не порезала нежных![14]
Неверная любовница, сбежавшая с грубым солдатом, – не образ ли это как вообще любой человеческой души, так и души италийского народа, рискующей огрубеть, ожесточиться в борьбе за мировое господство?
Герой «Буколик» – человек, погруженный в природу и ее вечные ритмы, живущий по ее законам, но облагороженный простой любовью, простой дружбой и искусством, тоже предстающими как воплощение, манифестация природного начала. Искусство в «Буколиках» (здесь Вергилий вполне следует своему предшественнику в «пастушеском» жанре, Феокриту[15]) – это и сами песни, и наигрыши пастухов, и мастерски украшенные предметы, являющиеся образами, а значит, и частью того же природного мира:
Меналк:
- (…) два буковых кубка я ставлю.
- Точены оба они божественным Алкимедонтом.
- Поверху гибкой лозой резец их украсил искусный,
- Гроздья свисают с нее, плющом бледнолистным прикрыты.
- Два посредине лица: Конон… Как же имя другого?..
- Тот на благо людей начертал весь круг мирозданья
- И предсказал жнецу и согбенному пахарю сроки.
- Спрятав, их берегу, губами еще не касался.
Дамет:
Вот едва ли не единственное в сборнике упоминание о культах институциональной религии – и как оно необычно! Как это далеко и от чопорного римского благочестия былых времен, и от обожествляющего власть имперского официоза, и от стремительно набегающей с Востока волны эклектического мистицизма. «Все наполняющим» Юпитером освящены и стих, и каждое повседневное, сколь угодно малое дело, переживание, впечатление. Одной строкой определяется простая жизнь в свете Божества, слитого со своим творением, любящего, гневающегося, страдающего, поющего вместе с ним.
Есть в «Буколиках» и настоящее мистическое воодушевление. Его вызывает отдельная сторона религиозного сознания автора – почитание страдания. Погибший жестокой смертью юноша-поселянин Дафнис получает доступ к вратам Олимпа, а у людей – честь, равную чести великих богов:
- Светлый, дивится теперь вратам незнакомым Олимпа,
- Ныне у ног своих зрит облака и созвездия Дафнис.
- Вот почему и леса ликованьем веселым, и села
- Полны, и мы, пастухи, и Пан, и девы дриады.
- Волк скотине засад, никакие тенета оленям
- Зла не помыслят чинить – спокойствие Дафнису любо.
- Сами ликуя, теперь голоса возносят к светилам
- Горы, овраги, леса, поют восхваления скалы,
- Даже кустарник гласит: он – бессмертный, Меналк, он бессмертный!
- Будь благосклонен и добр к своим: алтаря вот четыре,
- Дафнис, – два для тебя, а два престола для Феба.
- С пенным парным молоком две чаши тебе ежегодно
- Ставить я буду и два с наилучшим елеем кратера.
- Прежде всего оживлять пиры наши Вакхом обильным
- Буду, зимой у огня, а летом под тенью древесной,
- Буду я лить молодое вино, Ареусии нектар.
- (…) Вепрь доколь не разлюбит высот, а рыба – потоков,
- Пчел доколе тимьян, роса же цикаду питает,
- Имя, о Дафнис, твое, и честь, и слава пребудут!
- Так же будут тебя ежегодно, как Вакха с Церерой,
- Все земледельцы молить – ты сам их к моленьям побудишь![18]
Неутоленная, мучительная первая и единственная любовь, кончающаяся безвременной смертью, – не самый ли печальный земной удел? – становится преддверием блаженства, величия, божественной славы. Уже одно это, помимо пресловутых пророчеств Четвертой эклоги, должно было вызвать интуитивную симпатию к Вергилию у христиан[19]. С другой стороны, образ Дафниса в его апофеозе возвещает отнюдь не о бренности всего земного, не о том, что нужно презреть ради небесного царства, ради единения человечества с Богом – непреходящей и абсолютной ценности христианской религии. Светом обретенного им бессмертия Дафнис озаряет и благословляет не грядущий «оный век», а здешний мир и его жизнь, с ее непрерывной чередой рождений и смертей, радости и боли. Впрочем, подобным образом и народное, деревенское христианство почитает святых: как покровителей овец или пчел, как тех, кто своей молитвой подает в подобающее время посевам солнечное тепло или дождь, прогоняет от них вредителей.
Удивительно, но подобного почитания удостоился и сам Вергилий. Могильный склеп поэта в Пьедигротте, зеленом уголке Неаполя, под обрывистым склоном холма, рядом с устьем рукотворной пещеры[20], в течение всей христианской истории города посещался (и посещается поныне) как святое место, и за многие века церковь, кажется, ни разу не прилагала усилий к тому, чтобы уничтожить этот культ, никак не соприкасающийся с официальным католичеством. К праху поэта идут с мольбами и обетами большею частью те, кто слишком просты, чтобы оценить его как художника слова. Многие из них оставляют в старинной медной чаше записки, где обращаются к Вергилию как к близкому другу. Вот несколько записок, виденных автором этих строк весной 2011 года:
Вирджи, во-первых, ты молодец – за все, что ты сделал… Но кто, какой (непечатное слово. – П. Е.) заставил тебя прославлять этого (непечатное слово. – П. Е.) Августа на этом свете? Ты же велик, ты понимаешь людей и смерть. Но сейчас, может быть, еще больше, чем ты, меня волнует та, что сейчас со мной. Да, дорогой друг, это ты присматриваешь за Неаполем из своей прекрасной гробницы. Ты меня понимаешь. Партенопея[21] любит тебя. Спасибо тебе за всё.
Пепе
Чао, Вирджи. Случай и моя подруга захотели, чтобы сегодня я оказалась здесь. Все так удивительно, и может быть, этого захотели мир и покой этого места, в момент, когда хаос и печаль заполняют мое сердце.
Надеюсь, что с этого места может начаться мое возрождение.
Клаудия
Дорогой Вергилий, приди ко мне во сне и объясни, зачем я здесь.
(Записка на итальянском и на грузинском:)
Дорогой Вергилий,
хочу пермессо ди соджорно[22], хорошей работы и счастья. Верю в твое чудо.
Анна
Дорогой Вергилий,
я снова здесь, ибо это место меня зачаровало, вместе с моей милой подругой. Помоги ей…
Вергилий,
да помогите же наконец Неаполю! Используйте всю вашу магию и всю вашу поэзию!
Дорогой Вергилий,
я люблю Серджо и хочу быть всегда счастлива с ним. Мария
Дорогой Вергилий,
хочу, чтобы этим миром не вертели преступники. Спасибо.
(Записка на русском:)
Дорогой Вергилий!
Ты велик. Помоги мне обрести семью и детей. Не теряя при этом своей карьеры. Люблю тебя.
P. S. А еще здоровья родителям.
Дорогой Вергилий,
сколько радости! Благодарю тебя с земли, на которой живу.
Дженнаро
Когда мы приходим в это место, к нам приближается и в нас проникает красота поэзии. С высоты твоего рая, дорогой Вергилий, защити наш город.
Лина и Энцо
Дорогой Вергилий, прости, что я тебя беспокою… Но сейчас, в этот момент, я чувствую в себе такую близость к тебе и к твоей красоте…
Мне 17 лет, учусь в классическом лицее «Дженовези», который обожаю и который дал мне возможность познакомиться с тобой. Я в трудном положении. Я влюблена в своего преподавателя, это именно он с таким мастерством посвятил меня в твою историю и дал мне полюбить тебя. Он женат, но я не могу отступить только по одной этой причине. Это безумно и (нрзб.), но у меня не получается не думать (нрзб.). Это невозможно, что с ним я становлюсь такой ранимой, и хрупкой, и влюбленной…
Вообще я очень сильная, гордая и уверенная в себе, но с ним вся моя гордость пропадает, я лепечу как маленькая и не в силах вымолвить слова…
Прошу тебя, с небес или из этих мест, которые тебя вспоминают с такой добротой, помоги мне, отец поэтов.
Это все меня так волнует: твоя гробница, твоя эпитафия, воздух, которым дышит твоя поэзия.
Всей душой твоя – в том, что пишу, и в том, что мыслю. К. P. S.
А еще я обязательно приду почитать тебе мои стихи…
Теплое сострадание, звучащее в строках Вергилия повсюду, от почти юношеских «Буколик» до незаконченной «Энеиды», кажется, таинственным образом передается тем, которые зачастую этих строк не читали, – не только коренным жителям Неаполя, но, как видим, и чужестранцам.
II
Поэт, давший Аркадии новую судьбу, родился, жил и создавал свои произведения почти буквально в тени Вергилиевых лавров.
Примерно в полукилометре от могилы Вергилия на юг, у пересечения улицы Франческо Караччоло и улицы Саннадзаро, возвышаясь над набережной, стоит старинная церковь, чей фасад, увы, носит следы безвкусной переделки начала XX века. В ней, позади главного алтаря, находится большое скульптурное надгробие Якопо Саннадзаро. Именно он сделал Аркадию уже не римским, а общеевропейским культурным мифом, не померкшим и до наших дней. Саннадзаро был строителем этой церкви, расположенной на земле, некогда ему принадлежавшей; перед смертью поэт завещал ее монахам ордена сервитов, «Слуг Марии». Ему принадлежит и название церкви. «De partu Virginis», «О рождении от Девы» – так была озаглавлена большая латинская поэма, которой Саннадзаро посвятил два последних десятилетия своей жизни. Центральная фигура поэмы – Богоматерь, а тема – непорочное зачатие. Своему храму, созидаемому одновременно с поэмой, и так же долго и трудно, как она, поэт дал связанное с нею имя – Санта Мария дель Парто, что можно примерно перевести как «церковь Святой Марии Рождающей». В последующие века среди неаполитанок ходила молва, что по молитве в этой церкви женщинам подается облегчение в родах.
Надгробный памятник Саннадзаро, заказанный двумя близкими ему людьми, младшим братом Марко Антонио и подругой поэта Кассандрой Маркезе, не несет на себе никакой церковной символики. Перед нами мраморный бюст на широком постаменте, который украшает барельеф с мифологической сценой: козлоногий Пан играет на свирели, Посейдон, сжимая в порыве гнева трезубец, смотрит на нимфу с лирой в руке, обратившую к нему кроткий, умиротворяющий взгляд. На заднем плане слева стоит еще одна нимфа, вероятно, из свиты Артемиды, судя по дротику в ее руке, а справа изгибается в агонии тело повешенного на дереве Марсия[23]. Под барельефом – латинское двустишие, сочиненное другом и почитателем Саннадзаро, поэтом-гуманистом Пьетро Бембо[24]:
- Da sacro cineri flores, hic ille Maroni
- Sincerus, Musa proximus ut tumulo.
- Принеси священному праху цветы: здесь <лежит> тот
- Искренний, что ближе всех к Марону[25] и Музой, и могилой.
Sincerus, Искренний – прозвище, данное поэту в юности и пронесенное им через всю жизнь.
По бокам от барельефа – две сидящие мраморные фигуры, выполненные флорентийским скульптором Бартоломео Амманати: Аполлон с лирой[26] и Афина в шлеме. Под статуями вырезаны надписи «Давид» и «Юдифь». Братья-сервиты сделали их в середине шестнадцатого века, когда испанский наместник, посетив церковь, повелел убрать из нее «идолов»: на марше была Контрреформация. Памятник Саннадзаро оставался отблеском Возрождения в его зените, когда никого не удивляли языческие боги, сработанные резцом скульптора-монаха[27] для надгробия человека, известного искренней и строгой христианской религиозностью. Возможно, эта галерея мифологических образов восходит к строкам романа «Аркадия», самого известного произведения Саннадзаро, написанного среди гражданских бурь, сокрушавших Неаполитанское королевство в 1480-е и 1490-е годы:
- Пан в яростном гневе мохнатой ногою
- Свирель растоптал; а теперь он, рыдая,
- Судя лишь себя, умоляет Амора,
- Сирингу любимую воспоминая.
- Свой лук с тетивою, и стрелы, и дротик,
- Зверей укрощенье, презрела Диана
- С источником, где Актеон за нечестье
- Погиб, обращенный в оленя, и в поле
- Подруг отпустила бродить без вожатой,
- Гнушаясь неверностью этого мира,
- И видя всечасно, как падают звезды.
- И Марсий бескожий сломал свою флейту,
- Что мышцы и кости ему обнажила.
- Щит гордый отбросила в гневе Минерва,
- И Феб не гостит у Тельца, у Весов, но,
- Взяв посох привычный, как встарь, у Амфрисса
- Сидит, опечален, на камне прибрежном,
- Колчан свой и стрелы закинув под ноги.
- Юпитер, ты видишь его? Он без лиры,
- Не в силах уж плакать, лишь дня вожделеет,
- Когда все вокруг, все сполна распадется,
- Лик примет иной и явится прекрасней.
- Менады и Вакх, бросив тирсы, бежали
- При виде идущего с гордостью Марса:
- В броне, он себе прорубает дорогу
- Мечом беспощадным. О горе! Не может
- Никто воспротивиться. Скорбная доля!
- Как небо жестоко-надменно! А море
- Бушует, кипя, и у брега мятутся
- Испуганные божества водяные:
- Во гневе Нептун восхотел разогнать их,
- Громовым трезубцем бия по ланитам.
Сцена, представленная на барельефе, полна волнения, но не тех томительно-скорбных предчувствий, что звучали в стихах. Из упомянутых в эклоге божеств нет Вакха и Марса. Пан и Аполлон изображены со своими инструментами: вопреки сказанному, они не выпустили их из рук. Скульптор будто хочет сказать: хоть каждая эпоха истории полна мучительных тревог, поэзия и музыка, эти голоса высшей Красоты, никогда не умолкнут, продолжая утешать, укрощать, облагораживать сердца, возвращать удивительный мир даже посреди царящих неправды и насилия.
Саннадзаро был далеко не первым поэтом в Италии, обновившим Вергилиевы «аркадские» мотивы. В течение Средних веков, даже в периоды крайнего упадка образования, имя Вергилия оставалось известно самым разным слоям общества – от прелатов и вельмож до неграмотной народной массы, слагавшей легенды о поэте-маге (как видим, они дожили и до наших дней). Впрочем, и тогдашние книжники не хуже простолюдинов плодили небылицы, вроде той, будто Август в награду за стихи сделал поэта герцогом Неаполя и Калабрии[28]. Особенно помогла этой славе вышеупомянутая Четвертая эклога «Буколик», в которой видели пророчество о пришествии в мир Христа, рожденного Матерью-девой. Появлялись изредка и наивные подражания Вергилию, в том числе и в буколическом жанре (такие попытки делались, в частности, поэтами Каролингской эпохи). Но настоящая вспышка живого художественно-поэтического интереса к Вергилию относится лишь к концу XIII века и связана прежде всего с именем Данте:
- Так ты Вергилий, ты родник бездонный,
- Откуда песни миру потекли? —
- Ответил я, склоняя лик смущенный. —
- О честь и светоч всех певцов земли,
- Уважь любовь и труд неутомимый,
- Что в свиток твой мне вникнуть помогли!
- Ты мой учитель, мой пример любимый;
- Лишь ты один в наследье мне вручил
- Прекрасный слог, везде превозносимый[29].
Вероятно, именно пример Данте вдохновил молодого профессора латинской литературы из Болонского университета, который, прибавив к своему имени имя римского классика, назвался Джованни дель Вирджилио (это же имя он дал и своему сыну). Джованни писал на латыни довольно искусные подражания Вергилиевым «Буколикам» и посылал их, в частности, самому Данте, вызывая последнего на поэтические ответы в том же жанре. Переписка продолжалась с 1318 года по 1321-й (год смерти Данте). Вот в каких строках Джованни приглашал пожилого поэта-изгнанника в Болонью, в круг ученых ценителей античной музы:
- Место тебя привлечет: журчит там родник полноводный,
- Грот орошая, скала затеняет, кусты овевают;
- Благоуханный цветет ориган, есть и сон наводящий
- Мак, о котором идет молва, будто он одаряет
- Сладким забвеньем; тебе Алексид тимьяна подстелет —
- Я Коридона пошлю за ним, – Ниса охотно помоет
- Ноги, подол подоткнув, и сама нам состряпает ужин;
- А Тестиллида меж тем грибы хорошенько поперчит
- И, накрошив чесноку побольше, их сдобрит, коль наспех
- Их по садам Мелибей соберет без всякого толку.
- Чтобы ты меда поел, напомнят жужжанием пчелы;
- Яблок себе ты нарвешь, румяных, что щечки у Нисы,
- А еще больше висеть оставишь, красой их плененный.
- Вьется уж плющ от корней из пещеры, сверху свисая,
- Чтобы тебя увенчать…[30]
Ответы Данте звучат тяжеловеснее, принужденнее, и причина не только в разнице двух характеров и темпераментов, и даже не в уровне владения языком (все же Данте, в отличие от своего корреспондента, не был латинистом по профессии). Джованни, человек нового поколения, в своем отношении к Вергилию менее связан средневековыми схемами, он берется за Вергилия более смело и непосредственно, без оглядки на статус «пророка язычников» и одновременно непогрешимого, на школьный манер, авторитета в латинской словесности.
Заметим, что именно у Джованни дель Вирджилио впервые образы аркадских пастухов становятся метафорой гуманистического братства. Эти «аркадяне» (Джованни называет их «паррасийцами», от имени одной из областей Аркадии), как впоследствии у Саннадзаро, узнают и приветствуют друг друга поверх барьеров военно-политических распрей, раздиравших Италию:
- Здесь тебя ждут, и сюда соберутся толпой паррасийцы —
- Юноши все, старики и всякий, кто страстно желает
- Новым стихам подивиться твоим и древним учиться. (…)
- Здесь тебя ждут: не страшись ты нагорных лесов наших,Титир,
- Ибо поруку дают, качая вершинами, сосны,
- Желудоносные также дубы и кустарники с ними:
- Ни притеснений здесь нет, ни козней злых, о которых
- Думаешь ты, может быть; иль моей любви ты не веришь?
- Или, пожалуй, мою презираешь ты область?
- Но сами Боги, поверь, обитать не гнушались в пещерах: свидетель
- Нам Ахиллесов Хирон с Аполлоном, стада сторожившим…[31]
Мы не имеем документального свидетельства о контактах между Джованни дель Вирджилио и юным студентом из Ареццо по имени Франческо ди Пьетро, который однажды станет известен всему миру как Петрарка, но в том, что они встречались, можно не сомневаться. Будущий певец Лауры поступил в Болонский университет в 1320 году, именно тогда, когда Джованни слыл здесь лучшим знатоком латинской поэзии, и Петрарка в своем рано проявившемся поэтическом увлечении просто не мог пройти мимо этого яркого преподавателя.
Петрарка не менее решительно, чем Данте, провозгласит Вергилия своим поэтическим ориентиром. Но понятно, что «его Вергилий» будет другим. С эклоги, посвященной Вергилию, которого он назовет на греческий лад Партением[32], Петрарка начнет свой цикл латинских стихов, носящий «вергилиевское» название «Буколическая песнь». Здесь аlter ego автора, выступающий под именем Сильвий, защищая свои поэтические занятия перед братом-монахом, рассказывает, в частности, как учится у творца «Энеиды» высокому стилю, стремясь воспеть события Пунических войн и подвиги и добродетели Сципиона Африканского (речь идет об «Африке», большой латинской поэме Петрарки). Зато в некоторых текстах «Канцоньере» и без прямых отсылок к Вергилию различимы его «аркадские» мотивы:
- Non al suo amante più Diana piacque,
- quando per tal ventura tutta ignuda
- la vide in mezzo de le gelide acque,
- ch’a me la pastorella alpestra e cruda
- posta a bagnar un leggiadretto velo,
- ch’a l’aura il vago e biondo capel chiuda,
- tal che mi fece, or quand’egli arde ‘l cielo
- tutto tremar d’un amoroso gielo[33].
Эти стихи, кажется, не могли родиться вне ауры Вергилиевых «Буколик», с их вкусом к горному холоду и вообще к контрастам – тепловым, световым, эмоциональным.
Джованни Боккаччо впервые вводит на страницы итальянской литературы, пусть в эпизодической роли, аркадского пастуха: речь идет об Алкесте из романа-поэмы «Амето» (1342), участнике пикника с нимфами, победившем в поэтическом споре образованного пастуха-сицилийца Акатена. Акатен, кажется, представляет Феокрита, а Алкест – Вергилия; несходство их стилей отображено в форме страстного спора. Поэзия Алкеста воспевает горные кручи, дикие, девственные места, буйные травы, тяжелые, но захватывающие переходы по крутым склонам. Здоровье, плодотворящий инстинкт, полнота эмоций… Вергилий «Буколик» в терцинах Алкеста не только прочувствован до тонкости, но и, в некотором смысле, усилен, сгущен.
Поэтический цикл, полностью посвященный «аркадской» теме, под заглавием «Pastoralia», создает в 1464 году на латыни Маттео Мария Боярдо. В 1483 году он публикует еще один цикл пасторальных эклог на вольгаре[34], венчаемый панегириком Альфонсо, герцогу Калабрии (будущему королю Неаполя Альфонсо II), за освобождение от турок города Отранто. Книга была благосклонно принята при неаполитанском дворе, где могла произвести впечатление и на Якопо Саннадзаро, тогда двадцатипятилетнего придворного (и, между прочим, участника похода на Отранто), вдохновив его на творческое соревнование. Большая часть стихотворного текста «Аркадии» будет написана одиннадцатисложником с дактилической рифмой[35] – довольно редким в XV веке размером, использованным Боярдо в одной из эклог.
Но не менее важный творческий импульс молодой поэт воспринял от Джованни Понтано, которому, как будет рассказано ниже, предстояло сыграть большую роль в его судьбе. В нескольких латинских элегиях Понтано, созданных в 1450-е годы, миф об Аркадии сливается с памятью о родине и о юности:
- Древний высится дуб, сохраняем несчетные годы;
- Был он, коль верить поэту, приют божества[36]:
- Пан под ним возлежал, нимфу обняв Наретиду[37],
- К горной насельнице пылкой любовью пленен.
- Менал свой позабыв и милые склоны Ликея[38],
- Дом свой аркадский, пещеры, отнюдь разлюбив,
- В край зеленый пришел, где Виджа, берег лаская,
- Влагой поит до обилья мой отчий удел[39].
А вот поэт обращается воспоминанием к ручью Кази, текущему в родном краю:
Воскрешаемый в памяти мир юности, с ее пылкостью, спонтанностью, фантазиями, похотью, связывается с Паном, олицетворяющим природное, биологическое начало в человеке. Соответственно, родные места осознаются поэтом как новая Аркадия.
Якопо родился 28 июля 1458 года, в день святого Назария (San Nazaro)[42]. Он был первым ребенком в семье неаполитанского рыцаря Николы Саннадзаро и Мазеллы Сантоманго, происходившей из рода салернитанских баронов. Святой Назарий (ум. 304), христианский мученик из Милана, высоко почитался в Ломбардии, на исторической родине семьи будущего поэта; рыцарский род Саннадзаро уже в X веке владел значительными земельными угодьями в этих местах[43]. До наших дней там существует селение Сан Надзаро де’Бургонди, от которого, надо полагать, происходит и фамилия. Рождение первенца мужского пола в день памяти чтимого семьей святого могло быть воспринято как указание на особое покровительство свыше, хотя сам Якопо, напротив, впоследствии называл себя рожденным «среди несчастливых предзнаменований – кометы, землетрясений, заразы, кровавых битв» («Аркадия», Проза VII).
В средневековых итальянских междоусобных войнах большая часть рода Саннадзаро примыкала к гибеллинской партии, то есть держала сторону императоров Священной Римской империи против партии римского папы. Отличительными чертами многих носителей этой фамилии были воинская отвага, верность и здравомыслие. В течение XII–XIV веков представители рода Саннадзаро многократно занимали должность подеста (градоначальника, соединявшего в своих руках гражданскую, военную и судебную власти) в весьма значительных центрах – таких как Милан, Павия, Верчелли, Мантуя, Кремона, Модена, Новара, Бергамо и других. За тот же период из рода вышло по меньшей мере три епископа. В XV–XVI веках одна из его ветвей дала целую династию правоведов, профессоров Павийского университета. Фамилию Саннадзаро носил основатель одной из первых типографий в Милане.
Во время войны короля Карла III Анжуйского за неаполитанский престол среди его ближайших соратников-полководцев был прадед поэта, Никола. В награду за воинскую доблесть он, навсегда переселившись в Южную Италию, получил от Карла обширные земельные владения. Большая и лучшая часть этих земель, впрочем, менее чем через полвека была отнята у его потомков произволом дочери Карла, королевы Джованны II, оделявшей чужими богатствами своих многочисленных фаворитов. В разгоревшейся после смерти королевы войне за престол Саннадзаро примкнули к той части неаполитанского рыцарства, которая поддержала Альфонсо Арагонского, триумфально вступившего в город в феврале 1443 года. Но возвращения утраченных при Джованне имуществ семья не дождалась. Более того, ей пришлось испытать немалые обиды и от новой династии – при сыне и наследнике короля Альфонсо, Ферранте.
В 1461 году Никола Саннадзаро умер на пятом году брака, оставив Мазеллу с двумя детьми, младшему из которых было всего шесть месяцев от роду[44]. Не прошло и двух лет, как король Ферранте своим указом закрепил одно из владений Саннадзаро, холмы близ озера Аньяно, за самовольно захватившим его Гийомом Лемуанем, литейщиком бомбард для армии, родом из Парижа. В здешней почве были найдены квасцы – сырье, важное для изготовления пороха и для крашения сукна. Оба производства – пороховое и сукнодельное – привлекали живейший интерес короля, и предприимчивый француз обеспечил себе полную свободу рук. В 1468 году последовал новый удар: Ферранте пожаловал селение Санто Манго, приданое Мазеллы, адмиралу флота каталонцу Гальцерандо Реквесенсу.
Прервав обучение старшего сына, вверенного трудам лучших преподавателей и показывавшего отменные успехи, Мазелла была вынуждена удалиться из Неаполя, где все напоминало о пережитом унижении, где жизнь отныне стала ей не по средствам, в родительскую вотчину, селение Сан Чиприано в Пичентинских горах. То была настоящая глушь, где зима обильна снегопадами, а остальное время года – внезапными паводками, где вся жизнь протекает в пастушеских заботах: ничем, кроме пастбищ и лесов, этот край не богат, разительно отличаясь от более близких к морю плодородных местностей. В этой «пастушеской Аркадии» и прошло отрочество Якопо, принеся ему первые поэтические вдохновения. На склоне лет Саннадзаро с эпической торжественностью описывал эти места и свою тогдашнюю жизнь в латинской элегии:
- Есть в Пичентинских горах прекраснейшая долина;
- Служит там отчим богам благочестивый народ.
- Справа нависнув над ней, грозной Черреции круча
- В небо взнеслась, – ей имя дубовая роща дала[45].
- Слева зрят на нее Тебенны скалы святые,
- Званьем забавный своим Мерулы высится пик[46].
- По сторонам широко леса раскинулись тени;
- Мощно потока волна с горных сбегает верхов.
- Фавна, коль правду рекут, дом козлоногого дикий
- Здесь: жертвы свои звери приносят сюда[47].
Фавн – римское имя Пана. «Пана, хранителя стад, почитали в Аркадии древней; / Он появляется там часто на горных хребтах»[48]. Вот и окруженный горами детский мир Якопо осенен присутствием Пана, о котором он уже в свои ранние годы читал в латинских поэмах. Конечно, слова о народе, «чтущем отчих богов» нельзя принимать буквально. Традиционная религиозность в Южной Италии вплоть до наших дней изобилует приметами глубокой дохристианской архаики, но о прямом почитании поселянами языческих богов в XV веке не могло быть речи. В этом месте элегии Саннадзаро делает то же, что делал в «Аркадии» и в более поздних «Рыбацких эклогах»: вводит современных ему персонажей (в данном случае, самого себя) в мифологический мир древности. Итак, далее:
- Здесь приемлет спиной быка прекрасного тёлка,
- Мужа нечистого гладконосая любит коза.
- Тысяча лож для дриад, убежищ мохнатым сатирам,
- Гроты – укромный приют богини, жилицы лесов[49].
- Вивула (имя ручья), Субукула, с тонкой струею,
- Третий – чье имя звучит стуком, как град ледяной[50].
- Юная мать меня сюда в мои ранние годы,
- Радуясь, привела к родному отцу своему,
- Местным неся божествам с собою обетные дары,
- Свежих гирлянды цветов – сонму учеников.
- То был сонм Аонид, где в сестрах имела подмогу
- Сама Каллиопа, хором своим предводя.
- Делийское[51] звонких детей многоголосое пенье,
- Плектру ее руки внемля, струилось легко.
- Здесь же, помню, меня влагой святой омывали:
- Здравию тел она первой подмогой была.
- Так омывши детей, ставили их хороводом,
- Льющимися вокруг звуками огласив.
- И, опоясав затем плющом или девственным лавром,
- Под кифару меня звучным учили ладам.
Картина образования, которое было доступно мальчику в глухом горном замке, в общих чертах ясна. Каллиопа – муза красноречия и эпической поэзии – представляет здесь обучение латинской грамматике и риторике по хрестоматии, откуда дети нараспев читали перед учителем, возможно, под аккомпанемент стихи из того же Вергилия[52]. Еще их обучали танцам и игре на лютне (что еще другое может быть обозначено именем кифары?). «Святая влага» – холодная вода из горных речек (напомним, горы для Саннадзаро священны как обитель Пана); купание в ней давало мальчикам необходимую физическую закалку. Трогательная деталь: заботясь о том, чтобы учеба оставляла у детей чувство праздника, Мазелла украшала комнату занятий свежими цветами.
- Там, среди пастухов, я попытался впервые
- Трель лесную издать тростинок нечетным числом.
- И, сочиненную песнь в прохладной тени напевая,
- Бесчисленные стада пас на просторных лугах.
Упоминание о неисчислимых стадах (innumeros greges) – допустимая гипербола: в краю, где пастушество являлось единственным способом пропитания, стада действительно бывали огромны. До самого XIX века скотоводство в горных районах Кампании было отгонным; весенней порой коз и овец из множества долин, из десятков селений уводили на дальние нагорья, обильные луговой зеленью, и странствие пастушеских семей во главе масс скота продолжалось до глубокой осени. Не кажется вымыслом и то, что мальчик-дворянин участвовал в пастушеских трудах: при перегонах стад в условиях феодальной чересполосицы присутствие юного синьора могло защитить пастухов от недоразумений с другими землевладельцами:
- Опику и Андрогею внемля, и преданиям сельским,
- Скал сострадание я слезами моими подвиг,
- Чтобы гробницу родной, чтобы скоротечный любимой
- Матери жребий воспеть, и плачи твои, Мелисей…[53]
Опик и Андрогей – эти идеальные персонажи «Аркадии» могут иметь самые разные прототипы: и неаполитанских гуманистов старшего поколения, и родственников поэта по материнской линии, баронов Сантоманго, и даже простых деревенских стариков-пастухов, с которыми мальчик мог проводить немало времени. В приведенных строках упоминаются темы будущей книги, из чего некоторые биографы делают вывод, будто первые ее главы и эклоги были написаны еще подростком. Однако, как достоверно известно, плач Мелисея был присоединен к поэме лишь после 1490 года, когда поэту было уже за тридцать. А пока, в свои десять-пят-надцать лет, под песни, сказания, плачи горцев, под рев и блеянье стад, Якопо проникался тем настроением, которое в будущем определит дух «Аркадии», где бок о бок идут восхищение красотой мира, страстное любовное томление и светлая печаль об умерших, достигающая воодушевления поистине религиозного.
Поэтическое чувство у Якопо с самого начала было окрашено в тона томления по недостижимому и печали по утраченному. Еще в Неаполе, мальчиком восьми лет, он испытал длительную горячую влюбленность в ровесницу Кармозину Бонифачо, доводившуюся ему кузиной. Детское чувство впоследствии могло развиться в зрелую любовь и, теоретически, привести к браку: в дворянской среде были не так уж редки браки на двоюродных и троюродных сестрах. Но то, что после смерти отца семья оказалась удобной мишенью для притеснений, не могли не учитывать более благополучные родственники и соседи: братья Саннадзаро не были выгодной партией. В решении Мазеллы вывезти детей в деревню мог присутствовать и такой довод: матери не хотелось, чтобы мальчики, подрастая, увлекали себя мечтами о сверстницах из семей, от которых теперь отделяла черта опалы и бедности. Якопо навсегда потерял предмет своей любви; когда он, почти двадцатилетний, вернулся в город, Кармозина уже была замужем. История первой любви впоследствии явилась одной из главных линий, образующих сюжет «Аркадии».
Пичентинская добровольная ссылка семьи затянулась, кажется, почти на десятилетие. Взрослея, Якопо, как старший мужчина в доме, занял в семье место главного, ответственного за ее хозяйственные интересы. В архивах сохранились два разрешения на перегон стад скота из Потенцы в Неаполь, выданные королевским двором на его имя в 1478 и 1480 годах, – дело небезопасное, по причине обычных в те времена разбоев[54]. Расстояние между Потенцей и Неаполем – 156 километров по современной автотрассе; по тогдашним дорогам оно могло быть гораздо длиннее и потребовать семи-восьми ночлегов, грозивших нападением вооруженной шайки. При плохом исходе перегон мог стоить жизни или имущества, при хорошем – подарить будущему писателю сюжет в духе романов о Диком Западе; этот юношеский опыт Якопо стоит иметь в виду при оценке персонажей «Аркадии», которых литературоведы с легкостью называли «переодетыми в пастушеское платье дилетантами» за их «слишком утонченные» речи[55].
К счастью, «ковбойские» занятия не огрубили юношу. Пичентинские горы не привязали его к себе навечно. В первую очередь того требовала необходимость пройти обряд посвящения в рыцари и принести присягу на верность, которую Якопо, как сын столичного дворянина, должен был приносить в столице. В 1478 году в составе королевского войска ему пришлось отправиться в поход против Флоренции, но от прямого участия в кровопролитии он на первый раз оказался избавлен: война, уже было разгоревшись, закончилась подписанием договора о мире и о союзе между государствами-соперниками.
Вернувшись в Неаполь около 1478 года (документов, указывающих точную дату, не сохранилось), Саннадзаро входит в круг придворных, рыцарей, ученых, а также людей, увлеченных всевозможными познаниями, искусством, поэзией, историей и классическими языками, еще в 1458 году оформившийся в Академию, подобные которой создавались тогда и в других крупных центрах Италии. Его приближает к себе председатель Академии, душа гуманистического круга Неаполя, Джованни Понтано (в принятой среди гуманистов латинизированной форме его имя звучало как Иовиан Понтан: так будем называть его в дальнейшем и мы), игравший весьма важную роль и при королевском дворе[56].
Плодовитый поэт, автор диалогов на темы морали, религии, современной жизни, управления государством, хозяйства, эрудит, практический политик, дипломат, пользовавшийся уважением по всей Италии и в других странах Европы, Понтан навсегда остался для Якопо наставником, авторитетом, едва ли не вторым отцом. В ряде отношений он был противоположностью своему ученику: в политике и придворном служении – прагматик, в быту – бонвиван, в отношениях с женщинами – неукротимый гуляка. Посвятив до полусотни стихов, порой весьма фривольного свойства, своим многочисленным любовницам и просто куртизанкам, законной жене Понтан преподнес в дар целую книгу стихов, прославлявших супружескую любовь, а для детей сочинил циклы поэтических колыбельных, – на латыни, как и все остальное, написанное им. Как в отношении веры, так и в практической морали далекий от образа доброго католика, Понтан писал о важности религии в воспитании юных девушек, а после смерти жены устроил в центре Неаполя поминальный храм, посвященный апостолу и евангелисту Иоанну. Политический мозг Неаполитанского королевства, он мыслью, пером, а подчас и мечом полвека служил королям Арагонской династии, тридцать лет из них, цвет жизни, отдав служению Ферранте, одному из самых подозрительных, коварных и жестоких монархов пятнадцатого века.
Понтан полюбил искреннего, скромного, прямого, всегда серьезного Якопо, как сына (собственным сыном он был разочарован). Он надеялся создать при дворе круг умных, знающих и верных людей, способных поддерживать, корректировать и смягчать политику короля, дельного, талантливого и не лишенного добрых качеств, но с детства униженного своим положением бастарда[57] и озлобленного вечными интригами знати. Из планов гуманистического реформирования государства ничего не вышло, а Саннадзаро не стал советником монархов; он стал поэтической славой Неаполя, которая на века пережила Арагонскую династию и вышла далеко за пределы Италии.
Сохранившийся указ о зачислении Саннадзаро в свиту Альфонсо, герцога Калабрии, старшего сына Ферранте и наследника его престола, датирован февралем 1481 года. Альфонсо в то время вел осаду города Отранто, полугодом ранее захваченного турками, и молодой рыцарь должен был находиться, естественно, в войсках, близ своего господина[58].
Вращение в придворной среде несло немалые испытания для цельности натуры Якопо. Жизнь королей и их свиты была наполнена безудержным распутством; подражая нравам имперского Рима, неаполитанская знать проводила досуг с куртизанками в термальных природных купальнях Байи[59]. Понтан, частый посетитель купален, посвятил пухлый сборник эротических стихов на латыни любителям байских утех и их веселым подружкам. Среди адресатов его стихотворных посланий – принцы, вельможи, ученые-гуманитарии, медики, священники, епископы. А вот строки, обращенные к нашему герою – Акцию Искреннему (именно Понтан дал своему юному другу это прозвище, приросшее к нему на всю жизнь)[60]:
- О, что тебе, скажи, что толку, Акций,
- Прислушиваться к стонам голубиным
- Иль Австра[61] бормотаниям гудящим
- Оставь же меналийские чащобы
- И тех Амариллид[62], Тебенны льдяной
- Насельниц и иссохшего Танагра[63], —
- Стремись же к Байям, к миртовому брегу,
- Почти сей брег и миртовые Байи.
- Здесь – право юности: здесь с девушкою можно
- Заняться нежною игрой неутомимо,
- Лобзания и легкие укусы
- Дарить украдкою друг другу, греясь
- В объятьях жарких, можно веселиться
- Беспечно среди чаш, огней и хоров.
- Таков устав байянских омовений.
- Здесь, старику, мне подобает, стычки
- И поединки девушек с юнцами
- На сладкий мир склонять и на веселье,
- К слезам примешивая шутку, а к забаве,
- Напротив, слезы. Ибла[64] огорчилась,
- Что прикусили язычок? – Повелеваю:
- Дружок пусть Ибле пурпурные губки
- Отметит яркой меткой. Авл горюет,
- Что поцелуев не хватило? – Пусть подружку
- Лобзаний одарит тройною мерой.
- На Лика часто сердится Ликинна? —
- Счинив обоим общие законы,
- Любовников связую договором:
- Трапезуют пусть вместе, вместе ванну
- Имеют, и покоятся на ложе
- Совместном, и, соединясь устами,
- Друг друга нежат, и единый сон вкушают.
- Вот радости какие и утехи
- Дадут тебе целительные бани.
- Уделят уголок тебе байянцы —
- И распростишься с флейтой сицилийской!
- «Прощай, туманная Тебенна! – скажешь. —
- Меня теперь пусть ублажают баньки!
- Ведь Байи чтут и род людской, и боги!»[65]
В начале послания Понтан вышучивает дорогие для юного поэта «аркадские» мотивы. Но Саннадзаро, который в обычной жизни, как покажет дальнейший рассказ, не менее Дон Кихота Ламанчского мог бы претендовать на звание Рыцаря Печального Образа, выказал в данном случае достаточное чувства юмора, чтобы не обидеться. После смерти Понтана он, вместе с друзьями по Академии готовя к печати собрание стихов учителя, включил туда и эту озорную эпистолу.
Как бы то ни было, по собственной ли стыдливости или боясь огорчить строгую и набожную мать, Якопо не увлекся «блаженными баньками» и тамошними «сиренами». Но это расхождение с учителем ни в чем ином не отдалило их друг от друга.
Примерно к тому же времени (1478–1480) относится еще одна история любви и потери, отразившаяся как на судьбе поэта, так и на его творчестве. Убедившись в твердости моральных принципов Якопо и чувствуя к нему все большую симпатию, Понтан, отец трех дочерей, пожелал видеть его мужем младшей из них, Лючии. Якопо, весьма польщенный, был представлен будущей невесте, только входившей в брачный возраст. Но девушка неожиданно умерла (мы не знаем причины) неполных пятнадцати лет от роду. Среди стихов Якопо остались два горестных сонета, оплакивающих «маленького ангела, слишком возвышенного для нашей низкой жизни», который вернулся к небесным хорам, прибавив им света (Lucia созвучно итальянскому luce, «свет»), а землю оставил темной и пустой[66]. История Лючии в «Аркадии» соединится с историей Кармозины.
Обновив отроческий опыт потери надежд, потери мечты, Саннадзаро на долгие годы остался одиноким. Своей семьи создать ему так и не довелось.
Немалая часть написанного поэтом отмечена глубокой печалью, а подчас и жаждой смерти. Иногда отчаяние в его стихах сгущается до степени, заставляющей вспомнить Леопарди и Бодлера:
- Здесь пал Икар. Здесь каждая волна
- След крылатого хранит поныне.
- Здесь путь его закончился в пустыне,
- И поколеньям зависть суждена.
- Да, эта смерть вполне искуплена,
- Паденье привело его к вершине.
- Блажен, кто так погиб, о чьей кончине
- Песнь пропоют в любые времена.
- Таится радость в неизбывном горе:
- Он, словно голубь, взмыл за облака
- И принял гибель в голубом просторе, —
- Но именем его уже века
- Необозримое грохочет море.
- А чья могила столь же велика?[67]
В начале 1480-х годов Саннадзаро работает над романом-поэмой, полностью посвященной теме Аркадии. В окончательном варианте книга так и будет называться – «Arcadia»; первоначальное заглавие звучало как «Arcadio» («Аркадянин»). Герой-неаполитанец, ушедший в Аркадию, чтобы разлукой погасить чувства к любимой, не отвечающей ему взаимностью, продолжает жестоко страдать в стране, где природа во всем своем нерастраченном богатстве и полнокровии и жизнь пастухов, хранящих верность заветам «золотого века», – все дышит любовью и взывает к любви. Сильные впечатления каждого дня, переживания товарищей, подобные собственным переживаниям героя, музыка, пение, священнодействия, пастушеские труды и забавы прекрасных юношей и девушек – все держит его душу в состоянии непрерывной сладкой муки, не давая ни впасть в отчаяние, ни охладеть к предмету своей страсти. При чтении книги возникает множество живописных ассоциаций, чему способствует и то, что описания рукотворных картин (порой – реальных работ художников конца XV века) присутствуют в книге наряду с жанровыми и пейзажными картинами, созданными воображением автора, так что между первыми и вторыми не ощущается никакой разницы. На протяжении двенадцати прозаических глав и двенадцати стихотворных эклог все происходящее окружено покоем, атмосферой, поглощающей время подобно сну, что напоминает живопись современников Саннадзаро – Перуджино, Беноццо Гоццоли или Лоренцо Косты. Легко связать этот феномен с широким распространением и комментированием неоплатонических идей и, в частности, с концепцией «сна-созерцания» Марсилио Фичино. Но в том, что популярность этих идей непрерывно росла, угадывается полусознательное желание заклясть, замедлить бег исторического времени, стремительно ускорившийся в последние годы XV века в связи с усилением борьбы за гегемонию в Европе (главной ареной этой борьбы стала именно Италия) и Великими географическими открытиями.
Эпизоды пастушеской жизни аркадян даны будто в восприятии ребенка – не как звенья цепи причин и следствий, а как простые, неспешно сменяющие друг друга картины-впечатления. История врывается в повествование лишь однажды, когда в Эклоге X один из персонажей пересказывает друзьям содержание песни неаполитанского поэта, в которой чужая общественная жизнь представлена в образе бури, кружащей людей и богов, одинаково смятенных и бессильных перед нею.
Основная часть поэмы, составляющая три четверти ее текста, была написана до середины 1480-х годов; на десятой эклоге работа над «Аркадией» была прервана, после чего незавершенная поэма, как свидетельствует друг Саннадзаро Пьетро Суммонте[68], вопреки воле автора выйдя из тесного круга ближайших к нему лиц, стала распространяться в списках, быстро завоевывая популярность.
До самых тягостных страниц в истории Неаполитанского королевства было еще далеко; молодой, мало искушенный в политике автор не мог отчетливо сознавать, что произойдет с его страной за полтора десятилетия. Но в силу привычки к самоуглублению, развитой с детства в горной глуши, и пережитого страдания его камертон был особенно чуток:
- Равно покрываясь ознобом и потом,
- Трепещу, поистине, новой болезни —
- Страдать от познания сути злосчастий…
Говорить о «сути» («соли», как буквально сказано в подлиннике) происходящего языком политиков и историков Саннадзаро навряд ли стал бы; но он чувствовал зловещее, нарастающее внутри страны и вокруг нее напряжение, которое должно было разразиться грозой. Изнурительная тоска провидца, бессильного предотвратить общую беду, еще сильнее обостряла в нем боль от личных утрат.
Вернувшись к поэме более чем через десять лет после смерти Лючии и, вероятно, примерно через год после смерти матери, Якопо не мог и не хотел увенчать счастливым концом историю своего героя. Из слов цитированной нами выше (с. 32) поздней элегии мы знаем, какого рода мотивы попудили Саннадзаро продолжить прерванную работу над «Аркадией»: желание оплакать утраченную возлюбленную и воздать надгробные хвалы матери, к чему присоединилось соболезнование горю Понтана – смерти его жены Арианны. Матери, вспоминаемой под именем Массилии, посвящена Проза XI и соответствующая ей эклога. В Прозе XII автор возвращает героя в Неаполь, где разбивает его надежды на встречу с любимой неожиданным, никак не объясняемым, а просто как бы повисшим в воздухе известием о ее смерти. Недосказанность и темнота этого места проявляет внутреннюю боль поэта гораздо резче, нежели написанные им стихотворные плачи над умершими дорогими людьми, как в составе «Аркадии», так и вне ее, в сонетах и элегиях. Чтобы закончить свою песню скорби, поэту приходится от своего горя обратиться к чужому. Смерть любимой, упомянутая почти обмолвкой, почти намеком, покрывается молчанием. Заключительная, двенадцатая, эклога «Аркадии», ничего более не говоря о несчастье героя, посвящена плачу впервые появляющегося на страницах книги Мелисея (Понтана) над могилой жены. В качестве образца для эклоги Саннадзаро берет посвященную памяти Арианны латинскую элегию Понтана.
Книга имеет открытый финал. Расставаясь со своим героем на самом дне его горя, когда впереди нет ни малейшего просвета, автор за него, странным образом, спокоен. Ни личное несчастье, ни грозящие всенародные беды, о приближении которых герой извещен заранее, не смогут уязвить некую глубинную сердцевину его души. Ему нет обратного пути в Аркадию, но сам Неаполь становится для него Аркадией; он и здесь видит себя на холмах, оглашаемых вдохновенным пением, под сенью пастушеских богов. Среди всего, что выпадет на его долю, он будет жить таинственной жизнью: его душа останется храмом любви – и поэзии, которая одна способна дать земной любви бессмертие.
Как в социальном, так и в творческом отношении 1480-е – начало 1490-х годов были для поэта временем успеха. Он пользовался уважением сыновей Ферранте, принцев Альфонсо и Федерико. Близость ко двору не приносила ему значительного богатства или влияния (он к ним и не стремился), но защищала от произвола сильных. Историческая эрудиция Якопо, его живая любовь к греко-римским древностям Кампании, его безупречная латынь находили применение: иностранные послы и прочие высокие гости неаполитанского двора охотно пользовались услугами молодого придворного в качестве гида по руинам Кум и Путеол[69]. По должности он писал тексты представлений придворного театра и сценарии маскарадов, в том числе на неаполитанском диалекте; для души – сонеты на вольгаре, элегии и эклоги на латыни. Одни стихи посвящены покровителям и друзьям по Академии, другие – дамам из светского круга, но никакой любовной историей этот период не был отмечен, во всяком случае это нам неизвестно.
Оставаясь холостяком, Якопо мог иметь какие-то неузаконенные отношения с женщиной. Сохранилась латинская эпитафия на смерть младенца, по мнению ранних биографов Саннадзаро, посвященная им своему внебрачному сыну. Но это предположение ничем не доказано, а передается лишь по смутному слуху. Иные, напротив, считали, что поэт до самой смерти оставался девственником[70]. Семейное счастье, даже неполное, упорно обходило его стороной. Не дожив до пятидесяти, умерла горячо любимая мать. Отношения с младшим братом, теперь уже взрослым и женатым, разладились вплоть до того, что имущественные споры с ним пришлось решать в суде.
Впрочем, личные неурядицы вскоре заслонила череда бедствий общественных. В 1485 году несколько мощных аристократических кланов Неаполитанского королевства, поощряемые римским папой Иннокентием VIII, предприняли попытку мятежа против короля-«ба-старда». Фактической причиной выступления было недовольство политикой государственной и экономической централизации, проводимой Ферранте. Поддерживала мятежников и часть высших функционеров двора во главе с государственным секретарем Антонелло Петруччи. Узнав о заговоре, король с отменной хитростью и цинизмом, избегая прямого военного столкновения с мятежниками, усыпил бдительность главарей заговора посулами и обещаниями, а затем уничтожил одного за другим. В течение 1487 года Неаполь увидел многочисленные казни и бессудные убийства магнатов, еще недавно способных соперничать с королем как по богатству, так и по военной силе[71]. Положение Ферранте упрочилось лишь ненадолго; в январе 1494 года, когда государство еще не успело оправиться от последствий очередной чумной эпидемии, а над Италией сгущались тучи новой большой войны, король умер. Престол унаследовал старший из принцев, сорокапятилетний Альфонсо, бессменный главнокомандующий неаполитанской армией в течение последних двадцати лет. Весь немалый военный опыт не пригодился новому монарху в столкновении с неоспоримо более мощным врагом – французским королем Карлом VIII, который, заявив о своем праве на престол Неаполя сразу после смерти Ферранте, получил поддержку папы Александра VI. Серьезного столкновения, собственно, не произошло. Как только французская армия пересекла границы королевства, наемные войска Альфонсо разбежались, а родовитая знать, таившая злобу после казней 1487 года, большей частью перешла на сторону французов. Не пробыв королем и года, Альфонсо, убежденный Понтаном, отрекся от престола в пользу сына Феррандино («маленький Ферранте» – так звали в народе внука Ферранте Первого, чтобы отличать от страшного деда). Это было лучшим из возможных решений: с юных лет известный надменным и жестоким нравом, лично ответственный за многие казни в последние годы правления отца, Альфонсо не вызывал добрых чувств ни у собственных придворных, ни у знатных магнатов, ни у простонародья. Еще более прибавляло ненависти к нему его неудержимое сластолюбие: если его учитель – и нередкий товарищ в утехах – Понтан был готов не только щедро одаривать каждую байскую куртизанку, но и прославлять ее в стихах, то принц предпочитал брать силой женщину любого положения, не отвечавшую взаимностью на его грубые ухаживания. Теперь этот человек омывал ноги нищим и простаивал ночи на коленях, обливаясь слезами. Укрывшись в одном из дальних монастырей, он в считанные месяцы сгорел от скоротечно развившегося рака. Феррандино, видя невозможность оборонять столицу в обстановке массовой измены и бунтов, посадил оставшиеся верными войска на корабли и отплыл на Сицилию, находившуюся во владении родственника – испанского короля Фердинанда.
22 февраля 1495 года войска Карла VIII вошли в Неаполь и разграбили его. Но долго удерживать город французам не пришлось. Нежданно и слишком быстро свалившийся в их руки плод вызвал зависть у других крупных европейских игроков. Император Священной Римской империи Максимилиан вступил в союз против Франции с Венецией и другими североитальянскими государствами; папа, боровшийся за Неаполь с тайным планом посадить на тамошний трон своего сына Чезаре, изменил союзу с Карлом. Фердинанд Католик, король Испании, предоставил флоту Феррандино базу на Сицилии и послал ему в помощь свое войско. Но едва ли не самым бедственным обстоятельством, которое навело на Карла VIII настоящий ужас, была разгоревшаяся эпидемия сифилиса – закономерное последствие бешеного разгула, которому предалось его воинство, празднуя легкую победу. Mal de Naples, неаполитанская болезнь – называют с тех пор сифилис во Франции. В мае король вместе с большей частью армии покинул Неаполь и двинулся на север, к родным границам. Оставшиеся на месте французские войска (6000 конников и 4000 пехотинцев) в июне были атакованы высадившимися в Калабрии отрядами Феррандино и его союзников-испанцев. В июле Феррандино, при поддержке восставших жителей Неаполя, удалось овладеть жилыми кварталами города: у французов остались только замки. Лето и осень прошли в местных боях с переменным успехом. Одновременно молодой король вел переговоры со своими старыми врагами, мятежными баронами, успевшими разочароваться во французской власти, а также с населением городов, обещая снижение податей и иные льготы. Была объявлена амнистия изменникам; тем не менее значительная часть отпавших феодалов не соглашалась возвращаться под власть Арагонской династии, и Феррандино приходилось биться за каждый город, за каждую крепость. Ради пополнения истощенной казны он был вынужден сделать огромные займы у Венецианской республики под залог трех крупных портов на Адриатике. После этого венецианцы не только поддержали его деньгами, но и высадили на территории королевства свои отряды, тесня французов с востока. Союз с Испанией был ознаменован женитьбой 27-летнего короля на 18-летней принцессе Джованне, своей тетке по отцу: она была дочерью Ферранте I от его второй жены, Хуаны Арагонской (по неаполитанскому счету Джованны III), сестры испанского короля Фердинанда Католика. Всю первую половину 1496 года Феррандино и его союзники, не растрачивая силы, медленно, но неуклонно пробивались к победе. В конце июля остатки французских войск прекратили сопротивление; мятеж баронов догорал в нескольких осажденных крепостях.
В августе-сентябре Неаполь был охвачен обычной в эту пору года малярией. Королевская чета заболела, как и тысячи горожан разных сословий. Джованна вскоре поправилась, но ее молодого супруга-триумфатора, физически крепкого, как его дед и отец, болезнь за месяц свела в могилу. По свидетельствам современников, ни одного короля в Неаполе не хоронили в обстановке столь искреннего и всеобщего горя[72]. Внезапная смерть Феррандино – третьего короля за три года – выглядела грозным знамением. С этой смертью погасли, едва забрезжив, все надежды. Арагонская династия не имела другого кандидата на престол, равноценного Феррандино по личным качествам и авторитету.
Об участии Саннадзаро в событиях тех лет сохранились лишь фрагментарные сведения. Возвращаясь к «началу болезней», к заговору и мятежу баронов, мы понимаем, что никто, уличенный в связях с мятежной партией, в двуличии по отношению к королю Ферранте и принцам, не мог сохранить свое положение при дворе, а положение Саннадзаро было хоть и скромным, но стабильным даже в самый разгар репрессий. Значит, у Ферранте не было сомнений в его верности; вообще старый король не только хорошо разбирался в людях, но и, в отличие от многих других тиранов, понимал, что людьми прямыми и искренними, как Якопо, разбрасываться глупо.
Десятая эклога «Аркадии», законченная, вероятно, или перед началом прямого военного противостояния 1485 года, или, во всяком случае, до учиненного королем истребления мятежников, пронизана сильнейшей тревогой за судьбы страны и общества:
- Не видишь, как лунный смеркается образ?
- Как меч Орионов зловеще блистает?
- Тепло улетает, ненастие правит;
- Арктур утопает в бурлящей пучине,
- А солнце лучи угашает, скрываясь;
- Проносятся ветры, со стоном вздыхая,
- И я вопрошаю: настанет ли лето?
- Проносятся с громами рваные тучи,
- Эфир взбудоражен от множества молний,
- И мнится, что близко скончание миру.
Но поэт не ограничивается сетованиями. В эклоге, хоть и сознательно написанной намеками («великое малой завесой скрывая»), присутствуют и открытые обличения королевской власти, наделяющей привилегиями и землями бюрократов и военных из Каталонии за счет владений, отнимаемых у местного дворянства (вспомним, что и семья самого поэта пострадала таким же образом).
В эклоге есть и призывы к действию; но к кому конкретно они были обращены и что именно, по мнению поэта, надлежало делать, для современного читателя остается непростым вопросом:
- О пастухи, роса, что в хладных сумерках
- Вредит плодам, пусть прекратится вовремя,
- Пока вам кровь года не охладили.
- Не ждите вы, когда земля покроется
- Травою сорною, не медлите пропалывать,
- Пока серпы у вас не затупились.
- Рубите корни у плюща не мешкая,
- Не то под силою его и тяжестью
- Не вырасти в лесу зеленым соснам.
Большинство итальянских комментаторов Саннадзаро, как прежних, так и современных, полагают, что коль скоро поэт хранил непоколебимую верность королям Арагонской династии, то он должен был поддерживать и любые меры этой власти, направленные на подавление мятежа, в том числе казни и конфискации. Но как уже было сказано, у Саннадзаро имелись собственные обиды на королевский двор по части конфискаций. Были люди, которых он мог считать лично ответственными за страдания своей семьи, – как, например, государственного секретаря Антонелло Петруччи, в 1464 году скрепившего своей подписью акт о передаче имения Саннадзаро в чужие руки. С разными представителями обеих сторон – королевской и оппозиционной – он мог иметь самые различные, добрые или недобрые, дружественные или враждебные, отношения. Коренное дворянство в Кампании объединялось в кланы, где власть старших не могла не влиять на политическую ориентацию и поведение младших. Личная дружба, преданность, уважение между людьми из разных кланов подчас не могли помешать им оказаться во враждующих лагерях: принципы феодальной или родственной верности были сильнее чисто личных симпатий. Эти традиционные связи учитывали все участники конфликта, включая и короля: поэтому устрашающие жестокости по отношению к мятежникам легко сменялись поисками компромисса, широкими амнистиями, и наоборот. Не приходится искать у Саннадзаро политической определенности, которую можно было бы ожидать от европейца XX столетия. Если он и делил соотечественников по какому-то признаку, граница для него проходила скорее между людьми чести и бесчестными, сострадательными и жестокими, щедрыми и жадными, любителями знания и косными невеждами, талантами и посредственностями. Не обращены ли слова поэта к творчески и интеллектуально одаренным людям (кого и подразумевает он постоянно под именем «пастухов»)? Не их ли призывает он хранить терпение и настойчивость, не сдаваться перед косностью, узостью, ленью, конформизмом, близоруким своекорыстием, ограниченностью жизненных интересов и целей? Это и есть та главная борьба, от исхода которой зависит будущее Неаполитанского королевства, Италии, мира…
Видеть в приведенном фрагменте призыв к беспощадной борьбе с мятежниками затруднительно уже потому, что эта речь вложена поэтом в уста реального персонажа, Джанфранческо Караччоло, весьма далекого от безусловной поддержки Арагонской династии. Несколько лет спустя, во время второго французского вторжения, этот человек будет приветствовать Людовика XII как освободителя от ига «узурпаторов», то есть займет позицию прямо противоположную саннадзаровской. И если бы два собрата-поэта, два товарища по Академии, два друга – Джанфранческо и Якопо – встретились в те дни на поле боя, они без колебания обнажили бы друг против друга мечи. Но ни тогда, ни впоследствии имя Караччоло не будет изглажено со страниц поэмы и ни одного из похвальных слов, высказанных в его адрес, Саннадзаро не возьмет обратно.
Итак, в момент торжества французов (оказавшегося недолгим, но тогда об этом нельзя было сделать прогноза) вопрос о том, продолжать ли быть верным побежденной стороне или склониться перед победителем, для Саннадзаро не стоял. Сохранились два стихотворных текста, напрямую связанных с его моральным выбором в те дни. Один из них, на латыни, имеющий адресатом канцлера французской короны Пьера де Рошфора, написан, вероятно, в ответ на обращение Рошфора к неаполитанскому дворянству с призывом к спокойствию и повиновению: сменилась, мол, лишь династия и неаполитанцам нечего опасаться. Саннадзаро возражает: несравнимо то, как получил трон Неаполя Альфонсо Великодушный, воспринявший этот город как вторую родину и отказавшийся ради него от законных наследственных владений в Испании, и то, как ведут себя французы, грабя жителей страны, превращенных в бесправных и запуганных пленников:
- Манит пускай свирепых тиранов добыча,
- Великодушным царям в радость – лишь слава одна[73].
Навряд ли французы оставили бы безнаказанной подобную дерзость, останься Саннадзаро в завоеванном городе. Саннадзаро сам пишет в той же элегии, что «любить своих королей» в глазах завоевателей равняется преступлению и влечет жестокие кары, если не смерть.
Примерно тогда же поэтом была написана на вольгаре, в форме сонета, эпиграмма, не носящая имени адресата, но, без сомнения, обращенная к королю Альфонсо Второму. Душа, которую многие считали вместилищем добродетелей, пишет Саннадзаро, ты оказалась бездной зла. Твое имя, прославленное в моих стихах, да исчезнет навсегда с листов бумаги, на коих я пишу, и с моего языка. Я хотел сложить о твоих триумфах еще одну книгу (кажется, намек на книгу Боярдо, посвященную победе Альфонсо при Отранто), но по твоей вине ее не будет. Ступай, жаждущая и изнуренная, пить из горькой реки забвения, а моя бумага пусть останется чистой[74]. Поэт-рыцарь не мог простить королю его отказа от исполнения рыцарского долга.
В архивах сохранился документ, составленный 8 февраля 1495 года, за десять дней до вступления врага в Неаполь: повелением его величества Ферранте Второго, холм близ Аньяно вместе с прилегающими территориями, прежде несправедливо отнятый у семьи Саннадзаро, возвращается во владение рыцарю Якопо Саннадзаро и его наследникам обоего пола навечно. Подпись поставлена молодым королем в военной ставке у Сан Джермано[75]. Итак, Саннадзаро, после отречения Альфонсо прибыв в войско и принеся присягу новому монарху, попросил исправить несправедливость, причиненную его семье три десятилетия назад, что и было ему обещано. Мы понимаем, что и просить милости у короля в столь критический момент, и получить ее мог лишь тот, кто обещал быть с этим королем до конца, в жизни и в смерти. Определенно известно, что в июле 1495 года Саннадзаро принимал участие в боях за неаполитанский замок Кастелло делла Кроче, занятый французским гарнизоном[76].
На следующий день после смерти Феррандино на престол взошел его дядя, младший брат короля Альфонсо, Федерико. Его мужество и военные дарования не вызывали оптимизма у его соратников и подданных. При французах младший из неаполитанских принцев повел себя хуже старшего: он изъявил покорность Карлу VIII, прося лишь сохранить за ним его личный удел вместе с титулом «князя Альтамура». Карл раздраженно отказал[77]. Только тогда Федерико, не видя возможности оставаться в Неаполе без земель, денег и двора, присоединился к своему более смелому племяннику. Мятежные бароны, поверившие в амнистию, объявленную Феррандино, после воцарения Федерико немедленно отложились снова. Враги и ненадежные друзья династии как в Италии, так и за ее пределами, зная слабые стороны нового короля, учитывали их, строя свои планы.
В последние годы жизни Ферранте Первого Саннадзаро был весьма близок к Федерико, слывшему любителем книг, ценителем поэзии и не столь грубому и надменному, как Альфонсо; окружающие считали отношения принца и поэта дружескими – насколько возможна дружба между людьми столь разного положения. Теперь многие ожидали, что поэт, в дни нашествия доказавший свою верность династии с оружием в руках, получит какой-то весьма высокий пост. Сочетание в одном лице ученого-гуманиста, поэта и сановника было характерной чертой политической жизни Неаполя Арагонской эпохи. Самыми яркими и дельными личностями из ближнего круга королей были не выходцы из родовитой знати и не профессиональные бюрократы, а интеллектуалы – такие кардинальные фигуры Неаполитанской академии и литературной школы, как Беккаделли (Панормита)[78], Понтан, Каленцио[79], Голино[80], Каритео[81] и ряд других. Но Саннадзаро, с его независимым характером, прямотой и несклонностью «делать как все», навряд ли годился для высокого поста при таком короле, каков был Федерико. И король, раздавая приближенным целые города и феоды, ограничился в отношении Саннадзаро тем, что на третьем году царствования пожаловал ему небольшую и скромную виллу – бывшее монастырское подворье – у берега моря, в местности Мерджеллина[82], и шестьсот дукатов ежегодной пенсии.
Саннадзаро ответил посвящением на латыни:
- Ревность к писанию ты вложил в меня, Федерико,
- Весь мой талант к твоим подвигая хвалам.
- Ныне меня одаряешь званием новым:
- Волей твоей предстал земледельцем поэт[83].
В этих строках некоторым из позднейших комментаторов слышались нотки неудовлетворенности и иронии. Однако все последующие поступки Якопо по отношению к Федерико показывают, что поэт искренне считал себя обязанным королю. Для почитателя Вергилия, с его «Буколиками» и «Георгиками», слова «волей твоей предстал земледельцем» не могли означать чего-то унизительного[84]. В «Аркадии» он называет Понтана, чей сад находился, кстати, не очень далеко от Мерджеллины, «жрецом и земледельцем дивного холма» (Эклога XII). Площадь виллы была невелика, чтобы говорить о ее хозяйственной ценности: зато как место книжных занятий и дружеских встреч в тесном кругу, она вполне отвечала характеру и склонностям поэта.
Тем временем над королевством снова сгущались тучи. Новый государь Франции Людовик XII объявил, что не собирается отказываться от итальянских амбиций своих предшественников. Хитрый папа Александр Борджиа поспешил устроить для своего двадцатичетырехлетнего сына Чезаре, уже зарекомендовавшего себя беспощадным военачальником, женитьбу на французской аристократке, отчего тот получил титул герцога французской короны. В течение 1499 и 1500 годов войска Людовика XII, предводимые новоиспеченным герцогом, захватили Милан, а затем устремились на завоевание Романьи и Генуи – крупнейшего порта на Тирренском море. В ноябре 1500 года в Гранаде между папой, испанским королем Фердинандом Католиком и Людовиком XII был заключен секретный договор о разделе Неаполитанского королевства, по которому Неаполь, Кампания и Абруццо отходили под власть французской короны, а Калабрия и Апулия – испанской. 25 июня 1501 года папа объявил короля Федерико отлученным от церкви. Менее чем через месяц французские и папские войска под командованием Чезаре Борджиа осадили Капую, главный город северной части Неаполитанского королевства. Захватив его с помощью предателя, они истребили гарнизон и население. Было перебито до восьми тысяч горожан, в том числе женщины и дети. Только сорок самых красивых капуанок были пощажены; Чезаре отослал их в Рим для услаждения папы.
Федерико, преданный испанским родственником, не поддержанный ни одной крупной силой в Европе, в отчаянии решился писать турецкому султану, предлагая ему протекторат над своим государством и город-порт Таранто в придачу. Но тот, к счастью, не польстился на это предложение, грозившее колоссальной опасностью всему христианскому миру. Одновременно с французами с юга в королевство вторглись испанцы. 19 августа Неаполь без сопротивления открыл ворота перед войсками Людовика. Федерико обратился к агрессору с унизительным письмом, упрашивая оставить его титулярным королем-вассалом: «Я буду доволен одним лишь королевским титулом, буду платить Вам ежегодно столько золота, сколько Вы потребуете, и какие бы войны Вы ни пожелали вести в Италии, я буду вести их вместе с Вами»[85].
Людовик ответил, что ему, напротив, угодно поселить Федерико во Франции, предоставив ему во владение приличный домен и тридцать тысяч дукатов годового содержания. 6 сентября Федерико, его семья и его свита (пятьсот человек) на десяти кораблях отплыли в Марсель. Сопровождал его туда и Саннадзаро, предварительно продавший большую часть своего имущества: вырученные пятнадцать тысяч дукатов он отдал на нужды короля, с лихвой отплачивая за ранее оказанную ему милость. Он покидал родной город больным: после сорока лет его почти беспрерывно мучила язва желудка.
В Северной Франции Федерико получил в распоряжение герцогство Мэн с таможенными, торговыми и иными сборами. Едва ли не единственной обязанностью его как почетного пленника было сопровождать Людовика в любых его поездках по стране в составе его свиты. Публично экс-король усиленно выражал преданность своему новому господину, доходя до раболепия, но перед собеседниками-итальянцами мог подчас наивно проговориться, что еще надеется вернуть себе корону. Свита его неуклонно таяла, хотя образ жизни оставался довольно роскошным.
Тем временем ситуация вокруг Неаполя резко изменилась. Испания, разорвав Гранадское соглашение, весной 1503 года напала на французские войска в Кампании; менее чем за год французы были полностью выбиты с территории королевства, и 31 января 1504 года обе стороны заключили мир на новых условиях: за французским королем в Италии оставалось лишь герцогство Миланское, зато испанскому отходили все обширные земли Юга. Федерико должен был безвыездно пребывать во Франции; на положении пленника был оставлен и его старший сын, вывезенный в Испанию. Такой исход событий оказался слишком тяжел для экс-монарха, который до последнего был готов обманываться, теша себя пустыми надеждами. В течение лета 1504 года его здоровье и душевное самочувствие стремительно ухудшались, а 9 ноября он умер. Вдову-королеву лишили и герцогства, и денежного содержания. О возвращении Изабеллы, коренной неаполитанки, в родной город не шло и речи; испанцы менее всего хотели видеть ее детей в Неаполе – разве что мертвыми.
Продав самое дорогое, что имела, – библиотеку мужа, полную редких рукописей, и свои украшения, – Изабелла испросила у Людовика разрешения выехать вместе с детьми в Феррару: тамошний герцог приходился Федерико родственником по матери. Ее отпустили с двумя дочерьми и двухлетним сыном Чезаре, удержав заложником чуть более старшего Альфонсо. Горе не оставит ее семью надолго. Лишь вступив в пору юности, оба принца умрут при неясных обстоятельствах; судьбы принцесс будут искалечены так, что ни одна не оставит потомства.
Саннадзаро вернулся на родину весной 1505 года. За время его отсутствия здесь умерли старый друг Понтан, посвятивший своему Акцию Искреннему один из последних диалогов, и подруга детства, предмет первой любви, Кармозина Бонифачо. Но здесь же его, сорокасемилетнего изношенного и больного человека, ждала книга его юности, «Аркадия», давно получившая известность в рукописях и трижды изданная в незавершенном виде, с ошибками, а незадолго до его приезда впервые напечатанная по полному и исправленному тексту. Поэту пришлось восстанавливать и вновь обживать виллу на Мерджеллине, разоренную французскими солдатами. Здесь, на выступе туфовой скалы, он начал строить церковь, состоящую из двух частей – нижней, полностью вырубленной в скале, во имя Богоматери (ее предполагалось открыть для всех желающих), и верхнюю, частную, во имя покровителя рода св. мученика Назария. По недостатку средств и иным причинам, о которых речь впереди, строительство растянулось почти на тридцать лет: церковь будет украшена и освящена уже после кончины поэта.
Как и прежде, Саннадзаро посещал собрания Академии, а нередко устраивал их у себя на вилле, но от двора (теперь это был двор испанского наместника) держался подальше. Наместником в звании вице-короля состоял Гонсалво ди Кордова, тот самый, который в 1495 году вместе с Феррандино освобождал земли королевства от французов, в 1501-м захватывал те же земли с ними в союзе, а в 1503-м вторично выбивал их из Кампании. Много слышавший о Саннадзаро, он попытался взять его под покровительство. С целью познакомиться ближе, он попросил поэта устроить ему экскурсию по руинам римских храмов и амфитеатра в Поццуоли, древних Путеолах. Во время верховой прогулки Гонсалво много и торжественно говорил о победах испанского оружия, о величии новой империи, простершей свою власть через Атлантику. Когда же въехали в огромный тоннель, прорытый в римскую эпоху между Неаполем и Путеолами, долго молчавший Якопо сказал: «Теперь, ваша светлость, после вашего рассказа об испанских победах, мне предстоит знакомить вас с памятниками величия Италии. Рабы-пленники из разных народов (среди них были и испанцы) прорыли этот колоссальный грот. Но ничто в мире не бывает постоянным: вот и испанец, некогда пленник и раб, сделал рабами и пленниками нас». Гонсалво было известно, что Саннадзаро считает себя потомком испанцев. Тем резче прозвучали его слова. Не пожелав ни полусловом связать себя с победителями, но с прямотой и горечью признав себя одним из побежденных, поэт одной фразой отбил у вице-короля охоту его приручить.
Двор наместника не был единственным очагом светской жизни в покоренном городе. Для знатных лиц, ищущих общения и балов, для поэтов и музыкантов появились новые центры притяжения. Первым из них был так называемый «двор скорбящих королев» (как увидим в дальнейшем, название скорее ироническое) в замке Кастель Капуано: здесь жили вдова Ферранте I Джованна III, его дочь Беатриче – вдова венгерского короля Матвея Корвина; другая его дочь Джованна IV – овдовевшая в возрасте восемнадцати лет супруга Феррандино, а также дочь Альфонсо II Изабелла – вдова убитого герцога Миланского Джан Галеаццо Сфорца. Можно думать, что, распорядившись поселить почти всех коронованных вдов прежней династии в одном месте[86] и открыв его для приемов, Фердинанд Католик хотел слегка подсластить для местной знати пилюлю подчинения иностранному владычеству, а заодно устроить удобный пункт слежки за настроениями в ее среде. В первые годы, пока обитательницы замка были здоровы и относительно молоды, Кастель Капуано гудел, как улей: балы и празднества следовали один за другим, а вокруг королев вился рой кавалеров всяких возрастов, что давало поводы для неумолкавших скабрезных слухов. Саннадзаро был здесь нечастым гостем, делая исключение для герцогини Изабеллы, с которой его связывали взаимное уважение и дружба. Именно к нему герцогиня обратилась с просьбой подыскать наставника-гуманиста для своей дочери Боны, будущей королевы Польши и Литвы.
Гораздо привлекательнее для него, как и для большого числа неаполитанских интеллектуалов и людей искусства, был другой круг, который трудно даже назвать «светским» – настолько его нравы отличались от того, что считается обычными приметами светской жизни. Это был стоящий на острове Искья, в сорока километрах от неаполитанского берега, замок герцогини Костанцы д’Авалос, представительницы еще одной итальянизированной испанской фамилии. Костанца, оставшаяся вдовой во цвете юности[87], вместе со своим братом Иньиго поселилась на Искье в 1501 году. На протяжении всей войны 1501–1504 годов замок острова оставался единственным уголком земли Неаполитанского королевства, куда не ступала нога захватчика. В 1503 году, после смерти Иньиго приняв командование над небольшим гарнизоном, Костанца (ей было тогда сорок три года) в течение четырех месяцев оборонялась от сорока французских галер. Лишь в самом конце войны, когда был ясен исход, она велела поднять над островом испанский флаг и впустила на него представителей короны, – после чего, в знак особого уважения к ее заслугам, была утверждена пожизненно правительницей Искьи. Эта привилегия потом сохранялась за фамилией д’Авалос в течение трех с лишним столетий. Для эпохи, отмеченной фантастическим коварством, своекорыстием, склонностью к предательству, для города, утратившего свободу из-за почти всеобщей беспринципности верхов и низов, Костанца стала фигурой символической, едва ли не священной; ее называли Сивиллой Искьи, уподобляя древней пророчице из Кум[88]. Вокруг герцогини стал складываться круг ярких личностей, посещавших ее замок и подолгу гостивших в нем[89]. В 1509 году ее внучатый племянник Фернандо д’Авалос женился на Виттории Колонна, девушке из знатной неаполитанской семьи. В замке на Искье прошло венчание, здесь же и осталась жить молодая пара, но в 1511 году Фернандо принял командный чин в испанской армии, после чего провел в походах практически все оставшееся время своей недолгой жизни[90], а на долю его жены выпали годы томительных тревог и предчувствий. Талантливая и умная Виттория с первых дней украсила своим участием литературные и музыкальные вечера в замке тетки. Полученный от старших поэтов творческий импульс вызвал к жизни ее первые собственные стихи, полные сильного и свободного чувства, какое нечасто пробивалось в итальянской лирике шестнадцатого века сквозь условности и штампы:
- Когда мгновенно тот утес, где было
- Мое лишь тело – дух летел с тобою —
- Густая туча мрачная покрыла,
- То воздух показался мне стеною
- Непроходимой мглы, сова гудела
- В тот день, слепой и темный; предо мною
- Вода, Тифея омывающая тело[91],
- – Поистине, пугающее диво! —
- В пасхальный день, среди весны, кипела.
- Эол с ветрами воды гнал бурливо,
- И плакали дельфины, и сирены,
- И рыбы… В черном омуте залива
- Морские боги плакали, смятенно
- Внимая гласу: «О Виттория, ты встала
- Днесь на краю беды; но непременно
- Она спасение и будущую славу
- Явит: хранимы памятью любовной,
- Твои отец с супругом, оба здравы».
- И я в душе звучавшее дословно
- Костанце мужественной рассказала,
- Лицом поникнув скорбным и бескровным[92].
Морские божества, испуганно плачущие перед явлением силы, высшей, чем они сами, – заимствование из «Аркадии» (Эклога Х); при этом у Виттории получилось впечатляющее олицетворение бури и вместе с тем яркий образ непреодолимой судьбы. У Саннадзаро тоже речь идет о судьбе, судьбе целой страны, но картина бедствий создается простым нанизыванием аллегорий, и те же морские божества остаются лишь мифологическим топосом.
Биографы утверждают, что здесь же, на Искье, Саннадзаро работал над своим последним, много лет вынашиваемым детищем – латинской поэмой «О рождении от Девы». С Искьей связаны и его «Рыбацкие эклоги», продолжающие линию Феокрита, Вергилия и его собственной «Аркадии», но теперь условно-идеальных аркадских пастухов сменяют условно-идеальные неаполитанские рыбаки, певцы своих любовей и утрат. В этой книге, тоже латинской, то есть рассчитанной на образованного читателя, кажется, впервые проявилась черта, которая с XVI века и вплоть до наших дней останется характерной для неаполитанской литературы, народной песни, театра и пластических искусств, – мифологизация Неаполем самого себя: город, смотрящийся в круглое зеркало залива, воспринимает себя как театр, разыгрывающий вечное действо о красоте и безобразии, любви и смерти[93].
Одинокого, навсегда завороженного несбывшейся любовью, поэта тянуло к женщинам со сходными судьбами – прекрасным, полным достоинства, свято хранящим любовь – но любовь несбыточную. Такая привязанность согрела и его поздние годы.
Вскоре по возвращении в Неаполь он сдружился с Кассандрой Маркезе, дочерью известного в Неаполе правоведа, в прежнее время доверенного лица короля Ферранте. Дядя Кассандры был товарищем поэта по Академии. Кассандре было в ту пору, вероятно, около двадцати пяти лет, она была хороша собой и исполнена многих достоинств, но судьба ее сложилась несчастливо. В августе 1499 года ее выдали замуж за Альфонсо Кастриота, маркиза Атрипальда, правнука знаменитого албанского князя-героя Скандербега[94]. Остается лишь гадать о причинах, по которым свадьбе активно способствовал король Федерико, а вдова его отца Джованна III (она была младше своего пасынка на два года), к чьей свите принадлежала Кассандра, этому упорно противилась[95]. Также не совсем понятно, почему Альфонсо, обвенчавшись с Кассандрой негласно, с обещанием (по брачному контракту) ввести ее в свой дом через полгода, по истечении срока отказался это сделать, но стал просить церковные власти о признании брака недействительным[96]. Дело затянулось почти на двадцать лет: Альфонсо отказывали, один за другим, трое пап – Александр VI, Пий III и Юлий II. Прямых обвинений против своей невесты он не выдвигал, но в случае удовлетворения просьбы ее добрая репутация была бы сильно поколеблена. Кассандра, со своей стороны, в ответном иске пыталась помешать разводу. Саннадзаро, уверенный в том, что Кассандра не была виновна ни в чем, что могло бы опорочить имя ее мужа, с непоколебимой решительностью взялся за отстаивание ее интересов. Его упорство в этом деле дало некоторым биографам повод предположить, что между ним и юной Кассандрой еще в 90-е годы возникло взаимное чувство, которое вызвало у Альфонсо ревность, когда до него, уже после венчания, дошли какие-то порочащие жену слухи. Все это ничем не доказывается и само по себе крайне маловероятно. Можно не сомневаться, что, будучи хорошо знаком с отцом и дядей Кассандры, Якопо, как свободный мужчина, влюбись он в девушку, повел бы дело открыто и официально. Из того, как я представляю себе характер нашего поэта, мне легче допустить, что Кассандра привлекла его именно теперь, и не только личными качествами, но и своим трудным положением. Она стала для него объектом любви рыцарско-поэтической – женщиной-другом, собеседником, музой и одновременно как бы сказочной принцессой, которую надо было спасать от злого волшебника или дракона. В течение пятнадцати лет поэт напрягал все силы и нервы, использовал все связи и знакомства, тратил немалые деньги, заваливал папских секретарей гневными письмами, защищая ее дело в курии и одновременно выдерживая поток сплетен и интриг со стороны «двора скорбящих королев». Но зачем, с какой реальной целью? – непременно спросит наш современник. Ради того, чтобы Кассандра могла формально числиться женой не любившего ее человека? Иметь надежду родить ребенка в законном браке? Получать денежное содержание от маркиза, который сам только и мечтал поживиться через будущую супругу? Сохранять «доброе имя» в развратной среде неаполитанской аристократии, где доброе имя меньше всего ценили? Ни один из вариантов ответа не кажется удовлетворительным. Мы не знаем всех деталей дела, но судя по тому, что знаем, предприятие Саннадзаро выглядит не только не имеющим ясной цели, но проигрышным даже в случае победы. Реального средства принудить маркиза к капитуляции не существовало: на крайний случай у него оставался такой привычный для эпохи способ разрубить запутанный семейный узел, как убийство. Попытка ответа на вопрос, что двигало поэтом в его безнадежной борьбе, будет сделана ниже.
В 1518 году Кастриот одержал победу, подкупом добившись у папы Льва X позволения на второй брак – точнее, двусмысленного документа, который можно было истолковать как позволение. Всего лишь через пару месяцев курия «отозвала» свою бумагу как «добытую обманом», но Альфонсо хватило этого времени, чтобы обделать свое дело, вероятно, до точки подготовленное заранее: он успел жениться на девушке из великолепного герцогского рода Гонзага[97], и этот брак был признан. Когда через три года Лев X умер, Саннадзаро отозвался латинской эпиграммой:
- В час последний свой, таинств священных взыскуя,
- Лев причаститься не смог: сам их распродал давно.
Грустную и светлую любовь-дружбу с Кассандрой поэт сохранит до последнего вздоха, посвящая ей стихи и целые книги. В стихах он, уже семидесятилетний, горяч и страстен, пламенея от ее взгляда, покрывая мысленными поцелуями ее брови, глаза, волосы, руки.
Саннадзаро все чаще терпит изнурительные боли в желудке, сопровождаемые кровавой рвотой, которые, по его собственным словам, подчас доводят его до полубезумного состояния. Но когда острота боли спадает, он благодарит Бога за то, что «проходит чистилище на этом свете»[98]. И как только чувствует себя в силах, садится на коня и едет к Кассандре, чтобы снова и снова переживать восторг от одного созерцания и слышания, от сознания близости с самым дорогим на свете существом. А затем принимается за поэму о рождении Христа от Девы, считая эту работу главной задачей своей жизни. Он не оставляет и своих товарищей по Академии, заседания которой уже регулярно проходят у него на вилле. В 1525 году, оправившись от тяжкого приступа болезни, когда никто не ждал, что он встанет с одра, Саннадзаро избирается председателем Академии и носит это звание до конца дней.
Поэма «О рождении от Девы», после долгой шлифовки изданная в 1526 году, была с энтузиазмом воспринята в церковных кругах как вдохновенный и искусный ответ на «хулы еретиков», то есть протестантов, отвергавших почитание Марии как Приснодевы, Божьей Матери, Предстательницы церкви. Поэт получил восторженный отзыв от папы Климента VII. Не стоит, однако, забывать, что тогда же, издалека следя за первыми шагами протестантизма, Саннадзаро смотрел в его сторону с живым интересом и надеждой, разделяя с Лютером ярость против распутного и подкупного папства. В своих письмах, даже адресованных папским секретарям, он, бывало, не удерживался от горячего пожелания, чтобы Рим был когда-нибудь сожжен Господним гневом, подобно Содому и Гоморре.
Последние годы поэта были омрачены гибелью ставшего любимым уголка – виллы на Мерджеллине. Вновь, который уже раз в его судьбе, по хрупкому маленькому миру уединенной жизни прогрохотала колесами государственная военная машина. В апреле 1528 года французские войска, осадив Неаполь с моря, сделали попытку прорваться в город со стороны Поццуоли, через ту самую «крипту», у входа в которую погребен Вергилий. Расположенная неподалеку вилла Саннадзаро, с башней, что поэт построил для наблюдения за звездами и любования морскими далями, могла стать для них опорным пунктом. Взгромоздив на башню несколько пушек, они простреливали бы округу почти на полкилометра. Возглавивший по приказу Карла V оборону Неаполя Филибер де Шалон, князь Оранский[99], упреждая такую опасность, распорядился разрушить и дом и башню. Окруженный зеленью приют поэта за пару часов был превращен в кучу камней и щебня. Саннадзаро принял потерю мужественно, понимая, что протесты и жалобы бесполезны. Но когда два года спустя, лежа на смертном одре, он услышал, что князь Филибер убит при осаде Флоренции, слова его были: «Марс отплатил за оскорбление, которое он нанес Музам».
Мучимый болезнью, Саннадзаро много лет жил с мыслью о близкой смерти. После пятидесяти он мало что приобретал, стараясь ограничивать себя в потребностях. Теперь, в старости, видя приближение конца, надо было раздавать и жертвовать. Церковь, еще не вполне законченную, вместе с суммой денег на ее содержание и участком земли, оставшимся от разоренной виллы, он отдал монашескому ордену сервитов. При этом он просил монахов совершать ежедневные мессы о душах покойных родителей, короля Федерико и своей собственной. Он оставил при себе только двух слуг – повара и посыльного. Это были юноши-негры, купленные совсем маленькими и выросшие у него в доме[100]. Еще до смерти Якопо обоим была дарована личная свобода; по завещанию они получали также его фамилию и суммы денег, достаточные для обзаведения домашним хозяйством и семьей. Одного из мальчиков, отличавшегося хорошим характером и восприимчивостью, он обучил латинскому языку, истории, философии и музыке. Товарищ поэта по Академии вспоминал, как во время ученой дискуссии по вопросу восстановления текстов Проперция, найденных незадолго перед этим в испорченной рукописи, Саннадзаро предложил своему чернокожему слуге пропеть стихи в том варианте, что он сам, Саннадзаро, считал правильным. Тот прекрасно исполнил волю хозяина, подыгрывая себе на лютне. Этот негр, имя которого биографы передают как Сенцало, вместе с поэтом принимал участие в собраниях Академии и даже, как утверждают, был зачислен в ее состав.
25 сентября 1529 года, лежа в постели в своем доме, в присутствии судьи, нотариуса и свидетелей Саннадзаро продиктовал завещание. Душеприказчиками были его брат Марко Антонио и Кассандра. После этого поэту довелось прожить еще более десяти месяцев. Чтобы легче было ухаживать за ним, Кассандра перевезла его к себе. В свои последние дни, крайне слабый, но до конца сохранявший здравый ум, Саннадзаро мог утешаться чертами дорогого ему лица, взглядом, голосом любимой, в котором звучало ободрение и сострадание.
В день Преображения 1530 года он умер на руках у Кассандры. Тело его было доставлено в его родительский дом, теперь принадлежавший брату, а отсюда, при стечении всего образованного Неаполя и иного собравшегося люда, перенесено в церковь свв. Северина и Соссия, где он был когда-то крещен, а теперь положен во временной гробнице. Через некоторое время, когда отделка церкви на Мерджеллине была завершена, останки поэта переместили туда.
Осенью того же 1530 года в Неаполе вышла из печати книга Саннадзаро «Сонеты и канцоны», открывающаяся предисловием-завещанием:
Подобно тому, как после тяжкой бури бледный и изнуренный кормчий, издали увидев землю и со всяким усердием ища избавления, старается пристать к ней, вновь связывая вместе куски сломанной мачты, – так и я, о бесценная и добродетельная паче иных госпожа, после стольких превратностей, перенесенных по воле Неба, плыву к тебе, как в желанную гавань, вместе с обломками моего кораблекрушения, понимая, что нигде не смогу лучше сохранить их, как на твоем целомудреннейшем лоне[101].
Собрав вместе все посвященное любимой за четверть века, Саннадзаро желал обессмертить свою Кассандру подобно тому, как Петрарка – Лауру. Впрочем, сборник, впоследствии много раз переизданный, содержит стихи и на другие темы (все они написаны на вольгаре). Одновременно с «Сонетами и канцонами» вышла книга латинских эпиграмм и элегий. В ней была впервые напечатана та элегия, в которой поэт рассказывал о своем детстве и остальной жизни: некоторые из начальных ее строк я приводил в самом начале биографии поэта. А вот и последние слова:
- Ты же, свидетель моей старости дряхлой, Кассандра,
- Все, как гласит мой завет, сделай в исходе моем;
- Прах в могиле сложив, равно почтивши и кости,
- Не погнушайся певцу долг воздать твоему.
- Но иль не смей волос рвать, жизнь моя, надо мною,
- Или… Но – ох, возбраняет большее скорбь говорить[102].
В 1543 году Кассандра удалилась в доминиканский монастырь, где прожила до смерти (1569), достигнув почти девяностолетнего возраста. Цифра примерна; мы исходим из того, что в год неудавшегося замужества (1499) ей навряд ли могло быть больше двадцати.
Законно задаться вопросом, почему, когда Кассандра была объявлена свободной от брака с Альфонсо Кастриотом, Саннадзаро не женился на ней. В год ее развода ему исполнилось шестьдесят, ей, вероятно, не было и сорока. При разнице в возрасте, при тяжелых недугах поэта, однако, трудно поверить, что Кассандра, имея к нему горячее ответное чувство, отказала бы ему, сделай он ей предложение. Об этом гадали и биографы прошлых веков, высказывая подчас мнения, отнюдь не совместимые с тем, что мы знаем о моральных принципах Саннадзаро. Например, предполагалось, что, когда на папский престол взошел Климент VII Медичи, имевший славу покровителя искусств, Саннадзаро будто бы ожидал получить от него кардинальскую мантию, в чем женитьба могла ему помешать[103].
Предложу объяснение, которое кажется мне более всего идущим к личности и характеру поэта. Согласно традиции, восходящей к трубадурам, продолженной поэтами «сладостного нового стиля» и еще не забытой в шестнадцатом веке, Прекрасная Донна, предмет обожания и возвышенных похвал поэта, не могла быть его женой. Если трубадуры Прованса и их сицилийские продолжатели XIII века еще могли стремиться к физическому обладанию предметом своих песен, то поэты-стильновисты (Гвиницелли, Кавальканти) представляют Донну светоносным и ослепительным существом, побуждающим своего певца брать на себя род аскезы, которая включает в себя духовное и интеллектуальное развитие, очищение помыслов и чувств, стяжание «изящного сердца» (прямое соответствие «стяжанию чистого сердца» в церковной аскетике) и (также в параллель христианской добродетели «благодарного перенесения скор-бей») страдальческое претерпевание недосягаемости любимой. Яркое развитие эта тенденция получила, конечно, у Данте. Петрарка в лице Лауры вернул Донну земному миру, сопоставляя ее не с небесными иерархиями, а с красотой и величием мироздания. Благодаря этому именно образец Петрарки определил основное направление итальянской любовной лирики надолго вперед, но лишь формально; петрарковская энергия, глубина, тотальность любовного переживания, петрарковский космизм были не теми вещами, которые поддаются имитации. Итальянская любовная лирика вплоть до конца восемнадцатого века перебирала словарь Петрарки, превратив его в набор клише, не передающих чувство в его индивидуальной, живой непосредственности, а лишь бесконечно повторяющих типический образ воздыхателя. Увы, это можно сказать и о части сонетов Саннадзаро, обращенных к Кассандре. Поэтический эквивалент чувства связывали путы литературного канона; но ведь само чувство было подлинно и сильно. В пору молодости, в «Аркадии», Саннадзаро стремился свести воедино любовь идеально-поэтическую, любовь чувственную и любовь семейную. Может быть, смелость и свежесть этого порыва, на который с трудом решился бы другой современный ему писатель, и придала поэме особое очарование в глазах публики. Для самого же автора «Аркадия» стала поступком, за который надо было отвечать до конца. Возможно, здесь одна из главных причин того, что он не связал себя браком: ему нельзя было уронить и запачкать однажды поднятое им знамя, а удержать это знамя в реальных рамках обычной дворянской семьи, в существующей системе отношений казалось невозможным.
В годы странного романа с Кассандрой перед нами не мечтательный юноша, а много претерпевший человек. Он по-прежнему романтичен, он все так же влюблен в идеал, но у него нет ни надежды, ни энергии воплотить этот идеал, хотя бы отчасти, в семейных отношениях. В своем поэтическом осмыслении любви к Кассандре он выбирает традиционную, давно определенную «сладостным новым стилем» роль «певца Прекрасной Донны»; и это решение становится не только поэтическим, но и жизненным. Кассандра, должно быть, с самого начала отношений с Якопо понимала – и волей-неволей принимала – эти условия. Яростная борьба, которую вел Саннадзаро от имени Кассандры за ее несостоявшийся брак, на деле шла за то, чтобы обеспечить ей место Прекрасной Донны поэта. Борьба эта была в том числе и с «простым человеком» в самом себе. Взаимное влечение обоих было принесено в жертву цельности авторской позиции, цельности поэтического образа.
Послушаем, что говорит о Петрарке, ближайшем примере, которому в данном случае следовал Саннадзаро, современный мыслитель. Его слова хорошо подходят и к нашему герою: «Он не оставляет для себя почти никакой интимной жизни вне служения донне, служения славе, служения слову, которое буквально поглощало его с годами все больше – вплоть до последней минуты, заставшей его, согласно устойчивой легенде, над книгами и бумагами. Ему нет ни в чем готовой опоры; любовь, не благоразумная „любовь к Богу“ или холодная „любовь к человеку“, а захватывающая влюбленность – единственный узел, на котором укреплена его душа»[104].
III
Чтение – всегда диалог, даже когда его участники разделены большими расстояниями времени и пространства. Поэт, обращающийся к нам со страниц старинной книги, является нашим современником и собеседником уже в силу того, что мы ее читаем сейчас, в наших обстоятельствах времени и места. Моей задачей как переводчика было увидеть в Саннадзаро современника и собеседника, имеющего многим поделиться со мной и людьми моего века. Конечно, я хочу, чтобы он стал не только интересен, но и близок и дорог моим читателям.
В послесловии к «Аркадии», ставшей самым ярким и известным его детищем, Саннадзаро писал, обращаясь к своей свирели:
Не будет недостатка в таких, кто, строгим судом испытуя твои слова, скажут, что кое-где не вполне соблюла ты пастушеские законы, скажут, что не подобает выходить за пределы того, что кому прилично. Хочу, чтобы ты им, бесхитростно исповедуя свою вину, отвечала, что ни один пахарь, сколь бы ни был он искусен, не может пообещать заранее, что все борозды выйдут совершенно прямыми. Для тебя немалое извинение уже в том, что в твоем веке ты первая разбудила сонные леса и показала пастухам пример в пении уже позабытых ими песен. Ведь (…) и в прошлые времена бывали пастухи столь дерзновенные, что речь свою возвысили вплоть до ушей консулов Рима; в их тени и ты, свирель моя, вполне можешь укрыться и защитить свое дело.
На каком первенстве настаивает автор? На двойном: первенстве в том, что в поэме он вернул творческой и читательской среде некое забытое, давно утраченное содержание, и в том, что пересмотрел сами нормы жанра, выйдя за пределы прежних представлений о нем. В форму «бесхитростного исповедания вины» облечен решительный манифест, со ссылкой на Вергилия, перешедшего от сцен пастушеской жизни к масштабному историко-мифологи-ческому полотну. Саннадзаро, отстраняясь от задач эпических (он вернется к ним позднее), тем не менее дает понять читателю, что его нехитрые «аркадские» сюжеты открывают выход к чему-то весьма ценному и значительному.
Спустя пять веков после создания книги читателю не обязательно покажутся самыми важными именно те мысли и интуиции автора, каким придавал наибольшее значение он сам или его современники. Но, во всяком случае, поверим в серьезность заявлений Саннадзаро и приготовимся к чтению внимательному и вдумчивому. В этом кратком экскурсе я ограничусь лишь самыми общими наблюдениями. Надеюсь, что они будут полезны для читателя.
Принято считать, что Саннадзаро дал новоевропейской культуре самый чистый образец пасторального жанра[105], традиция которого, развиваясь в течение позднего Ренессанса и эпохи барокко, продлится вплоть до XIX века, когда произойдет второе, «модернистское» рождение пасторальных образов и сюжетов, благодаря чему пастораль переживет и следующий – XX век. Когда писалась «Аркадия», ее автор, конечно, не знал, что создает новый жанр, и не представлял себе, какое влияние окажет его сочинение. Тихий, скромный, послушный юноша, сильно привязанный к матери и только недавно покинувший уединенное родовое гнездо, он завидовал славе прежних поэтов, но если и надеялся написать что-то великое, еще небывалое, – то было лишь мальчишеской мечтой, а не проявлением «взрослого» литературного честолюбия или расчета.
Мысленно возвращаюсь к моменту, когда мне пришла мысль перевести «Аркадию». Это случилось в пасхальные дни 2012 года, когда я увидел первое издание «Аркадии» на выставке «Тициан и рождение современного пейзажа», проходившей тогда в миланском Палаццо Реале. Старинный томик in-quarto лежал в отдельной витрине в центре зала, по стенам которого были размещены полотна Беллини, Джорджоне, Тициана и других перворазрядных мастеров начала XVI века. Это центральное место, по мысли куратора выставки профессора Марио Лукко, отвечало тому, что именно «Аркадия», впервые опубликованная в 1502–1504 годах, изменила в творческом сообществе взгляд на природную среду. Под впечатлением этой поэмы – гласила аннотация – живописцы открыли, что природная среда на картине может быть не просто фоном для изображения чего-то более важного, но предметом первостепенным, самостоятельно выражающим всю глубину мыслей и чувств художника. Родился пейзажный жанр, вызвавший бесконечный полет творческой фантазии, породивший богатейшую поэзию образов, форм и цветов.
Такая, по мнению устроителей выставки, революция в художественном сознании произошла за считанные годы, начавшись в живописи венецианских мастеров; а ведь именно в Венеции роман Саннадзаро был впервые напечатан, пусть не полностью и с огрехами. И это было лишь самым непосредственным эффектом, который произвела «Аркадия» в культурной среде своего времени. Продолжительное ее воздействие на литературу, музыку и живопись не только в Италии, но во всей Европе началось уже после смерти автора, чья юношеская мечта, как оказалось, несла заряд огромной силы.
Самое, пожалуй, главное преимущество «Аркадии» перед многими сочинениями, написанными в том же жанре, – непосредственность и пылкость высказывания, неоднократно заставляющая вспоминать первые главы «Новой жизни» Данте. Изысканный, тщательно проработанный язык, изящно закругленные фразы, обильные россыпи аллюзий на античных авторов – все это лишь прикрывает трепет души поэта, как вулканическая корка – раскаленную лаву. Между ритмом текста и его внутренним зарядом существует странное напряжение: в мечтательно, неспешно движущихся образах, в сценах скорее живописных, чем литературных, Саннадзаро спешит выговориться обо всем, чем живет: о цветении молодости с ее избытком энергии, о юношеских нежности и похоти, о несчастье потери любимой, о матери, почитаемой поистине религиозно, о товариществе, о безудержном наслаждении красотой в природе, в человеке, в творениях искусства, о скорбях своей семьи, о бедствиях и угрозах своей эпохи и, наконец, о свойственных юности всех веков надеждах на обновление человечества. Формируя стиль своей прозы под влиянием «Амето» Боккаччо, Саннадзаро мало заботится об архитектурной стройности композиции. Его не волнует отсутствие единой сюжетной линии, что еще в старину дало многим повод считать, будто в книгу собраны юношеские литературные опыты, изначально между собой не связанные. Автор «Аркадии» ведет себя не как профессиональный литератор, озабоченный тем, чтобы угодить вкусу читателя. Подчас он не думает даже о понятности написанного; еще менее его волнует растянутость, многословность ряда мест поэмы.
В «Аркадии» есть что-то от речи пророка или визионера: поэт говорит как ответственный только перед истиной, которую он должен высказать – умело или неумело, но должен. Во все прошедшие после ее создания века находились люди, придававшие этой книге таинственное значение (религиозное или оккультное) и относившиеся к Саннадзаро как к учителю-провидцу. В частности, ждет специального исследования вопрос о месте «Аркадии» в идеологии раннего иллюминатства (конец XVII – первая половина XVIII века)[106]. За самой «Аркадией» не стоит философской или религиозной системы; она полна конкретных чувств и переживаний своего автора; но ее внутренняя глубина и, местами, почти проповеднический пафос действительно дают повод присмотреться к ней как к собранию идей, которые могут быть сложены в цельную систему – конечно, человеком иного склада, чем ее автор.
В жизни Саннадзаро не был дерзким пролагателем новых путей; по характеру его можно назвать консерватором. Не оправдывая деспотизма и жестокости королевской власти, сознавая бездарность и малодушие последних представителей Арагонской династии, он хранил ей безусловную верность, готовый пожертвовать ради нее имуществом, положением и самой жизнью. Мало разделяя догматизм и неотмирность христианства, откровенно ненавидя безобразия князей современной ему Римской церкви, он интересовался только что возникшим протестантизмом, но при этом остался преданным католиком, отдал двадцать лет написанию поэмы, прославляющей Пресвятую Деву, и завещал большую часть имущества монашескому ордену. В любовных стихах по-юношески страстный и в пожилые годы, в жизни он вел себя так, что его считали вековым девственником и, возможно, не ошибались. Пожалуй, главным его принципом можно назвать постоянство, верность себе: взявшись однажды защищать что-то, служить чему-то, он продолжал делать это, пока был в состоянии[107]. Во всем разнообразии проявлений в нем видится непобедимая внутренняя цельность. Только так удавалось ему совмещать языческую и христианскую набожность, служа и той и другой вере в образно-поэтической форме. Завершая «Аркадию» в возрасте уже весьма зрелом, он только дополнил ее и поправил стиль, не вычеркнув ничего из написанного двадцать лет назад, – всему сказанному тогда он остался верен. Не менее важно, что надгробие поэта, выполненное по его личным предсмертным указаниям, говорит о нем именно как о певце «Аркадии», – при наличии многих других произведений, об успехе которых в глазах публики он заботился куда больше. Итак, не видится препятствий считать его первую, юношескую книгу свидетельством опыта всей его жизни.
Итак, что же в «Аркадии» безусловно нового?
«Аркадия», как уже было сказано, первое произведение в европейской литературе, где природа предстает не как фон и декорация, а как полноправный предмет изображения. И более того – как основная жизненная ценность, как то, что обусловливает собой не только биологическое бытие человека, но и его понятия о любви и красоте, его труд и созданную им цивилизацию. Все «культурное» здесь не выделено из природы и тем более ей не противопоставлено, но изображается как возможное лишь в любовном взаимодействии, в постоянном соотнесении с нею. Пастушеский мир Аркадии в изображении Саннадзаро отнюдь не примитивно-груб и элементарен; это мир развитой и тонкой культуры, уравновешенной, облагороженной, очищенной от наносного и лишнего. Здесь все строится на красоте как на главном принципе именно потому, что все «природно»[108]. Здесь нет «высокого» и «низкого», но одинаково возвышенны (и даже неразделимы) священное и профанное, творчество и быт, труд и досуг, серьезное и игровое. Детородный инстинкт, влекущий друг к другу животных, и поэтическая любовь героев «Аркадии» равно прекрасны и чисты. Почтение к старшим легко и непринужденно, оно вытекает из почтения к богам и чувства благодарности к жизни. Здесь сами природные опасности и бедствия – волки, снежные лавины, болезни и падеж скота – дают острее почувствовать захватывающую красоту мироздания, где все оправданно и одно уравновешивается другим. И совсем иное дело – врывающиеся в этот мир людские пороки (эпизод с вором Лацинием из четвертой эклоги); они суть нечто несовместимое с природной гармонией и потому безобразное.
«Аркадия», насколько мне известно, впервые в европейской светской культуре ставит вопрос о жестоком и расточительном отношении к природе как о преступлении. Если язычники сдерживали себя хотя бы запретами убивать животных, посвященных богам (их боги и сами, как мы помним, нередко принимали обличье животных), или рубить деревья в священных рощах, то христианское общество рассматривало природную среду лишь как запас ресурсов, потребных человеку и находящихся в полной его власти[109]. Первым в католической церкви против жестокого отношения к животным выступил Франциск Ассизский, но это был глас вопиющего в пустыне. Откликнулись на него – спустя три столетия – лишь Томас Мор в «Утопии» и, особенно ясно и сильно, Мишель Монтень в «Опытах»[110]. Но еще прежде них Саннадзаро в «Аркадии», не высказываясь по этой теме от первого лица, дал, однако, такое описание бессмысленного истребления птиц, которое вызывает глубокое сочувствие жертвам и стыд за мучителей, чьи дела выглядят только ужаснее от того, что творят их симпатичные, по-детски влюбленные друг в друга подростки (Проза VIII, рассказ Карина). Примечательно, что когда юноша теряет любимую и, плача о ней, вспоминает проведенное с ней время, жестокая забава, которой они вместе предавались с большим увлечением, вовсе не приходит ему на ум. Высокое чувство в душе не может жить рядом с памятью о злодеяниях.
Среди важнейших и сквозных тем книги – искусство. У аркадян оно слито с природой и как бы продолжает ее; объекты природы и человеческого творчества перетекают друг в друга. Природа есть первая и образцовая художница. Вот с каким пассажем мы встречаемся уже в самом начале книги:
На равнине стоят, если не ошибаюсь, двенадцать или пятнадцать деревьев такой удивительной и своеобразной красоты, что любой, увидев их, сказал бы, что искусница Природа, создавая их, трудилась с наивысшим вдохновением. Расставленные в нерукотворном порядке, чуть поодаль друг от друга, они несказанно облагораживают природную красоту места своей необычностью.
(Проза I)
Красноречивая тавтология: созданные Природой необычные деревья усиливают «природную красоту места». Великая художница как бы превосходит самое себя.
Разницы между чистым искусством и прикладным для аркадян не существует; в описаниях вполне равноправно, вызывая одинаковое восхищение, представлены статуя божества, роспись дверей святилища, красиво отделанная рукоять посоха, кожаная сума, искусно навощенная свирель, затейливо обрезанные кусты вереска. Саннадзаро любовно разглядывает и осязает материалы, из которых сделана та или иная вещь: древесина, кожа, тростник под воздействием человеческого мастерства полнее являют свои природные свойства и красоту, а сделанные из них прекрасные вещи становятся символическими атрибутами их обладателя. Например:
Я (…) увидел, на расстоянии броска камня, пастуха, по виду весьма юного, завернувшегося в пастушеский плащ цвета журавлиного пера, с красивой сумкой из тонкой телячьей кожи на левом плече. На его волосах, цветом светлее, чем шафрановая роза, спадавших ниже плеч, была мохнатая шапка, сшитая, как я разглядел потом, из волчьего меха; в правой руке он держал прекрасный посох с концом, окованным блестящею медью; но из какого дерева был сделан этот посох, догадаться я не мог: по узору древесины он казался кизиловым, а по цвету – скорее из ясеня или самшита. И таков был этот путник, что поистине казался троянцем Парисом, когда в высоких лесах, среди послушных стад, в первозданной простоте обитал он со своею нимфой, венчая, бывало, зелеными гирляндами рога овнов-победителей.
(Проза VI)
Кроме великолепного портрета, здесь дана, в перечислениях и сравнениях, целая панорама животного, растительного, минерального мира, как бы участвующего в создании этого сочно насыщенного жизнью праздника вещей, изысканных в своей природной простоте[111].
Отметим важную функцию искусства по Саннадзаро – сублимацию страстей. Юные герои Саннадзаро влюблены, они пылают душой и телом, но бурные чувства не побуждают кого-то из них добиться предмета любви насилием; безответно влюбленный готов убить себя, но не сделает ничего, что могло бы унизить любимую, и не променяет ее на иную, более доступ-ную[112]. В этом помогают поэзия и музыка, всегда сопутствующие любви: обмениваясь песнями, посвященными любимым, влюбленные пастухи поддерживают друг в друге возвышенность и красоту чувств. Но весьма важна и роль пластических искусств: изображения, в том числе священные, весьма часто имеют своей темой горячую страсть Пана и сатиров, умеряемую сопротивлением нимф; эти изображения не возбуждают, но, напротив, отрезвляют и приучают любоваться красотой женщины без обладания ею.
В «Аркадии» ярко выражен своеобразный религиозный пафос. Опыт любви, переживаемый героями, становится опытом познания сродни мистическому. Песня Галиция, обращенная к прекрасной Амаранте, заставляет вспомнить церковные гимны:
- В сей день краса явилась
- Нам даром животворным,
- И добродетели вновь обрели жилище;
- Дано слепому миру
- В том чистоты познанье,
- На много лет отброшенной далече.
Красота, преображающая чувства и сознание, выступает как спасительная сила и новое откровение. Эта идея роднит юного Саннадзаро с пафосом «Рождения Венеры» и «Аллегории весны» Сандро Боттичелли (обе картины созданы с 1482 по 1485 год, то есть одновременно с «Аркадией»), где изображения Венеры и Весны по конфигурации и в некоторых деталях подражают иконографии Христа. Важно заметить, что ни у Боттичелли, ни у Саннадзаро преклонение перед красотой не имеет в себе ничего профанно-гедонистического. Красота полнокровна и влечет к себе все чувства и помыслы человека, но коснуться ее можно лишь благоговейно, без своекорыстия и дерзости.
Почитание Красоты – глубинная интуиция религии аркадян. С внешней же стороны эта религия содержит в себе простые пастушеские верования и обряды, какими они, вероятно, были в античности. Однако важно отметить, что она вмещает и все необходимые пастухам положительные знания: правила разведения скота и ухода за ним, сведения о переменах погоды, о благоприятных сроках тех или иных работ и т. п. Стоя на пороге века, когда пути науки и религии разойдутся навсегда, Саннадзаро говорит о цельном, неразделенном знании, не препарирующем природу, как труп, не упрощающем ее до механизма, но основанном на благоговении перед нею. Это знание у него включает и магию[113]. В Аркадии магию стараются держать под контролем мудрых старцев, заботясь о том, чтобы тайные знания использовались в добрых целях. Обряды любовного приворота, которые описывает ученый жрец Энарет (Прозы IX и X) автор, очевидно, относит к дозволенным: они помогают влюбленному справиться с безотчетным страхом юной девушки перед близостью.
К сфере религии относится и почитание умерших, которому в «Аркадии» уделено немало места: три эклоги из двенадцати представляют собой надгробные гимны и плачи. Впрочем, все это исходит не из предварительного замысла: текст «Аркадии» формировался постепенно под воздействием событий, оставлявших глубокие следы в душе автора.
Зрелище смерти глубоко потрясает Саннадзаро. Не только своя потеря, но и сопереживание чужой вызывают у него острейшую боль, о которой он готов кричать:
- Вот то одно, о чем я свирепею
- Змеиной яростью против судеб небесных,
- Вот то, о чем до глуби сердца каменею,
- Читая врезанное на стволах древесных:
- «Филлида, твоей смертью смерть пошли мне!»
Но горе не остается безутешным. Усопшие праведники приобщаются миру божеств; живые могут и должны поддерживать связь с ними посредством поминальных обрядов и жертв, но не менее важны приношения мусические – песни, стихи, танцы. Совершая их, люди подражают богам. Поминовение умершего праведника выглядит как единое торжество богов, людей и всего природного мира – поистине, празднуется рождение нового бога:
Вот пастушеский Аполлон, предивно украшенный, грядет к твоей могиле увенчать тебя душистыми венками. И фавны, украсив гирляндами рога, нагруженные лесными дарами, несут тебе, кто что и откуда может: от полей – колосья, от ягодников – гроздья ягод с листвой, от всякого дерева – зрелые плоды. Соревнуясь с ними, обитающие поблизости нимфы, столь некогда любимые и почитаемые тобой, ныне идут, неся корзины, полные белых цветов и душистых яблок, воздавая тебе должную честь. А что еще дороже, – и более долговечным даром смертному праху воздать невозможно, – Музы приносят тебе стихи; слышишь, стихи дарят тебе Музы! А мы, с нашими свирелями, поем и будем петь тебя всегда, пока наши стада пасутся в этих лесах. И эти пинии, и эти дубы, и эти платаны, покуда мир стоит, будут шелестеть твое имя; и быки со всеми стадами будут во всякое время года возносить почести твоей тени, громким мычанием призывая тебя в откликающихся рощах. Итак, отныне и впредь, ты навсегда пребудешь в числе наших божеств, и как Вакху и святой Церере, так и на твоих алтарях мы будем приносить подобающие жертвы. (Проза V)
В ряду тем «Аркадии» важное место занимает тема игры.
Игра пронизывает собою всю жизнь пастухов и, соответственно, почти всю книгу – до момента, когда главный герой, от чьего лица ведется повествование, покидает Аркадию. Она сопровождает сельские праздники и надгробные тризны; но, кроме дней общего досуга, аркадяне играют, перегоняя стада по горным тропам, отдыхая на привалах и посвящая веселью часть ночи. Пастухи состязаются то в силе, ловкости, меткости, то в музыкальной и песенной импровизации, а иногда обмениваются незлыми шутками. Изредка, впрочем, озорные словесные пикировки достигают порядочного накала (Эклога IX, состязание Офелия и Эленка), но поскольку их цель – лишь проявить в человеке соревновательное начало для творчества, все кончается миром. Эта насыщенность игрой, как мы могли видеть, не противоречит глубоким переживаниям героев и полной серьезности экзистенциального и религиозного поиска, который ведет в книге ее автор.
«Противопоставление игра – серьезность всегда подвержено колебаниям. Недооценка игры граничит с переоценкой серьезности. Игра оборачивается серьезностью и серьезность – игрою. Игра способна восходить к высотам прекрасного и священного, оставляя серьезность далеко позади», – пишет Йохан Хёйзинга в своем классическом анализе игры как явления культуры[114]. Не все характеристики, прилагаемые ученым к этому феномену, представляются нам действенными, возьмись мы рассматривать с их помощью тему игры в «Аркадии», однако укажем на такие весьма важные признаки, как свобода, обособленность и таинственность. «Особливость и обособленность игры обретают наиболее яркую форму в таинственности, которой она столь охотно себя окружает. Уже маленькие дети увеличивают заманчивость своей игры, делая из нее „секрет“. Ибо она для нас, а не для других. Что делают эти другие за пределами нашей игры, до поры до времени нас не касается. Внутри сферы игры законы и обычаи обыденной жизни не имеют силы. Мы суть и мы делаем „нечто иное“. Это временное устранение „обычного мира“ мы вполне можем вообразить уже в детские годы. Весьма отчетливо просматривается оно и в столь важных, закрепленных в культе играх первобытных народов. Во время большого праздника инициации, когда юношей принимают в мужское сообщество, от действия обычных законов и правил освобождаются не только основные участники. Во всем племени затихает вражда. Все акты кровной мести откладываются. Многочисленные следы этой временной отмены правил повседневной общественной жизни на период важных, священных игр продолжают встречаться и в гораздо более развитых культурах. Сюда относится все, что касается сатурналий и обычаев карнавалов»[115].
Таким кругом играющих больших умных детей, живущих во внутренней свободе, без тягостного и безотрадного ярма обыденности, и изображает Саннадзаро своих аркадян. Игра – едва ли не основной признак, указывающий на то, что Аркадия – не мечтательная картинка идеального общества, а притчевое изображение инобытия, особого внутреннего состояния человека, которое достижимо и без перемещений в пространстве и иных внешних перемен.
Поговорим наконец о том, что для нашего поэта, так же как и для Данте и Петрарки, может быть названо «темой тем». Это женщина. Отличие его от обоих великих соотечественников в том, что история любви, рассказанная в «Аркадии», соединяет несколько жизненных сюжетов и несколько женщин разного возраста и положения, характер отношения к которым в жизни у поэта был – и не мог не быть – весьма различен. Вместо одной виртуальной возлюбленной, Беатриче или Лауры, галерею прототипов женских образов Саннадзаро составляют: 1) двоюродная сестра, подруга детства – восьмилетняя Кармозина, 2) пятнадцатилетняя невеста Лючия, 3) мать Лючии Арианна Сассоне и, наконец, 4) его собственная горячо любимая мать Мазелла. Как видим, во всех случаях речь идет о родственных и семейных отношениях. Созданный в таком биографическом контексте женский идеальный образ стоит куда ближе к своему создателю, чем Лаура или Беатриче. Если относительно Петрарки с Лаурой можно только порадоваться, что жизнь не соединила их в реальности, то чувство к женщине, изображаемое у Саннадзаро, – простое и здоровое, очень итальянское, умеряющее чувственную пылкость рыцарским уважением, воспитанным на примере уважения к матери. Да, его герои, не находя взаимности, случается, испытывают искушение самоубийства: мы сами знаем, сколь типично для юных влюбленных это искушение, и облегченно вздыхаем, когда Синчеро признается: «Моя болящая душа, преклоненная каким-то малодушием, ощутила внезапный страх перед тем, к чему так стремилась» (Проза VII), а Карин на самом пороге невозвратного шага, внезапно увидев пару целующихся голубей, «от доброго предзнаменования утешился в надежде на будущее благо и, укрепившись в рассудке, стал осуждать себя за безумное намерение, которому уже было решился последовать – прогнать жестокой смертью любовь, которую еще возможно было вернуть» (Проза VIII). Образ женщины у Саннадзаро не несет в себе ничего инфернального, иррационального, колдовского, пленяющего волю и ум мужчины непреодолимой страстью. Этот образ обычно по-матерински светел; герои поэмы не ждут от женщины коварства или предательства, зато знают о сокрытых в ее сердце сокровищах нежности и заботы. Потому автор не находит неуместным сказать о девочке-подростке: «Как трепетная мать над единственным сыном, с великой любовью плача надо мною, и нежными словами, и целомудренными ласками утешая, [она] сумела возвратить меня из отчаяния и смерти» (Проза VIII), а его герой Эргаст на могиле матери сравнивает себя с Орфеем, готовым сойти в царство мертвых ради своей Эвридики (Эклога XI). Кажется, любовь к девушке и любовь к матери сливаются у него почти неразделимо.
Мне неизвестны более ранние, чем у Саннадзаро, в новоевропейской литературе попытки дать идеальный образ супружеской любви: я имею в виду плач Мелисея над умершей Филлидой в Эклоге XII. Стоит подчеркнуть, что речь идет о тонкой материи: о супружеской любви поэта. Как известно, ни Данте, ни Петрарка не посвятили ни единой строки матерям своих детей. Саннадзаро имел для себя пример в стихотворных циклах, которые посвящал жене и детям Понтан, что тоже было необычайным и новым явлением в поэзии. Однако Саннадзаро воспользовался лишь латинской элегией Понтана, написанной на смерть Арианны. В пространном плаче осиротелого супруга о самой Филлиде почти ничего не говорится, не упомянуты и дети (детей в поэме нет вообще – как не было их в жизненном опыте автора); Мелисей пространно описывает только свои страдания. Даже в его воспоминании Филлида предстает нам лишь как тема его творчества. «Мертва, что, над тобою украшаясь, – обращается он к реке Себету, – Всем зеркалам тебя предпочитала, / И до небес твоя взлетала слава». Взлетала до небес, конечно, благодаря стихам Мелисея-Понтана, которыми он намерен неотступно служить подруге и после ее кончины:
- Не хочет небо, чтобы воспевать престал я
- Тебя, священная, но громче чтил и славил,
- Чтоб похвала твоя не умолкала в сердце.
- В моих стихах, и прежде небезвестных,
- Пока я жив, среди людских селений
- Да будет чтим твой памятник надгробный.
Бродя в тоске по пустошам Сольфатары и Аньяно, в клубах тяжкого вулканического пара, герой галлюцинирует: пребывая на небесах, Филлида видится ему читающей его стихи:
- Где бурная вода в залив ввергается,
- Где к небу жерло раскрывается великое,
- Где тяжкий запах серный разливается,
- Там, кажется, небесный образ вижу я:
- Она сидит над паром – и с отрадою
- К листам моим склоняет слух внимательный.
Холм, место поэтических вдохновений, куда Мелисею, как всякому поэту, нравилось приводить любимую женщину, теперь, после ее смерти, становится ее природным святилищем:
- Сюда, бывало, звал свою Филлиду;
- Теперь пред алтарем, на сей вершине
- Кадит ей непрестанными куреньями.
Филлида кажется здесь более развоплощенной и далекой, чем умершая Лаура. Та хотя бы приходит к порогу любящего «полная смирения, лишенная гордости», чтобы утешить его «нищее и скорбное сердце»: «Милый мой, верный, я весьма скорблю о тебе, но я была сурова с тобой ради нашего же блага»[116]. У Саннадзаро антитеза былой «гордости» и посмертного «смирения» безнадежно омрачена:
- Та, что всегда являлась Мелисею
- Столь величаво-строгой, ныне тихо
- Лежит, смиренная, под хладными камнями.
Саннадзаро, завершая «Аркадию» в возрасте тридцати пяти – тридцати семи лет, был уже не тем юношей, что пел когда-то:
- Доколь живут на свете
- Меж болью и надеждой
- Влюбленные, – будь славно
- То имя, руки, очи,
- Те косы, что томят меня войною:
- С ней жизни скорбь и горечь
- Сладка мне и бесценна.
Надежды на счастливый брак не сбылись, на плечи давил горький опыт потерь и разочарований, душу опустошала тревога за будущее страны, которую поэт любил, и династии, которой он хранил верность, тревога за собственную роль в происходящих событиях. В девяностые годы его поэма могла получить завершение лишь как поэма о безвозвратно утраченном и о том, что еще предстоит утратить. Это обусловило выбор и темы, и образца, и художественных средств для ее последних глав.
Когда пройдет время, многие раны в душе отболят, а рядом будет Кассандра, Саннадзаро вновь, как юноша, начнет писать о женском идеале. Вновь лицо и взгляд любимой подарят ему мир и надежду. И звание «десятой Музы», которым он ее наградит, не будет лишь громкой панегирической гиперболой.
«Аркадия», первая в возрожденческой литературе утопия, написанная за тридцать лет до знаменитого памфлета Томаса Мора, не имеет социально-политической направленности, но представляет собой инициацию человека-творца. Круг таких людей и определяется у Саннадзаро метафорой «пастушества». Пастухи – светлый народ Аполлона: именно он, названный в Эклоге III «leggiadro almo pastore», «изящным пастырем, дающим жизнь», есть главный вождь пастушеского братства; Пан, о котором говорится гораздо больше, также олицетворяет для них одну из важнейших основ существования – утробную, инстинктивную, страстную, трагичную – то дионисийское начало, о котором говорит Ницше в своей знаменитой работе «Рождение трагедии из духа музыки» (1871). Пастухи – люди, не побежденные серостью, ограниченностью, мелким своекорыстием, это те, чья жизнь – песнь, дарение и дружба. Они не эскаписты, творящие себе иллюзии, не те, кто уходит в творчество, как в отдельный мир, отгороженный от грубой среды. Похоже, среди них найдется место человеку любого социального положения и рода занятий: кроме собратьев по поэтическому ремеслу, Саннадзаро включает сюда и мать, столь много определившую в его нравственном и культурном становлении, и своих предков по ее линии – рыцарей-горцев, владельцев самых простых, а не метафорических овечьих стад, возможно считая и их поэтами в душе. Пастухи Саннадзаро, зная мир, трудясь в нем, страдая его болями, скорбя о его неправдах, в то же самое время незримо пребывают в области возвышенного. Недаром книга начинается с образа чудесной рощи на вершине горы Партения. Этот образ нигде затем не будет вовлечен в действие, но останется символом Аркадии как страны «высокого» – поэзии, научного познания («искусств Феба и Паллады») и осеняющей их любви. В продолжение книги ее герои-пастухи будут водить свои стада по склонам, лугам, ложбинам, ущельям, но сцена всего действия уже определена: это – мысленная гора, мир прекрасных чувств и мыслей. Проведя много дней в этой необычной стране, главный герой и рассказчик возвращается в покинутый им Неаполь, но не земными дорогами, а через подземное пространство, оказывающееся проекцией мира земного. Когда через речную жилу, как через некую подземную галерею, он выходит на поверхность земли, родной город предстает ему не как скопление улиц, рынков, замков, церквей с толпами суетящегося народа (хотя герой помнит, любит и надеется увидеть Неаполь именно таким), а как высокий зеленый холм, подобный только что оставленным высотам Аркадии. Увиденные после долгой разлуки друзья выглядят пастухами, по всему подобными аркадским собратьям. Встреча, подобная сновидению (герой видит и слышит своих друзей, а они его нет), до краев наполнена скорбью: герой, только что узнавший о смерти девушки, из-за неутоленной любви к которой провел столько времени вдали от родины, слышит от друзей о неменьшем горе их общего старшего друга и учителя, недавно похоронившего любимую жену. И столкновение двух несчастий разряжается в песнопении:
- Придет с холмов тосканских и лигурских
- Сонм пастухов сей уголок прославить
- Лишь потому, что ты в нем пребывала.
- Прочтут на камне четвероугольном
- Слова, всечасно леденящие мне сердце —
- Какою болью грудь они сдавили мне! —
- «Та, что всегда являлась Мелисею
- Столь величаво-строгой, ныне тихо
- Лежит, смиренная, под хладными камнями».
Светлая песня памяти способна соединить в едином братстве и Неаполь, и холмы Тосканы и Лигурии, и куда более удаленные края. Целый мир, объединяющий сердца, в которых песня находит отклик, преображается в одну большую Аркадию – республику без иерархии, границ и армий, которой не грозят войны, мятежи и перевороты.
Саннадзаро имел основание заявлять о себе как о первооткрывателе. Ни одна из книг в «пастушеском» жанре ни прежде, ни после него не обнимала такое количество тем и не высказывалась по ним с такой свободой и страстностью. Невозможно переоценить значение и силу его послания, провозглашенного на пороге горестной эпохи Итальянских войн конца XV – середины XVI века, отмеченных безудержными убийствами мирного населения и уничтожением памятников культуры. (Остальная же Европа на полтора века покроется дымом религиозных войн и костров аутодафе.) В книге Саннадзаро современники почувствовали что-то насущно важное: шестьдесят переизданий на протяжении XVI века в одной Италии – цифра, говорящая сама за себя. Но еще больше было литературных подражаний – от Испании до Польши, от Англии до Далмации. Романы, поэмы и пьесы пасторального жанра отметили собой творчество как крупнейших писателей и поэтов XVI–XVII веков (Тассо, Гварини, Марино, Сидни, Спенсер, Дрейтон, Марло, Шекспир, Джон Донн, Мильтон, Лемер, Маро, Воклен де ла Френе, Юрфе, Монтемайор, Сервантес, Гонгора, Лопе де Вега, Рибейро, Камоэнс), так и множества посредственных и вскоре забытых авторов. Равно и в живописи «Аркадия» стала темой как для больших мастеров (Джованни Беллини, Досси, Джорджоне, Гверчино, Пуссен, Клод Лоррен, Рубенс, Йорданс, Кавальер Темпеста), так и для полотен и гравюр в гостиной самого заурядного дворянского или бюргерского дома. Славе Саннадзаро не помешали и религиозные распри: в Англии и Нидерландах его чтили, любили и перелагали не меньше, чем в католической Испании[117].
Увы, войдя в моду при дворах и в среде аристократии, пастораль постепенно вырождалась, ограничиваясь изображением беспечного и расслабленного досуга, и сама превращаясь в украшение досугов знати[118]. Затянувшееся «галантное», но внутренне все более пустое бытование жанра, вплоть до «аркадских» уголков в парках Марии-Антуанетты и крепостных театров-гаремов России (вроде изображенного в «Тупейном художнике» у Николая Лескова), чрезвычайно понизило репутацию пасторали у читателей, литераторов и критиков. В ней стали видеть что-то слащавое, манерное, оторванное от жизни, фальшиво-лицемерное. Романтики в большинстве ее отвергали. Лишь к концу XIX века пастораль вновь возрождается по всей Европе в поэзии, живописи, музыке, балете благодаря символизму и близким к нему направлениям.
Россия восприняла пасторальные сюжеты, вместе с начатками европейской поэтической культуры, весьма поздно, в петровские времена, когда в Европе этот жанр уже изживал себя, вызывая все более интенсивные нападки философов и публицистов. Наши поэты XVIII века, подражая поздним, преимущественно французским и немецким его образцам, оказались довольно плодовиты. Пасторальные «пиесы» сочиняли Тредиаковский, Кантемир, Ломоносов, Капнист, Сумароков, Богданович, Княжнин, Державин, Львов, Карамзин, наконец, Гнедич и Батюшков – словом, едва ли не все сколько-нибудь значительные русские стихотворцы 1730– 1810-х гг. Сумароков даже сочинил специальное наставление поэтам, желающим писать пасторали:
- Оставь свой пышный глас в идиллиях своих
- И в паствах не глуши трубой свирелок их.
- Пан скроется в леса от звучной сей погоды,
- И нимфы у поток уйдут от страха в воды[119].
- Любовну ль пишешь речь или пастуший спор,
- Чтоб не был ни учтив, ни груб их разговор,
- Чтоб не был твой пастух крестьянину примером
- И не был бы, опять, придворным кавалером.
- Вспевай в идиллии мне ясны небеса,
- Зеленые луга, кустарники, леса,
- Биющие ключи, источники и рощи,
- Весну, приятный день и тихость темной нощи;
- Дай чувствовати мне пастушью простоту
- И позабыть, стихи читая, суету.
Среди русских стихотворных пасторалей найдутся и такие, в которых слышны дошедшие через вторые и третьи руки отголоски Саннадзаро, – «Труба и свирелка» Хераскова (1764) и его же «Сельская муза» (1801), «Идиллия» Дмитриева (1782) и др., – но сам он, заслоненный поздней пасторальной литературой французов (Буало, Фонтенель, мадам Дезульер, Сен-Ламбер, Мариво, Делиль[120]) и немцев (Гердер, Геснер, Вейсе, Фосс, Гебель[121]), не нашел себе в России переводчика. Причина могла быть и в том, что с самого начала пастораль была воспринята у нас в своей облегченной разновидности, уводящей от размышлений о реальной жизни к простому любованию «прекрасной иллюзией» (выражение М. Фонтенеля)[122]. «Пастухи в эклоге не настоящие? Ну так что ж? Зато они милы», – полемически заявлял в 1734 году Туссен де Сен-Мар[123]. Именно тем, что Саннадзаро, основоположник жанра, не удовлетворял запросам его поздних представителей, можно объяснить тот странный факт, что в течение всего XVIII века мы не находим никаких следов интереса к нему у русских образованных читателей и авторов[124].
Отношение русских к пасторали едва ли не с самого начала было сдобрено долей иронии. В ней видели что-то вроде лубка, только не для простолюдинов, а для благородного сословия. Уже у Сумарокова пасторальные любовные сцены и диалоги, во всей западной литературе вполне серьезные, становятся развлекательными эротическими новеллами, анекдотами без малейшего интереса к внутреннему миру и вообще ко всякой индивидуализации героев. Перед нами действительно своего рода лубок: картинки с типическими персонажами на тему соблазнения, измены, женского непостоянства и тому подобного.
У Карамзина монолог любовника, узнавшего о неверности подруги, оформлен как пародия на пастораль, что, конечно, по мысли автора, должно лишь усилить его комизм:
- Я жил в Аркадии с тобою
- Не час, но целых сорок дней!
- Довольно – лучший соловей
- Поет не долее весною…
- Я также, Хлоя, пел тебя!..
- И ты с восторгом мне внимала;
- Рукою… на песке писала:
- Люблю – люблю – умру любя!
- (…) Пусть, Хлоя, мой обширный лоб
- Подчас украсится рогами;
- Лишь только был бы я с глазами!
Пастораль, написанная без доли авторской самоиронии, с претензией на серьезность и искренность, вызывает у русского критика насмешку:
Но мне еще встречается писатель: он сочиняет пастушеские песни и на нежной своей лире воспевает златый век. Говорит, что у городских жителей нравы развращенны, пороки царствуют, все отравлено ядом; что добродетель и блаженство бегают от городов, а живут в прекрасных долинах, насажденных благоуханными деревами, испещренных различными наилучшими цветами, орошенных источниками, протекающими кристалловидными водами, которые, тихо переливаяся по мелким прозрачным камешкам, восхитительный производят шум. (…) Пастух на нежной свирели воспевает свою любовь; вокруг его летают зефиры и тихим дыханием приятное производят ему прохлаждение. (…) Сама добродетель в виде прелестныя пастушки, одетая в белое платье и увенчанная цветами, тихонько к нему подкрадывается; вдруг перед ним показывается; пастух кидает свирель, бросается во объятия своея любовницы и говорит: «Цари всего света, вы завидуете нашему блаженству!» Господин автор восхищается, что двум смертным такое мог дать блаженство: и как хотя мысленным не восхищаться блаженством! жаль только, что оно никогда не существовало в природе! Творец сего блаженства хотя знает всю цену завидныя сея жизни, однакож живет в городе, в суетах сего мира; а сие, как сказывают, делает он ради двух причин: первое, что в наших долинах зимою много бывает снега; а второе, что ежели бы он туда переселился, то городские жители совсем позабыли бы блаженство пастушеския жизни.
(Н. Новиков. Автор к самому себе, 1775)
То, что и два, и три десятилетия спустя наши поэты, даже столь хорошо знакомые с Новиковым и его статьями, как Иван Дмитриев, человек блестящей карьеры, без смущения продолжали писать о Лизах и Лилах, любовь в шалаше с которыми делает их счастливее всех владык мира, говорит лишь об одном: в пасторали в принципе видели забаву и игру, где слова значат совсем иное, чем в реальной жизни. Читатель понимал, что под «шалашом» разумеется дом для уединенных свиданий в поместье, более или менее роскошном, а Лиза или Лила – крепостная наложница или иная женщина низкого происхождения, целиком подвластная воле и капризу своего «влюбленного пастушка».
Склонность украшать пасторальными именами и декорациями стихи на тему «блаженной лени» и любовной игры на лоне природы перешла и в XIX век: «К Филисе», «Мои пенаты», «К Жуковскому» Батюшкова, «Фавн и пастушка» Пушкина. Зато чуждый таких вольностей Вл. Панаев, выпустивший в 1820 году книгу благонравных, но вялых подражаний Саломону Геснеру, удостоивается у Пушкина презрительной эпиграммы «Русскому Геснеру»:
- Куда ты холоден и cyx!
- Как слог твой чопорен и бледен!
- Как в изобретеньях ты беден!
- Как утомляешь ты мой слух!
- Твоя пастушка, твой пастух
- Должны ходить в овчинной шубе:
- Ты их морозишь налегке!
- Где ты нашел их: в Шустер-клубе
- Или на Красном кабачке?[125]
Критика Пушкина отнюдь не имела мишенью сам жанр пасторали: «аркадские» идиллии Дельвига 1820-х годов приняты были им с полным одобрением.
Дельвигом написано примечательное стихотворение, замыкающее первую эпоху русского пасторализма – «Конец золотого века» (1828). Хоть оно, возможно, представляет собой эхо на отречение от аркадского мифа, заявленное в стихах Шиллера, которые так и назывались – «Отречение» (1786), – в нем, кажется, вновь слышны скорбные ноты самых трагических мест «Аркадии»:
- Точно, мы счастливы были, и боги любили счастливых:
- Я еще помню оное светлое время! но счастье
- (После узнали мы) гость на земле, а не житель обычный.
- Песню же эту я выучил здесь, а с нею впервые
- Мы услыхали и голос несчастья, и, бедные дети,
- Думали мы, от него земля развалится и солнце,
- Светлое солнце погаснет! Так первое горе ужасно!
Если говорить не о прямом использовании пасторальной топики, а рассматривать ассоциации более тонкие, я назвал бы самыми чистыми откликами на Саннадзаро – пушкинские. Интонации неаполитанского поэта, пройдя через века, расстояния и ряд передаточных звеньев, звучат в стихотворении Пушкина «Муза» (1821):
- В младенчестве моем она меня любила
- И семиствольную цевницу мне вручила.
- Она внимала мне с улыбкой – и слегка,
- По звонким скважинам пустого тростника,
- Уже наигрывал я слабыми перстами
- И гимны важные, внушенные богами,
- И песни мирные фригийских пастухов.
- С утра до вечера в немой тени дубов
- Прилежно я внимал урокам девы тайной,
- И, радуя меня наградою случайной,
- Откинув локоны от милого чела,
- Сама из рук моих свирель она брала.
- Тростник был оживлен божественным дыханьем
- И сердце наполнял святым очарованьем.
Приведем здесь начало и другого стихотворения, близкого первому тематически и по времени создания (1822), которое, в отличие от первого, не было напечатано при жизни поэта:
- Наперсница волшебной старины,
- Друг вымыслов игривых и печальных,
- Тебя я знал во дни моей весны,
- Во дни утех и снов первоначальных.
- Я ждал тебя; в вечерней тишине
- Являлась ты веселою старушкой
- И надо мной сидела в шушуне,
- В больших очках и с резвою гремушкой.
- Ты, детскую качая колыбель,
- Мой юный слух напевами пленила
- И меж пелен оставила свирель,
- Которую сама заворожила.
Примечательно, что Муза выступает здесь как посланница Пана, а не Феба. Из всего «аркадского» инвентаря в обоих стихотворениях присутствует лишь один предмет – свирель о семи дудочках, – но этой детали достаточно для указания на присутствие Пана[126]. Почему именно Пан? Потому что поэт настаивает на детскости, спонтанности, непринужденной простоте своего дара[127]. Во втором стихотворении он выводит Музу в образе старенькой крепостной няни, с ее простонародными напевами и сказками, вновь приоткрывая связь художественного творчества с непосредственностью восприятия, свойственной детству, с миром игры. То же делал тремя веками раньше Саннадзаро: как уже говорилось, жизнь его пастухов – созерцателей и служителей красоты, творцов и поэтов – проходит как игра, как праздник в невидимом присутствии Пана и других пастушеских богов. Впрочем, как «Аркадия», творчество Пушкина пронизано идеей равновесия между «аполлонической» стороной творчества (стройностью, мерой, дисциплиной, каноном, традицией) и спонтанно-природной, которую олицетворяет Пан.
О новом отношении к пасторали, сложившемся еще при жизни Пушкина, свидетельствует драма Нестора Кукольника «Джакобо Санназар» (1833), сюжет которой основан на исто-рико-биографических обстоятельствах создания «Аркадии» (в той мере, в какой они были известны автору): Аркадия здесь – придуманный край детской мечты, куда поэт уходит от необходимости взросления, от реальной жизни, от беззаветно любящих его людей, а его творение оказывается лишь памятником жизненной ошибки, плодом одностороннего и болезненного развития вундеркинда.
В Николаевскую эпоху пастораль в своем привычном виде более чем на полвека исчезает из литературы.
Возрождение пасторали, отмеченное в европейской культуре конца XIX века, в России затронуло в основном изобразительное искусство (К. Коровин, Н. Врубель, Н. Сапунов, К. Сомов, В. Борисов-Мусатов, С. Судейкин, А. Бенуа, Н. Крымов и др.) и балет («Русские сезоны»). Весьма характерным для того времени было широкое использование стилизованных пасторальных мотивов в украшении фасадов и интерьеров буржуазных домов в крупных городах, а также в украшении посуды, в мелкой пластике – там, где эти мотивы не несли никакого серьезного содержания, но выглядели чем-то заведомо вторичным, удешевленным, эфемерным, игрушечным. Что же касается искусства высокого, и прежде всего поэзии, – в стране, беременной революционными потрясениями, обращение к пасторальным мотивам воспринималось как ностальгия по забавам крепостнических времен или же как неуместное, почти нездоровое легкомыслие:
Зачем же (…) надевать легкомысленные маски? Вы шутите, поэт высокий и прекрасный (…). И, полно вам, разве это – «милый, хрупкий мир загадок»? Подлинная пастораль XVIII столетия действительно страшна, потому что русские люди, переряживаясь в чужеземных кукол, хотели забыть что-то, чего вам вовеки не забыть, потому что вы русский поэт, а не офранцузившийся помещик; но пастораль, от которой пахнет Москвою XX столетия, уже не страшна нисколько, не загадочна тем более[128].
Это пишет в 1908 году Блок по поводу только что вышедших «Сетей» Михаила Кузмина и, казалось бы, не совсем по адресу: неужели Кузмин собирался кого-то пугать своими игривыми эротическими сценками? Да и о загадках он говорил отнюдь не в смысле, который придавал этому слову Блок. Но что действительно звучит у Кузмина, это отчаянный вызов грозящей буре. И Блок почувствовал и вызов, и его обреченность: страстный, сбивчивый, будто заклинающий тон и дважды повторенное в одном предложении слово «страшно» выдают сильное волнение. «Пасторали над бездной» – выразился по близкому поводу задним числом, уже после революции, в романе «Маски» (1927), Андрей Белый. Надо, впрочем, отметить, что литераторы, отдавшие дань этому жанру в предреволюционные годы (М. Кузмин, Ф. Сологуб, С. Соловьев), были людьми напряженных духовных исканий, чувствовали живой интерес к общественной проблематике и политическим вопросам. Для них пастораль была не убаюкивающей игрой – но, что вероятнее, как и для многих пасторалистов прошлого, – самозащитой души в предвидении страшной опасности, попыткой опереться на что-то внеисторически-веч-ное в момент головокружительного ускорения исторического времени.
Отдельным направлением развития жанра было соединение традиционной пасторальной топики с темами русского фольклора, с азиатской и славяно-языческой мифологией. Хотя определенные шаги в этом направлении были сделаны уже А. Ремизовым и С. Городецким, пожалуй, подлинным основоположником здесь явился Велимир Хлебников («Любавица и лешак», 1908; «Девий бог», 1908–1911; «Лесная дева», «Сельская дружба», 1911; «Сельская очарованность», 1911–1912; «Вила и леший», «Шаман и Венера», 1912; «Лесная тоска», 1919). Впитывая и трансформируя самые разные поэтические импульсы, исходящие из среды символистов, он не мог не отозваться и на пастораль, условно говоря, «кузминской» школы, и на полемику, возникавшую по этому поводу.
Словно отзываясь на укоры Блока Кузмину и при этом погруженный в собственную мысль, Хлебников вводит в свою пасторальную поэму 1911 года «Лесная дева» тему маскарада, переряживания, связанного с убийством: соперник поэта в любви к Лесной деве, убив его, принимает на себя обличье убитого:
- Разбил сопернику висок
- И снял с него, лукавец,
- Печаль, усмешку и венок.
- Он стал над спящею добычей
- И гонит мух и веткой веет.
- И, изменив лица обычай,
- Усопшего браду на щеки клеит.
- И в перси тихим поцелуем
- Он деву разбудил.
Принятие чужого облика, подобно Протею, – признак, противоположный и прямо враждебный типическому для пасторальных персонажей «простодушию». Появление такого антигероя само по себе выглядит как бедственное потрясение пасторального мира: яркий пример – выведенный у Саннадзаро образ грабителя-оборотня Лациния и то, какую реакцию вызывает его, в общем-то, заурядное преступление у обитателей Аркадии. У Хлебникова же носитель зла убивает того, кто является как бы душой и голосом лесного мира – поэта, похожего на Пана (в первом варианте стихотворение даже названо «Пан») и в то же время на ребенка («… беззлобный землежитель. / (…) Он кроток был. Любил свирель. / (…) Был сердцем страстным молодой, / С своею черной бородой / Он был дитя»). Принявшая во сне убийцу за убитого им возлюбленного, Дева, обнаружив обман, с ужасом скрывается во тьме ночи, а виновник трагедии
- …с светлою улыбкой,
- Сочтя приключение ошибкой,
- Смотрит сопернику в лицо,
- Снимает хладное кольцо.
- И, сев на камень,
- Зажженный в сердце пламень
- Излил в рыданьях мертвенной свирели,
- И торжеством глаза горели[129].
Свирель лесного бога, то, без чего мир лесов теряет свой истинный голос, остается добычей злодея. Не в упоении местью, не в минутном удовлетворении похоти его торжество: он счастлив, заполучив в руки «мертвенный» инструмент, труп поэзии, не сознавая, что созвучие между миром и поэтическим голосом (голосом убитого им поэта) разрушено непоправимо. Не выискивая здесь предчувствий или пророчеств, просто отметим, что Хлебников резко выходит за рамки стилизованных пасторалей своего времени, но при этом возвращается к трагической глубине «Буколик» Вергилия. И – Саннадзаро, добавим кстати.
Пасторальные образы у Хлебникова используются не только в произведениях, носящих признаки пасторального жанра, но гораздо шире, и всегда несут большую смысловую нагрузку. Все та же Панова свирель – один из важных атрибутов его лирического героя. Само слово «свирель» и производные от него, подчас изобретенные самим автором, встречаются у него, вероятно, чаще, чем у любого из русских поэтов. В одном кратком стихотворении 1908 года Хлебникову с чудесной простотой и лаконизмом удается выразить философию пасторального жанра:
- И я свирел в свою свирель,
- И мир хотел в свою хотель.
- Мне послушные свивались звезды в плавный кружеток.
- Я свирел в свою свирель, выполняя мира рок.
Эти строки дают вспомнить как апофеоз Дафниса у Вергилия, так и песню Галиция, и гимн Андрогею у Саннадзаро (Эклоги III и V).
Попытки спасти потрясенный ум побегом от действительности в мир идиллии не прекращались и после революции. Так воспринимаются деланно-беспечальные, неживые, будто фарфоровые фигурки, «бержереты»[130]Федора Сологуба, сочиненные в дни расстрела матросов Кронштадта и уничтожения газами крестьян-повстанцев Тамбовщины.
Но, вероятно, самые печальные в истории русского пасторализма произведения явились на свет в пору уничтожения традиционного уклада деревни: поэмы Николая Клюева 1920-х – середины 1930-х годов, как «Мать-Суббота», «Деревня», как первые страницы «Погорельщины», ряд стихотворений из цикла «О чем шумят седые кедры», и Николая Заболоцкого – «Торжество земледелия», «Осень». Оба автора продолжают линию Хлебникова, хотя, если Заболоцкого считать продолжателем Хлебникова общепринято, то вопрос о зависимости зрелого Клюева от Хлебникова, кажется, еще не ставили. Того, настоящего, ни на кого не похожего Клюева, каким он почти внезапно явился около 1914 года в «Избяных песнях». Однако и неповторимый язык, и сказ, и насыщенность красок, и вырвавшееся из пут «дионисийское» миро- и самоощущение Клюева были обусловлены требованиями жанра, воспринятыми именно через Хлебникова: перед нами пастораль подлинно русская, органично привитая к дереву национальной поэтической традиции, к национальной истории и современности.
В заключение статьи, минуя разговор о бытовании пасторали на Западе в самые близкие к нам времена, упомянем лишь о том, что во Франции уже в наши дни «аркадская» мистика вслушивания, вживания в простые ритмы природной жизни принесла новые чудесные плоды у таких поэтов, как Ив Бонфуа[131] и Филипп Жакоте:
- А! идиллия: это снова она
- поднимается из глубины лугов
- со своими простодушными пастухами
- ради той ледяной запотевшей чаши
- которой никогда не коснутся уста
- ради свежей грозди, горящей
- выше чем Венера, первая звезда![132]
Жакоте смотрит на гору Ванту – ту самую, куда за шесть с половиной веков до него восходил в поиске новых вдохновений Петрарка. И рождающиеся при этом стихи вновь напоминают о том, ради чего вся поэзия на земле, ради чего пасторальная поэзия некогда заговорила – громко, на весь европейский континент! – взволнованным голосом неаполитанского юноши. Ради никогда не кончающегося восхождения человеческого духа к прекрасному; ради того, чтобы вещи этого мира говорили голосом поэта о себе, вновь открывая свою райскую сущность, делясь неисчерпаемым и нетленным богатством своих смыслов. Ради того, говоря словами Данте, чтобы «исторгать живущих в этой жизни из состояния убожества и приводить к состоянию счастья»[133].
* * *
Неаполь – город, который дает любить себя как через радость и восхищение, так и через боль. В Неаполе современному путешественнику, привыкшему к более-менее универсальным бытовым, правовым и прочим условиям, предоставляется немало случаев вспомнить иные века, иные условия и те горькие акценты, которые слова «пришелец», «чужеземец», «чужак» имели в прошлом. Трудности, а то и скорби могут поджидать тебя здесь не только в откровенном и грубом виде – как Кэрол Кидуэлл, канадскую исследовательницу биографий Саннадзаро и Понтана, которую, вместе с ее мужем, среди бела дня ограбили на улице. Порой и под сводами научных и культурных учреждений, среди людей, сама деятельность которых формально направлена на поддержание гуманитарных (то есть, буквально, человечных) связей, ты чувствуешь, как обступает невидимая стена равнодушия и отчуждения. На этом фоне любое искреннее и доброжелательное слово, любую элементарную помощь, малейшее проявление человеческого тепла воспринимаешь как драгоценный подарок.
Я выражаю глубочайшую благодарность всем неаполитанцам, которые относились ко мне с сочувствием в моих переводческих занятиях, бытовых нуждах и в повседневном общении: библиотекарям, архивистам, продавцам в магазинах, рыночным торговцам, кампанским крестьянам, почтовым служащим, портнихам, пекарям, кассирам, университетским преподавателям, студентам, карабинерам, художникам, уличным певцам, музыкантам, артистам, множеству людей всякого чина и звания, оставивших светлую память в моей душе, в том числе и нескольким милым и добрым соотечественникам.
Отдельное слово признательности – преподавателям «Центра итальянского языка и культуры», и среди всех – Элизабетте Де Роза, в течение вот уж семи лет терпеливо проясняющей мои языковые недоумения в электронной переписке;
Марии Форте – хозяйке скромной гостинички на пьяцца Миралья, в которой я бессменно останавливался все эти годы;
моим друзьям из Рима и Флоренции – проф. Леонардо Палеари и Паоле Педиконе, Алессандро Аччьяи и Мануэле Сабатино многообразно и щедро помогавшим мне во время моих итальянских путешествий;
графу Джузеппе Саннадзаро Натта ди Джароле, приславшему мне собственную книгу по истории своего рода, богатую важными и порой уникальными сведениями;
а также Ольге Седаковой, любезно предоставившей мне в пользование редкую книгу Кэрол Кидуэлл о Саннадзаро из своей личной библиотеки.
Аркадия
Преподобнейшему и светлейшему господину кардиналу Арагонскому [134]Петр Суммонций[135]
Мысль, более всего подвигшая меня к этой невольной дерзости, преподобнейший и пресветлейший господин мой, – самому взяться за печатное издание книги, от которой всегда отстранялся сам ее автор, – родилась во мне как от сочувствия, так и от праведного негодования, когда я видел воочию, как фортуна, несытая сокрушением царств, людского счастия и иных вещей, подчиненных ее власти, мнит себя вправе простирать губительную руку даже на наши памятники, на плоды гения, на все, что человеческое искусство создало для победы над смертью, – ибо это совершенно чуждо и противоположно намерениям тех, кто занимается писательским трудом. Не довольно было этой незрячей богине нанести обиду мессеру Якобо Саннадзаро, нашему другу, во множестве вещей; но она восхотела уязвить его и в самих его литературных занятиях, в его творениях, в его бессмертии, поистине поразив в самое сердце. Так, пока он во Франции неукоснительно несет службу совершенного и достойного рыцаря, следуя за своим королем в его несчастном жребии, три года назад здесь, в Италии, его искусные и изящные эклоги, безо всякого его уведомления, были изданы в весьма искаженном и поврежденном виде. Затем, видя, что книга высоко оценена читателями, венецианские типографы отпечатали ее еще раз. Обнаружив в обоих изданиях недопустимые ошибки и, что меня взволновало еще больше, найдя само сочинение изданным не в полном объеме (ибо оно, написанное поэтом много лет назад, в пору первой юности, получило хождение среди читателей так, будто было вырвано у него из рук – невыправленное, не имеющее конца, который он таил, того самого и опасаясь), я, ради любви к его имени, любви, вполне им заслуженной, не мог стерпеть, чтобы столь почтенные труды ходили по свету в таком незавершенном и неисправном виде.
Поэтому, не имея на сей счет какого-либо другого распоряжения автора, – хотя, может быть (если не ошибаюсь), не без некоторого смущения его душе, когда он по случаю об этом узнает, – счел я столь же полезным, сколь и необходимым, немедленно выпустить эти труды в свет, напечатав их с оригинала, тщательно выверенного его собственной рукою и принадлежащего высокочтимому[136] Марко Антонио Саннадзаро, его брату. Немало подталкивал меня к этому и авторитет вашего Каритея[137], не только побуждавшего меня убедительными доводами, но и нудившего всеми силами нашей дружбы. А еще больше мое рвение усиливалось тем, что мне казалось почти святотатством обманным путем лишить наш Неаполь его славы; ибо коль в его недрах было зачато и выношено это детище, то и родить его подобало нашему городу. А если издание наше не имеет той красоты, какова была обычной для нас прежде и какую имеют книги в других, более покойно живущих городах Италии, надобно в этом оказать милостивое снисхождение нашему отечеству, настолько обезображенному превратностями войны, что даже для этого краткого послания насилу представилась мне возможность.
Итак, да читает ваша преподобнейшая и пресветлейшая милость «Аркадию» вашего Саннадзаро, с радостью видя ее, наконец, очищенной от стольких погрешностей. И раз уж автору ее, во имя одной лишь верности, приходится плавать под чужими небесами, пусть узнает он, что хотя бы его сочинение после столь долгой бури вошло в тихую гавань.
Пролог
Высокие и раскидистые деревья, произведенные природою в диких горах, по большей части бывают милее глазу созерцателя, нежели тщательно возделанные руками знатоков в украшенных садах; и уж куда большее удовольствие дарят слушателям птицы, поющие в глуши лесов на зеленых ветвях, нежели прирученные – посреди многолюдных городов, в щегольских золоченых клетках. Таким же образом, насколько знаю, безыскусным лесным песням, вырезанным на шершавой коре бука[138], случается не меньше услаждать читающего их, чем изящным стихам, написанным на лощеной бумаге в тисненных золотом книгах; а смазанные воском дудочки пастухов издают в цветущих долинах, может быть, более приятный звук, чем отполированные и весьма дорогие самшитовые флейты в разукрашенных палатах. И кто усомнится, что человеческий ум предпочтет источник, силой природы бьющий меж диких камней, всем фонтанам, сооруженным из отборного белого мрамора и сияющим золотом! С уверенностью думаю, никто. Вот и я, полагая так же, среди этих опустевших лугов хотел бы поведать своим слушателям – деревьям и редким бродящим здесь пастухам – грубоватые эклоги, истекшие из природного родника, являя их не приукрашенными, но такими, как слышал от пастухов Аркадии, певших в приятной тени, под журчанье прозрачных ручьев. И к песням их не единожды, но тысячекратно преклоняли внимательный слух божества гор, побежденные их сладостью, а нежные нимфы, забыв преследовать диких животных, оставляли колчаны и луки при корнях высоких сосен Менала и Ликея[139]. Так что, пожалуй, и я почту для себя более достославным, коль будет мне то позволено, приблизить к губам смиренную дудочку Коридона, некогда оставленную ему в благоприятный дар Даметом[140], чем взять звучную флейту Паллады, игрой на которой безумно возгордившийся сатир вызвал на спор Аполлона, себе же на горе[141]. Ибо, конечно, лучше, обладая малым участком земли, держать его возделанным, чем, пагубно управляя большим, жалким образом привести его в одичание.
Проза первая
Лежит на высоте Партения[142], не самой малой из гор пастушеской Аркадии, приятная равнина, не весьма пространная – ибо тому не благоволит положение места – но столь изобилующая нежной и сочной травой, что, если бы неразумные овцы не общипывали ее своими алчными челюстями, то во всякое время года здесь обреталась бы свежая зелень. На равнине стоят, если не ошибаюсь, двенадцать или пятнадцать деревьев такой удивительной и своеобразной красоты, что любой, увидев их, сказал бы, что искусница Природа, создавая их, трудилась с наивысшим вдохновением. Расставленные в нерукотворном порядке, чуть поодаль друг от друга, они несказанно облагораживают природную красоту места своей необычностью.
Вот прямая ель, с древесиной без единого узла[143], рожденная выдерживать морские бури, вот раскинул ветви мощный дуб, а вот – высокий ясень с живописным платаном бросают свою тень на немалую часть прекрасного густого луга. А вот другое, не столь широкое ветвями дерево, листвой которого венчался Геркулес[144], – то самое, в корни которого были обращены злополучные дочери Климены[145]. По одну сторону виднеются узловатый каштан, густолиственный самшит и, со своими колкими иглами, высоко возносящаяся сосна, нагруженная крепкими шишками; по другую – тенистый бук, неприкосновенная липа[146], ломкий тамариск[147] с восточной пальмой, желанной и достославной наградой победителей. Посреди же, над прозрачным источником, вытянулся в небо прямоствольный кипарис, лучший подражатель высоких колонн, такой, что в него не только сын Телефа[148], но, да будет позволено сказать, и сам Феб не устыдился бы преобразиться. И не столь негостеприимны эти деревья, чтобы своими тенями преграждать солнечным лучам путь в прохладную рощу; но то здесь, то там принимают их столь учтиво, что едва ли найдешь травинку, что не получала бы от его света щедрую отраду. И хоть пребывание здесь приятно в любое время года, в дни цветущей весны оно приятнее всего.
В это, таким образом устроенное, место по обычаю сходятся, приводя свои стада, пастухи с окрестных гор, чтобы предаваться многообразным и нелегким подвигам: метать тяжелую жердь, поражать цели из луков, упражняться то в легких прыжках, то в тяжкой борьбе, полной дикарских уловок, а особенно часто – соревноваться друг с другом в пении под свирель, с непременными наградами и похвалами для победителей. И вот однажды, когда почти все окрестные пастухи, как бывало, со стадами собрались сюда потешиться разными способами и совершалось чудесное празднество, – один только Эргаст[149] безмолвно и недвижимо лежал в тени, забыв о себе и о своем стаде, подобный камню или срубленному дереву, хотя обычно он больше всех пастухов бывал общителен и приветлив. Тогда Сельвагий[150], сострадая его печали, чтобы как-то утешить, дружески обратился к нему, возвысив голос в пении:
Эклога первая
Сельвагий и Эргаст
Сельвагий
- Эргаст мой, что ты молча, в одиночестве
- Лежишь, задумчив? Дело ль, что скитаются
- Овечушки твои куда угодно?
- Глянь, перешли ручей и разбредаются;
- Вон, накренившись лбами, два барана
- С разгона, глянь, сшибаются рогами.
- Гурьбою овцы жмутся к победителю
- И вслед за ним бегут, а побежденного
- Гнушаются, друг дружке подражая.
- Но помнишь ли, что волки, притаившись,
- Следят добычу, что собаки дремлют,
- Когда их пастухи не понуждают?
- Уж птицы в рощах радостно хлопочут
- У милых гнезд, и с горных круч свергаются
- Толпой снега, под ярким солнцем плавясь.
- Уже цветы в долинах распускаются,
- И ветка каждая листвою нежной хвалится,
- И травку щиплют чистые ягнята.
- Вновь лук натягивает мальчуган Венерин:
- Не уставая ранить, ненасытно он
- Сердца по ветру, словно пепел, рассыпает.
- Вновь Прокна прилетает издалеча
- С сестрой своею нежной, Филомелою[151] —
- Оплакать в песнях древние страданья.
- Но правду коль сказать, – так нынче мало
- В тени поющих пастухов, что, кажется,
- Мы будто в Скифии иль в Эфиопии с тобою.
- И коль никто иль мало кто сравнится
- С тобой в стихах изящных и в напевах,
- Воспой же – время песен наступило!
Эргаст
- Сельвагий, в этих сумрачных расщелинах
- Ты не увидишь Филомелу с Прокной —
- Лишь сов зловещих да мышей летучих.
- Весна ко мне уже не возвратится:
- Ни трав здесь, ни цветов на утешение,
- Лишь терны и шипы, что грудь терзают.
- Здесь тучи с горизонта не расходятся,
- И дни хотя стоят теплы и солнечны,
- В ночи гремят раскаты грозовые.
- Пусть пропадет весь мир! – не испугаюсь;
- Я жду его крушенья, даже мысли
- О том приносят сердцу облегченье.
- Пусть молнии летят сильней, чем видели
- На Флегре[152] гордые гиганты, пусть провалятся
- Земля и небо: вот мое желанье!
- Иль хочешь, чтоб восстало сердце падшее
- Опять к заботам о убогом стаде,
- Что уж, надеюсь, разогнали волки?
- Иного в скорби не найду прибежища:
- Под кленом лишь скрываться в одиночестве,
- Под буком, или елью, или дубом
- И, помня ту, что сердце растерзала мне,
- Застыть, как лед, о жизни не заботясь,
- Не чуя боли, столь меня измучившей.
Сельвагий
- Дивлюсь и цепенею, точно камень, Выслушивая речи столь тоскливые,
- Однако же тебя спросить решаюсь:
- Да кто она, чье сердце так надменно,
- Чтоб пременить твое лицо и твой обычай?
- Открой секрет, я никому не выдам.
Эргаст
- Однажды гнал овец я над рекою
- И свет увидел посреди ее теченья,
- Что, золотой связав меня косою,
- На сердце дивный лик отобразил мне,
- Нежней румянцем, чем молоко и розы,
- И скрылся в глубине моей душевной,
- Чтоб дух мой не был отягчен иною ношей.
- Так был пленен я; с этих пор ходя под игом,
- Я вынес более иных всех, плоть носящих,
- Что и помыслить – всяких тяжестей тяжеле.
- Сперва одним, затем другим следил я оком
- За ней, в воде стоявшей по колена
- Среди ручья, под полудённым небом:
- Платок она стирала с звучным пеньем.
- Увы, лишь увидав меня, тотчас же
- Прервала песню и смущенно замолчала
- И, о беда, на большую мне муку,
- Подол оправив, от очей укрылась,
- По пояс в воду погрузившись телом, —
- И я, сражен, пал замертво на землю.
- Из вод она взбежала – дать мне помощь,
- Припав на грудь, вскричала с громким плачем.
- На вопль немедля пастухи сбежались,
- Свои стада водившие в округе,
- И, испытав все средства состраданья,
- Едва не отлетевший дух вернули,
- Меня восставив для плачевной жизни.
- Она ж, скорбевшая, как только я очнулся,
- Бежала (как пылает грудь!), в одно мгновенье
- Представ и милосердной, и жестокой.
- Моя пастушка непреклонная, суровая,
- Что день и ночь на помощь призываю,
- О гордая, о паче горных льдов холодная! —
- Но знают эти рощи, как люблю ее,
- Но знают реки, горы, звери, люди,
- Как вожделею, плача и вздыхая.
- И знает, сколько раз на дню зову ее,
- Отара, слушать голос мой привычная,
- В лесу бродя или в хлеву питаясь.
- И, отвечая, эхо возвращает мне
- Те звуки, нежно в воздухе звенящие,
- И повторяется в ушах родное имя.
- О ней немолчные шумят деревья сладко,
- Являя буквы на стволах, и призывают
- Меня рыдать и петь, и ей во славу
- Быки и овны побеждают в поединках.
Проза вторая
Каждый из нас стоял, не менее разжалоблен, чем потрясен, слушая взывающие к сочувствию речи Эргаста. Своим слабым голосом и рыдающим тоном он не раз заставил нас вздохнуть, но и помимо речей, само его бледное и исхудавшее лицо, всклокоченные волосы и синева под глазами, – всё это, понуждая уже не вздыхать, а плакать о нем, рождало в нас величайшую горечь. Когда же он умолк и вместе с ним утих гулко откликавшийся лес, не нашлось в толпе пастухов ни одного, кому хватило бы духа вернуться к оставленным играм или продолжить начатые развлечения. Но каждый был настолько пленен состраданием, что, как только мог и умел, пытался утешить, уговорить, отвлечь друга от скорби, предлагая ему множество средств, о которых легче было рассказать, нежели применить их на деле. Затем, так как солнце начинало склоняться к западу и назойливые сверчки уже подымали свой стрекот из земных расщелин, чувствуя приближение ночного мрака, мы, не терпя оставить бедного Эргаста на месте одного и едва ли не силой подняв его на ноги, неспешно повели покорные стада к обычным стойбищам. И чтобы не так томителен казался кремнистый путь, каждый по очереди, поиграв на своей свирели, затем пробовал спеть что-нибудь новое, – кто ободряя своих собак, кто называя по именам овец, один – жалуясь на свою пастушку, а другой – простодушно хвалясь своею. А иные шли и болтали, подзадоривая друг друга бесхитростными шутками, пока наконец достигли мы своих хижин из веток и травы.
Подобным образом проходили дни за днями. И в одно утро, вместе с другими я, как это в обычае у пастухов, выпас своих овец по росистым травам и уже думал, по причине наступающей жары, отвести их в приятную тень, где мог бы и сам вместе с ними отдохнуть под свежими дуновеньями ветерка. Я направился к одной тенистой и прохладной ложбине, находившейся менее чем в полумиле от меня, слегка подгоняя привычным посохом овец, что норовили разбрестись по кустарнику. И не успели мы еще далеко отойти, как неожиданно я встретил на тропе пастуха Монтана[153], также искавшего места, где бы укрыться от тягостного зноя. Неся на голове убор из зеленых листьев, защищавший от солнца, он гнал стадо, играя на своей свирели до того сладкогласно, что и леса, казалось, больше, чем обычно, были довольны его мелодией.
Восхищенный ее звучанием, я приветливо обратился к нему:
– Друг, да приклонят милостивые нимфы внимательный слух к твоему пению, и да не расхитят зловредные волки твоих овечушек, но пусть они, невредимые, одетые белейшим руном, принесут тебе добрый прибыток. Позволь, если тебе не в тягость, и мне хоть немного порадоваться твоему искусству, чтобы и путь, и зной казались легче. А чтобы ты не думал, что сеешь труды на ветер, знай: у меня есть посох из узловатого мирта, концы которого окованы блестящим металлом, а сверху рукою Каритея, волопаса, пришедшего к нам из плодородной Испании, вырезана голова овна с рогами, столь мастерски выделанными, что Торибий[154], пастух, между иными богатейший, в обмен на этот посох предлагал мне пса, отважного душителя волков, но ни лестью, ни посулами не смог его у меня выпросить. Но теперь, если ты споешь для меня, он будет твой навсегда.
И Монтан не стал дожидаться иных наград, но, ступая по тропе плавным шагом, начал:
Эклога вторая
Монтан и Ураний
Монтан
- Идите в тень приятных взору буков,
- Овечки сытые мои, уж солнце
- Лучи палящие к полудню направляет.
- Услышьте, как высокой речью славлю
- Свет ясных глаз, и косы золотые,
- И всю красу единственной на свете.
- Пока мой глас и струй речных журчанье
- Звучат согласно, – вы, бродя неспешно,
- Цветы щиплите, и траву, и листья.
- Но что там? человек, иль ствол, иль камень?
- Да, верно: то пастух уснул в ложбине,
- На землю голую улегшись утомленно.
- По платью, росту, по плечам, по шерсти
- Пса белого с ним рядом – полагаю,
- Что это, коли не ошибся я, Ураний[155].
- Ураний, что гармонией на лире
- И словом столь искусен, знаю, будет
- Моей свирели собеседником достойным.
(Поет:)
- Бегите вора, овцы с пастухами:
- Следит за вами волк, коварства полон,
- Что много бед творит по всей округе.
- Есть две дороги; скоро и проворно
- Идти чрез горы, к дому путь спрямляя,
- И отгонять врага, что, притаившись
- Здесь или там, в расщелине, не дремлет,
- Следя всегда за нашими стадами.
- Никто в лесу не поддавайся страху!
- Мне ведом враг; идемте же, идемте,
- Я прутик лишь из тайника достану
- И отгоню его одним лишь взмахом.
- И коль удача нынче мне поможет
- Вас провести до места, – кто весельем
- Исполнен больше будет? Смело, овцы!
- Идемте вместе, общею семьею;
- Коль верно чую, волк неподалеку:
- Я на заре зловещий шорох слышал.
- Бегите, псы, Меламп и Адр[156], проворно —
- Гоня врага своим бесстрашным лаем.
- Никто да не поддастся лютой хитрости
- Волков лукавых, стадо расхищающих,
- Что нашей зависти бывает в наказанье.
- Иные пастухи загоны делают,
- Ограды возводя из стройных сосен,
- На лай собак надежд не возлагая;
- Хранимы доброй стражей, изобилуют
- Руном и молоком, не зная скудости
- Весной, ни летом, ни зимою голой;
- И мартовских лавин не опасаются,
- Коз не теряют, на лугах пасущихся:
- Знать, добрая судьба таким попутна
- И не вредят их овцам чары злобные,
- Ни зелья не вредят, ни заклинания,
- А наши падают от ветерка любого.
- И волки к их стадам не приближаются.
- Боятся ли богатых? Как понять,
- Что грабить только нас они дерзают?
- Вот мы на месте том, куда желанье
- Меня влекло и понуждало
- Дать песне волю жалобам любовным.
- Ураний, полно спать, проснись же!
- Что ты лежишь, несчастный,
- День с темной ночью перепутав?
Ураний
- Монтан, я спал в пещере недалече,
- Как вдруг порой полночной
- Меня подняли псы, учуяв волка,
- И я, вскричав: «Гоните волка! Бейте волка!
- Эй, пастухи, гоните волка!» —
- Глаз не сомкнул до утреннего часа,
- Все пересчитывая стадо раз за разом,
- Покуда не уснул при свете дня
- Под ясенем, где ты застал меня.
Монтан
- Споешь со мною? Здесь же, в эту пору?
Ураний
- Спою охотно, лишь по уговору:
- Ты запеваешь стих – я отвечаю.
Монтан
- Каким напевом? Я их сотню знаю.
- Так, как поется про «неистовую муку»?
- Иль где зачин: «Красавица, душа моя»?
- Иль, может, «Ах, звезда жестокосердая»?[157]
Ураний
- Ради любви моей, запой-ка ту,
- Что в полдень пел, позавчера, в селенье.
Монтан
- Сгорает плоть моя от плача и томленья,
- Как снег под солнцем тает,
- И как под ветром облачное стадо.
- Что делать? Где найду отраду?
- Поймет ли кто меня, как я страдаю?
Ураний
- Поймет ли кто меня, как я страдаю?
- Как мягкий воск от зноя,
- Как от воды огонь, изнемогая,
- Я избавленья не желаю:
- Сладка мне боль, плач кажется игрою!
Монтан
- Сладка мне боль, плач кажется игрою,
- И я танцую с пеньем,
- И в музыке, что в пламени, играя,
- Как саламандра, не сгораю[158]:
- Спасение мне в том или мученье?
Ураний
- Спасение мне в том или мученье,
- Коль я, бродя лугами,
- На берегах цветы срывая
- И яркие венки сплетая,
- И тигра бы разжалобил слезами?
Монтан
- Моя Филлида[159], что белей сирени,
- Румяней, чем цветущий луг весною,
- Оленя быстрого проворней,
- Ты мной гнушаешься упорней,
- Чем Паном – та, что в страхе и смятенье
- Тростинкой трепетною стала над волною[160]:
- Ты мне, моих страданий тяжких ради,
- Рассыпь по ветру золотые пряди!
Ураний
- Моя Тиррена[161], что румянцем равна
- Рассветной розе, молока нежнее,
- Быстрее тонконогой лани,
- Ты – сердца сладостное пламя,
- Но холодней ко мне, чем древле Дафна,
- Что израстила лавр, деревенея[162]:
- Так исцели меня, с моей сердечной болью,
- Воззрев очами, полными любовью!
Монтан
- Вы, пастухи, кто наше пенье слышит,
- Коль ищете трута или огнива,
- Овчарню обогреть желая,
- Скорей ко мне, ведь я пылаю,
- Огонь во мне неукротимо пышет —
- И счастья, и мученья диво:
- Со дня, когда увидел взор прекрасный,
- Горю и леденею повсечасно.
Ураний
- Вы, пастухи, что в поисках прохлады
- От зноя летнего в лесную тень укрыться
- К потоку быстрому спешите,
- Ко мне, скорбящему, идите,
- Лишенному надежды и отрады:
- Река печальная из глаз моих струится
- Со дня, как белость рук ее изгнала
- Из сердца все, что прежде в нем дышало.
Монтан
- Настала ночь, и небо потемнело,
- И склоны гор густой покрылись тенью;
- Луна и звезды нас сопровождают.
- И овцы, сбившись вместе, вон из лесу
- Домой спешат, привычкой давней зная
- Урочный час, когда заполнить стойла.
- Пойдем же рядом, вслед за их гурьбою,
- Ураний! ожидают остальные,
- Волнуясь, как бы не случилось что-то.
Ураний
- Мои друзья тревожиться не будут;
- Едва ли обо мне у них забота.
- Пусть поздно, что ж? Пасу, как овцам любо.
- Есть хлеб в суме, другой еды найдется;
- Садись, коль хочешь, – я не сдвинусь с места,
- Пока вино в баклаге остается:
- И пусть дождит, и пусть гремит над лесом!
Проза третья
Оба пастуха, утомленные пением, уже молчали, когда остальные, поднявшись с мест, где кто сидел, и оставив с Уранием двоих товарищей, последовали за овцами, ушедшими под охраной верных собак далеко вперед. Хотя почти всю дорогу над нами клонились густые ветви бузины в пахучем цвету, луна светила столь ярко, что тропу было видно как днем. Шаг за шагом следуя за овцами, мы шли среди безмолвия ясной ночи, рассуждая о пропетых песнях и восхищаясь тем, как на новый лад начал пение Монтан и как живо и уверенно отвечал ему Ураний, у которого, хоть он пел едва проснувшись, сон не смог похитить ничего от заслуженной им славы.
И каждый хвалил милостивых богов, нечаянно приведших нас к столь великому наслаждению. А пока мы шли, беседуя, то и дело из своих укрытий сипло голосили фазаны, понуждая нас прислушиваться и прерывать разговор, который от этого казался еще желаннее, чем если б мы вели его по порядку, без столь приятной помехи. Между такими удовольствиями вернулись мы к нашим хижинам, где, простыми снедями отогнав голод, улеглись спать, как обычно, на сене, с величайшим желанием ожидая нового дня, в который предстояло торжественно совершить отрадный праздник Палес, досточтимой богини пастухов[163].
И лишь только солнце появилось на востоке и вольные птицы запели в зелени ветвей, возвещая пришествие света, каждый из нас, подражая другим в почитании Палес, принялся украшать хлев зелеными ветками дуба и земляничного дерева, подвешивая над входом длинные гирлянды из побегов и цветов дрока и иных трав; затем благоговейно обошел с курением серы досыта накормленных животных, очищая их умиленными молитвами, да не принесет им ни вреда, ни пагубы никакое зло. Каждая хижина огласилась звуками музыкальных инструментов; все дороги, перекрестки, селения были осыпаны свежей листвой мирта; все рабочие животные ради священного праздника равно получили желанный отдых. Также и лемехи, грабли, мотыги, плуги, ярма, подобно украшенные венками из свежих цветов, являли вид приятного досуга. И не было никого из земледельцев, кто в течение дня помыслил бы взяться за какой-либо труд; но все, веселясь в беззаботных играх, рядом с увенчанными волами, между полных живностью хлевов распевали любовные песни.
И тут и там по округе можно было видеть парней, гулявших и предававшихся юным забавам со своими невинными девушками, в ознаменованье всеобщего веселья.
Но вот, благочестиво исполняя данные в нуждах обеты, все вместе мы направились к святилищу, чтобы вознести дары на дымящиеся жертвенники. Поднявшись ко храму по невысоким уступам, мы увидели написанные на его дверях прекрасные леса и холмы, обильные густыми деревами и великим многообразием цветов; между ними можно было видеть многие стада, что бродили, щипая траву и нежась на зеленых лугах, а стерегли их примерно десять собак, следы которых на земле были запечатлены весьма правдоподобно. Из пастухов одни доили, другие стригли шерсть, иные играли на свирелях, а были такие, что будто пели под их наигрыш. Но чем мне сильнее всего хотелось неотрывно любоваться, это нагими нимфами: выглядывая из-за каштана, они потешались над овном, что силился дотянуться до дубового венка, подвешенного у него перед глазами, забыв о сочной траве, которую мог бы щипать безо всякого труда. Тем временем четыре рогатых козлоногих сатира подобрались к нимфам, желая ухватить их за плечи, но те, обнаружив их, пустились в бегство по густому лесу, не думая ни о колючках, ни о чем другом, что могло поранить им ноги. Одна, самая ловкая, забралась на явор, откуда могла защищаться, ухвативши длинную ветку; другие от страха бросились в реку и спасаются вплавь, а прозрачные воды почти не скрывают – или даже не скрывают вовсе – их белые тела. Наконец, видя себя избавленными от опасности, они уселись на другом берегу и, тяжело дыша, выжимают свои мокрые волосы, жестами и словами грозя тем, которые так и не сумели их догнать.
На одной из дверей был изображен золотоволосый Аполлон: вот он на берегу реки охраняет стадо Адмета[164] и, опершись на посох из дикой оливы, наблюдает, как два сильных быка упираются друг против друга рогами, но при этом не замечает хитреца Меркурия, который, в пастушьей одежде, с козьей шерстью, подвязанной под левым плечом, уводит у него коров. Здесь же неподалеку стоит Батт, обличивший кражу и превращенный за это в камень: он протягивает палец в указующем жесте[165]. Чуть ниже опять видим Меркурия: усевшись на белом камне, он играет на свирели, надувая щеки и искоса поглядывая на белую телицу, пасущуюся поблизости, и прилежно измышляет, как бы обмануть стоглазого Аргуса[166].
На другой половине под высоким дубом лежит среди овец задремавший пастух, а его пес принюхивается к сумке, которую хозяин подложил под голову. По тому, каким благосклонным оком смотрит на пастуха Луна, можно угадать в нем Эндимиона[167]. Поблизости изображен Парис: он начал было вырезать ножом на коре вяза: «Энона»[168], но, увлекшись судом между тремя обнаженными богинями, так и не докончил надпись[169]. И столь же увлекательно угадывать, сколь приятно наблюдать уловку скромного художника: показав Юнону и Минерву в такой красоте, что состязаться с ними казалось невозможным, и остерегаясь сделать Афродиту менее прекрасной, чем нужно, он показал ее со спины, хитростью прикрыв недостаток искусства. Видел я и иные изображенные в разных местах вещи, изящные и прекраснейшие для взора, которые теперь помню лишь смутно.
Когда мы вступили в храм и подошли к алтарю под изображением святой богини, нас встретил жрец, облаченный в белые одежды, в венке из зеленых листьев, как подобало в столь радостный день и для службы столь торжественной: в дивном безмолвии он ожидал нас для совершения божественных обрядов. Все собрались вокруг жертвенника, и он, своими руками заколов белую овцу, принес ее внутренности в жертву на священном огне, вкупе с благоуханными курениями, ветвями целомудренной оливы, сосны, шелестящего лавра и сабинской травой[170]; затем возлил на жертвенник теплое молоко из сосуда и, преклонив колена, с руками, простертыми к востоку, начал молитву:
– О досточтимая богиня, многократно являвшая свою дивную силу в наших нуждах, приклони милостивый слух к верным молитвам стоящего окрест людского множества, смиренно просящего тебя о прощении грехов – сидел ли кто из них или пас овец под посвященным тебе деревом, не зная того; или, входя в недоступные чащи, обеспокоил своим вторжением святых дриад и козлоногие божества в их забавах; или от недостатка травы обнажил дерзким ножом священные леса от тенистых ветвей, чтобы добыть пищу для послушных овец; а может быть, и сами они, по неразумию, щипали траву на мирных могилах или взволновали копытами чистые источники, возмутив обычную прозрачность вод. Ты, всемилостивая богиня, сама удовлетвори за них оскорбленные божества, всегда отдаляя болезни и немощи от смиренных стад и их хозяев. Не попусти нашим недостойным глазам увидеть когда-либо средь леса мстительных нимф, или обнаженную Диану, купающуюся в студеных водах, или лесного Фавна, когда он в полдень, усталый возвращаясь с охоты, раздраженный пылающим солнцем, проходит широкими полями. Отгони от наших хлевов всякую нечестивую волшбу, всякие вредоносные чары, убереги нежных ягнят от лукавых очей завистников, храни усердную ватагу пылких псов, надежных стражей и помощников кротким овцам, чтобы число нашего скота не сокращалось ни в какое время года и при вечернем возвращении было не меньшим, чем утром; и да не увидим никогда никого из пастухов с плачем несущим в хижину окровавленную шкуру, еле отнятую у хищного волка. Да минует наших овец тягостный голод, и да будут у них всегда в достатке трава, свежие листья и прозрачная вода для питья и купания, да приносят они в изобилии молоко и приплод, белую и мягкую шерсть, от чего да получат пастухи, вместе с радостью, и приятный прибыток.
Он четырежды произнес это, а многое другое, ради нас, непосвященных, беззвучно прошептал; после чего каждый из нас для очищения омыл руки речной водою, и зажжены были весьма большие костры из соломы, через которые все мы по очереди стали проворно прыгать, искупая провинности, допущенные в прежние дни.
Когда же были произнесены священные молитвы и закончилось торжество приношения, через другие ворота мы вышли на прекрасную равнину, по которой простирались нежнейшие луга, коих, как можно было подумать, никогда не касались зубы ни овец, ни коз, не топтали иные ноги, кроме ног нимф, и не верилось даже, чтобы жужжащие пчелы залетали насладиться растущими там нежными цветами – такими прекрасными и нетронутыми они казались. Здесь мы застали много красивых пастушек, которые шли среди цветов, делая свежие венки, и тысячью причудливых способов укладывали их поверх светлых волос: каждая старалась в мастерстве превзойти природные дары. И тогда Галиций[171], вероятно приметив среди них ту, которую любил, и издав несколько страстных вздохов, никем не прошенный, сладкозвучно запел под наигрыш свирели своего друга Евгения, – и все сразу умолкли.
Эклога третья
Галиций один
- Над свежестью потока
- Прозрачных струй блестящих,
- Средь леса, испещренного цветами,
- Увидел я: оливы
- Увенчанный листвою
- Пастух под ясенем стоял перед зарею
- (День третий был, а месяц
- Тот, что перед апрелем)
- И пел, а птицы вились
- Над свежими кустами,
- Ему своими отвечая голосами.
- Он, обращаясь к солнцу,
- Такое слово молвил:
- «Времен раскрой ворота,
- Предобрый светлый пастырь,
- И обагри лучей сияньем небо,
- И, сроки предваряя,
- Яви в красе природной
- Все многоцветие приятнейшего мая!
- Пусть будет ход твой выше —
- Так, чтоб твоя сестрица
- Подольше почивала[172],
- Потом же, вслед за нею
- Пусть звезды чередой неспешной выйдут,
- Напомнив, как когда-то
- Стада овец стерег ты[173].
- Вы, долы, кручи, ели,
- Вы, кипарис с ольхою,
- Прострите слух к стихам моим несмелым.
- Пусть не страшатся волка
- Послушные ягнята,
- Мир да вернется к первому закону!
- Пусть падубы на холмах
- Увьются розой белой,
- Пусть гроздья налитые
- Свисают в гуще терний,
- Пусть мед стекает по дубам высоким.
- Пускай ручьи средь леса
- Млеком струятся чистым.
- Пусть луг цветами дышит,
- Пускай зверье лесное
- Оставит нрав жестокий.
- Пусть легкие амуры
- Без факелов и луков,
- Летят нагими, как игривые младенцы.
- Пусть воспевают страстно
- Песнь нимфам белокожим,
- Скача в обличьях странных,
- Сатиры и сильваны,
- Поляны да смеются с ручейками.
- Пусть не скрывают тучи
- Вершины гор высоких.
- В сей день краса явилась
- Нам даром животворным,
- И добродетели вновь обрели жилище;
- Дано слепому миру
- В том чистоты познанье,
- На много лет отброшенной далече.
- Поэтому и режу
- Я на стволах у буков;
- Взгляни – любое древо
- Взывает: „Амаранта!“[174] —
- Единственной, что усладит мои мученья,
- Одной, о ком вздыхаю
- И то ярюсь, то плачу[175].
- Доколь по этим холмам
- Скитаясь, бродят звери,
- И сосны гордые убор иглистый носят,
- Пока ручьи живые
- Сбегают с гор с журчаньем
- В пучину моря, что любовно их приемлет,
- Доколь живут на свете
- Меж болью и надеждой
- Влюбленные, – будь славно
- То имя, руки, очи,
- Те косы, что томят меня войною:
- С ней жизни скорбь и горечь
- Сладка мне и бесценна.
- Так будь любезна, моя песня, попроси же
- Сей день тепла и счастья,
- Пусть он вовек не гаснет!»
Проза четвертая
Удивительно пришлась по душе всем песня Галиция, однако каждому по-своему. Одни хвалили его молодой голос, полный невыразимой гармонии, другие – весьма мягкую и сладостную манеру пения, способную пленить любую душу, даже самую строптивую перед любовью; многие отмечали непривычное в неученом пастушеском кругу изящество слога, а из этих еще были такие, что особенно высоко оценили его тонкую осмотрительность: вынужденный упомянуть месяц, сулящий беды стадам и пастухам, он, умело избегая недоброго предзнаменования в столь радостный день, выразился: «месяц перед апрелем»[176]. Я же, не меньше, чем слушать песню, желавший узнать, кто такая эта Амаранта, ушами был полностью сосредоточен на любовном пении, а глазами – на лицах прекрасных девушек, пытаясь по движениям угадать ту самую, что слышала себя воспеваемой своим влюбленным. И, пристально вглядываясь то в одну, то в другую, увидел девушку, которую счел прекраснейшей из прекрасных: ее волосы были покрыты легким платом, из-под которого сияли прелестные, блистательные очи, сравнимые лишь с ясными звездами, пламенеющими в светлом и чистом небе. Ее лицо, скорее чуть удлиненное, чем округлое, миловидное по своему очертанию, с бледностью не болезненной, но умеренной, будто отдающей в смуглость, сопровождаемой нежным румянцем, наполняло желанием глаза тех, кто ею любовались. Уста ее цветом побеждали утренние розы, а между ними, всякий раз, когда она говорила или улыбалась, виднелся ряд зубов, столь дивно и редкостно изящных, что можно было уподобить их только восточному жемчугу. Отсюда опустивши взгляд по мраморно-белой и стройной шее, я видел выступавшие из-за тонкого платья, подобно двум круглым яблочкам, маленькие юные груди; между ними пролегала прекраснейшая ложбинка, безмерно приятная на вид, которая хоть и оканчивалась на сокровенных местах, но тем сильнее побуждала думать о них. Она, столь изящная своей благородной и возвышенной статью, ходила по прекрасным полянам, собирая белой рукою нежные цветы. Наполнив цветами подол, девушка, как только услышала от певца имя «Амаранта», сразу, будто в исступлении ума, уронила руки и вместе с ними край платья; и незаметно для нее цветы рассыпались, усеяв траву, быть может, двадцатью видами красок. Потом, словно очнувшись и придя в себя, она зарделась так, как иногда бывает с ликом волшебной луны или еще когда перед восходом солнца является зрителю пурпурная заря. И, думаю, не от какой-то нудившей ее необходимости, но, возможно, желая скрыть выступивший румянец, она склонилась над землей, как бы собрать цветы, отделяя белые от ярко-алых и темно-багряные от лиловых, словно ничто другое не имело для нее важности. И я, внимательно и неотрывно смотря на нее, почти совершенно уверился, что она и была та пастушка, которую воспевала песня под измененным именем.
Она же, через недолгое время, сплетя из сорванных цветов простенький венок, смешалась с прекрасными подругами, которые, подобно ей собрав красу лугов и возложив на себя, проходили горделивым и плавным шагом, будто наяды или напеи[177], разнообразием своих уборов весьма увеличивая природную красоту. Одни носили гирлянды из лигустра[178] с вплетенными поочередно желтыми и алыми цветами, другие сочетали белые и пурпурные лилии с сочно-зелеными ветвями апельсина; та шествовала сияя, словно звездами, цветами роз, а иная белела жасминами; итак, каждая в отдельности и все вместе, они больше напоминали божественных духов, нежели человеческие существа. Отчего многие из мужчин восхищенно говорили: «О, сколь счастлив будет обладатель такой красоты!» А тем временем девушки, видя, что солнце поднялось уже высоко и наступает сильный зной, непринужденно шутя и пересмеиваясь между собою, направились в сторону прохладной ложбины. Очень скоро они ее достигли и, найдя в ней свежие источники, столь прозрачные, что казались из чистого горного хрусталя, принялись освежать ледяной влагой лица, сияющие неухищренным искусством, и, засучив до половины чистые рукава, обнажали белизну локтей, добавлявших немало красоты к нежности и изяществу перстов и ладоней. И мы, разгораясь все большим желанием любоваться девушками, немедля последовали туда же, куда и они, и здесь расселись кто где у подножия огромного каменного дуба[179].
И здесь, притом что многие из нас были искусны в игре на цитре и свирели, большинству, однако, пришла охота послушать, как состязаются в пении Логист и Эльпин[180]: оба пастухи, Эльпин – коз, а Логист – густорунных овец, оба красивые собой и молодые летами, с волосами светлее, чем спелый колос, оба из Аркадии, оба равно способные и начать пение, и ответить. И Логист, чтобы состязаться не без награды, поставил на кон белую овцу с двумя ягнятами, сказав: «Их принесу я в жертву нимфам, если победа в пении достанется тебе; но если благосклонные духи даруют ее мне, ты пожалуешь мне, как заслуженную награду, твоего домашнего оленя».
«Моего домашнего оленя, – отвечал Эльпин, – с того дня, как я отнял его от вымени матери, я берег для моей Тиррены. Ради ее любви я с великой заботой долго и бережно растил его, часто омывая ему шерстку в чистых источниках, украшая ему ветвистые рога гирляндами роз и иных цветов. Приученный питаться с нашего стола, днем он в свое удовольствие гуляет по лесам, а когда ему захочется – бывает, что и затемно – возвращается домой. И если видит, что я ожидал его в тревоге, ненасытно ласкается, подпрыгивая и творя тысячи причуд вокруг меня. Но что мне всего милее в нем, – то, что он знает и любит больше всего на свете свою госпожу и терпеливо выносит, когда она надевает на него уздечку и обнимает его. Вместо своей воли ему нравится, когда шея его чувствует упряжь, а спина, подчас, седло; довольный, если она садится на него верхом, он носит ее по просторным полям, и с ним можно не бояться никакого вреда или опасности. А монисто из морских раковин, которое ты сейчас на нем видишь, с кабаньим клыком, что подобно маленькому полумесяцу висит у него на груди, – это она, ради любви ко мне, подарила и дала носить ему в мое имя.
И его я сюда не поставлю; однако мой заклад будет таким, что, когда ты его увидишь, сам рассудишь, что он не только достоин твоего, но и больше. Во-первых, ставлю козла – разноцветного шерстью, крупного телом, бородатого, вооруженного четырьмя рогами и многократно побеждавшего, когда случалось бодаться с соперниками. Он и сам, без пастуха, приведет в стойло любое стадо. Кроме него – новую чашу из бука, с двумя красивейшими ушками из того же дерева. Сработанная искусным мастером, она имеет изображение краснорожего Приапа, который, вплотную прижав к себе нимфу, пытается ее поцеловать; она же, распаленная гневом, отвернув от него лицо, всячески стремится вырваться и левой рукой расцарапывает ему нос, а правой терзает густую бороду.
А вокруг них – трое нагих мальчиков, полных чудесной живости, из которых один старается вырвать у Приапа из руки нож, всею детской силой разжимая ему один за другим заскорузлые пальцы; другой яростными зубами вцепился ему в волосатую голень и дает знак товарищу, чтобы спешил ему на помощь; но тот, сосредоточенно мастеря малюсенькую клетку из соломинок и тростинок, – может быть, для певучих кузнечиков – не отрывается от своего занятия. А похотливый бог, мало обращая внимания на возню детей, только сильнее прижимает к себе прекрасную нимфу, решительно готовый довести до конца свое намерение. По краю сосуда идет гирлянда из листьев аниса, с бумажной лентой, на которой написано:
- От корня этого рождается
- То, что бедой моею услаждается[181].
И клянусь тебе божествами священных источников, что уста мои еще не касались этой чаши, но я бережно храню ее у себя в суме с того часа, когда за козу и две большие корзины творога выменял ее у мореплавателя, забредшего в наши леса из далеких стран».
Но Сельвагий, которого выбрали судьей, не пожелал, чтобы ставили заклад, сказав, что довольно будет с победителя славы, а с побежденного – стыда. И с этими словами дал знак Офелию[182], чтобы тот подыграл на свирели, приказав Логисту начинать пение, а Эльпину, чередуясь с ним, отвечать. Раздалась музыка и Логист тот час последовал за ней такими словами:
Эклога четвертая
Логист и Эльпин
Логист
- Расслышать вздохи кто б хотел в стихах,
- О госпожи мои, и скорбный плач,
- Шаги исчесть, что тщетно, ночь и день,
- Рассеиваю я, бродя в полях,
- Пусть прочитает на деревьях и камнях
- Стихи мои – их вся полна долина.
Эльпин
- Ни зверя нет, ни птицы в сей долине,
- Что не слыхали звук моих стихов,
- Ни грота, ни расселины в камнях,
- Не отзывался где мой горький плач,
- Нет ни цветка, ни стебелька в полях,
- Что не касался я стопою каждый день.
Логист
- Я позабыл, увы, и час, и день,
- Когда темницей стала мне долина,
- Не помню уж, когда ходил в полях
- Без пут, свободным; сетуя в стихах,
- В огне живу, мой непрестанный плач
- Разжалобить бы мог древа и камни.
Эльпин
- Сквозь горы, лес, ручьи, брега и камни
- Бреду, ища, где встречу ясный день,
- Что утолит мне безутешный плач;
- Но знаю: лишь в единственной долине
- Покой найду измученным стихам,
- Что, шелестя, скитаются в полях.
Логист
- О звери дикие, что бродите в полях
- Привольных, что таитесь меж камней,
- Слыхали ль вы такую скорбь в стихах?
- Скажите, вы слыхали ночью ль, днем
- Хоть в этой, хоть в иной долине
- Столь жаркий вздох и столь безмерный плач?
Эльпин
- Уж тысячу ночей мой длился плач,
- Озёра слез наполнились в полях,
- Когда, в отчаянье сидящему в долине,
- Раздался голос мне среди камней:
- Дерзай, Эльпин, уж близок счастья день,
- Что петь велит нежнейшими стихами!
Логист
- О, счастлив ты, что новыми стихами
- Возможешь утолить тоску и плач!
- А мне, унылому, скитаться ночь и день
- И небу докучать, лесам с полями;
- И мнится: плачут травы, воды, камни,
- И птица каждая, и каждая долина.
Эльпин
- Ах, если б так, то берег и долину
- Я б сладостными огласил стихами,
- Пустил бы танцевать леса и камни,
- Как некогда Орфеев сладкий плач,
- И горлицы курлыканье в лугах
- Средь трав не умолкало бы ни на день.
Логист
- Тогда прошу тебя, в твой светлый день
- Мою могилу навести в долине;
- Венком зеленым, собранным в полях,
- Почти мой прах и воздохни стихами:
- О юноша, чья жизнь была лишь плач,
- Покойся ныне, бедный, под камнями.
Эльпин
- Логист, пусть реки быстрые с камнями
- Услышат, как веселый счастья день
- Придет, в улыбку обращая плач,
- Коль травы, что я собирал в долине,
- Рекут согласно с вещими стихами,
- Что властны и над злаками в полях.
Логист
- Скорее рыбы убегут в поля,
- Засохнет море и растают камни,
- Эргаст повергнет Титира[183] в стихах,
- Ночь солнце озарит, а звезды – день,
- Чем буки с елями услышат над долиной
- Иную песнь из уст моих, чем плач.
Эльпин
- Кто человек, чьей пищею был плач?
- – То я, вы все свидетели, поля;
- Но, вырваться надеясь из долины,
- Утесов загороженной камнями,
- В мечте, сколь счастлив стану я в тот день,
- Пою под дудочку согласными стихами.
Логист
- Стихи мои, вас лишь тогда покинет плач,
- Когда взойдет темнее ночи день в полях,
- Когда погонит ветер камни по долине.
Проза пятая
Вот и зашло солнце, и весь запад явился усеян тысячью видов облаков – лиловых, голубых, багровых и других, от желтого до черного, а некоторые до того сияли, отражая лучи, словно были из чистейшего полированного золота. И поскольку пастушки, сидевшие у прозрачного источника, по общему согласию поднялись, чтобы идти домой, оба влюбленных положили конец своим песням. Эти песни, выслушанные при удивительном молчании, каждый из нас принял с восторгом, – и в наибольшей степени Сельвагий, который, не в силах определить, кто из двоих ближе к победе, обоих счел достойными высшей похвалы, и все единогласно одобрили его суд.
А поскольку мы не знали, как почтить их более, чем уже похвалили, и так как всем подумалось, что пора уже возвращаться в селение, то неспешным шагом мы отправились в путь, в беседах деля друг с другом пережитое наслаждение.
И хотя, по причине суровости этой дикой страны, путь был не столько ровным, сколько гористым, тем не менее он предоставил нам в тот вечер все те бесхитростные удовольствия, которые можно получить в таких местах, идя в веселой и приветливой компании. Например, на ходу подбирая плоские камушки, мы бросали их на спор в какую-либо мишень, и кто был метче, тот, как победитель, мог сколько-то проехаться на плечах проигравшего, а мы шли за ними с радостными кликами и рукоплесканиями, чудесно веселясь, что и было целью игры. Затем, оставив ее и взяв, одни из нас – луки, другие – пращи, шли, забавляясь тем, что сбивали по пути камни, и каждый, прилагая всю сноровку и искусство, старался превзойти другого. После чего, сойдя на равнину и оставив позади скалистые горы, принялись за новые развлечения, какое кому было по душе, соревнуясь или в прыжках, или в метании пастушьих посохов, или с легкостью бегая наперегонки по отлогим склонам; и кто достигал намеченной цели первым, того под звуки свирели в награду венчали ветвями серебристых олив. А еще, как часто бывает в лесах, то из одного места выбегала лиса, то из другого выскакивала косуля, а наши псы гонялись за ними туда и сюда: так мы и дошли до селения, где в привычных жилищах встретили нас товарищи, поджидавшие нас к радостному ужину. Проведя во многом веселии большую часть ночи и уже поистине уставши от удовольствия, мы наконец дали отдых истомленным телам.
И не позже, чем прекрасная заря прогнала ночные звезды, а увенчанный гребнем петух приветствовал своим пением наступающий день, знаменуя тот час, когда запряженные парами волы выходят в поле на обычную работу, – один из пастухов, поднявшись раньше всех, вышел с хриплым рогом разбудить остальную братию.
И под звуки рога каждый, покинув ложе лени, украсился лучами белеющего восхода для новых радостей. Выгнав из хлевов застоявшиеся стада, мы вышли в путь следом за ними, которые при каждом шаге по молчаливым лесам будили сонных птиц хором своих колокольчиков; мы шли в задумчивости, размышляя, где с приятностью для стад и для себя могли бы провести целый день. И пока один предлагал одно, другой – другое, Опик[184], старейший из нас и весьма уважаемый всеми пастухами, сказал:
– Если вы согласны иметь меня проводником, я проведу вас в местность, довольно близкую и, по моему мнению, весьма благоприятную, о которой что ни час я вспоминаю; ибо почти всю мою юность провел там в полном счастии, под звуки музыки и песен, – так что еще помнят меня тамошние камни, привыкшие откликаться на мой напев. Там и доныне, полагаю, найдется немало деревьев, на которых в дни, когда кровь моя была горячее, вырезал я ножом имя той, которую полюбил больше всех девушек в нашем краю. Вероятно, теперь эти буквы выросли вместе с деревьями; и я прошу богов сохранить их навсегда, в похвалу и вечную славу ее имени.
Всем равно пришлось по душе предложение Опика, и мы тотчас ответили, что готовы следовать за ним. Пройдя немногим более двух тысяч шагов, мы достигли истока реки, называемой Эримант[185], что, выходя под горой из расщелины в голой скале, с громким и пугающим рокотом, с клочьями белой пены вырываясь на равнину и пересекая ее, журча пробирается по ближним рощам. Издалека, по первому впечатлению, она наводит на путника невыразимый страх, отнюдь не без причины: ибо среди окрестного народа идет молва, что здесь обитают нимфы этого края, и они-то, желая вселить ужас в тех, кто хотели бы приблизиться, производят звук, столь странный для слуха. Поскольку среди грохота не было возможно наслаждаться ни беседой, ни пением, мы стали мало-помалу подыматься на эту не особенно крутую гору, по склону которой среди, может быть, тысячи кипарисов росли пинии, столь высокие и раскидистые, что одной хватило бы затенить целую рощу. Дойдя почти до верха, – а солнце было еще не очень высоко, – мы уселись кто куда на свежей траве. Но овцы и козы, охочие больше до пищи, нежели до отдыха, пустились вразброд по диким и крутым местам этой лесистой горы, иная ощипывая лист ежевики, иная – совсем юное деревце, только-только поднявшееся над землей; одна тянулась достать до ивовой ветки, другая обгладывала нежные верхушки дубков, а многие, утоляя жажду в чистых ручьях, играли, видя в них свои отражения столь ясно, что, если посмотреть чуть издалека, легко можно было поверить, будто они подвешены к опрокинутым берегам.
В то время как внимательно, в молчании, мы оглядывали все это, позабыв и о песнях, и обо всем остальном, до нас донесся издалека звук свирели и трещоток, смешанный с громкими голосами пастухов. Поднявшись с мест, где кто сидел, увлеченные любопытством, мы направились к той стороне горы, откуда слышались голоса, и, проникнув сквозь запутанную чащу, вышли на поляну. С десяток волопасов плясали здесь вокруг почитаемой могилы пастуха Андрогея[186], подобно тому как в полночь пляшут в лесах сладострастные сатиры, предвкушая, когда из ближних рек выйдут любимые ими нимфы; увидев пляшущих, присоединились и мы к поминальному обряду. Один из волопасов, по виду наиболее почтенный, стоял посреди круга танцующих, перед высоким курганом, у алтаря, только что выложенного из свежего дерна. На него, согласно древнему обычаю, он возлил из двух сосудов свежее молоко, из двух других – жертвенную кровь, и еще из двух – благородное и ароматное вино, а затем, взяв пеструю охапку нежных цветов, бережно и благоговейно поднес ее к могиле, под музыку свирели и трещоток возглашая пространные похвалы погребенному пастуху:
– Радуйся, радуйся, Андрогей; и если по смерти душам дано слышать, услышь наши речи; и где бы ты ни обитал счастливо, благосклонно прими торжественные почести, приносимые тебе твоими волопасами! Без сомнения верю, что твоя возвышенная душа, облетая ныне эти леса, видит и слышит все, что совершаем мы сегодня в твою память над обновленной могилой. И если это поистине так, – может ли быть, чтобы ты не ответил на столь многие призывы? Ах, было у тебя в обычае увеселять наш лес приятной гармонией под сладостные звуки твоей свирели; и как ныне приходится тебе, заключенному в тесноте среди хладных камней, лежать в вечном молчании? Твои кроткие речи смиряли ссоры и тяжбы между пастухами; как же теперь, отошед, ты оставил их словно потерянными, опечаленными сверх всякой меры? О честной отец и наставник всего нашего народа, где найдем мы равного тебе? Чьему учению покоримся? По чьим уставам будем ходить с уверенностью? Поистине, не знаю, кто будет нам впредь верным путеводителем в запутанных случаях. О благорассудительный пастырь, неужели больше не увидят тебя наши леса? Когда еще на этих горах возлюблены будут справедливость, непорочная жизнь и почтение к богам? Все это прекрасно цвело под твоими крылами; может быть, никогда прежде досточтимый Термин[187] не межевал столь справедливо спорные поля, как в твое время. Увы, кто еще в наших лесах сможет так воспевать нимф? Кто даст верный совет в житейских превратностях? Кто пошлет доброе утешение в печалях, как делал ты, часто воспевая на берегах рек твои сладчайшие стихи! Увы, не слыша твоей свирели, наши стада без охоты пасутся на зеленых лугах, – а когда ты был жив, с каким наслаждением под ее звук они пережевывали жвачку в прохладной тени дубов! Увы, вслед за тобою покинули эти поля все наши божества. И сколько раз, посеяв чистое белое зерно, вместо него мы выращивали на безутешных бороздах лишь злополучный плевел[188] и бесполезный овсюг; а вместо фиалок и иных цветов всходил в наших полях чертополох с острыми и ядовитыми шипами.
Итак, пастухи, разбросайте по земле травы и листву, покройте свежими ветвями прозрачные источники, ибо душе нашего Андрогея угодно, чтобы мы делали это в его честь. О блаженный Андрогей, прощай, прощай навек! Вот пастушеский Аполлон, предивно украшенный, грядет к твоей могиле увенчать тебя душистыми венками. И фавны, украсив гирляндами рога, нагруженные лесными дарами, несут тебе, кто что и откуда может: от полей – колосья, от ягодников – гроздья ягод с листвой, от всякого дерева – зрелые плоды. Соревнуясь с ними, обитающие поблизости нимфы, столь некогда любимые и почитаемые тобой, ныне идут, неся корзины, полные белых цветов и душистых яблок, воздавая тебе должную честь. А что еще дороже, – и более долговечным даром смертному праху воздать невозможно, – Музы приносят тебе стихи; слышишь, стихи дарят тебе Музы! А мы, с нашими свирелями, поем и будем петь тебя всегда, доколе наши стада пасутся в этих лесах. И эти пинии, и эти дубы, и эти платаны, покуда мир стоит, будут шелестеть твое имя; и быки со всеми стадами будут во всякое время года возносить почести твоей тени, громким мычанием призывая тебя в гулких рощах. Итак, отныне и впредь ты навсегда пребудешь в числе наших божеств, и как Вакху и святой Церере, так и на твоих алтарях мы будем приносить подобающие жертвы – если будет холод, то на огне, а если зной – в прохладной тени. И пока ядовитые тисы не начнут приносить сладкий мед, а сладкие цветы – горький, пока пшеницу жнут летом, а черные оливки собирают зимой, в этих краях не умолкнет слава твоя.
Окончив говорить, он взял свирель, висевшую у него за плечом, и заиграл на ней. Услышав этот наигрыш, Эргаст, еще со слезами на глазах, раскрыл уста для пения:
Эклога пятая
Эргаст над могилой
- Прекрасный дух блаженный,
- От плоти отрешенный,
- Ты наг взошел в небесные селенья,
- Где, со звездой твоею,
- Веселие приемлешь
- И, посмеваясь над людскою суетою,
- Блистаешь, словно солнце,
- Между светлейших духов,
- Святых одежд краями
- Касаешься кометам
- И средь живых ручьев и дивных миртов
- Пасешь стада иные,
- Но пастухов земных не покидаешь.
- Иные горы, долы,
- Леса, ручьи иные
- Ты видишь в небе, где цветы не вянут;
- Где фавны и сильваны
- В иных удольях летних
- Играют с нимфами в счастливейших любовях.
- Средь легких ароматов,
- Там, где поют в прохладе
- Песнь Мелибей и Дафнис[189],
- Средь них и Андрогей наш
- Переполняет небо сладкогласьем,
- Стихии укрощая
- Созвучьями неслыханных мелодий.
- Как виноград для вяза,
- Как мощный бык для стада,
- Волна хлебов для радостного поля,
- Ты был красой и славой
- Пастушеского хора.
- Ах, смерть жестокая, и кто тебя избегнет,
- Коль, как пожар, палишь ты
- Прекраснейшие кроны?
- И кто еще увидит,
- Пастух, твой лик – столь светлый,
- Что, подпевая нам созвучными стихами,
- Лес распускал побеги
- И тени веток волны покрывали?
- А как стенали нимфы
- В часы твоей кончины,
- То знают реки, рощи буков и пещеры, —
- Как берега рыдали,
- Как травы вдруг увяли,
- Как солнце днями свет не посылало.
- Ни звери из чащобы
- В луга не выходили,
- Стада не услаждались
- Травой иль влагой чистой:
- Так больно в каждом отзывалось горе,
- Что днем и ночью темной
- «О Андрогей! О Андрогей!» – леса гудели.
- Так пусть в венках зеленых
- К твоей святой могиле
- Ты принесенные дары вседневно видишь;
- И пусть из лета в лето,
- Как юная голубка,
- Из уст людских в уста перелетаешь;
- Да не настанет время
- Твоей иссякнуть славе,
- Доколе змеи в тернах,
- Доколе в речках рыба.
- Да будешь жив, и не в моем лишь бедном слове —
- Но в памяти пастушьей,
- Но в новых песнях тысячи свирелей.
- О, коли дух любви живет меж вами,
- Дубы густые, вашей тенью милой
- Почтите эту мирную могилу.
Проза шестая
Пока Эргаст пел свою умиленную песнь, Фроним[190], самый сметливый из пастухов, записал ее на куске свежей буковой коры и повесил его, украсив гирляндами, на дереве, простиравшем над белым камнем надгробия свои ветви. А затем, поскольку уже почти миновал час обеда, мы отошли к прозрачному источнику, текшему под высокой пинией, и чинно принялись за еду. Здесь было мясо жертвенных телят, молоко во всяких видах, мягкие печеные каштаны и кое-что из плодов, которые предоставляла та пора года, – конечно, и благородные вина, от долгой выдержки весьма душистые, вносили отраду в поминальную тризну.
Утолив голод обилием многообразной пищи, одни из нас увлеклись пением, другие стали рассказывать сказки, иные предались игре, а многие, побежденные сном, задремали. Я же, которому, по причине разлуки с милой родиной и перенесенных страданий, любое веселье доставляло сильнейшую боль, пал к корням какого-то дерева, безмерно скорбный и опечаленный, – но в тот же момент увидел, на расстоянии броска камня, пастуха, по виду весьма юного, завернувшегося в пастушеский плащ цвета журавлиного пера, с красивой сумкой из тонкой телячьей кожи на левом плече. На его волосах, цветом светлее, чем шафрановая роза, спадавших ниже плеч, была мохнатая шапка, сшитая, как я разглядел потом, из волчьего меха; в правой руке он держал прекрасный посох с концом, окованным блестящею медью; но из какого дерева был сделан этот посох, догадаться я не мог: по узору древесины он казался кизиловым, по цвету – скорее из ясеня или самшита. И таков был этот путник, что поистине казался троянцем Парисом, когда в высоких лесах, среди послушных стад, в первозданной простоте обитал он со своею нимфой, венчая, бывало, зелеными гирляндами рога овнов-победителей.
Поравнявшись с местом недалече от меня, где несколько волопасов упражнялись в меткости, он спросил, не видали ль они его белую корову с черным пятнышком на лбу, которая, не раз убегая из стада, повадилась гулять с их быками. Пастухи приветливо отвечали, что ему не придется долго томить себя поиском, ибо наступает полуденный зной, а в эту пору стада обычно пережевывают жвачку утренней зелени в прохладной тени деревьев. Впрочем, они послали туда одного из товарищей, весьма волосатого и дикого видом, которого по всей Аркадии звали Урсакием[191], – чтобы он тем временем поискал корову и привел ее сюда.
Тогда Карин[192]– так звали потерявшего корову – присел под ближним буком и, после довольно продолжительной беседы обратившись к нашему Опику, дружески попросил его спеть. На что тот с мягкой улыбкой ответил:
– Сынок, все земное, и даже дух, хоть он и небесен, уносят с собою годы и разрушительная старость. Часто вспоминаю, как мальчиком, бывало, с рассвета до заката пел без устали, а теперь многие песни выпали у меня из памяти; да хуже того, потерял я и голос, ибо волки некогда заметили меня прежде, чем я обнаружил их[193]. Но даже если бы волки не лишили меня его, – белизна моих волос и охладевшая кровь не велят мне браться за то, что прилично молодым; давно уже принес я по обету свою свирель лесному Фавну. А ведь здесь немало таких, что могли бы принять вызов от любого пастуха, похваляющегося пением; они вполне способны доставить тебе то, чего ты у меня просишь. Если и не говорить о многих, весьма искусных и опытных, вот хотя бы наш Серран[194]: если б его услышали даже Титир с Мелибеем, то не лишили б его самой высокой похвалы. Ради любви к вам, а также и к нам, он, если ему сейчас нетрудно, споет и доставит всем нам удовольствие.
Тогда Серран, во-первых, поблагодарив как подобало Опика, отвечал: – По справедливости я назвал бы себя самым слабым и неискусным изо всей нашей братии; но, чтобы не быть неучтивым к тому, кто, да простит он меня, незаслуженно удостоил меня такой чести, попытаюсь, чем могу, ему повиноваться. И поскольку потерявшаяся корова Карина сейчас приводит мне на ум одно происшествие, для меня весьма горестное, о нем я и буду петь. А ты, Опик, будь так добр, отложив старость и отговорки, что кажутся мне скорее излишними, чем необходимыми, отвечай моему запеву. И начал так:
Эклога шестая
Серран и Опик
Серран
- Мой Опик, хоть и стар ты, и насыщен
- В тебе сокрытой мудростью и разумом,
- Восплачь, со мною горе разделяя.
- Теперь не сыщешь в мире друга верного:
- Погибла верность; торжествует зависть,
- Обычай злой везде укореняется.
- Коварство всюду правит и предательство,
- Беря начало в злом корыстолюбии,
- И сын уж на отца творит засаду.
- Один кривится мне улыбкой льстивою,
- Другой кивает кротко, примеряясь
- Вонзить между лопаток жало острое.
Опик
- Но зависть, сын, сама себя снедает
- И гибнет, как ягнята мрут от сглаза
- Иль от сосновой тени вредоносной[195].
Серран
- Однако выскажу: пусть даруют мне боги
- До дней, когда в снопы сберут пшеницу,
- Увидеть месть тому, кто ищет смерти мне,
- И выпустить, чем сердце переполнено,
- Узрев его хоть с дерева разбившимся,
- Чтоб утешение во мне смешалось с радостью!
- Дорогу знаешь ты, дождем размытую:
- Там прятался, когда мы возвращались,
- Тот вор, кому желаю вечно плакать я.
- Никто его не видел: дружно пели мы;
- Но перед ужином один пастух взволнованный
- Войдя туда, где у огня сидели мы,
- Сказал: «Серран, взгляни-ка, сомневаюсь,
- Что козы твои целы». – Побежал тут я,
- Да так упал – доныне ломит локоть.
- Ох, а теперь – к кому за справедливостью
- Прибегнуть мне? Да где сыскать ее?
- Какого бога умолить о помощи?
- Двух коз и двух козляток тот лукавейший
- Из стада моего унес предательски;
- Так алчность ныне миром завладела!
- Кому пожалуюсь? Меня связал ведь клятвою,
- Кто рассказал мне о случившемся; и нем я.
- Помысли же, какой терзаюсь мукой!
- Вор похвалился о добре украденном
- И, сплюнув трижды, сразу стал невидим,
- Владея мастерством чародеяния.
- Когда б увидел я его, живым не смог бы
- Он убежать от псов разгоряченных:
- У них в зубах – напрасно звать о помощи.
- Но зелья, камни ведовские, соки травные,
- Но кости мертвые с могильною землею,
- Заклятья, многой обладающие силою,
- Всегда он носит на себе, их помощью
- В воде и в воздухе умея растворяться,
- И может чарами хоть целый мир опутать!
Опик
- Он – как Протей[196], что в дуб из кипариса,
- Из змея в тигра мог преобразиться,
- В быка, в козу, в поток, в речные камни.
Серран
- И как, мой Опик, видя в мире изменение
- Лишь от дурного к худшему, не плакать
- О веке добром, что пришел в растление!
Опик
- Когда я только начинал касаться
- Земли побегов первых и, бывало,
- Пшеницу на осле возил на мельницу,
- Старик-отец, весьма меня любивший,
- Нередко, сидя под тенистым дубом[197],
- Словами ласковыми подзывал меня
- И с кротостью учил, как малолетнего,
- Стадами править, ровно подстригать руно,
- Сполна выдаивать все молоко из вымени.
- Порой же что-то вспоминал из древности,
- Когда имели речи дар животные,
- А небеса щедрей точили милости.
- Тогда и сами боги не стыдились
- Водить стада на пастбища зеленые
- И пели так же, как и мы поем.
- Тогда никто не восставал на ближнего:
- Все было общим, и полей не межевали;
- Плоды всечасные дарило Изобилие[198].
- Железа не было, – что вот уж скоро, кажется,
- Людское племя истребит, – и ссор не ведали,
- Из коих злоба и война произрастают.
- Тогда не предавались буйной ярости
- И не слыхали про вражду междоусобную,
- Что мир на части раздирает ныне.
- Те старцы, что уж силы не имели
- Ходить в леса, встречали смерть бестрепетно
- Иль силой трав волшебных молодели.
- Не мрачные, не зябкие, но теплые
- И ясные стояли дни, не совы ухали,
- Но птицы легкие и нежные звенели.
- Земля, что ныне из глубин родит побеги
- Сплошь ядовитые и травы смертоносные,
- Вся оглашаясь плачем и рыданием,
- Тогда целебными обиловала травами,
- Бальзамом, и точила росный ладан,
- Благоухала миррой многоценною.
- Там человек вкушал в тени отрадной
- Млеко и желуди иль ягоды тутовника
- И вереса. О времена блаженные![199]
- Я, мысля о деяньях предков, чту их
- Не словом лишь, но, до земли склоняясь,
- Как святости примеры, прославляю.
- Где ныне доблесть та? Где слава древняя?
- Где древние роды? Увы, лишь пепел,
- Но громко вопиет о них история.
- Их юноши влюбленные и девы,
- Ходя в лугах, друг в друге обновляли
- Огонь и стрелы первенца Венерина.
- Не знали ревности они, но, забавляясь,
- Под цитру танцы плавные водили,
- Целуясь непрестанно, словно голуби.
- О верность чистая, о их обычай сладостный!
- Теперь же знаю: мир непостоянный
- Лишь безобразнее становится, ветшая;
- И всякий раз, когда я размышляю
- Об этом, друг мой, сердце рассекает мне
- Неисцелимая отравленная рана.
Серран
- Ох, ради бога, замолчи, чтоб не убить меня,
- Ибо, коль выскажу все, что в душе таится,
- Так затрещат леса и кручи горные.
- Молчать? Но боль велит невыносимая
- Открыть… Ты имя знаешь ли: Лациний?[200]
- Ох, и назвать-то – сердце обмирает…
- Он бдит всю ночь, ложится в час предутренний,
- И все его недаром Каком[201] кличут,
- Ибо чужими он слезами кормится.
Опик
- Ого! И сколько ж Каков рыщут здесь!
- Хоть правду молвят, что один лукавый
- И тысячу достойных обесславит.
Серран
- Да, много тех, что тянут кровь из ближнего!
- Имею опыт я, наученный потерею
- И псов моих бессильными трудами.
Опик
- И я тому же неустанно удивляюсь,
- Хоть стар уже и много спину горбил,
- Не продавая ум, но покупая лишь.
- О, сколько их в лесистом нашем крае,
- По виду добрых пастухов, украсть готовых
- Всё: плуг, свирель, иль грабли, иль мотыгу!
- Стыда ль, бесчестья ль – вовсе не боятся
- Те, что, вороне-хищнице подобно,
- Повадились в чужой суме копаться,
- Закостенев душой от жизни злобной.
Проза седьмая
Когда Опик подошел к концу пения, с большим удовольствием выслушанного всей братией, Карин, дружески обращаясь ко мне, спросил, кто я таков, откуда пришел и по какой причине жительствую в Аркадии. С глубоким вздохом, как принуждаемый необходимостью, я отвечал ему так:
– Не могу я, любезный пастух, без сильной печали вспоминать минувшее. Оно и само по себе имеет для меня мало радости; но коль поведаю о нем сейчас, находясь в еще большей тяготе, это лишь усилит боль, растравив незалеченную рану, которую, конечно, безопаснее не трогать. Но поскольку выговориться бывает для несчастного облегчением бремени, всё-таки расскажу.
Неаполь, как каждый из вас мог не единожды слышать, – это расположенный в самой плодородной и приятной для жизни части Италии, на морском берегу, город славный и знатнейший как в военном отношении, так и в том, что касается образованности, наверное не уступающий ни одному другому на свете. Возведенный переселенцами из Халкиды над древними останками сирены Партенопеи[202], он принял и доныне удерживает чтимое имя погребенной девы. В нем, стало быть, родился и я – и, происходя не от безвестной крови, но (если к лицу мне говорить об этом), как ясно показывают гербы моих предков, помещенные в самых знаменитых местах сего города, от древнейшего и благородного корня, – считался не последним среди моих юных сверстников. Дед моего отца, уроженец Цизальпинской Галлии[203], – хотя, если обратиться к началу, мы происходим из самой дальней части Испании, где местами еще и теперь живут потомки моего рода, – славился не только благородством корней, но и собственными подвигами. Когда Карл Третий[204] достославными подвигами прокладывал путь к своему авзонскому королевству, прадед мой, предводительствуя немалой дружиной, за свою доблесть был удостоен обладания древней Синуэссой[205], вместе со значительной частью Фалернских полей и Массийских гор[206], получив также небольшое владение повыше того участка берега, где врывается в море буйный Вольтурн, и еще – Литерн, место хоть и пустынное, однако славное священным прахом божественного Африканца[207]. Кроме того, в плодородной Лукании он имел под своим досточтимым титулом многие уделы и замки, от которых мог бы, как требовало его положение, жить в полном довольстве. Но фортуна, более щедрая в даянии, нежели заботливая в сохранении мирского благополучия, повернула колесо так, что с течением времени, после смерти и Карла, и его законного наследника Ладислава, вдовствующее королевство перешло в руки женщины[208]. А она, побуждаемая природным непостоянством и переменчивостью нрава, к другим своим весьма дурным делам прибавила и то, что нас, возвеличенных высшей честью при ее отце и брате, изводя и унижая, ввергла в ничтожество и в почти окончательную погибель. Да и кроме того, сколько и какие тяготы и злоключения претерпели дед мой и отец, долго было бы рассказывать.
Но вернусь к самому себе. Когда блаженной памяти победоносный король Альфонс Арагонский перешел от тленных земных вещей к более мирной и покойной жизни, в то тяжкое время, среди несчастливых предзнаменований – кометы, землетрясений, заразы, кровавых битв – родился и я[209]. Рос я в бедности, или, как говорят мудрые, с умеренной фортуной. И как угодно было моей звезде и моему жребию, лишь только мне исполнилось восемь лет, я, впервые ощутивший в себе любовные силы, влюбился в очарование одной девочки, которая была хоть еще мала, но прекраснее и изящнее всех, кого мне доводилось видеть. Свое влечение я таил тщательнее, чем обычно для детских лет; и она, вовсе не догадываясь о нем и по-детски со мною играя, своими необычайными красотами изо дня в день, с часу на час все более воспламеняла мою грудь. Между тем как вместе с годами во мне возрастала и любовь, мы вступили в более зрелую пору, легче преклонную к пылким желаниям. И поскольку во все это время мы не прерывали привычного общения, она все теснее дружески сближалась со мной, становясь для меня причиной все большего томления. Ибо думалось мне, что любовь, доброжелательность и живейшая привязанность, которые она ко мне имела, не клонились к тому концу, какого желал я. Чувствуя в душе не то, что я был принужден выказывать внешне, но совсем другое и не отваживаясь ни в чем ей открыться, чтобы не потерять в один миг то, что, как мне казалось, приобрел за многие годы изощренным старанием, я впал в ужасную тоску и скорбь. Потеряв обычное желание сна и пищи, я ходил более похожим на призрак мертвеца, чем на живого человека. Много раз спрошенный ею, какова причина этого, я отвечал только пламенным вздохом. И хотя, лежа на постели в моей маленькой комнате, я часто приводил себе на память многое, что хотел бы сказать ей, в ее присутствии лишь бледнел, дрожал и немел – так что, возможно, многим из тех, кто это видели, давал повод к подозрению. Она же или от врожденного благодушия ни о чем не догадывалась, или в груди не имела столько жара, чтобы отозваться на любовь; а может быть (что наиболее вероятно), была столь мудрой, что лучше меня умела таиться, в поведении и речах притворяясь совершенной простушкой относительно всего этого. Я не мог отлучить себя от любви к ней; но и влачить дальше столь жалкую жизнь не было у меня охоты. И, как на крайнее средство, решился я уйти из этой жизни. Много рассуждая об этом сам с собою, я обдумывал различные и порой странные способы самоубийства; и в самом деле прекратил бы свои печальные дни или петлей, или ядом, или острым мечом, если бы моя болящая душа, преклоненная каким-то малодушием, не ощутила внезапный страх перед тем, к чему так стремилась. Итак, обратившись от страшного намерения к выходу более умеренному, я выбрал покинуть Неаполь и родительский дом, вероятно рассчитывая вкупе с ними оставить и любовь, и мысли о ее предмете.
Жалкий, я не предполагал, что со мной случится совсем иное. Прежде, встречаясь и часто разговаривая с той, которую так люблю, я считал себя несчастным, думая, что ей неизвестна причина моих мук. Теперь же могу назвать себя несчастнейшим из всех – находясь в краю, столь от нее удаленном, почти без надежды не только увидеть ее снова, но даже получить о ней какое-то известие, которое могло бы стать для меня животворным. В этих пустошах Аркадии, где, не сочтите за упрек, не то что юноша, выросший в городе, но, думаю, даже дикий зверь с трудом найдет себе развлечение, я только и занят тем, что перебираю в памяти свое пылкое отрочество, вместе с радостями, что были у меня на милой родине.
И если б я не испытывал иной муки, то величайшей из мук была бы для меня тревога ума, который непрерывно, пламенно желая вновь увидеть любимую, приковывает мой взор к разным вещам, но ни ночью ни днем не может восстановить ее в моей памяти.
И все же нет ни горы, ни леса, которые не сулили бы мне, что именно здесь я ее встречу, сколь бы это ни казалось невозможным. Любое движение зверя или птицы, любое колебание ветки заставляет меня обернуться с тревогой: это она пришла сюда, чтобы узнать, сколь жалкой жизнью живу я ради нее! Нет предмета, который я вижу здесь, чтобы он прежде всего остального не заставил меня вспоминать о ней с еще большим жаром и усердием. Кажется, будто глубокие пещеры, источники, долы, горы и все леса призывают ее и высокие рощи немолчно повторяют ее имя. Порой, когда я в них брожу, мне с горечью, с невыносимой тоской приходит на ум, насколько ужасней моя доля, чем у бессловесных деревьев: взаимно любимые обвивающими их милыми лозами, они не размыкают нежных объятий; а я, разделенный с той, кого люблю, таким пространством неба, такой протяженностью земли, такими безднами моря, снедаю себя непрестанной скорбью и слезами.
И сколько раз, видя в пустынных лесах, как ласковые голуби нежно целуются, а затем усердно принимаются вить уютное гнездо, я плакал, побеждаемый завистью, говоря так: «Ах вы мои счастливые, которым безо всякого подозрения и ревности позволено вместе и засыпать, и пробуждаться в совершенном покое! Да будет долгим ваше наслаждение, да продлится ваша любовь, чтобы один лишь я оставался для живых зрелищем скорби!»
Бывает, у меня захватывает дух, когда наблюдаю (так уж вошло у меня в привычку в ваших лесах) за бродящими стадами и вижу среди тучных полей исхудалого быка, едва носящего ссохшуюся шкуру на слабых костях, – и не могу смотреть на него, поистине, без труда и неизмеримой скорби, сознавая, что одна и та же любовь является для меня и для него причиной мучительного существования. Иногда, избегая сходок пастухов, чтобы в уединении думать о своих горестях, вижу, как влюбленная телка с ревом бродит одна сквозь высокие леса, ища юного бычка, а потом до изнеможения катается по прибрежному лугу, забыв о пище, не дожидаясь ночной тьмы, – и как томлюсь, глядя на нее, я, влачащий подобную жизнь, лишь тот поймет, кто испытал или испытывает то же самое. И, поднимаясь из внутренних глубин, приходит мне на ум скорбь неисцелимая, с великой жалостью к себе, которая не оставляет на мне в покое ни единого волоса, и по занемевшим членам идет томительная испарина, а сердце бьется так, что, поистине, если б я сам того не желал, то боялся бы, что болящая душа вот-вот расстанется с телом.
Но зачем мне рассказывать дальше то, что каждому явно? Я никогда не слышу, чтобы кто-то из вас звал меня «Саннадзаро»; но, сколь бы ни была досточтима фамилия моих предков, я, вспоминая, что она некогда звала меня «Синчеро»[210], не нахожу причины печалиться. Когда же слышу звук свирели или пение петуха, всякий раз из очей моих текут горькие слезы, оттого что вновь приходят на память радостные дни, когда я пел ей под музыку свои стихи, а она их горячо хвалила. И чтобы не описывать подробно все мои мучения: ни одна вещь не привлекает меня, никакое празднество, никакая игра не может, – не говорю: увеличить мою радость, но хотя бы уменьшить мое горе; и прошу кого угодно из богов, кто внемлет стонам терпящих то же, что и я, – да положит он этому конец, послав мне или скорую смерть, или благоприятный исход.
И Карин ответил на мою долгую речь:
– Тяжки скорби твои, мой Синчеро, и поистине, слушать о них нельзя без величайшего сострадания. Но прошу тебя, – и да приведут боги в твои объятия желанную женщину, – спой еще раз стихи, которые, слышал я, пел ты однажды лунной ночью. Если б слова их не выпали у меня из памяти, я и мелодию припомнил бы. А я подарю тебе эту свирель с дудочками из бузины, которую своими руками собирал на горных кручах, в местах, куда, полагаю, никогда не долетал голос утреннего петуха, что мог бы испортить ее звук. И надеюсь – если судьбой у тебя это не отнято – что с нею ты еще более высоким слогом некогда воспоешь любови фавнов и нимф. И если первые начатки твоей юности ты даром сеял здесь на воздух, среди простых и безыскусных пастушеских напевов, то счастливый расцвет твой проведешь под звучными трубами знаменитейших поэтов твоего века, с надеждой и на вечную славу.
Сказав это, он умолк; а я, взяв в руки привычную лиру, начал так:
Эклога седьмая
Синчеро, один
- Ночною птицей, что боится солнца,
- Таюсь, бродя в местах густых и темных,
- Доколе день сияет над землей;
- Когда ж на мир тенями сходит вечер,
- Меня, как прочих, не покоит сон,
- Но бодрствую, рыдая над лугами.
- Когда, бывает, в рощах меж лугами,
- Куда лучом не досягает солнце,
- Мне очи мутные от слез прикроет сон,
- Тогда кошмары дел пустых и темных
- Идут за мной, и возбраняет вечер,
- Ища покой, на миг упасть на землю.
- О мать всеобщая, предобрая земля!
- Ты дашь ли мне почить в твоих лугах?
- Дозволь уснуть мне в этот поздний вечер
- И пробудиться лишь тогда, как Солнце
- Лучи прольет моим зеницам темным
- И одиночество прогонит, словно сон.
- Со дня, когда глаза мои прогнали сон,
- Мне вместо ложа – хладная земля,
- Дни, вместо ясных, пасмурны и тёмны,
- Бурьян покрыл цветущие луга;
- Когда же смертным ярко светит солнце,
- Темнеет для меня ненастный вечер.
- Но госпожа[211]– хвала ей! – в некий вечер
- С улыбкою мой посетила сон,
- Возвеселив мне грудь, как будто солнце
- После дождя осиявает землю,
- Рекла: приди и рви в моих лугах
- Цветы, тоску пещер покинув темных.
- Прочь от меня лети, рой мыслей темных,
- Мне затмевавший жизнь, как долгий вечер:
- Я выхожу в пресветлые луга,
- Где среди трав вкушу желанный сон.
- Никто, как я, из населявших землю
- С таким блаженством не взирал на солнце.
- Скорее, песня, потечет к востоку солнце,
- Скорей сойду в печали к царствам темным,
- Чем средь лугов меня застанет сон.
Проза восьмая
Лишь только дошел я до последних нот моей песни, Карин, обращаясь ко мне, радостным голосом воскликнул:
– Возвеселись, пастух-неаполитанец, и, насколько возможно, отгони от себя душевную смуту, да просветлеет твое истомленное чело! Ибо верю, что совсем скоро вернешься ты и к милой родине, и к той женщине, которую еще более родины вожделеешь, если не обманывает меня очевидное и радостное знамение, что являют о тебе боги.
– Но как может это сбыться? – отозвался я. – Неужели доживу я до того, что увижу ее вновь?
– Конечно! – отвечал он. – Никакое из божественных предзнаменований и обещаний не дается, чтобы сбить человека с пути, но все они точны и непогрешительны. Итак, утешься и укрепись надеждой на будущую радость, ибо я уверен, что надежда твоя не будет тщетной. Разве не видишь, как наш Урсакий, ликуя, возвращается с правой стороны[212], ведя за собою найденную телицу и увеселяя окрестные леса пеньем доброзвучной свирели? Прошу же тебя (если для моих просьб есть место в твоей душе) и изо всех сил убеждаю: будь милостив сам к себе и уйми свои горькие слезы, ибо, как говорит пословица,
- ни любовь слезами,
- ни луга ручьями,
- ни ко́зы ветвями,
- ни пчёлы цветами
- не насытятся никогда.
А чтобы посреди горестей подкрепить в тебе надежду, открою, что и я был в подобном и, может быть, в более прискорбном положении, чем когда-либо выпадало тебе, – не считая той муки добровольного изгнания, которая сейчас так жестоко тебя гнетет. (Теперь-то я могу себя назвать пусть не вполне утешенным, но хотя бы отчасти облегченным от этих горестей.) Ибо ты не ввергал себя в опасность потерять то, что с великим трудом, казалось, завоевал, как случилось со мною, который все свое благо, всю надежду, все счастье, все разом вручил слепой фортуне – и тут же потерял. И ничуть не сомневаюсь, что как потерял, так и остался бы утратившим навсегда, если бы, подобно тебе, отчаялся в обильной милости богов.
Итак, я был – и останусь, пока дух живет в этих членах, – с самого детства горячо воспламенен любовью к одной девочке, которая, на мой взгляд, не только всех пастушек Аркадии, но даже святых богинь весьма превосходила красотою. А поскольку она с самого нежного возраста была расположена к служению Диане[213] и я, подобно ей, был рожден и воспитан в лесном краю, мы с удовольствием вместе проводили время среди чащ, будучи, как угодно было богам, столь похожи в наших обычаях, что между нами возникла великая любовь и нежность: ни я, ни она не знали радости или утехи сильнее, чем быть рядом. Оба наравне, вооруженные чем подобало, уходя в леса на сладчайшую охоту, мы покидали исхоженные места не иначе как разделивши добычу между собой и посетив с должной честью алтарь святой богини, которой приносили то страшную голову щетинистого кабана, то ветвистые рога быстроногого оленя, развешивая их на высоких пиниях.
Получая высшую отраду от любой охоты, более всего мы, однако, увлекались ловлей простых и невинных птиц, ибо эту забаву можно было длить с большей приятностью и меньшим трудом, чем любую другую. Иногда на рассвете, как только исчезали звезды, мы, глядя, как от приближения солнца среди пурпурных тучек алеет восток, шли в какую-нибудь долину, подальше от людских жилищ, и там, выбрав пару особенно высоких и прямых деревьев, натягивали широкую сеть, столь тонкую, что ее с трудом можно было различить между ветвей. Ей мы дали имя Арахны[214]. Весьма искусно и хитро пристроив ее там, где нам было нужно, мы заходили в самую гущу леса и там, громко плеща в ладоши, на ходу ударяя по зарослям палками или камнями, криками сгоняли по направлению к сети дроздов, скворцов и множество других птиц, так что они, в ужасе несясь от нас, бились грудью о простертую сеть и падали в подставленные мешки. Наконец, видя, что добычи набралось достаточно, мы отвязывали концы, сеть падала, и в ней находя одних жалостно плачущими, других уже полумертвыми, мы набирали их в таком количестве, что, уставши убивать и не имея достаточно мешков, куда класть, так в неразобранных сетях и тащили их в наши жилища.
Иной раз, плодоносной осенью, когда бесчисленные стаи птиц то полощутся в небе, как знамя, то кажутся зрителю густым круглым комом, носимым в воздухе, мы, поймав две или три (что никогда не составляло труда), привязывали к лапке каждой из них конец длинной тонкой бечевки, намазанной клеем из омелы, – такой длинной, чтобы только было под силу нести птице. И когда пернатое войско приближалось, выпускали птиц на волю. Они тут же летели к своим товарищам и, смешиваясь с ними, как велела им природа, посредством намазанной клеем бечевки немалую часть этого густого множества увлекали на землю. Чувствуя, что их тянет книзу, и не понимая причины, мешавшей им лететь, несчастные безудержно кричали, наполняя воздух скорбными голосами. На просторных полянах мы тут и там подбирали их у себя под ногами; и редко бывало, чтобы возвращались домой, не наполнив мешков до верха.
Вспоминаю, сколь часто смеялись мы над горем незадачливой вороны, – и послушайте, как это бывало. Каждый раз, когда нам в руки попадала одна из них, мы тут же шли на открытое ровное место и там привязывали ее, распростертую, спиной к земле; и она, ужасно каркая, билась так яростно, что привлекала к себе всех окрестных ворон. Тогда иная из них, может быть сильнее влекомая жалостью к страданиям подруги, чем удерживаемая предостережениями иных, бросалась к ней на помощь… но сколь часто за доброе дело получала злое воздаяние! Ибо как только она подлетала к ожидавшей избавления, та сразу же обхватывала и удерживала ее когтистыми лапами: и хоть и рада была б она избавиться от этих когтей, да не могла: та вцеплялась в нее так крепко, что взлететь было нечего и думать. И вот разгоралась битва: одна пыталась бежать, другая получить помощь; первая и вторая, одинаково стремясь скорее спасти себя, нежели подругу, боролись каждая за свою жизнь. Вдоволь натешившись, мы выходили из своего укрытия, чтобы разделаться с ними. Крик прекращался, и снова мы скрывались в том же месте, ожидая, когда другая ворона прилетит повторить для нас ту же забаву.
А что сказать вам об осмотрительном журавле? Поистине, всуе простаивал он на страже ночи, держа в лапе камень, ибо и в полдень не мог чувствовать себя в безопасности от наших нападений. И что пользы было белому лебедю, избегая огня, селиться во влажных болотах из опасения, да не случится с ним, как с Фаэтоном?[215] Даже среди болот подстерегали его наши засады! А ты, нескладная, злополучная куропатка, зачем гнушалась высокими кровлями, помня о древнем жестоком падении[216], если и на ровной земле, уверенная в своей безопасности, попадала в наши силки? Кто поверил бы, что мудрый гусь, этот бдительный обличитель ночных коварств[217], не мог обнаружить наших засад против него самого? То же скажу о фазанах, о горлицах, о голубях, о речных утках и о других птицах: ни одну из них не наградила Природа такой хитростью, чтобы, защитившись от наших козней, она могла обеспечить себе долгую свободу.
Итак, чтоб не задерживаться в моей повести на всем слишком подробно: пока мы от года к году становились все взрослее, долгая привычка друг ко другу обратилась в столь большую и сильную любовь, что я не мог найти себе покоя, как только думая о ней. И, не имея отваги (о чем и ты сказал недавно) ни в чем ей открыться, так осунулся лицом, что уже и пастухи стали поговаривать об этом, а она, хоть и не знала о моем чувстве, но, пылко и горячо любя меня, дивилась происходящему со мною в скорби и жалости невыразимой. Не один раз, но тысячу она просила меня отомкнуть свое сердце и объявить ей имя той, которая была всему этому причиной. А я, не в силах признаться и оттого нося в душе нестерпимую тоску, чуть ли не со слезами отвечал, что языку моему не позволено произнести имя той, кого я почитаю как свое небесное божество, но я мог бы показать написанный красками ее прекрасный и божественный облик, если такой случай представится.
Этими словами я удерживал ее в течение многих дней. Но случилось, что однажды, после большой охоты, будучи с нею вдвоем вдали от остальных пастухов, в одной тенистой долине, среди пения, наверное, сотни видов разных птиц, голосами которых округа будто звенела, а леса повторяли каждую их ноту, мы присели у холодного и прозрачного ручья, протекавшего в той долине. Не возмущаемый ни птицей, ни зверем, он безупречно хранил чистоту в этом лесном месте, являя тайны своей просветленной глубины так, будто был хрустальный. И поблизости от него не виднелось ни единого следа – ни пастушьего, ни козьего – ибо скот сюда не пригоняли, ради почтения к нимфам. И не падало в ручей в тот день ни ветки, ни единого листика от осеняющих его деревьев, но в полном покое, ничем не замутненный, тек он среди трав без журчания, столь тихо, что едва ли бы кто подумал, что он движется.
Здесь, когда мы несколько остыли от зноя, она снова стала принуждать и заклинать меня, ради любви к ней, показать обещанное изображение, прибавив тысячу обещаний перед богами, что не расскажет об этом никому, разве что если мне самому то будет угодно. И я, покоренный обильнейшими слезами, уже не своим обычным, но сдавленным и дрожащим голосом ответил, что она может увидеть ту девицу в прекрасном источнике. Она, безмерно жаждавшая ее увидеть, тут же в простоте, не раздумывая, склонила лицо над покойными водами – и увидела отображенной в них себя самоё. И – если память моя сохранила все верно – пришла в смятение, изменилась цветом лица, как та, которую пронзили мечом и она вот-вот падет замертво[218]; и наконец, будто в исступлении, бежала от меня.
И каково было мне, когда с яростью и гневом меня оставила та, которую только что я видел нежной, любящей, сострадательной к моим ранам, почти плачущей от сочувствия, – может себе представить каждый из вас и без моего рассказа. Я же сам о себе не знаю, был ли я мертв, был ли жив в ту пору и кто довел меня до дому. Скажу только, что четыре солнца и четыре луны тело мое не укрепляли ни пища, ни сон, и мои голодные коровы, не выходившие из запертого стойла, не ощущали ни вкуса травы, ни речной влаги. Бедные телята сосали тощие материнские сосцы и, не обретая обычного молока, оглашали окрестные леса жалобным мычанием. Мало заботясь о том, я лежал на голой земле, забыв про все на свете, кроме плача, так что никто из видевших меня в дни моего покоя не признал бы во мне Карина. Приходили волопасы, приходили пастухи овец и коз вместе с пахарями из окрестных селений, думая, что я повредился умом (что было правдой), и все с величайшей жалостью расспрашивали меня о причине моей скорби. Я не давал им никакого ответа, но, весь погруженный в плач, жалостным голосом повторял: «Вы, аркадяне, будете петь в ваших горах мою смерть; аркадяне, вы, одни на земле искусные в пенье, смерть мою в горах ваших будете петь. Ох и отрадно будет почивать костям моим, коль свирель ваша тем, что после меня народятся, расскажет о моей любви и о погибели!»
Наконец, в пятую ночь, безмерно желая умереть, я покинул мою безутешную хижину, но не пошел к ненавистному ручью, виновнику зол моих, а, скитаясь без тропы по лесам, по самым крутым и суровым горам, куда только вели меня ноги и судьба, достиг нависавшего над морем высокого обрыва, откуда рыбаки, забрасывая не-вода, поднимали их, бывало, полными доброй рыбы.
Пришед туда еще до рассвета и найдя тот прекрасный дуб, у которого я помнил себя отдыхавшим на ее груди, я уселся под ним, как если б это было лекарством в моем безумии. После долгих вздохов, подобно тому белому лебедю, что, предчувствуя смерть, поет себе отходную песнь, я, не переставая лить слезы, начал:
«О жестосердая и гордая, свирепейшая медведицы, твердейшая многолетнего дуба, более глухая к моим мольбам, чем бессмысленный рокот равнодушного моря! Вот, ты победила, я умираю, и довольна будь, что не увидишь больше от меня никакой досады! Но твердо верю, что сердце твое, которого не суждено мне было преклонить в часы радости, преклонит горе; и, слишком поздно став милосердной, поневоле проклянешь ты свою суровость, желая хотя бы мертвым увидеть того, кого при жизни не хотела одарить одним благосклонным словом! Ох, и как возможно, что долговременная любовь, которую – я твердо знаю – ты имела ко мне, теперь до конца тебя покинула? Увы, неужели не приходят тебе на память милые игры нашего детства, когда вдвоем ходили мы по лесам, собирая алую землянику, вкусные желуди бука, нежные каштаны с их колючей кожицей? И позабыла ты первые лилии, первые розы, ради которых, чтобы принести их тебе, я бегал в дальние поля, – так что пчелы еще не успевали от них отведать, а ты, благодаря мне, уже ходила украшенной тысячью венков? О горе мне: сколько раз ты клялась вышними богами, что, когда меня нет рядом, цветы для тебя не пахнут и вода источников не имеет обычного вкуса? Ах как тягостна жизнь моя! И зачем говорю? Кто слышит меня, кроме гулкого эха, которое, веря моим несчастьям так, будто само некогда испытало их, отвечает, жалостливо гудя, звуку моих слов? Но не знаю, где оно скрывается и почему в этот час не придет, чтоб побыть со мною рядом. О боги небесные, земные и иные, сколько вас ни есть! Призрите на всех несчастных влюбленных; приклоните, молю вас, милостивые уши к моим жалобам, к болезненным зовам, что издает измученная душа, услышьте меня! О наяды, насельницы быстротекущих рек! О напеи, изящнейшая стая из диких и отдаленных мест и прозрачных источников! Хоть на мгновенье подымите ваши золотые локоны от ясных вод и, прежде чем я умру, примите мой последний хрип! И вы, прекраснейшие оре-ады[219], что нагими охотитесь на высоких кручах! Оставьте ныне высокогорное царство и придите к несчастному, ибо уверен, что и вам внушит жалость то, что дает забаву моей жестокой госпоже. Выйдите из ваших деревьев, милостивые гамадриады, прилежные их хранительницы, и хоть ненадолго обратите ваши взоры на жестокую казнь, которую мои руки вот уж совсем скоро для меня уготовят. И вы, дриады[220], коих не один раз, но тысячу видели наши пастухи ранней вечерней порой танцующими в прохладной тени орешника, с распущенными золотыми волосами, покрывающими белые плечи! Сделайте так, прошу вас (если вы не изменились вместе с моей изменчивой фортуной): пусть под этой тенью память о смерти моей не смолкает, но звучит все громче, день ото дня, в будущих веках, так чтобы время, которого не хватило для жизни, с избытком было дано для славы! Волки, медведи, всякие животные, укрывающиеся в страшных пещерах, оставайтесь с миром, прощайте! Не увидите вы больше вашего волопаса, с песнями обходившего эти горы и леса! Прощайте, берега, прощайте, луга зеленые, прощайте, реки! Долгой вам жизни без меня; устремляясь с журчанием по каменистым ущельям в открытое море, поминайте всегда вашего Карина! Здесь пас он своих коров, здесь быков своих венками украшал, здесь свои стада, покуда пили они, сладкозвучной свирелью тешил».
С этими словами я поднялся с земли, чтобы броситься с крутого берега, но вдруг увидел, как с правой стороны подлетела чета белых голубей. Легко опустившись на простертую надо мною ветку того раскидистого дуба, они тут же принялись одарять друг друга бессчетными нежными поцелуями. От чего я, как от доброго предзнаменования, утешился в надежде на будущее благо и, укрепившись в рассудке, стал осуждать себя за безумное намерение, которому уже было решился последовать – прогнать жестокой смертью любовь, которую еще возможно было вернуть. И не успел я погрузиться глубоко в эту мысль, как несказанным образом почувствовал, что касается меня та самая, что была причиной всего выстраданного мною; ибо она, нежно взволнованная моим состоянием, из сокровенного места видела и слышала все. И, поистине, как трепетная мать над единственным сыном, с великой любовью плача надо мною и нежными словами и целомудренными ласками утешая, сумела вернуть меня из отчаяния и смерти в то состояние, в котором вы меня теперь видите.
Итак, что сказать об удивительном могуществе богов, которые в тем более покойную гавань направляют нас, чем сильнейшими бурями, казалось бы, грозят! Поэтому, Синчеро, коль ты хоть немного веришь рассказанному и коль ты мужчина, то, думаю, пора тебе утешиться, подобно другим, надеждою, что ты еще непременно сможешь, с помощью богов, перейти из бедственного состояния в более отрадное. Ибо, поистине, не может быть, чтобы эту толщу туч однажды не просветило солнце.
И знай: чем с большими трудностями обретается желанная вещь, тем с большим удовольствием обладают ею, когда получат.
Карин закончил говорить; поскольку за долгим разговором незаметно свечерело, он, сказав: «прощайте!» и погнав свою телку перед собой, покинул нас. Но не успел он еще расстаться с нами, как мы увидели в просвете меж двух дубов, как на маленьком ослике приближается человек, весьма изумивший нас своим растрепанным видом и жестами, которые выражали крайнее огорчение. И увидев, что он едет не к нам, а свернул на тропу, ведущую к городу, все без колебаний узнали в нем влюбленного Клоника[221], среди пастухов наилучшего знатока в музыке. Тогда Евгений, бывший ему самым близким другом (вплоть до того, что знал о всех его любовных страданиях), выйдя на дорогу прямо перед ним, громко, чтобы все слышали, обратился к нему с такой речью:
Эклога восьмая
Евгений и Клоник
Евгений
- Куда один, с лицом бескровно-бледным,
- На ослике ты едешь, опечаленный,
- Взлохмаченный, с трясущейся бородкой?
- Увидев на пути понурым странником
- Тебя, в тоске бредущим, в крайнем горе,
- Любой воскликнет: «Разве это Клоник?»
- Быть может, настрадавшись в одиночестве,
- Стремишься в город, где Амор удвоенно
- Рассеивает огненные стрелы?
- Но пашет волны и в песчаных дюнах сеет,
- И ветер неводом ловить пытается
- На сердце женское надежды строящий.
Клоник
- Евгений, коль смогу распутать душу я,
- Коль вызволюсь от злой петли мучительной,
- Коль сброшу с плеч моих ярмо тяжелое,
- Все рощи и луга наполню песнями,
- Так, что и фавнам и дриадам вспомнятся
- Дамет и Коридон, как вновь ожившие.
- Наяды и напе́и с гамадриадами,
- Сатиры и сильваны, пробужденные
- Мной от глухого сна, и сами Музы
- Пойдут по кругу в пляске, взявшись за руки,
- По ласковой траве нагие, бо́сые,
- Все оглашая песнями бессчетными.
- А злой малыш с безжалостной Венерою,
- Посра́мленные, друг на друга сетуя,
- Да не ликуют над моей могилою!
- Но мыслью неотступною терзаюсь,
- Взойдет ли день, когда скажу, свободный:
- «Хвала богам, такой беды избавлен я!»
Евгений
- Скорее летом мирт увянут с вересом,
- Скорей зимой цветы взойдут на льдинах,
- Чем сбудутся твои надежды тщетные.
- Амор ведь слеп – не различает истины;
- Тот, кто его в поводыри берет, раскается.
- Амор ведь гол – не даст того, чем не владеет он.
- Людская жизнь дню краткому подобна,
- Что без оглядки поспешает к вечеру,
- А на закате от стыда краснеет.
- Так старость, приходя, чтоб положить предел
- Годам растраченным, как листья, улетающим,
- Горит стыдом, а сердце болью полнится.
- И чем людей умы слепые тешатся,
- Когда все их труды подобны дыму,
- А время-вор уносит все, что дорого?
- Итак, пора душевным силам из могилы
- Восстать, покуда тело не закопано
- В сырую землю с плачем безутешным.
- Коль сам себя лишаешь ты покоя,
- Что хочешь от других? Коль сердцу бедному
- Нет радости – есть разум утешающий.
- А горы с реками беспечно улыбаются
- Твоим ошибкам. И не скорбь твоя причиною
- Горам – стоять, воде – бежать с журчанием.
Клоник
- О счастливы, кого любовь связала
- На жизнь и смерть, в желанье нераздельное,
- Ни завистью не одолимое, ни ревностью!
- Вечор на ветках вяза одинокого
- Две горлицы, я видел, вили гнездышко —
- Знать, небеса мне одному противятся! —
- И я, любуясь дружным их согласием,
- Вздохнул ли – уж не помню, но прожгла меня
- Такая боль, что ноги подкосились.
- Сказать? молчать? Нудимый этой болью,
- Едва не удавился я на дереве,
- Во образ Ифиса[222], Амором мне начертанный.
Евгений
- Бессчетны заблуждения влюбленных!
- Желая смерти, жизнь клеймят презрением:
- Любому лишь его безумство ценно.
- Лишь седина, года – и то не всякому —
- Желанья укротят; ведь за улыбку,
- За блеск в глазах – мы целый мир отдали бы.
- От гнева ж, от обид – готовы столькие
- Нить перервать, протянутую Парками,
- С любовью вместе, отделив от тела душу.
- Хотят вернуться вспять – не возвращаются;
- И не горят в огне, во льду не мерзнут,
- И без болезни вечно болью мучимы.
- Бегут любви и вновь летят в объятия,
- Свободы ищут – и лишь крепче связаны;
- Не знаю, жизнью то назвать иль смертью.
Клоник
- А мне все дерево мерещится миндальное,
- И на ветру качается, несчастная,
- В удавке бездыханная Филлида[223].
- Коль в мире место есть еще для милости,
- Прошу, помилуй, дай мне душу вызволить;
- Мне жизнь теперь не лучше смерти стала.
- Земля, ты мне подашь великую отраду,
- Коль поглотишь меня своей утробою,
- Чтоб не осталось ни следа, ни слуха.
- О молнии, что небо потрясаете,
- Придите, велегласно вас зовущего
- Отторгнуть от любви его злосчастной!
- Ко мне, о звери, ваших я клыков желаю;
- А вы оплачьте, пастухи, исход печальный мой —
- Чьей смертью род ваш будет обесславлен!
- По мне свершивши погребальные обряды,
- Средь кипарисов надо мной курган насыпьте,
- Да будет миру обо мне напоминанье.
- Стихи мои, что тщетно были сложены,
- Со мной по ветру разбросайте пеплом,
- Печальный холм гирляндами украсив.
- Тогда вы будете ходить к моей могиле,
- Петь песни мне и говорить мне с жалостью:
- «Ты прах и тень, ради любви твоей безмерной».
- И может, в некий день мой холм покажете
- Жестокой той, что жжет меня и мучит:
- Пусть тщетно плачет над моей могилой.
Евгений
- Медведь в душе ревет, и лев рычит во мне,
- Мой Клоник, про твои страданья слушая,
- И жила каждая сочится будто кровью.
- И пусть прогневаю я твоего владыку[224],
- Прими совет от верного Евгения,
- Чтоб жить легко, стряхнувши рабства бремя.
- Люби дающего отраду Аполлона
- С священным гением, возненавидь мучителя,
- Что юность губит, в стыд ввергает старость.
- Тогда и бог наш Пан, богатый милостью,
- С прещедрой Палес породят в тебе созвучия,
- Что ум твой до обилия насытят.
- Еще не полагай в презренье добрую
- Мотыгу на плече носить и ей возделывать
- Укроп и спаржу, гряды сочного арбуза.
- Между трудов распределяя время,
- Не дай себе свободы плакать; столько лишь
- Несчастен ты, сколь о несчастье плачешь.
- Так разрыхляй граблями землю твердую,
- Искореняй чертополох с репейником,
- Что подавляют всходы молодые.
- Я ж птиц в силки ловлю и ставлю сети,
- Чтобы в бездействии не гнить, капканы делаю
- Лукавым лисам, и нередко их пленяю.
- Так изгоняется Амор, так страсти горькие
- В нас, пастухах беспечных, побеждаются;
- Так посрамляется весь мир с его коварством.
- Так подобает до конца рассеивать
- Мечты любви, с их дерзкими желаньями,
- Чтоб не гнездились в сердце простодушном.
- Но вот уж время вспомнить стельных коз твоих,
- Что от испуга пред клыками волчьими
- От псов бегут, подобно робким ланям.
- Смотри, как пестрым цветом разукрасились
- Луга и дол, и под волынку с трокколой[225]
- Над речкой пастухи в веселье пляшут.
- Пришли дни Овна Фриксова[226] , не мешкай же,
- Друг Клоник, и не предавайся праздности,
- Ведь скоро солнце жар его прогонит.
- Гони же мысли, что сжимают ум в осаде,
- И бродишь день и ночь, как привидение;
- Поверь, я слов на ветер не бросаю:
- Любой недуг имеет исцеление.
Проза девятая
Уже не звучало среди лесов пение цикад, но вместо них слышались в густых полях ночные сверчки; уже всякая птица, по причине наступившей темноты, укрылась в своем жилище; только пробудившиеся летучие мыши выбирались из пещер, чтобы по вольной воле резвиться в желанном для них ночном мраке, – когда в одно и то же время умолк голос Евгения, и стада наши, спустившиеся с высоких гор, собрались к тому месту, где звучала свирель. Затем все мы вместе, взявши Клоника с собою, ушли оттуда, где слушали пение, и, определяя дорогу по звездам, направились к неподалеку расположенной ложбине. Здесь летней порой окрестные волопасы оставляли коров почти на каждую ночь; однако во время проливных дождей сюда со всех ближних гор стекались потоки воды. Ложбина, от природы густо окруженная дубами, пробковыми и мастичными деревьями, ивами и разными видами дикого кустарника, была прикрыта отовсюду так, что, не зная тропы, ниоткуда нельзя было в нее пробраться. И не только ночью, но даже когда солнце стояло в зените, сквозь густую тень ее раскидистых ветвей еле-еле виднелось небо. Здесь, несколько поодаль от коров, с одного края ложбины, мы собрали наших овец и коз, разместив их сколь возможно лучше. А так как по оплошности мы не принесли с собой огнива, Эргаст, бывший опытнее других, не мешкая воспользовался тем, что предлагали обстоятельства. Добыв два куска сухой древесины, один от плюща, а другой – от лавра, он долго тер их друг о друга, пока не получил огонь; и когда зажег от него по разным местам довольное число факелов, мы принялись – кто доить, кто починять поломанную свирель, кто замазывать течь в рассохшейся фляге, – всякий занялся своим делом, покамест готовился желанный ужин. А после того как все с удовольствием поели, каждый, поскольку большая часть ночи уже прошла, не замедлил отойти ко сну.
Когда же посветлело небо и лучи солнца явились на краях высоких гор, а капли росы еще блестели на мягких травах, мы вывели наши стада из укромной ложбины попастись в зеленых полях. Мы направили их короткой дорогой к горе Меналу, расположенной не весьма далеко, с намерением посетить по пути чтимый храм Пана, которого чаще других богов призывает на помощь весь народ этой лесной стороны; но несчастный Клоник захотел расстаться с нами. Будучи спрошен, какая причина заставляет его уходить так рано, он отвечал, что идет за тем, в чем накануне вечером мы ему помешали: а именно, найти цельбу своим горестям с помощью одной известной старой и весьма искусной мастерицы колдовских дел. Он не раз слышал от людей молву, будто сама Диана во сне открыла ей все травы волшебницы Цирцеи и Медеи[227] и что с помощью этих трав она в самые темные ночи, покрытая белыми перьями, летает, как ночное привидение. Что своими чародействами она может заволакивать небо темными тучами и снова прояснять его; может останавливать реки и поворачивать их обратно к истоку. Что лучше кого-либо другого умеет совлечь с неба угасшие звезды, точащие живую кровь, и словом дать устав движению волшебной луны; что может среди дня водворить ночь и вызвать ночные божества из их адского хаоса. Что от ее долгих нашептываний расседается земля и души древних предков выходят из своих давно заброшенных могил. А кроме того, она, используя ядовитый сок сладострастных кобылиц, кровь змеи, мозг разъяренного медведя, шерсть с конца волчьего хвоста[228], вместе с корнями трав и крепкими соками, способна творить еще множество других удивительных и невероятных вещей.
Наш Опик ответил ему на это:
– Вероятно, сами боги, сынок, которых ты преданно чтишь, направили тебя сегодня сюда, чтобы ты обрел средство спасения от твоих бед, и такое средство, что если ты, как я надеюсь, поверишь моим словам, то всю свою дальнейшую жизнь проведешь в радости. У кого другого тебе искать утешения, как не у нашего Энарета?[229] Он, изо всех пастухов ученейший, оставив стада, обитает во святилищах бога нашего Пана; ему открыта большая часть вещей божественных и человеческих: земля, небо, море, неутомимое солнце, меняющаяся луна, созвездья, украшающие небосвод, – Плеяды, Гиады, и отравитель гордого Ориона[230], и Медведицы, Большая и Малая, – а следовательно, и сроки, когда пахать, когда жать, когда высаживать виноград и оливы, прививать деревья, обогащая их красоту приемными побегами; подобным образом он умеет разводить медоносных пчел и знает, как, если они начнут вымирать, восстановить их число с помощью загнившей крови удушенных телят.
Кроме того, – что может показаться еще невероятнее, – когда одной темной ночью он спал вблизи своих коров, две змеи подползли к нему и облизали ему уши, от чего он, тут же в страхе вскочивший, на рассвете, когда запели птицы, обнаружил, что понимает языки их всех[231]. И среди прочих услышал соловья, что не столько пел, сколько плакал на ветвях густого земляничного дерева, горюя о своей несчастной любви и умоляя о помощи окрестные леса. Тогда воробей отвечал ему, что в Левкадии есть высокий обрывистый берег, с которого если кто спрыгнет и останется цел, то избавится от мучительной страсти[232]. К воробью присоединился жаворонок, сказав, что в некой области Греции, имя которой я уж не помню, есть источник Купидона, от которого если кто изопьет, вскоре оставит свою любовь. Сладкоголосый соловей жалостной и плачевной трелью отвечал на это, что не верит, будто вода чем-то способна ему помочь. Тем временем прилетели черный дрозд, дубонос и чиж; порицая соловья за неверие в то, что в священные источники влита небесная сила, они принялись наперебой рассказывать о свойствах всех рек, источников и озер на свете; и Энарет так прекрасно сохранил это в памяти, что мог и мне перечислить все их названия и, не пропустив ни единого, рассказать об их природе и о краях, где они рождаются и протекают.
Он называл мне еще имена птиц, от крови которых, если смешать ее вместе, рождается необычайная змея, имеющая такое свойство: коли человек осмелится съесть ее, то ему не за диво будет и говорить, и понимать все на свете птичьи наречия[233]. Говорил он и о каком-то животном, крови которого если кто хоть чуть-чуть отведает, то после, оказавшись на рассвете на обильном травами горном лугу, будет понимать, как они говорят, открывая собственные свойства, когда всякая из них, полная росы, раскрываясь навстречу первым лучам солнца, благодарит небо, излившее на них те дары, которыми они обладают. И столько этих даров, и столь многообразны они, что поистине блаженны пастухи, имеющие знание о них.
И если память меня не подводит, он говорил еще, что в некой диковинной, далекой стране, где родятся люди цвета спелых маслин, а солнце идет так низко над землей, что до него можно достать рукой, коль не боишься быть изжаренным от его огня, – растет некая трава, бросив которую в любую реку или озеро, можно их высушить, а коснувшись ею хоть тысячи замков, без труда все отомкнешь[234]. А есть и другая, которую если носить с собою, то в любой части света будешь иметь изобилие во всех вещах, не зная ни голода, ни жажды, ни какой другой нужды. Также не скрыл он от меня, а я не скрою от вас удивительную силу колючего синеголовника, известнейшего растения наших берегов, корень которого бывает иногда похож на мужской половой признак, а иногда на женский, хоть такие встречаются и нечасто; но кому в руки попадется корень по его полу, тот несомненно станет счастливейшим в любви. Кроме синеголовника, упоминал он и священную вербену, что в древние времена была самым желанным приношением для алтарей: тот, кто помажется ее соком, получит от любого человека все, чего хотел бы от него добиться, при условии что сорвет ее в определенное время[235]. Но зачем я тружусь, пересказывая вам всё это? Вот уже недалеко место, где он живет, и вы сами все это сможете услышать от него сполна.
– Нет уж, – сказал Клоник. – И мне, и всем остальным хотелось бы услышать это от тебя, пока мы идем, чтобы облегчить тяжесть пути, – так чтобы потом, когда позволено будет увидеть твоего святого пастыря, мы оказали ему большее уважение и, словно некому земному богу, воздавали ему в наших лесах должную честь.
Тогда старый Опик, вернувшись к прежнему рассказу, добавил, что еще слышал от Энарета о неких чарах, коими можно защититься от морской бури, от грома и молнии, от снега и дождя, от града и неистовых порывов супротивных ветров. Еще сказал, что видел, как Энарет проглотил еще теплое и бьющееся сердце слепого крота, а также в пятнадцатый день Луны положил на язык глаз индийской черепахи, отчего получил дар предузнавать будущее[236]. Еще он видел у него камень, похожий на хрусталь, найденный в малом желудочке петуха: кто возьмет этот камень на состязание в борьбе, тот непременно одолеет любого противника[237]. А другой камень, который он показывал, был похож на человеческий язык, но больше размером; он, в отличие от прочих камней, не родится в земле, но падает с неба, когда Луна бывает на ущербе, и весьма полезен для любовного приворота[238]. Был у него камень, помогавший от простуды, а другой – от дурного глаза. Не умолчал он и еще об одном камне, который, если носить его на гайтане вместе с некой травой и заклинаниями, сделает человека совершенно невидимым, так что он сможет делать все нужное ему без помехи от кого бы то ни было.
– Еще показывал он, – продолжал Опик, – зуб, вырванный с правой стороны пасти зверя, называемого, если правильно помню, гиеной. Сила этого зуба в том, что если даже неискусный охотник привяжет его к руке, то никогда не промахнется ни копьем, ни стрелой. А на человека, который носит язык того же зверя под пяткой, никогда не залает собака. А кто будет носить на левой руке шерсть гиены, взятую с ее морды и со срамных частей, тот на какую пастушку только посмотрит, – та и против желания пойдет за ним, куда он захочет[239]. А кто положит любой женщине на левую грудь сердце ночного филина, тот заставит ее выдать во сне все ее тайны.
Так, перескакивая в разговоре с одного на другое, мы достигли подножия высокой горы, к которой (как говорил нам заранее Опик) и должны были прийти, оставив позади равнину. Здесь Опик прервал свой рассказ, и вскоре мы, по воле нашей фортуны, увидели самого святого старца, отдыхавшего под неким деревом. Заметив, что мы приближаемся, он встал и пошел нам навстречу. Он и в самом деле выглядел весьма внушительно, со своим изборожденным морщинами челом, бородой и волосами, длинными и белыми, белее, чем руно тарентий-ских овец[240]. В руке его был прекрасный можжевеловый посох, какого никто никогда не видывал у наших пастухов – с чуть загнутым концом, из которого как бы выходил волк, уносящий ягненка. Он был вырезан с таким искусством, что при его виде могли залаять собаки.
Почтив сначала Опика, а потом и каждого из нас подобающим приветствием, Энарет пригласил нас присесть в тени. Здесь он раскрыл свою суму из пестрой, в белых пятнах, шкуры косули, вынул оттуда, вместе со всякими припасами, изящную флягу из тамариска и предложил всем испить из нее, чествуя общего бога-покровителя. После недолгого завтрака, обратившись к Опику, он спросил, зачем мы вышли в путь такой большой толпой. И тот, взяв за руку влюбленного Клоника, отвечал:
– Добродетели, которыми ты славишься, и крайняя нужда этого несчастного пастуха принудили нас прийти в эти леса, Энарет. Он, предавшись любви сверх должного порядка и не умея обуздать себя, тает поистине как мягкий воск от пламени. Но об этом недоумении мы не ищем ответов у твоего и нашего бога, которые он, больше, чем любой другой оракул, священными ночами дает пастухам в этих горах; мы лишь просим тебя о помощи, чтобы ты немедля избавил его от любви и вернул ожидающим его лесам и всем нам, и верим, что ради тебя вернутся к нему и все утраченные радости. Не будем скрывать от тебя, что он за человек: тысячу белорунных овец пасет он в здешних горах; летом ли, зимой ли – всегда у него в достатке свежее молоко. А о его пении не буду тебе говорить; ибо, когда ты освободишь его от страсти, тогда и сам сможешь его послушать, и искусство его тебе, я уверен, понравится.
Пока Опик говорил, старый жрец внимательно смотрел на бородатого пастуха и, подвигнутый к состраданию бледностью его лица, уже собирался ответить, – как до наших ушей от ближних рощ долетел приятнейший наигрыш в сопровождении нежного голоса. Обернувшись в его сторону, мы увидели, как у маленькой речушки, под ивой сидит одинокий козопас, забавляя музыкой свое стадо. Мы сразу пошли к нему. Он же (имя его было Эленк[241]), только увидев, что мы приближаемся к речке, тут же, будто с досады, умолк и спрятал свою лиру. Тогда наш Офелий, сам всегда доступный и доброжелательный к просьбам других пастухов, оскорбившись такой неучтивостью, задумал обидными словами вызвать Эленка на пение. Издевательски подшучивая, он стал вынуждать его к ответу такими стихами:
Эклога девятая
Офелий, Эленк и Монтан
Офелий
- Эй, расскажи мне, козопас молоденький,
- Да не сердись: твое стадёнко шалое
- Пасти безумно так – кто научил тебя?
Эленк
- Эй, старый волопас, какой ты глупостью
- Был обуян, сломавши лук у Клоника
- И многих пастухов смутив раздорами?
Офелий
- А разве не тобой шел опечален
- Сельвагий, потеряв свирель с гремушками?
- Их ты стащил, бродяга непотребнейший!
Эленк
- А ты не схоронился от Урания —
- Уж он тебе язык лукавый выкрутил:
- Козла украл, нашли тебя по запаху!
Офелий
- Он проиграл его, дерзнув со мною в пении
- Тягаться, правый суд Эргаста высмеяв,
- Меня плющом и миртом увенчавшего.
Эленк
- Ты выйграл в пении? Я слышал, как с Галицием
- При состязании твоя свирель визжала,
- Будто овца, что тащат на заклание!
Офелий
- Споем на спор, и перестань насмешничать;
- Ставь на́ кон твою лиру из крушинника,
- И пусть Монтан решает нашу тяжбу!
Эленк
- Корову ставлю, средь лугов мычащую,
- И шкуру, и двух оленят прирученных,
- Воскормленных тимьяном и кислицею.
Офелий
- Ставь лиру; я ж даю две чаши буковых,
- В них сможешь коз доить, как я и делаю;
- Ведь стадо коз и я пасу для мачехи.
Эленк
- Смотри, потом меня ты не разжалобишь,
- Чтоб не открыл я твой позор. А вот Евгений наш!
- Не может быть, чтобы остался ты небитым!
Офелий
- Хочу судьей Монтана, как старейшего,
- А этот кажется мне слишком простофилей;
- В сужденье тонкое его не верится.
Эленк
- Иди к нам в тень, Монтан: под ветками
- Трепещет легкий ветерок, и шепчет речка;
- Реши, кто из двоих искусней в пении.
Офелий
- Сюда, Монтан, пока стада разнеженно
- Траву жуют и в лес идут охотники
- Собакам указать следы и логова.
Монтан
- Воспойте же, чтобы холмы услышали,
- Как век утраченный в вас ныне обновляется,
- Пока в полях не потемнело, пойте же!
Офелий
- Монтан, вот этот, что со мною петь тягается,
- За стадом смотрит, как бродяга нанятый:
- Ох, бедный скот у пастуха такого!
Эленк
- Услышьте, черный вран и злой медведище,
- Молю вас, это жало с корнем вырвите,
- Что брызжет ядом сердца ненавистного!
Офелий
- Несчастен лес, что оглушил ты воплями;
- От них бежали Аполлон и Делия[242];
- Брось лиру, только зря за струны дергаешь!
Монтан
- Тут нынче не поют, а только ссорятся.
- Уймитесь, ради неба, перестаньте же!
- Начни, Эленк! ты отвечай, Офелий!
Эленк
- Святая Палес, моему внимая пенью,
- Венчай меня зелеными ветвями,
- И пусть другой не хвалится уменьем!
Офелий
- Козлоподобный Пан, качни рогами
- На звук моей свирели сладкозвучной,
- Танцуй, скачи мохнатыми ногами!
Эленк
- Когда в апрельский полдень светолучный
- Дою я козочек, смеется надо мною
- Моя пастушка, друг мой неразлучный.
Офелий
- Со вздохом грудь вздымая, как волною,
- Меня Тиррена взглядом убивает:
- «И кто сейчас стоит меж нас стеною?»
Эленк
- Прекрасный голубь, что гнездо свивает
- На дереве, тебе, что столь надменна,
- Пусть о моей любви напоминает.
Офелий
- Пасу бычка – вот поглядит Тиррена,
- Как он красуется меж прочими быками
- Осанкой и породою отменной!
Эленк
- Украшу, нимфы, ваш алтарь венками,
- Коль, изнурен в любовном треволненье,
- Отраду обрету, хранимый вами!
Офелий
- Тебе, Приап, чтя года обновленье,
- Наполню чаши молоком телицы,
- Коль дашь в любовной муке утоленье.
Эленк
- Та, за которой сквозь скалу пробиться
- Готов я, обо мне тоскует, знаю,
- Хоть и бежит в смущенье, и таится.
Офелий
- Вот и меня Тиррена, принуждая
- Терпеть у входа, нежные ответы
- Мне шлет, лишь только песню запеваю.
Эленк
- Зовет Филлида – притаившись где-то,
- Бросает яблоко со смехом – и любуюсь,
- Как платье белое мелькает между веток.
Офелий
- Меня Тиррена над ручьем, волнуясь,
- Так сладко ждет обнять, чтоб я и стадо,
- И самого себя забыл, целуясь.
Эленк
- Пусть даже в полдень дарит лес прохладу,
- Не будь в нем солнца моего, согнутся
- В тоске цветы, ручьи умрут с досады.
Офелий
- На скалы голые, где козы не пасутся,
- Коль солнце мое взглянет благосклонно,
- Чудесной зеленью мгновенно облекутся.
Эленк
- Святая лучница с пресветлым Аполлоном,
- О, дайте совладать со злобным Каком[243],
- Стрел ради ваших, бьющих неуклонно.
Офелий
- Минерва-дева, ты, с небесным Вакхом[244],
- Ради олив и лоз священных, стань со мною,
- И лира дерзкого моею будет всяко!
Эленк
- О коль текла б молочною струею
- Река, а я бы в рощах утешался
- Корзин плетеньем в час дневного зноя!
Офелий
- Когда бы ты рогами украшался
- Из золота, а шерсть, как шелк, сверкала,
- Бычок, как я б тобою любовался!
Эленк
- О сколько раз украдкой прибегала
- Ко мне, хоть час побыть со мной желая,
- Та, что счастливым жребием мне стала!
Офелий
- О как смотрела в очи мне, вздыхая
- (Ветра, богам ее несите воздыханья!),
- Та, что, любя, с богинями равняю!
Эленк
- Рука, язык, искусство, дарованье —
- Тебе, история любви: в веках стихами
- Да обновляется твое воспоминанье!
Офелий
- Прочтут тебя с хвалою и слезами;
- Пускай в веках останется известна
- Твоя нетленная под солнцем память!
Эленк
- Пусть всякий, кто, любя, тоскует слезно,
- Воскликнет, на стволах стихи читая:
- «Блаженна та, что небу столь любезна!»
Офелий
- Блаженна будешь, в небе созерцая
- Твое по смерти славимое имя,
- Взлетая к звездам от лесного края.
Эленк
- Смеется Фавн над воплями твоими;
- Замолкни, волопас, – я знаю верно:
- Коза у льва победы не отымет!
Офелий
- Скачи, сверчок, в болотистую скверну
- И там лягушек вызывай для пенья;
- Средь них ты без сомненья будешь первым!
Эленк
- Скажи-ка, что за зверь творит моленья
- На новый месяц и, обычай соблюдая,
- В поток спускается для очищенья?[245]
Офелий
- Скажи-ка, что за птица собирает
- Из древ костер, куда сама садится
- И, в том огне сгорая, воскресает?[246]
Монтан
- Соперники, пора остановиться!
- Грешит, кто спорит с небом; здесь пастушьим
- Умениям положена граница.
- Довольно! Будут приняты с радушьем
- Напевы ваши светлыми богами;
- Лишь Пану недосуг их нынче слушать.
- Вон, слышите, как он, треща кустами,
- Идет, исполнен гнева и досады,
- Жар выдыхая пылкими ноздрями[247].
- Пусть Феб, что раздает певцам награды,
- Приимет лавр победы; вы же, други,
- Оставьте при себе свои заклады
- И множьтесь, словно зелень в вешнем луге!
Проза десятая
Леса, сладостно отзывавшиеся на пение пастухов, покуда оно длилось, наконец умолкли, будто успокоенные приговором Монтана, который оставил обоим их заклады, даровав честь и победный венок Аполлону как вдохновителю их отменного искусства. Тогда и мы, покинув обильный травами берег, стали подниматься по склону горы, между делом смеясь и рассуждая о прослушанном состязании. И не успели пройти еще расстояния двух бросков камня из пращи, как вдалеке перед нами стал понемногу открываться почитаемый и священный лес, который окрестные поселяне веками сохраняли неприкосновенным: ибо никто не дерзал входить сюда ни с оружием, ни даже с простым топором, – но лишь с величайшим благоговением, опасаясь возмездия богов. И если достойно веры, в былые времена, когда мир еще не так полнился пороками, здешние пинии умели говорить, гулкими нотами откликаясь на любовные песни пастухов.
Неспешно ведомые к лесу святым жрецом, по его велению мы омыли руки в маленьком роднике живой воды, сочившемся на опушке, ибо входить в такое место, имея на себе грехи, возбранялось правилами благочестия. Отсюда, почтив первым святого Пана, а за ним – неведомых богов (на случай если кто-то из них таился здесь, не же-лая показаться нашим очам), мы пошли дальше, выступив с правой ноги, чтобы иметь доброе предзнаменование, каждый молясь в себе о благосклонности к нам божества – как сейчас, так и в будущих нуждах. И, вступив в священный сосновый бор, здесь, под нависающим краем утеса, среди скатившихся глыб, обрели большую стародавнюю пещеру, не знаю, то ли природой, то ли человеческой рукой вырытую в неприступной горе, а внутри ее – прекрасный алтарь, высеченный из цельного камня грубыми руками пастухов. Над ним возвышалась деревянная статуя лесного бога: с лицом румяным, как спелая земляника, с мохнатыми, подлинно козлиными голенями и ногами, он опирался на длинный посох из оливы, имеющий на конце два торчащих вверх рога. Плащ его был сшит из просторной шкуры, украшенной белыми пятнышками, словно звездами.
По сторонам древнего алтаря висели на стене две буковые доски, испещренные грубоватыми письменами; из века в век хранимые по преданию от прежних пастухов, они содержали в себе древние законы и руководства пастушеской жизни, в которых положено начало всему тому, что и поныне совершается в лесном краю. На одной из досок были расчислены по дням года всевозможные перемены погоды, долготы ночи и дня, вкупе с наблюдениями часов, немало полезными для живущих, верными предсказаниями гроз, и того, когда солнце в своем восходе возвещает вёдро и когда дождь, когда ветер, когда град, какие дни по лунным приметам благоприятны и неблагоприятны для человеческих трудов, и то, чему на каждый час подобает следовать, а чего избегать, чтобы не оскорбить непререкаемые воления богов. На другой доске было описано, как должны выглядеть добрая корова и добрый бык, каков подобающий возраст для оплодотворения и отёла, указывались времена и сроки, подходящие для кастрации телят, чтобы использовать их затем под ярмом в суровых земледельческих работах. И еще: как можно укротить упрямство овнов, просверливая у них в рогах близ ушей дырочки, и как, перевязывая им правое яичко, производить ярок, а левое – баранов, и каким образом ягнята рождаются белыми или разных других расцветок, и какое средство против испуга, – чтобы овцы, устрашенные ударами грома, не скидывали приплод. Кроме того, как подобает управляться с бородатыми козами, и какие из них видом, возрастом, в какое время года и в какой местности бывают наиболее плодовиты, и как можно точно определить их возраст по приметам на их шершавых рогах. Тут же были записаны все снадобья против многообразных недугов скота, собак и самих пастухов.
Перед пещерой простирала свою тень весьма высокая раскидистая сосна: на одной из ее ветвей висела большая и красивая свирель, устроенная на семь ладов, промазанная снаружи и изнутри белым воском: такой никогда ни в одном лесу у пастухов не было видано. Мы спросили, кто был ее мастером, – ибо казалось, что она собрана и навощена поистине божественными руками, – и премудрый старец отвечал, указывая на одну из ее дудочек:
– Вот эта самая дудочка была в руке у святого бога, чей образ вы видите перед собой, когда в этих лесах, возбуждаемый любовью, он преследовал прекрасную Сирингу. А когда потом, постыженный ее внезапным превращением, часто вздыхал, воспоминая о пережитом пламени, его вздохи преображались в нежный звук. И тогда, сидя в этой уединенной пещере, близ пасущихся овец, он стал свежим воском присоединять одну дудочку к другой, до семи, в порядке постепенного их уменьшения, подобно расположению пальцев на наших руках, как вы можете видеть на самой этой свирели, с которой он затем в течение многих дней оплакивал в чащах свои горести. Потом она, уж не знаю как, перешла в руки некоего сиракуз-ского пастуха[248], который прежде других отважился играть на ней, не боясь ни Пана, ни кого-то еще из богов, над светлыми струями своей Аретусы[249]. Говорят, когда он пел, окрестные пинии, качая вершинами, отзывались на его голос, а далеко растущие дубы, забыв о своей дикой природе, покидали родные горы, чтобы слушать его, осеняя приятной тенью внимавших ему овец. В тамошних лесах не было ни одной нимфы, ни одного фавна, который бы не постарался украсить свежими цветами его юношеские волосы. Настигнутый завистливой смертью, он завещал эту флейту в последний дар мантуанцу Титиру[250] и, с последним вздохом передавая ее, изрек: «Тебе быть ее вторым владельцем; с нею ты сможешь, когда захочешь, примирять соперничающих быков, издавая сладчайший напев лесных божеств». И Титир, обрадованный столь великой честью, предаваясь игре на этой флейте, впервые научил леса возглашать имя прекрасной Амариллиды[251], а затем – поведать и о пламенной страсти поселянина Коридона к Алексису[252], и о подражательном состязании Дамета и Меналка[253], и о сладкогласной музе Дамона и Алфесибея[254], отчего коровы, в восхищении, забывали щипать траву, лесные звери – изумленно замирали, а быстротекущие реки останавливали бег, не заботясь о приношении обычной дани морю. Прибавил он к этому и смерть Дафниса[255], и песню Силена[256], и бурную любовь Галла[257], и другое, что, полагаю, леса еще помнят и будут помнить, покуда на свете остаются пастухи. Но, имея от природы талант к воспеванию более высоких предметов и не удовлетворяясь смиренным наигрышем, он переменил эту скромную дудочку на куда более звучную и новую, чтобы петь вещи более важные и сделать леса достойными великих консулов Рима. И, оставив коз, предался обучению сельских земледельцев, кажется, с надеждой затем вострубить звонкой трубой во славу оружий троянца Энея[258], а эту свирель повесил здесь, где вы ее и видите, в честь бога, которому был обязан певческим даром.
А после него не приходил в наши леса тот, кто мог бы достойно играть на ней, хотя многие, побуждаемые усердием, не раз пытались и доныне еще пытаются.
Но чтобы не провести весь день в этих рассказах, возвращаясь к тому, ради чего вы пришли, говорю, что я, с моим опытом и знаниями, настолько же расположен, насколько способен услужить в вашей нужде, касается ли это одного или всех. И хоть сейчас, поскольку месяц на ущербе, не самое благоприятное время, тем не менее скажу вам кое-что о времени и о способе, которого нам подобает держаться. И в первую очередь ты, влюбленный пастух, кого более всех других касается дело, внимательно приклони слух к моим словам.
Не очень далеко отсюда, между пустынных гор, лежит весьма глубокое ущелье, отовсюду окруженное дикими лесами, чье эхо отзывается неслыханной первозданностью, – ущелье безмерно прекрасное, удивительное и странное, которое с первого взгляда повергает в небывалый ужас души входящих в него; но когда они пробудут там некоторое время, то, ободрившись, уже не могут насытиться его созерцанием. Туда можно пройти только по одной тропе, крутой и очень узкой, и чем более спускаешься вниз, тем путь становится шире, но и света все меньше, ибо склон сверху донизу покрыт густой тенью от молодых деревьев. Затем, спустившись на самое дно, увидишь, как неожиданно у ног разверзается устье большой и темной пещеры, войдя в которую сразу слышишь ужасный шум, сверхъестественно производимый там незримыми духами, будто кто-то играет в тысячу трещоток. И внутри, посреди этой тьмы, истекает ужасная река – она ужасна тем, что вскоре свергается в великую пропасть и, не имея выхода на поверхность земли, только чуть показавшись на свет, тотчас, в том же месте уходит в недра и сокровенно от всех, тайным путем, бежит к морю, не оставляя на поверхности земли ни следа, ни слуха о себе. Место поистине святое, достойное быть обиталищем богов, каким оно и является. Здесь все предстает очам зрителя с таким величием и достоинством, что не может не быть почитаемо или священно.
Так вот, когда белая луна круглым ликом воссияет живущим по всей земле людям, я отведу тебя туда, чтобы, во-первых, очистить тебя (если сердце твое позовет тебя войти). Погрузив тебя девять раз в эти воды, я сооружу из земли и дерна новый алтарь и на нем, покрытом тремя разноцветными покровами, запалю чистую вербену и мужские благовония[259], вкупе с другими травами, не вырванными из земли с корнем, но срезанными острым серпом при свете новой луны[260]. Затем окроплю все вокруг водой, набранной в трех источниках, после чего тебя, распоясанного и разутого на одну ногу, семикратно обведу вокруг святого алтаря, перед которым, левой рукой держа за рога черную овцу, а правой – острый нож, во всеуслышание призову триста имен неведомых богов, а с ними – почитаемую Ночь, сопровождаемую своими тенями, и молчаливые Звезды, знающие о сокровенном, и изменчивую Луну, имеющую власть не только на небе, но и в темных безднах, и ясноликое Солнце, окруженное пылающими лучами, которое, обегая мир по кругу, беспрепятственно видит все дела смертных. Затем призову всех богов, обитающих в небесной высоте, на просторе земли, в многоволненном море, в величайшем Океане – общем отце всех вещей, призову рожденных от него девственных нимф – сотню тех, что странствуют по лесам, и сотню охраняющих многоводные реки, а также фавнов, ларов, сильванов и сатиров, вместе с многочисленным сонмом полубогов, и вышний Воздух, и суровый лик твердой Земли, и стоячие озера, и текущие реки, и бьющие ключи. Не пропущу и темные царства подземных богов, но, призывая парно-тройственную Гекату, прибавлю и глубокий Хаос, и величайший Эреб[261], и преисподних Эвменид[262], обитательниц стигийских вод, и коли есть там еще какое иное божество, достойно карающее людские пороки, – все они да предстанут мне в час моего жертвоприношения.
И после этого возьму сосуд с благородным вином, изолью из него на чело овцы, отделенной для заклания, и, выдернув у нее между рогов немного темной шерсти, как начаток, брошу в огонь. Затем, вскрыв ей горло особливым ножом, источу в чашу теплую кровь и, отведав ее лишь краями губ, для угождения Матери-Земли всю ее вылью в ямку, сделанную перед алтарем, вместе с маслом оливы и молоком. И, положив тебя, подготовленного таким образом, на шерсти той овцы, кровью летучей мыши помажу тебе очи и все лицо, чтобы ночная тьма не мешала тебе видеть, но, как светлый день, явила тебе все. И чтобы странные и многоразличные образы призванных богов не устрашили тебя, приложу к твоей спине язык, глаз и кожу ливийской змеи с правой половиной сердца льва, что долго высушивалось по ночам, когда бывает полная луна. После чего повелю всем рыбам, пресмыкающимся, зверям и птицам (от которых, когда нужно, я узнаю свойства вещей и тайны богов) предстать передо мной безо всякого промедления. И только тех из них оставлю при себе, что будут мне нужны, а остальных отпущу обратно в их жилища. И, открыв суму, достану оттуда сильнейшие зелья, с помощью которых при желании я превращаюсь в волка и, оставив одежды в сетях некоего дуба, смешиваюсь с волчьими стаями в диких лесах – не ради охоты, как делают многие, но чтобы знать их тайны и козни, измышляемые против пастухов; ибо эти зелья смогут послужить и тебе в твоей нужде.
И если ты захочешь полностью избавиться от любви, окроплю тебя всего омывающей и благословенной водой, окурю чистой серой, иссопом и целомудренной рутой[263]. Посыплю твою голову пылью, в которой катался мул или какое-то другое неплодное животное, и, развязав один за другим все узлы в твоих одеждах, повелю тебе взять пепел со священного алтаря и обеими руками через голову высыпать его себе за спину, в бегущую реку, не оборачиваясь назад. И река тотчас унесет твою любовь в открытое море, оставив ее дельфинам и китам.
Но если ты желаешь принудить твою врагиню[264] полюбить тебя, тогда я соберу травы со всей Аркадии, и сок черного корня[265], и маленькую плоть, снятую со лба новорожденного жеребенка, прежде чем ее проглотит его мать[266]. Все эти вещи, так, как я научу тебя, ты навяжешь на восковую куклу, обмотав ее тремя нитками разных цветов, и, трижды с нею в руках обошед вокруг алтаря[267], столько же раз уязвишь ей сердце острием меча, про себя повторяя такие слова:
- Так колю и принуждаю
- Ту, что в сердце изображаю.
Потом возьми малую часть края ее юбки, мелко-мелко сомни ее пальцами и, выкопав ямку в земле, положи туда со словами:
- Все, чем, мучаясь, страдаю,
- В останках этих погребаю.
Затем подожги на огне зеленую ветку лавра, приговаривая:
- Пусть, в огне сгорая, бьется,
- Что страданьям моим смеется.
Затем я возьму белую голубку, а ты вырывай у нее перья одно за другим и, бросая их в огонь, повторяй:
- Той, что моим счастьем обладает,
- Плоть и кости пламя поедает.
Наконец, когда всю ощиплешь, отпусти ее, произнося последнее заклинание:
- Оставайся, жестокая, гордая,
- Без надежды, нагая, покорная.
И при каждом действии плюй по три раза, ибо нечетные числа угодны богам волшебства. И не сомневаюсь, что слова твои будут действенны: сам увидишь, как она, не противясь, сама поспешит к тебе с таким желанием, с каким буйные кобылицы на берегах крайнего Запада ожидают оплодотворяющих дуновений Зефира[268]. Так утверждаю я, именем всех божеств этого леса и силою того бога, что сейчас, присутствуя при нашем разговоре, слышит его.
И Энарет запечатал молчанием свои слова, столь возвеселившие каждого из нас, что излишне и говорить об этом.
Наконец, поскольку нам подумалось, что пора уже вернуться к оставленным стадам (хотя день был еще в разгаре), мы высказали Энарету много слов благодарности и распрощались с ним. И затем, самой короткой тропой спускаясь с горы, с немалым восхищением говорили между собой и о пастыре, и обо всем, что от него слышали. Когда же почти уже вышли на равнину, – а стоял сильный зной, – и увидели перед собой прохладную рощу, нам захотелось послушать пение кого-нибудь из нашей компании. И Опик выбрал на это дело Сельвагия, в качестве темы предложив ему прославить счастливый век, как видим, обильно украшенный многими столь добрыми пастухами, и то, что в наше время можно видеть и слышать пастухов, поющих среди своих стад, о чем через тысячу лет, возможно, в этих лесах останутся только воспоминания.
Но Сельвагий, собравшийся было начать, уж не знаю как, обратил свои глаза на небольшой холм, подымавшийся в отдалении по правую руку от нас, где увидел высокий могильный памятник, под которым почивали в вечном покое праведные кости Массилии[269], матери Эргаста – той, что при жизни имела среди пастухов славу, почти равную славе божественной Сивиллы. И повернул шаг в ту сторону, говоря:
– Вот куда пойдемте, пастухи; ибо если блаженным душам после ухода дано иметь попечение о здешних вещах, то и наша Массилия будет нам благодарна на небесах за это пение. Ибо как мягко умела она вершить суд на наших состязаниях, благонравно поддерживая дух в побежденных и дивными похвалами венчая победителей!
Всем показались разумными слова Сельвагия, и мы быстрым шагом, один за другим[270], на ходу утешая расплакавшегося Эргаста, поспешили туда. А когда подошли к могиле, здесь столько обрели предметов для созерцания, столько пищи для насыщения очей, как никогда ни в одном из наших лесов. Итак, послушайте, что здесь было.
На маленькой ровной площадке сверху невысокого холма стояла прекрасная пирамида, чья вершина тянулась к небу наподобие прямого и густого кипариса, а на гранях можно было видеть многие ряды искусно выполненных фигур, которые Массилия сама, будучи в живых, повелела написать в честь своих далеких предков, запечатлевая всех пастухов ее рода, которые в какое-либо время были славны и досточтимы в лесах, вместе со всеми стадами, коими они владели. А вокруг пирамиды простирали ветви юные деревья, еще не выросшие вровень с ее белой вершиной, ибо только недавно были насаждены рукою благочестивого Эргаста. Сочувствуя его горю, другие пастухи затем обсадили место высокими кустами – не тернами и колючками, но можжевельником, розами и жасминами, разровняв с помощью мотыг место для пастушеских пиров и устроив, на некотором расстоянии друг от друга, ряд башенок из розмарина и мирта, сплетенных с удивительным искусством[271]. А перед ними на полных парусах плыл корабль, устроенный из ивы и побегов живого плюща так правдоподобно, что впору было сказать: «Бороздит он покойное море»[272]. Между его вантов, и у руля, и на марсе[273], подобно завзятым морякам, расхаживали залетные певчие птицы. И еще можно было видеть созданных таким же образом из деревьев и кустарников красивых и грациозных животных, которые будто весело скакали, всячески играли, купались в прохладных водах, – думаю, чтобы сделать приятное нежным нимфам, хранительницам места и погребенного в нем праха.
К этим красотам прибавим еще одну, не менее достойную описания, чем остальные: вся земля здесь была покрыта цветами, словно земными звездами, разукрашенная, как роскошный хвост гордого павлина или как небесная радуга, когда возвещает людям дождь. Здесь росли лилии, там – лигустры, а там – фиалки, тронутые любовной бледностью, а там – во множестве стояли снотворные маки, склонившие головки, и багрово-розовые метелки бессмертного амаранта, эти изящные венцы безобразной зимы. И наконец, сколько молодых красавцев, сколько великих духом царей произошло в прежние времена от пастухов, – все они были представлены здесь в облике цветов, носящих их имена: Адонис, Гиацинт, Аякс, юный Крок с его возлюб-ленной[274], а рядом с ними, над водой, можно было видеть тщеславного Нарцисса, как и прежде, любующимся своей бедственной красотой, что разлучила его с миром живых. Мы с удивлением похвалили между собой все виденное, прочли на надгробном памятнике достойную эпитафию и, украсив его множеством венков, вместе с Эргастом улеглись на ложах из высоких масличных деревьев. И вязы, и дубы, и лавры, трепетно шелестя листвой, качались у нас над головами; к их шуму присоединялся говор рокочущих вод, которые бежали средь зеленых трав, ища спуска на равнину, и все вместе создавало хор приятнейший для слуха. А в тенистых ветвях до изнеможения трудились на тяжкой жаре пронзительные цикады, в гуще зарослей без конца жаловалась скорбная Филомела; пели дрозды, удоды и жаворонки, причитала одинокая горлица среди высоких круч; с нежным жужжанием кружили над родниками неутомимые пчелы. Все благоухало плодоносным летом: пахли опавшие яблоки (ими была усыпана вся земля у нас под ногами и по сторонам), а над ними низко клонили свои тяжкие ветви яблони, казалось готовые переломиться от спелого веса. Тогда Сельвагий, которому предстояло спеть на предложенную тему, глазами подал знак Фрониму, чтобы тот ему отвечал, и сам наконец прервал молчание следующими словами:
Эклога десятая
Сельвагий и Фроним
Сельвагий
- Нет, друг мой Фроним, вовсе не безгласны,
- Как люди думают, леса – но воспевают
- Едва ли хуже, чем в блаженной древности.
Фроним
- Сельвагий, нынче пастухи не понимают
- В ученьях Муз и не почтут заслуженно
- Песнь звучную с трещоточною дробью.
- Бывает, что иной пятно навозное,
- Со всем зловонием его, прикроет лаврами —
- И, смотришь, хвалят паче нарда и амброзии.
- И мню, что боги уж не пробуждаются
- От сна, и добрых учат не наградами,
- А только злых постыдными паденьями.
- Свои законы видя в небрежении,
- Они уж ни дождей потоп, ни молнию
- Не шлют ради заблудших обращения.
Сельвагий
- Друг, был я между Байей[275] и Везувием,
- На той равнине славной, где вливается
- Себет[276] прекрасный в море малой речкою.
- Любовь, что сердца моего не покидает,
- Меня влечет искать края и реки дальние,
- Где мыслит разум, где душа в волнении;
- И помнят ноги, как ходил сквозь терние,
- Крапиву и репей и как грозили мне
- Зверь, и людское зло, и нравы дикие.
- И наконец, рекла судьба моя туманная:
- «Ищи тот град высокий, что халкидяне
- Воздвигли над старинною могилою[277]».
- Ту речь я недопонял. Люди вещие
- Из пастухов туда меня направили,
- И сказанного подтвердилась истина.
- Там я луну учился завораживать
- И прочим волшебствам, чем в лета лучшие
- В стихах Алфесибей хвалились с Мерисом[278].
- И нет средь трав земных такой презренной
- И среди звезд – недвижимой иль движимой,
- Чтобы в ученых тех лесах была неведома.
- Там ввечеру, под небесами темными,
- Искусства Феба и Паллады соревнуются[279]
- Так, что из чащи Пан выходит слушать их.
- Там, словно солнце меж планет, сияет
- Кара́ччоло[280], с кем на свирели с цитрою
- У нас в Аркадии никто не потягался бы.
- Тот не учился виноград обрезывать
- Иль жать хлеба – но от клеща зловредного
- Скот избавлять, от язв многоболезненных.
- Однажды, чтобы боль из сердца выпустить,
- Запел он, сидя под прекрасным ясенем
- (Я плел корзину, он же – клетку ловчую):
- «Да будет милостиво небо и избавит нас
- От злоречивых; пусть судьба сопутствует
- Средь этих стад дышать мне грудью полною.
- Идите в свежие луга, коровушки;
- Когда ж леса и горы тьмой покроются,
- Несите каждая до дому вымя тяжкое.
- А сколько бродят вас, увы, голодными,
- Зеленых трав не находя, листву иссохшую
- Сбирая по земле, жуют впустую.
- О горе, выживет едва ль одна из тысячи;
- Какой задавлены нуждою их хозяева, —
- О том вздыхая, сердце разрывается!
- И славит небо каждый, кто достаточен
- Хоть чем-нибудь среди убогой бедности,
- Что гонит многих от родного пастбища.
- Так покидают пастухи Гесперию[281],
- И рощи, и источники любезные,
- Порой жестокой к бегству принуждаемы.
- В горах бесплодных, нежилых скитаются,
- Чтобы добро свое не видеть в расхищении
- От чужаков неправедных, безжалостных.
- Ведь те, иной в достатке пищи не имея
- (То не был век уж золотой), глодали желуди
- В своих пещерах с сентября до августа[282],
- Живя охотой скудной лишь, как прежние
- Лесов этрусских делали насельники —
- Их древнего я не упомню имени![283]
- Лишь знаю, братом более удачливым
- Был умерщвлен другой (он звался Ремом),
- В дни стройки первых хижин их селения[284].
- Равно покрываясь ознобом и потом,
- Трепещу, поистине, новой болезни —
- Страдать от познания сути злосчастий,
- Влекомых судьбою, слепою фортуной:
- Не видишь, как лунный смеркается образ?
- Как меч Орионов зловеще блистает?[285]
- Тепло улетает, ненастие правит;
- Арктур[286] утопает в бурлящей пучине,
- А солнце лучи угашает, скрываясь;
- Проносятся ветры, со стоном вздыхая,
- И я вопрошаю: настанет ли лето?
- Проносятся с громами рваные тучи,
- Эфир взбудоражен от множества молний,
- И мнится, что близко скончание миру.
- О вёсны желанные в юном цветенье,
- В ветвях дуновения, свежие травы,
- Блаженные склоны, о холмы, о горы,
- Ручьи, долы, реки, зеленые бреги,
- Оливы и лавры, и мирты с плющами,
- О славные духи лесов многоствольных;
- О эхо в ущельях, о ясные воды,
- О с луками нимфы, о Панова свита,
- О фавны, сильваны, сатиры, дриады,
- О гамадриады, о полубогини,
- Наяды, напеи, вы ныне в печали;
- Фиалки завяли на склонах пустынных;
- И дикие звери, и вольные птицы,
- Что тешили сердце вам, ныне исчезли.
- Силен-бедолага – и он, старикашка,
- Осла не находит, чтоб сесть да поехать[287];
- Меналк, Мопс[288] и Дафнис, увы мне, скончались;
- Сел праздный Приап возле сада, и ветер
- Ни верес, ни иву над ним не качает[289];
- Вертумн не играет в игру превращений[290],
- Помона отбросила ветви: не хочет
- Святыми руками сечь прутья сухие[291].
- Ты, Палес, обижена непочитаньем,
- Без жертв оставаясь в апреле и в мае[292].
- Но если грешит кто, тобой не исправлен,
- За что же стада у другого страдают?
- Стада, что под сводами сосен и елей
- Обычай имели вкушать сладкий отдых
- В зеленой прохладе, под звуки свирели.
- Но нам на беду заблужденье слепое
- Вошло нерадивому в гордое сердце.
- Пан в яростном гневе мохнатой ногою
- Свирель растоптал; и теперь он, рыдая,
- Судя лишь себя, умоляет Амора,
- Сирингу любимую воспоминая.
- Свой лук с тетивою, и стрелы, и дротик,
- Зверей укрощенье, презрела Диана
- С источником, где Актеон за нечестье
- Погиб, обращенный в оленя, и в поле
- Подруг отпустила бродить без вожатой,
- Гнушаясь неверностью этого мира
- И видя всечасно, как падают звезды.
- Вот Марсий бескожий сломал свою флейту,
- Что мышцы и кости ему обнажила.
- Щит гордый отбросила в гневе Минерва,
- И Феб не гостит у Тельца, у Весов[293], но,
- Взяв посох привычный, как встарь, у Амфрисса[294]
- Сидит, опечален, на камне прибрежном,
- Колчан свой и стрелы закинув под ноги.
- Юпитер, ты видишь его? Он без лиры,
- Не в силах заплакать, лишь дня вожделеет,
- Когда все вокруг, все сполна распадется,
- Лик примет иной и явится прекрасней.
- Менады и Вакх, бросив тирсы, бежали
- При виде идущего с гордостью Марса:
- В броне, он себе прорубает дорогу
- Мечом беспощадным. О горе! Не может
- Никто воспротивиться. Скорбная доля!
- Как небо жестоко-надменно! А море
- Бушует, кипя, и у брега мятутся
- Распуганные божества водяные:
- Во гневе Нептун восхотел разогнать их,
- Громовым трезубцем бия по ланитам[295].
- Астрея с весами на небе сокрылась[296].
- Великое малой завесой скрывая,
- По воздуху кистью вожу, и, быть может,
- Невнятны для вас мои темные речи.
- Но бдительны будьте! Случалось ли древним
- Познать столько бедствий за их злохуленья?
- Как птицы расхищают с насекомыми
- Удолий наших семена желанные,
- Свободу нашу отнимают боги[297].
- И было б лучше нам, как люди в Скифии
- Живут под Волопасом и под Геликой[298],
- Со снедью грубой и вином рябиновым.
- Я вспоминаю, как с вершины падуба[299]
- Об этом каркала ворона-бедоносица,
- И грудь моя твердеет, точно камень.
- О горе, страх сжимает сердце мне,
- Как мыслю о наставших бедах: право, были
- На листьях писаны они Сивиллою[300].
- Скрестились в диком браке тигр с медведицей;
- Увы! Зачем вы, Парки, не обрежете
- Нить мою краткую рукой неумолимой?
- О пастухи, роса, что в хладных сумерках
- Вредит плодам, пусть прекратится вовремя,
- Пока вам кровь года не охладили.
- Не ждите вы, когда земля покроется
- Травою сорною, не медлите пропалывать,
- Пока серпы у вас не затупились.
- Рубите корни у плюща не мешкая,
- Не то под силою его и тяжестью
- Не вырасти в лесу зеленым соснам».
- Он пел, и рощи откликались звуками,
- Какими, уж не знаю, оглашались ли
- Парнас, Еврот и Менал в годы прежние[301].
- И если б стадом не удержан был на родине
- Неблагодарной, что так часто вынуждала
- Его о смерти думать, то, уверен я,
- Пришел бы к нам, презрев служенье идолам
- И злые нравы века поврежденного,
- Далекие от благости отеческой.
- Он, добродетели пречистое зерцало,
- Мир украшая жизнью непорочною,
- Достоин большего, чем я сказать способен.
- Блажен тот край, где он письму учился,
- И те леса, что часто строфы слушают,
- Чей звук и небо угасить не властно!
- На вас одних, безжалостные звезды, сетую —
- И пусть укор мой будет вам известен, —
- Что ночь так спешно привели, оставив нам
- Лишь светляков взамен угасших песен.
Проза одиннадцатая
Какое всеобъемлющее удовольствие доставили пространные стихи Фронима и Сельвагия каждому из нашей компании, излишне и спрашивать. Однако, сказать правду, кроме величайшей отрады, столь добрые слова о любимом городе моей страны поневоле вызвали у меня слезы. Пока продолжались стихи, мне казалось, будто я в самом деле нахожусь на прекрасной и отрадной равнине, о которой говорил Сельвагий, и вижу тихий Себет, этот мой неаполитанский Тибр, который посредством множества каналов растекается по обильной зеленью округе, а потом, снова собирая их вместе, проходит под сводом маленького мостика, чтобы безмятежно соединиться с морем. И немалой причиной для жарких вздохов было то, что, слыша о Байе, о Везувии, я вспоминал, как веселился когда-то в этих местах. А следом приходили на память приятнейшие купальни, дивные и величественные здания, пленительные озера, радующие взор острова, серные горы и счастливый берег Паусилипо, с его рукотворным гротом[302] и множеством уютных вилл, на который плавно набегают морские волны. А еще – плодоносный холм, возвышающийся над городом[303], драгоценный для меня памятью о душистых розовых садах прекрасной Антинианы, знаменитой нимфы моего великого Понтана[304].
К этим мыслям присоединились у меня воспоминания о достоинствах моей благородной и щедрой отчизны, которая, изобилуя всякими сокровищами, населенная богатым и достопочтенным народом, кроме пояса внушительных крепостных стен, имеет у себя красивейший порт, пристанище целого мира, и вместе с ним – высокие башни, богато украшенные храмы, гордые дворцы, эти величавые и полные достоинства жилища наших патрициев, улицы, полные прекрасных женщин и любезных, видных собою молодых людей. А что сказать об играх, о празднествах, о частых турнирах, о стольких искусствах, о стольких науках, о стольких достославных занятиях, которыми не только один город, но сколь угодно обширную область, но преизобильнейшее государство хватило бы украсить. А приятнее всего мне было слышать, как прославлялись занятия красноречием и божественно-высокой поэзией – и, среди прочего, заслуженные похвалы моему доблестному Караччоло, немалой славе наших народных муз[305], песнь которого пусть была и не вполне понята нами, по причине загадочности ее слов, однако выслушали ее все с величайшим вниманием. Все – быть может, кроме Эргаста, который, пока длилось пение, был погружен, как мне казалось, в глубокое раздумье, не сводя глаз с могилы и даже не моргая, подобно исступившему из ума; лишь изредка он испускал слезу, шевеля губами и бормоча про себя что-то невнятное.
Когда же пение закончилось и многие из нас стали разнообразно высказываться о нем, – а ночь тем временем приближалась, и звезды одна за другой зажигались на небе, – Эргаст, словно пробудившись от долгого сна, поднялся и, обратив на нас жалобный взгляд, сказал:
– Милые пастухи, верю, что не без воли богов жребий привел нас в это место, ибо как раз подошел тот день, который будет всегда мне горек, который я всегда буду чтить подобающими слезами. Завтра исполняется горестный год, как останки вашей Массилии при вашем общем плаче, со всенародной скорбью были преданы земле.
И поэтому, как только лишь солнце, по окончании ночи, прогонит своим сиянием тьму, а скот разойдется по лесным пастбищам, вы, созвавши ваших собратьев-пастухов, придите совершить со мною подобающие обряды и торжественные игры в ее память, так, как у нас заведено.
И каждый победитель получит от меня дар соразмерно моим возможностям.
После его слов Опик высказал желание остаться с ним до утра; поскольку же он был стар, ему этого не разрешили, но отрядили нескольких молодых мужчин проводить его, а большая часть из нас осталась с Эргастом на бдение. Когда совсем стемнело, мы зажгли вокруг пирамиды множество светильников, над ее вершиной укрепив самый большой из них, который долгое время сиял, подобно яркой луне среди множества звезд. И ночь так и прошла среди огней, без сна, под звонкие и жалобные звуки музыки; и даже птицы, будто пытаясь превзойти нас, усердно пели на каждом дереве округи; и лесные звери, отбросив обычный страх, казалось, с удивительным наслаждением слушали нас, словно ручные, улегшись вокруг могилы.
Над землею, возвещая людям пришествие солнца, уже занялась багряная заря, когда издалека по звуку свирели мы услышали, что приближаются товарищи, а еще спустя немного, когда совсем рассвело, стали различать их на равнине: всей толпой они шли увенчанные венками из листьев, с длинными ветвями в руках, – так что на расстоянии казалось, будто идут не люди, но целый лес со своими деревьями шествует к нам. Наконец они поднялись к нам на холм; и Эргаст, возложив на голову венок из серебристой оливы, прежде всего почтил поклонением восходящее солнце, а затем, обратившись к прекрасной могиле, взволнованным голосом во всеуслышание сказал:
– О материнский прах и вы, пречистые и преподобные кости! Если по силе противодействующей судьбы я не мог сотворить вам надгробие, высотою равное этим горам, и окружить его отовсюду тенистыми лесами с сотней алтарей, принося на них вам сотню жертв, однако ничто не сможет помешать мне с чистой совестью и нерушимой любовью почтить вас теми малыми приношениями и теми делами, на которые достанет моих сил.
Сказав это, он совершил святые приношения, благоговейно целуя могилу. А пастухи, собрав в одно место большие ветви, что держали в руках, и громогласным хором призвав божественную душу, подобным образом принесли свои дары – кто ягненка, кто медовые соты, кто вино, а иные – ладан с миррой и душистыми травами.
Когда же все было окончено, Эргаст предложил награды тем, кто намеревались состязаться в беге; приведя красивого и большого барана, с белейшим руном, таким длинным, что оно свисало до копыт, он сказал:
– Он достанется тому, кому дадут первенство его быстрота и удача. Для второго приготовлена новая и красивая корзина из ивовых прутьев, доброе вместилище для не перебродившего Вакха. А третий пусть довольствуется этим можжевеловым дротиком: он, будучи украшен прекрасным железным наконечником, может служить и как дротик, и как пастуший посох.
На эти слова выступили вперед Офелий и Карин – юноши легкие и резвые, способные догнать оленя в лесной чаще; за ними – Логист, Галиций и сын Опика, по прозванию Партенопей[306], с Эльпином и Серраном, и другие их товарищи, меньшие по летам и силе. Каждый изготовился должным порядком, и как только дан был знак, все пустились мерить ногами зеленую поляну с такой скоростью, что можно было сравнить их со стрелами или молниями. Каждый, устремив глаза к месту, куда должен был добежать, старался перегнать товарищей. Но Карин, со своим удивительным проворством, уже был впереди всех; за ним, порядочно отставая, следовал Логист, а третьим – Офелий, которому будто в затылок дышал Галиций, идя за ним след в след, и, если бы они бежали больше, он, несомненно, нагнал бы его. Карину оставалось уже совсем немного, чтобы коснуться назначенной меты, когда, уж не знаю как, он споткнулся, – корень ли, камень или что другое было тому причиной – и, не в силах ничем помочь себе, резко упал грудью и лицом на землю. То ли по зависти, не желая, чтобы первенство досталось Логисту, то ли вправду желая подняться, он, не знаю каким образом, выставил вперед голень, и Логист как несся в беге, так, запнувшись, в том же порыве грянул наземь рядом с ним. После падения соперника Офелий с еще большим усердием припустил вперед по просторному полю, уже видя себя первым, а крик пастухов и громкие рукоплескания придавали ему духа к победе. Подбежав наконец к назначенному месту, он получил, как и хотел, первую награду, Галиций, шедший следом, – вторую, а Партенопей – третью.
Тогда с криком и шумом Логист стал жаловаться на коварство Карина, который лишил его первенства, подставив ему ногу, и с великой настойчивостью стал требовать награды. Офелий, напротив, утверждал, что победа за ним, и уже обеими руками держал за рога заработанного барана. Голоса пастухов разделились, когда Партенопей, сын Опика, с усмешкой сказал:
– Если вы дадите Логисту первую награду, что же тогда достанется мне, который сейчас третий?
На это Эргаст с веселым лицом отвечал:
– Милые юноши, те награды, что вы уже получили, вашими и останутся; но да будет мне позволено оказать милость другу.
И с этими словами он подарил Логисту красивую ярку с двумя ягнятами. Увидев это, Карин, обратившись к Эргасту, сказал:
– Если ты так жалеешь упавших друзей, то кто больше меня достоин быть награжденным? Ведь я, без сомнения, был бы первым, если бы тот самый жребий, который помешал Логисту, не был враждебен и мне.
Говоря это, он указывал на грудь, лицо и губы, покрытые пылью, – и тогда под веселые возгласы пастухов Эргаст привел красивого белого пса по кличке Астерион[307], рожденного от одного отца с моим старым Петулком[308], что был вернее и ласковее любой другой собаки, и которого, по причине его преждевременной смерти, мне остается лишь непрестанно оплакивать, с горячими вздохами призывая его имя.
Шум и говор пастухов затих, когда Эргаст вытащил на середину доброе рало[309], толстое и длинное, снабженное железными зубьями, и сказал:
– Пару лет не будет иметь нужды ходить в город ни за мотыгой, ни за лемехом, тот, кто выйдет победителем, метнув это рало, – ибо оно будет ему и тяжестью, и наградой.
На эти слова Монтан и Эленк с Евгением и Урсакием немедленно вскочили на ноги. Они встали в ряд, и первым оторвал рало от земли Монтан; имея у себя в домашнем быту немалую привычку обращаться с такими тяжестями, он попробовал метнуть его, но не смог достаточно далеко. Теперь попытаться предстояло Урсакию; но, может быть, надеясь, что одной силы для этого довольно, он хоть и много старался, но лишь рассмешил пастухов, ибо рало упало почти у самых его ног. Третьим метал Евгений: он намного превзошел обоих предыдущих. А Монтан, которому досталось метать последним, выступил чуть вперед, опустился на землю и, прежде чем взяться за рало, два или три раза протер руки пылью, а затем, схватив его, и прибавив несколько проворства и силы, обошел всех остальных на две длины рала. Все пастухи прославили его добрый бросок восхищенными рукоплесканиями; приняв заслуженно доставшееся рало, Монтан снова сел на прежнее место.
Тогда Эргаст начал третью игру, которая была вот какого рода. Взяв один из наших посохов, он вырыл в земле лунку – небольшую, чтобы хватало лишь одному человеку встать одной ногой, поджав другую, как имеют привычку делать журавли. На стоящего в лунке должен был, держа так же поджатой одну ногу, наступать вприпрыжку другой пастух, стремясь вытолкнуть его из ямки и самому занять ее. Проиграть для одной и для другой стороны означало коснуться, по какому угодно случаю, поджатой ногой земли. И то ловкими, то смешными движениями соперники поочередно принялись выталкивать друг друга из ямки. Наконец очередь защищать ямку дошла до Урсакия, против которого выступил один весьма высокорослый пастух. Урсакий, незадолго перед тем пристыженный насмешками пастухов, ища возможности исправить свою оплошность с ралом, прибегнул к хитрости. В какой-то момент нагнув голову, он резко ударил ею противника в низ живота, тут же, не давая ему опомниться, схватил его за ноги и, перекинув через спину, уложил его, такого высокого, в пыль. Восхищению, смеху и крику пастухов не было предела. А Урсакий, воспрянув духом, сказал:
– Не дано всем людям уметь все. Коли в одном оплошал, значит, могу защитить свою честь в другом.
И Эргаст, улыбкой подтвердив, что сказано верно, достал откуда-то изящнейший и остро наточенный нож с рукояткой из самшита, еще ни разу не бывший в деле, и протянул его в награду Урсакию.
И тут же назначил награды тем, кому предстояло испробовать силы в борьбе, обещая подарить победителю прекрасную кленовую чашу, где рукой падуанца Мантеньи, художника усердного и искусного как никто другой, были изображены многие вещи, а среди прочего – нагая нимфа с прекраснейшими членами тела и ногами, сгибающимися наоборот, какие бывают у коз. Восседая на наполненном вином бурдюке, она кормила грудью маленького сатира, глядя на него с такой нежностью, что казалось, будто вся горит любовью и заботой. А младенец одну грудь сосал, а за другую схватился нежной ручонкой, не сводя с нее глаз, будто боясь, что у него ее отнимут. Чуть поодаль от них можно было видеть двух мальчиков, тоже нагих, которые, надев на себя ужасные маски, просовывали через их рты свои ручки, чтобы напугать других мальчиков, из которых один, пустившись наутек и оборачиваясь на бегу, кричал от страха, а другой, повалившись на землю, плакал и, не зная, как еще помочь себе, протягивал руку, чтобы исцарапать врага[310]. Со внешней стороны сосуда шла по кругу лоза, отягощенная спелыми гроздьями; один из ее концов оплетала хвостом змея, что, изогнувшись, открытой пастью касалась края чаши, образуя изящную и причудливую ручку.
Красота чаши весьма возбудила души слышащих к состязанию, однако они ждали, как поведут себя самые сильные и именитые. Тогда Ураний, видя, что никто не двигается с места, проворно поднялся на ноги и сбросил плащ, обнажив широкие плечи. Против него отважно выступил Сельвагий, пастух весьма известный и уважаемый в лесном краю. Зрители ожидали многого, видя, какие два пастуха вышли на поле боя. Имея довольно простора, оба соперника могли видеть друг друга с головы до пят; наконец, сблизившись, они в едином порыве яростно сцепились сильными руками. Каждый имея решимость не уступить, они казались разъяренными медведями или же двумя могучими быками, сшибающимися на поляне. И уже пот струился по членам обоих, и побагровели набухшие кровью жилы на руках и ногах – так каждый из них трудился ради победы. Но так как ни один из них не был в силах ни окончательно бросить на землю, ни сдвинуть с места другого, Урсакий, опасаясь, как бы зрители не разочаровались в своих ожиданиях, сказал:
– Сильнейший и отважнейший Сельвагий! Сам видишь, что, мешкая, мы только утомляем зрителей. Или оторви меня от земли, или я подниму тебя, или возложим дело на богов.
И с этими словами приподнял его над землей. Но Сельвагий, не забывший своих уловок, с силой пнул его в коленный сустав, так что Урсакий, вынужденный поневоле согнуть колено, упал навзничь, а Сельвагий, не давая ему опомниться, навалился сверху. Вся толпа пастухов восхищенно вскричала. Теперь настал черед Сельвагия пытаться поднять Урсакия, – и он ухватил его поперек тела, но из-за большой тяжести и изнурения не смог удержать. Как ни старались оба, вышло так, что, наконец, сплетенными телами борцы повалились в пыль. Поднявшись, они угрюмо изготовились к третьей борьбе; но Эргаст не захотел, чтобы страсти распалялись еще больше, и, дружески обратившись к обоим, сказал:
– Не стоит так изнуряться ради столь малой награды. Оба – победители, и получаете равную почесть.
И, сказав так, одному пожаловал прекрасную чашу, а другому – новую цитру, сверху донизу изящно отделанную, с нежнейшим звуком, которую он с великой заботой хранил, утешая ею свою печаль.
Прилучилось товарищам Эргаста накануне ночью захватить внутри овчарни волка; и ради праздника держали его живым, привязав к дереву. С ним придумал Эргаст дать в тот день последнюю игру; обратившись к Клонику, который сидел, ни разу не поднявшись ни для какого состязания, он сказал:
– Итак, ты оставишь сегодня без почести твою Массилию, не совершив в ее память никакого подвига? Возьми, отважный юноша, твою пращу и покажи другим, что ты еще любишь Эргаста.
И, указав ему и прочим на связанного волка, продолжил:
– Кто хочет для защиты от дождей промозглой зимы иметь башлык и шубу на волчьем меху, тот может теперь заслужить ее, поразив из пращи эту мишень.
Тогда Клоник с Партенопеем и Монтан, только недавно выигравший рало, с Фронимом, вытянув свои пращи, принялись громко хлопать ими в воздухе; затем бросили жребий, и первая очередь выпала Монтану, вторая – Фрониму, третья – Клонику, а четвертая – Партенопею. Обрадованный Монтан, вложив в пращу камень-голыш и раскрутив ее со всей силы над головой, метнул его. Камень с яростным свистом полетел, куда был послан; и, возможно, Монтану досталась бы, кроме рала, еще одна награда, но волк, испуганный шумом, рванулся с места, где был привязан, и камень пролетел мимо. Вторым метнул Фроним и хотя целил точно в голову волка, не смог поразить его, но, попав в дерево, выбил из него кусок коры; и волк, охваченный ужасом, рвался со страшным визгом. Тут Клонику пришлось подождать, пока волк остановится; и как только он увидел его затихшим, запустил свой камень, и он, полетев прямо в цель, угодил по веревке, которой волк был привязан, отчего волк, напрягши силы, разорвал ее. Все пастухи вскричали, сначала решив, что волк убит, но тот, почувствовав, что свободен, бросился наутек. Тогда Партенопей, державший пращу наготове, видя, как волк бежит через поляну, ища спасения в лесу, что находился слева, призвал на помощь пастушеских богов и со всего размаху метнул камень. И угодно было его жребию, что волку, напрягавшему все силы в беге, камень попал прямо в висок под левым ухом, убив его на месте. Каждый из зрителей был поражен изумлением, и все собрание в один голос провозгласило Партенопея победителем. Глядя на Опика, плакавшего от радости, все поздравляли его с великим ликованием. А обрадованный Эргаст, подойдя к Партенопею, обнял его и, увенчав венком из ветвей нарда, дал ему в награду прекрасную лань, выращенную вместе с овцами и привыкшую играть с собаками и толкаться с баранами, совершенно ручную, которую любили все пастухи.
После Партенопея Клоник, перебивший веревку волка, получил вторую награду – новую и красивую клетку в форме башни, с говорящей и весьма речистой сорокой, которая была обучена звать пастухов по имени и приветствовать их так, что если ее не видеть, а только слышать речь, можно было подумать, что говорит человек. Третья награда была дана Фрониму, камнем поразившему дерево над самой головой волка, – сума для хлеба, связанная из тончайшей разноцветной шерсти. Наконец, досталась награда и Монтану – последнему, хоть он и мечтал получить ее первым. Эргаст сказал ему с ободряющей улыбкой:
– Слишком велика была бы сегодня твоя удача, Монтан, если бы ты оказался настолько же счастлив с пращей, как и с ралом.
С этими словами он снял висевшую у него на груди красивую свирель, составленную всего лишь из двух дудочек, но в высшей степени гармоничную в звучании, и протянул ее Монтану; а тот, приняв с удовольствием, поблагодарил друга.
Итак, розданы были награды, но оставался еще у Эргаста изящнейший посох из дикой груши, весь покрытый резьбой и расписанный разными восковыми красками, а на конце украшенный черным буйволиным рогом, отполированным до такого блеска, что поистине можно было принять его за стеклянный. Этот посох Эргаст подарил Опику со словами:
– Вспоминай и ты Массилию и, во имя любви к ней, прими этот дар, ради которого нет нужды ни бежать, ни в чем-то ином состязаться. Довольно потрудился вместо тебя сегодня твой Партенопей, который в беге явился одним из первых, а в метании пращи, бесспорно, первейшим.
И Опик с благодарностью отвечал на это:
– Привилегии старости, сынок, столь велики, что мы, хотим того или не хотим, вынуждены им подчиняться. Ох, право, увидел бы ты сегодня и меня соревнующимся с другими, имей я силы и возраст, как тогда, когда раздавались награды над могилой великого пастуха Панормиты[311], – подобно тому, как сегодня сделал ты. Там никто ни из здешних, ни из пришельцев не мог сравниться со мною. Тогда я одолел в борьбе Хрисальда, сына Тиррена, в прыжках намного превзошел славного Сильвия, а в беге оставил позади братьев Идалога и Адмета, которые быстротой и ловкостью ног превосходили всех иных пастухов. Только в стрельбе из лука был побежден я пастухом, носившим имя Тирсиса[312], и вышло так по той причине, что он, имея лук, концы которого были отделаны козьими рогами, крепче моего, мог стрелять с большей точностью, нежели я, с луком из простого тиса, который боялся сломать. Вот только поэтому он меня и победил. Тогда был я известен среди пастухов, славен среди юношей; ныне же надо мною взяло верх время. Это вы, кому благоприятствует возраст, упражняйтесь в подвигах молодости; а меня годы и природа покоряют иным законам. А ты, сын мой, чтобы праздник получил достойное завершение по всему, возьми звучную свирель, и пусть та, что имела радость подарить тебя миру, радуется и теперь, внимая твоему пению. Пусть с радостным челом видит она и слышит с небес, как ее священник совершает ее память в лесном краю.
Эргаст счел столь справедливыми слова Опика, что, вместо любого другого ответа, вновь принял из рук Монтана свирель, которую только что сам ему подарил, и некоторое время играл на ней жалобным тоном, а затем, видя, что все ожидают со вниманием и с молчанием, вздохнув, издал такие слова:
Эклога одиннадцатая
Эргаст, один
- Коль нежных гласов сладостного пенья
- В лесах надежды больше нет услышать,
- Начните сами горький плач, о Музы!
- Плачь, холм святой, листов покрытый тенью,
- Вы, мрачные расселины, пещеры,
- Издайте вопль рыданьям нашим в помощь.
- О, плачьте, твердый бук и дуб суровый,
- И, плача, расскажите этим скалам
- О нашей горькой, многослезной доле.
- Струите, о бессладостные реки,
- Ток пресных слез; вы, родники с ручьями,
- С круч горных удержите бег журчливый.
- И ты, что обитаешь в глубях леса,
- О Эхо безутешное, откликнись
- И крик мой напиши в стволах древесных.
- Пустые, брошенные долы, плачьте,
- А ты, земля, покрой свой плащ узором
- Из темных лилий и фиалок черных[313].
- Манто-фивянка, вещая Эгерия[314],
- Смерть отняла тебя у нас нежданно;
- Но продолжайте горький плач, о Музы!
- Ты, берег, коль слыхал когда-то песни
- Людских любовей, ныне будь товарищ
- Моей свирели в плаче неутешном!
- Цветы, что некогда величия и славы
- Царями были[315], ныне волей судеб
- Смиренно вьетесь возле рек и над прудами,
- Ко мне придите все, и Смерть умолим,
- Да и моей конец положит боли,
- Пресытившись моим безмерным воплем.
- Плачь, Гиацинт, о красоте увядшей
- И, сетованья прежние удвоив,
- На листьях напиши мои печали.
- О берега блаженные с лугами,
- Напомните Нарциссу, как страдал он,
- Коль вы друзья мне в этих горьких зовах.
- Пускай в лугах трава не зеленеет,
- Пускай отныне роза с амарантом
- Утратят цвет живой, изящный, яркий.
- Увы, кто может похвалиться славой?
- Мертвы теперь доверье, правосудье;
- Но продолжайте горький плач, о Музы!
- Когда вотще кричу я, воздыхая,
- Вы, о влюбленные и радостные птицы,
- От милых гнезд, молю, ко мне летите.
- О Филомела, что страдания былые
- Погодно обновляешь, нежной трелью
- Дубравы оглашая и лощины!
- И верно ль, Прокна, что с обличьем вместе,
- Ты не утратила и разум человечий,
- И о содеянном горюешь и стенаешь?
- Оставьте же, прошу, ваш плач и крики,
- Пока в своих речах я не охрипну,
- Не пойте ничего о вашем горе!
- Увянет роза хладною порою
- И, за зиму собравшись с новой силой,
- Желанной снова процветет весною.
- Но нас, когда однажды небо скосит,
- Уж ни теплом, ни солнцем, ни дождями
- Не возвратить в земную оболочку.
- И солнце, бег вседневный совершая,
- Уносит время вместе с нашей жизнью,
- Само же светит, как всегда светило.
- Блажен Орфей: не дожидаясь срока,
- Чтоб ту вернуть, о коей столько плакал,
- В край, страшный смертным, ринулся без страха;
- Он, победив Мегеру с Радамантом,
- Умилостивил самого Плутона[316];
- Но продолжайте горький плач, о Музы!
- Зачем в звучанье согнутого древа[317]
- Мне не дано издать столь скорбной ноты,
- Чтоб воплотила всю родимой благость?
- И хоть стихи мои не столь известны,
- Как те Орфеевы, однако, благочестье[318]
- Их сделало б угодными для неба.
- Но коль, отринув немощи людские,
- Родимая презрела б зов мой, я охотно
- Дорогу до нее и сам нашел бы.
- О тщетное желанье, о смятенье!
- Ведь знаю, зельями и волшебством я
- Бессилен изменить закон природы.
- Лишь двери из слоновой кости могут
- Явить во сне лицо ее иль речи[319];
- Но продолжайте горький плач, о Музы!
- Лишь ту саму вернуть они бессильны,
- Что без лучей меня оставила незрячим:
- Не снять звезды столь яркой с небосвода!
- Но ты, река счастливейшего края,
- Нимф собери к священному истоку,
- Обычай твой исконный обновляя.
- Прекрасную сирену в целом мире
- Прославил ты священною могилой:
- То первая печаль была, теперь – вторая[320].
- Пусть эта, новая, найдет трубу иную,
- Чтоб сладкозвучно пела, возглашая
- В веках, как эхо, откликающееся имя.
- И коль разлив дождей не искажает
- Прекрасный бег твой[321], ныне помоги мне
- Слог грубый благочестием исправить.
- Пусть не на хартиях останется лощеных,
- Но только среди этих буков – слово,
- Любовью столь полно, столь безыскусно,
- Чтоб на коре стволов шершавых, диких
- Прочли когда-то пастухи иные
- О благонравье, мудрости и чести,
- И чтоб из рода в род не умолкала
- Средь гор и рощ ее святая память,
- Доколь есть травы на земле, а в небе – звезды.
- Пусть звери, птицы, родники, деревья, гроты,
- Пусть люди с божествами это имя
- Поют в стихах возвышенных и светлых.
- Но чтоб, оставив грубый слог пастуший,
- Я смог перед концом возвысить пенье,
- Вы продолжайте горький плач, о Музы!
- Да не издам звук хриплый иль неверный,
- Но чистый, звонкий, что услышит с неба
- Родимой дух, высокий, благородный,
- И пусть лучом своим меня достигнет,
- Подав мне помощь, и когда пою,
- Да снидет посетить меня, жалея.
- И коль удел ее таков, что мой язык
- Изречь не в силах, пусть она, простив мне,
- Научит восхвалить его пером.
- Но век придет, когда святые Музы
- Вновь будут чтимы, и туман, и тени
- Рассеются от человечьих глаз.
- Тогда прогонит каждый от себя
- Все мысли близорукие, земные,
- Надеждой твердой сердце укрепив.
- Тогда покажутся темны и неучены
- Мои стихи, но все ж надеюсь, будут
- Любимы хоть в лесах у пастухов.
- Тогда иные, что теперь безвестны,
- Увидят алыми и желтыми цветами
- Процветшими их имена в полях.
- Тогда источники и реки в долах,
- Что́ пел я ныне, повторят, журча,
- Сияющею влагою хрустальной.
- И дерева, что ныне насаждаю
- Ей в честь, тогда прошепчут на ветру:
- Окончился ваш горький плач, о Музы!
- Блаженны пастухи, в святом желанье
- Взойти в тот век стяжавшие крыла,
- Хоть не открыто нам времен познанье.
- Но ты, прекраснейшая из бессмертных душ,
- Из горних пенью моему внимая,
- Как если б я был вашим ликам равен,
- Пошли густым, тенистым лаврам милость,
- Чтоб некогда их вечною листвою
- Могила наша общая покрылась.
- Пусть над журчащей, чистою водою
- С немолчным пением витают птицы,
- Да будет место полно всякой красотою.
- И если жизнь моя еще продлится,
- Чтоб смог тебя почтить я, как желаю,
- Пусть воля вышняя с моей соединится.
- Во гробе тесном от меня тебя скрывая,
- Тот беспробудный, тяжкий сон могильный
- Не будет вечно править, уповаю,
- Коли в стихах то обещать посильно.
Проза двенадцатая
Необычайная гармония, нежный напев, вызывающие сочувствие слова и, наконец, прекрасное и пылкое обещание Эргаста, хотя он умолк, все еще держали души слушателей удивленными и замершими, когда солнце, по верхам гор уводя багровеющие лучи на запад, дало знать, что свечерело и пора идти к оставленным стадам. Так что Опик, наш старейшина, поднявшись на ноги и с улыбкой обращаясь к Эргасту, сказал:
– Сегодня ты прекрасно почтил твою Массилию; а в будущем постарайся с твердым и горячим усердием исполнять то, что с любовью пообещал в своей песне.
Сказав это, он поцеловал могилу и, пригласив других сделать то же, вышел в путь. За ним и мы, один за другим попрощавшись с Эргастом, направились каждый к своей хижине, благословляя Массилию прежде всего за то, что она оставила после себя лесному краю столь добрый залог.
Но вот пришла и темная ночь, милостивая к житейским трудам, чтобы дать отдых всему живому: леса мирно безмолвствовали, не слышался уже ни лай собак, ни вой диких зверей, ни пение птиц, не шевелилась листва на деревьях, не дуло ни малого ветерка. Среди этого безмолвия лишь в небе порой то мерцала, то падала звезда. А меня после долгих раздумий (не знаю, виденное ли в течение дня, или иное что было тому причиной) наконец сморил тяжкий сон, но многоразличные страсти и скорби не оставляли мою душу. Ибо мне снилось, что, уйдя из лесов и от пастухов, я нахожусь в пустом и уединенном месте, где никогда прежде не был, среди заброшенных могил, не видя ни одной знакомой души. И от страха мне хотелось кричать, но голос замирал, и, много раз порываясь бежать, не мог я сделать и пары шагов, но, разбитый и изнуренный, оставался на месте. А дальше снилось, будто я стою и слушаю сирену, горько плачущую на скале, и тут вдруг море накрывает меня большой волною, и вода не дает мне дышать, я захлебываюсь и вот-вот умру. Наконец, снилось мне прекрасное апельсиновое дерево, за которым я с большой любовью ухаживал: будто я вижу это дерево срубленным под корень, а ветки его с цветами и плодами разбросанными по земле. И будто у неких плачущих нимф спрашиваю, кто же это сделал, а мне отвечают, что злые Парки срубили его своими жестокими секирами. И я, сильно скорбя над милым пеньком, говорю: «Где же теперь найду я покой? Под чьей тенью буду петь мои песни?» И кто-то, не давая никакого другого ответа моим словам, лишь указывает мне на стоящий поодаль черный, словно траурный, кипарис.
При этом меня переполняла такая тоска, такое томление, что сон мой, не в силах вынести большего, разбился. И хотя для меня было немалым облегчением, что на деле все не так, как я видел, тем не менее в сердце остались страх и недобрые предчувствия. Весь вымокший от слез, я не мог уже уснуть и, чтобы меньше мучиться, встал; и хотя была еще глубокая ночь, вышел в темноту лугов.
Медленно, шаг за шагом, сам не зная, куда иду (меня вела судьба), достиг я наконец подножия некой горы, откуда с ревом и удивительным журчанием[322] сносилась мощная река, особенно звучная в этот час, когда не было слышно никакого другого шума.
Я стоял здесь в течение довольно долгого времени: уже заря начинала румяниться в небе, пробуждая смертных к их трудам. Но хоть я и воздал ей смиренное поклонение, умоляя быть милостивой к моим мечтам, она, казалось, мало слушала мои мольбы и еще меньше заботилась о них. И внезапно от реки – я не заметил как – передо мной явилась юная девушка, прекрасная лицом, а движеньями и походкой поистине божественная, в одеждах из тончайшей и блестящей ткани, которую, если б я не видел, как она мягка, с уверенностью признал бы сотканной из хрусталя, с никогда прежде мною не виданной укладкой волос, украшенных золотым венком. Держа в руке сосудец из белоснежного мрамора, она приблизилась ко мне и сказала: «Следуй за мной, ибо я нимфа этого места», исполнив меня такого восхищения и страха, что я, не в состоянии ни отвечать ей, ни понять, поистине ли пробудился, или все еще сплю, покорно пошел следом. Подойдя за нею к самой реке, я увидел, как воды мгновенно расступились перед нею по сторонам, открывая дорогу, – дело поистине удивительное для зрения, ужасающее мысль и, может быть, вовсе невероятное для слуха. Боясь подходить к ней слишком близко, я остановился на берегу, но она, любезно ободряя меня, взяла за руку и повела прямо в реку. Следуя за ней и не замочив ног, я хоть и видел себя со всех сторон окруженным водой, но шел будто по узкому ущелью с крутыми обрывами или холмистыми гребнями по сторонам.
Наконец мы вошли в пещеру, из которой вытекала эта вода, а за ней – в другую, своды которой, как я, кажется, догадался, были из шершавой пемзы, и в разных местах свисали застывшие сосульки хрусталя, а по стенам, будто для украшения, лепились морские раковины; дно пещеры было покрыто мелкой и густой зеленью, с прекраснейшими скамьями по обе стороны, и колоннами из прозрачного стекла, которые поддерживали невысокий потолок. И там, внутри, на зеленых коврах, мы увидели нескольких нимф, сестер моей проводницы, которые просеивали золото через мельчайшие белые сита, отделяя от песка. Другие, прядя, вытягивали это золото в тонкие нити, из которых, вместе с шелками разных цветов, сплетали картину удивительного художества, для меня содержавшую, однако, в изображаемом предмете горестное знамение будущих слез. Ибо, войдя, случайно приметил я среди многих вышивок, которые они держали в руках, плачевную историю Эвридики: о том, как ужаленная ядовитой змеей в белую пяту она испустила дух и как, чтобы вернуть ее, сошел в преисподнюю, и как, обретя, вторично утратил забывчивый муж. Ах, несчастный, сколько ударов чувствовал я в душе, видя это и вспоминая недавние сны! И сам не знаю, что вещало мне тогда сердце, – ибо против воли очи мои увлажнялись слезами, и я все, что видел, толковал в недобром смысле.
Тогда нимфа, возможно, жалея меня, увела меня отсюда в другое место, куда более просторное, где я увидал множество озер и источников, множество расселин, бурливших водою, откуда исходили реки, текущие по лицу земли. О дивное искусство великого Бога! Земля, которую я считал сплошной твердью, скрывает в своих недрах столько впадин! Тогда я перестал недоумевать, отчего реки столь обильны и как неубывающей влагой поддерживают свой вечный бег. Таким образом продвигаясь вперед, ошеломленный и оглушенный великим рокотом вод, я шел, оглядываясь по сторонам и в страхе думая, где же я оказался. Догадавшись об этом, моя нимфа сказала:
– Оставь эти мысли и отгони от себя всякий страх, ибо не без воли неба совершаешь ныне это путешествие. Я хочу, чтобы ты видел, от какого начала родятся реки, чьи названия ты столько раз слышал. Вон та, текущая там вдали, – студеный Дон, вон та другая – великий Дунай, эта – славный Меандр, а вот эта – старик Пеней[323]; смотри, вот Каистр, вот Ахелой, вот, смотри, благословенный Эврот, чьи берега многократно слыхали пение Аполлона[324]. А поскольку знаю, что тебе не терпится увидеть твои реки (они по воле судьбы находятся ближе к тебе, чем ты думаешь), знай, что вот эта, которой все остальные приносят честь, – гордый триумфами Тибр, который увенчан не ракитами и камышом, как другие, но вечнозелеными лаврами, ради многовековых побед своих сынов. Две другие, ближайшие к нему, – Лирий[325] и Вольтурн, счастливо текущие по плодоносным владениям твоих дедов[326].
Эти слова пробудили в моей душе столь горячее желание, что я, не в силах долее сдерживать себя, сказал:
– О верная моя водительница, о прекраснейшая нимфа, если среди столь великих рек позволено иметь некое имя и моему Себету, прошу тебя, покажи мне его.
– Ты его обязательно увидишь, – отвечала нимфа, – когда подойдешь к нему поближе, а сейчас он не виден из-за своей малости.
И, как будто желая сказать что-то еще, вдруг замолчала.
Все это время мы не сбавляли шаг, но продолжали путь по огромной пазухе, которая то сужалась до тесного прохода, то расширялась до просторных равнин; и видели то горы, то долины – все подобно тому, как видим на земле.
– Удивишься ли ты, – сказала нимфа, – если я тебе скажу, что у тебя над головой – море? И что именно здесь влюбленный Алфей[327], не смешиваясь с морскими водами, пробегает тайным путем, стремясь в нежные объятия сицилианки Аретусы?
При этих словах мы издалека увидели великое зарево и почувствовали зловоние серы. Видя, что меня это удивляет, нимфа объяснила:
– Причина этого – муки пораженных молниями Гигантов, восхотевших напасть на небо. Сдавленные тяжелейшими горами, они все еще выдыхают небесное пламя, которым были сожжены. Этим и объясняется, что, если в других местах каверны изобилуют водой, здесь непрестанно пылает огонь. И если бы я не опасалась навести на тебя слишком большой ужас, то показала бы тебе, как гордый Энкелад, лежащий под великой Тринакрией[328], изрыгает огонь через провалы Монджибелло[329]; также ты увидел бы разожженный горн Вулкана, при котором нагие циклопы на гулких наковальнях куют перуны для Юпитера[330]; а дальше – под славной Энарией[331], которую вы, смертные, зовете Искьей, – неистового Тифея[332], от которого приемлют свой жар кипящие воды Байи и ваши серные холмы[333]. А еще я дала бы тебе услышать под громадой Везувия устрашающий рев великана Алкионея[334]– хотя, думаю, ты его еще услышишь, когда мы подойдем ближе к твоему Себету. Много веков назад все жители этих мест, к своему несчастью, услышали его, когда бешеное пламя и пепел накрыли окрестные земли, о чем до сего дня ясно возвещают расплавленные и застывшие камни. Поверит ли кто, сколько народа, какие роскошнейшие виллы и города погребены под ними?
И как, поистине, не только они были завалены пере-жженной пемзой и обломками горы, но и вот этот, видимый прямо перед нами, а в те времена, безусловно, славнейший город твоей страны, Помпеи, орошаемый холодными струями Сарно[335], по причине внезапного землетрясения был поглощен землей, так что и фундаменты его ушли из-под ног? Поистине, поразительный, ужасающий род смерти – толпы людей в один миг были заживо исторгнуты из числа живых! Но в конце концов все достигает своего предела, а дальше смерти никуда не уйдешь.
При этих словах мы уже совсем близко подошли к городу, о котором говорила нимфа[336]: его башни, дома, театры, храмы выглядели почти целыми. И я подивился, за сколь короткое время смогли мы перейти сюда из Аркадии; ясно было одно – что сила большая, нежели человеческая, подгоняла нас. Совсем скоро заблестела перед нами и тихая рябь Себета. Тогда, при виде моей радости, нимфа издала глубокий вздох и, жалостно посмотрев на меня, проговорила: «Дальше иди сам», – и исчезла, навсегда скрывшись из моих глаз.
Я остался один, весь охваченный страхом и печалью. И едва ли хватило бы у меня духу сделать хоть шаг без моей проводницы, если бы перед глазами не текла родная реченька. Быстро приближаясь к ней, я шел, во все глаза ища, откуда исходит ее вода, ибо с каждым шагом мне казалось, что ее бег ускоряется, набирая всё большую силу[337]. Так направляясь вдоль сокровенного русла, я все ходил, пока наконец не набрел на пещеру, вырытую в грубом туфе, где увидел ее многочтимого бога. Он сидел на земле, левым боком прислонившись к каменному сосуду, откуда изливалась струя, которую он еще весьма увеличивал той водою, что обильно и непрестанно дождила от его лица, волос, влажной бороды. Он был весь будто одет в зеленые водоросли; в правой руке у него была тонкая тростниковая дудочка, а на голове – венок из камыша и других трав, растущих в его водах[338]. С необычным журчанием его окружали его нимфы[339], все в слезах: забыв о чинности, безо всякого стеснения они лежали на земле, не поднимая от нее скорбных лиц.
Такое плачевное зрелище предстало моим глазам.
И внутренне я начинал уже смутно догадываться, по какой причине прежде времени оставила меня проводница. Но, оказавшись здесь, не веря, что когда-либо вернусь назад[340], и не зная, что еще другое сделать, весь полный скорби и предчувствий, я сначала склонился над землей, чтобы поцеловать ее, а потом начал говорить:
– О текучий поток, о царь земли моей, о любезный и милый Себет, светлыми и прохладными струями орошающий мою прекрасную родину, да возвысит тебя Бог! Да возвысит вас Бог, о нимфы, благородное потомство вашего отца! Будьте благосклонны, молю вас, к моему приходу, милостиво и сострадательно примите меня в ваши рощи. Довольно моей строптивой судьбе водить меня по разным мытарствам; пора ей сложить свои оружия, или примирившись со мною, или насытившись моими бедами.
Но не успел я договорить, как от скорбящего этого сонма отделились две нимфы и, подойдя ко мне с залитыми слезами лицами, стали по обе стороны от меня. Одна из них, подняв на меня глаза, взяла меня за руку и довела до выхода, где малая первоначальная вода разделяется на две части: одна – изливаясь в поля, другая – сокровенным течением проходя по городу для его пользы и благоукрашения. И, остановившись там, указала мне путь, прибавив, что выходить наружу или нет – в моей воле. Затем, открывая мне, кто они были, сказала:
– Та из нас, которую твой ум, угнетенный густым туманом, кажется, не узнаёт, – прекрасная нимфа, омывающая милое гнездо твоего единственного феникса[341]; сколько раз ее воды наполнялись до краев твоими слезами! А меня, сейчас говорящую с тобой, найдешь ты у самого подножия горы, где ныне лежит твоя любимая…[342]
И, еще издавая последние звуки этих слов, она обернулась водной струей и утекла по подземному руслу.
Читатель, клянусь тебе (если то божество, что дало мне милость дописать до этого места, дарует моим писаниям, каковы бы они ни были, толику бессмертия), что в эту минуту я так хотел умереть, что согласился бы на любой род смерти. И, придя в ненависть к самому себе, проклинал час, когда вышел из Аркадии, и несколько раз забылся в надежде, что все, что я видел и слышал, мне приснилось, будучи совершенно не в силах оценить, сколько времени я провел под землею. Так, среди раздумий, скорби и смятения, измученный и разбитый, и уже будто вне себя, добрел я до указанного источника. И он, только ощутив мой приход, взволновался и забурлил больше обычного, как бы желая сказать: «Я и есть та самая, которую ты видел лишь недавно». И, повернувшись налево, я увидел холм, о котором она говорила, весьма знаменитый красотою высокого дома, стоящего на нем, имя которому дано от того великого воло-паса-африканца[343], водителя многих стад, что в свое время, словно некий другой Амфион[344], пением звучной волынки воздвиг вечные стены божественного города[345].
И, желая идти дальше, по воле судьбы я встретил у подножия невысокого всхолмия Барциния и Суммонция[346], известнейших пастухов в здешних лесах, которые, укрывшись вместе со стадами в тихом и солнечном месте (поскольку было ветрено), как можно было понять по их жестам, собирались петь. И мне, хоть уши мои еще были полны песен Аркадии, захотелось остановиться, чтобы послушать голоса птиц моей страны и к долгому времени, столь прискорбно для меня прошедшему, прибавить хотя бы малую передышку. И я прилег на траву невдалеке от них, осмелев еще и оттого, что они, как было видно, не узнавали меня в чужестранной одежде, тем более что чрезмерная скорбь за недолгое время изменила мой облик. Даже сейчас, обращаясь памятью к их пению, к тому, какими созвучиями оплакивали они произошедшее с несчастным Мелисеем[347], мне хочется еще раз послушать их с великим вни-манием[348], – уже не чтобы сравнивать их с аркадскими певцами, но чтобы утешиться о моем небе, оставившем не совсем пустыми свои леса, которые не только сами всегда рождали благороднейших пастухов, но и от дальних стран принимали с любовью и радушием. Слушая их, мне легко поверить, что некогда обитавшие здесь Сирены сладостью пения удерживали проплывавших мореходов. Но вернемся к нашим пастухам: Барциний, в течение довольного времени сладкозвучно игравший на свирели, затем, обратившись лицом к товарищу, запел, а тот, сидя на камне, внимательно приготовился ему отвечать.
Эклога двенадцатая
Барциний, Суммонций, Мелисей
Барциний
- Здесь плакал в песнях Мелисей; с ним был я,
- Когда писал он на коре: «Несчастный, видев
- Филлиды смерть, себя как не убил я!»
Суммонций
- Ох, горе тяжкое! Как боги допустили
- Принять столь горький жребий Мелисею?
- Зачем не первым его с жизнью разлучили?[349]
Барциний
- Вот то одно, о чем я свирепею
- Змеиной яростью против судеб небесных,
- Вот то, о чем до глуби сердца каменею,
- Читая врезанное на стволах древесных:
- «Филлида, твоей смертью смерть пошли мне!»
- Скорбь высшая, иной людской не равная!
Суммонций
- Хочу и я увидеть это дерево,
- Чтобы и мне, на нем читая, выплакать
- Его словами и мои мучения.
Барциний
- Их осязать и видеть можешь тысячи;
- Ищи вот здесь, на мушмуле, внимательно,
- Да не нарушь касанием неловким!
Суммонций (читает)
- «Уже, Филлида, светлых кос не заплетаешь,
- Цветами не венчаешь, но травою
- Могильной среди слез моих скрываешь».
Барциний
- Вот снова надпись Мелисеевой рукою:
- «Филлида, мое сердце на мученье
- Ты здесь не оставляй, возьми с собою!»
Суммонций
- Не высказать, какое дарит облегченье
- Мне этот стих, и я еще прочел бы,
- Хоть и нужда меня в дорогу гонит.
Барциний
- Он прикрепил и надпись по обету
- На этой пинии. И если хочешь видеть,
- Влезай на ствол – тебе подставлю плечи.
- Но для удобства скинь-ка прежде обувь,
- Клади вот здесь суму, и плащ, и палку,
- И забирайся, а потом соскочишь.
Суммонций
- Мне видно снизу, и прочесть нетрудно:
- «Тебе, Филлида, посвящаю это дерево;
- Тебе Диана лук оставила и стрелы.
- Оно – как памяти твоей алтарь священный,
- Оно – и храм, и памятник надгробный,
- Чем твое имя величается прекрасное.
- Здесь холм цветов перед тобою будет вечно,
- Но ты, и в лучшем месте неба почивая,
- Не презри мною в честь тебе творимого!
- Здесь, часто к нам с отрадой приближаясь,
- Стих будешь видеть, на стволе написанный:
- „Склони главу, пастух. Я – дерево Филлиды“»[350].
Барциний
- Что скажешь ныне, коль с обрыва бросил он
- Свирель сладкоголосую, певучую
- И, чтоб убить себя, взял острое железо?
- И, разлетаясь, плакали тростинки,
- Взывая с мукою: «Филлида! О Филлида!»
- Услышать их – достойно удивления!
Суммонций
- И как от вышнего чертога не слетела
- На этот звук Филлида? Содрогаюсь:
- В груди такая жалость подымается!
Барциний
- Молчи, прошу, мой друг, покуда вспомню
- Я до конца стихи его иные,
- Которым лишь начало твердо знаю я.
Суммонций
- Столь чувствами душа моя вскипает,
- Что не могу умерить их. Начни же,
- Да к первому и прочее приложится.
Барциний
- «Что ж, Мелисей, и смерть тебя отринула,
- С тех пор как плачущим оставила Филлида,
- Улыбкой не встречая, как бывало.
- О други-пастухи, всяк да поет
- Со мной стихи лишь скорбные, и жалобы,
- А кто не может петь, пусть слезы точит.
- Пусть каждый плачем плачу пособляет,
- Пусть всяк со мной свое разделит горе:
- Мое ж – и день и ночь со мною.
- Писал стихи я на стволе гранатовом,
- Оно ж от них рябиной разродилось:
- Сколь жребий мой ужасен и причудлив!
- И, надрезая дерева прививкою,
- Смотрю, как точат черный сок кровавый,
- Со мною приучаясь к злостраданию.
- В садах лишились розы цвета яркого,
- С тех пор как солнце луч свой угасило,
- Меня со светом милым разлучивши.
- В лугах трава увяла и пожухла,
- В реках плывет больная рыба сонная,
- И зверь лесной бредет в поту горячечном.
- Приди, Везувий, расскажи печаль свою,
- Как на отрогах одичали виноградники,
- Как терпки их невызревшие гроздья.
- Увидим, как покрыты вечно тучами
- Твои бока с обеими вершинами,
- Как из жерла пылают беды новые.
- А кто придет твою беду поведать нам,
- О Мерджеллина[351], что покрылась пеплом ты,
- Что лавр твой сух, что ветви стали голыми?
- Антиниана[352], ты зачем заброшена,
- И обернулись дикими колючками
- Те мирты, прежде мягкие и нежные?
- Скажи, о Нисида[353] (пусть не накроет берег твой
- Дорида[354] бурною волной, пусть Паусилипо
- Не овладеет никогда тобой[355]), давно ли
- Тебя я зрел зеленой и цветущей,
- Приют дающей кроликам с зайчатами?
- Как ныне ты безлика и заброшена!
- Нет больше сладких уголков уединенных;
- Они теперь не те, и хладны камни,
- Где стрелы мне Амор точил каленые.
- Ах, сколько пастухов, Себет, ах, сколько
- Живущих ныне – мертвыми увидишь,
- Пока твой берег зарастает тополями!
- Давно тебя чтил Эридан великий[356],
- И Тибр кивал приветом благосклонным;
- Теперь же нимфы лишь твои с тобою.
- Мертва, что, над тобою украшаясь,
- Всем зеркалам тебя предпочитала,
- И до небес твоя летела слава.
- Теперь же протечет веков немало,
- Плугов меняя лемеха и рукояти[357],
- Пока иной столь чудный лик увидишь.
- Так что ж, несчастный, разом не расплещешь
- Всех волн твоих, не унесешься в бездну,
- Коль твой Неаполь – больше не Неаполь?
- Ох, эту скорбь себе не предвещала ты,
- О родина, в тот день, когда я в радости
- Хвалебных песен множество писал тебе.
- Теперь да слышат их Вольтурн и Силар[358]:
- Отныне буду чужд людских бесед я,
- Ничто мне сердца больше не возрадует.
- Там, в чащах, не оставлю ни утеса
- Без надписи „Филлида“, чтоб заплакал
- Пастух, по случаю туда заведший стадо.
- И если дровосек иль земледелец
- Меня услышит в дебрях, где томлюсь я,
- Пускай замрет, печалью пораженный.
- Но к вам я часто буду возвращаться,
- Места, для сердца милые когда-то,
- Не находя, куда в слезах укрыться.
- О Кумы с Байей[359], с теплыми ключами,
- Отныне, слыша, кто вас с лаской кличет,
- Во мне дрожать и плакать будет сердце.
- Ведь хочет смерть, чтоб, жизнь возненавидев,
- Я, как корова о теленке отнятом,
- Ходил, мыча богам, земле и людям.
- Лукрин с Аверном увидав, и Тритолу,
- Как не сойти, вздыхая, в тень долины,
- Что еще носит прозвище мечты моей[360].
- Там будто след невидимый оставила
- Священная стопа, замедлив некогда
- На голос мой, по-юношески ломкий.
- И, может быть, цветы, когда-то милые
- Пробудят вновь к возвышенному зренью,
- Которым беспечально услаждался я.
- Но как воззрю на жаркие, на дымные
- Холмы, где грудь Вулкана пышет серою,
- Чтоб очи не наполнились слезами?
- Где бурная вода в Залив ввергается,
- Где к небу жерло страшное зияет,
- Где тяжкий запах серный разливается,
- Там, кажется, небесный образ вижу я:
- Она сидит над паром – и с отрадою
- К стихам моим склоняет слух внимательный[361].
- О дни, что обратились в плач и вопли!
- Живую где любил, там кличу мертвую,
- Ищу ее следов и все брожу по ним.
- Днем непрестанно зрю ее в уме своем,
- В ночи взываю воплями великими,
- На землю тщетно силясь низвести ее.
- Мне острие, чтоб сам себя пронзил я,
- В ночи в глазах ее прекрасных грезится:
- „Вот прекращенье слез твоих горючих“.
- Покуда сон мне быть с ней позволяет,
- Я б мог змею разжалобить – столь жаркие
- Из груди моей рвутся воздыханья.
- Ни гриф в стране у аримаспов[362] лютый
- Не жил когда, чтобы, терпя такое, он
- Не пожелал иметь из яшмы сердце.
- На локоть опершись, лежу и вижу:
- Она идет сияя, словно солнце,
- И не стыжусь тогда вослед кричать ей:
- „Как бык в лесу с отбитыми рогами[363],
- Как голая лоза без сладкой грозди,
- Так без тебя я нищ и бесполезен!“»
Суммонций
- Как может быть, чтоб в сердце впечатлелись
- Столь неисходно страсти по ушедшей,
- Огнем погасшим чувства разжигая?
- Хоть зверь жестокий, хоть бездушный камень
- Не отзовется ль трепетом утробным
- На скорбный звук сей песни благородной?
Барциний
- И кажется, что небо растворится,
- Коль, мучим состраданьем и любовью,
- Услышишь цитры жалобные звоны;
- Когда «Филлида!» – возглашают струны,
- «Филлида!» – вторят скалы, лес: «Филлида!» —
- Иных мелодий сердце не вмещает.
Суммонций
- Скажи, неужто стольких слез потоками
- Не умягчилась ни на миг тюрьма несытая
- С ее тюремщицами, лютыми богинями?
Барциний
- Кричал он: «атропо жестокая, могла б ты дни
- Продлить Филлиде? О Клото! О Лахесис![364]
- О пощадите хоть меня, на волю выпустив!»[365]
Суммонций
- Пусть скот в лесах шатается от голода,
- Пусть лист на ветках, на земле трава увянет —
- Вовек неумолимо небо гордое.
Барциний
- Представь, как лебеди и совы рядом кружат,
- Когда он к жаворонку в небесах воскликнет,
- А тот ему откликнется, рыдая;
- Когда он на рассвете восклицает:
- «Зачем спешишь с восходом, солнце злое?
- Что мне твой свет, коль нет ее со мною?
- Вернись назад, чтоб мог пасти, как прежде,
- Я средь лесов стада. Зачем терзаюсь я?
- Иль чтоб хулить тебя все с горшим гневом?
- Пусть ты и гонишь ночь своим приходом,
- Но не хочу, чтоб яркий луч сушил мне
- Глаза, ко тьме привычные и плачу.
- Куда ни гляну, небо почернело:
- Коль мое солнце свет иному дарит миру,
- Мне выходить из тьмы не подобает!
- Как бык, в тени жующий, почивает,
- Я был когда-то; ныне – вон отброшен,
- Как та лоза, которой негде виться.
- То, говоря с собой и воздыхая,
- Я слышу, лира шепчется печально:
- „Впредь лавром, Мелисей, не увенчаюсь я“.
- То вижу, как дрозды с вьюрками вьются
- Над соловьем моим, что кличет щебетом:
- „О, плачьте вы со мною, мирты с лозами!“
- То слышу, ворон каркает с утеса:
- „Покрыть хватило б этих слез пучиною
- Капрею, Искью, Атеней, Мисен и Прочиду!“[366]
- У твоей груди выросшая горлинка
- С сухой ольхи взывает, о Филлида
- (А на зеленой век уж не гнездиться ей):
- „Холодный ветер оголяет горы;
- Пришла пора снегов и бурь, коровушки!
- Где вам теперь найти ограду с кровом?“
- Кто, слыша это, не вздохнет с печалью?
- Мне кажется, быки мычат с укором:
- „Твои стенанья небо помрачают“».
Суммонций
- Как правы те, что силы не жалея,
- Стремятся видеть Мелисея, ибо песнь его
- Возжечь любовью может даже камни!
Барциний
- А знаешь, этот бук, под чьей мы сенью,
- Не раз такими сотрясался вздохами,
- Как будто движутся меха кузнечные.
- О Мелисей, и день и ночь тебе внимаю;
- Столь утвердились твои трели и напевы
- В моей груди, что и в тиши я слышу их.
Суммонций
- Ах, если так, пиши за ним, Барциний,
- Чтоб мы, читая все зарубки эти,
- Сличали дерева по горьким жалобам.
- Пиши, чтоб ветер утешал нас шелестом,
- Чтоб вдаль летели каждый стих и слово,
- Чтоб звон стоял до Портиков с Ресиною[367].
Барциний
- Я видел, нес он ветку лавра со словами:
- «Лавр, обнимись с прекрасною могилой,
- Пока тружусь над зеленью простою.
- Не хочет небо, чтобы воспевать престал я
- Тебя, священная, но громче чтил и славил,
- Чтоб похвала твоя не умолкала в сердце.
- В моих стихах, и прежде небезвестных,
- Пока я жив, среди людских селений
- Да будет чтим твой памятник надгробный.
- Придет с холмов тосканских и лигурских
- Сонм пастухов сей уголок прославить
- Лишь потому, что ты в нем пребывала.
- Прочтут на камне четвероугольном
- Слова, всечасно леденящие мне сердце, —
- Какою болью грудь они сдавили мне! —
- „Та, что всегда являлась Мелисею
- Столь величаво-строгой, ныне тихо
- Лежит, смиренная, под хладными камнями“».
Суммонций
- Находишь эти строфы слишком звучными
- Для смирных лоз? Однако верю, некогда
- Раздуешь их, словно костер, дыханием.
Барциний
- Суммонций, я на всех стволах пишу их,
- И, так как слава их расходится все больше,
- В края их рассылаю удаленные.
- И знай, добьюсь, что Атесис с Тицином[368]
- Так отзовутся, слыша Мелисея,
- Что и Филлида жребий свой прославит.
Суммонций
- Достоин был бы Мелисей жить вечно,
- Любовь и мир с своей Филлидою имея;
- Но кто законы неба переставит!
Барциний
- Сюда, бывало, звал свою Филлиду;
- Теперь пред алтарем, на сей вершине
- Кадит ей непрестанными куреньями.
Суммонций
- Пусть небо, друг мой, не ударит молнией,
- Где ты пасешь, пускай ни вихрь, ни градины
- Не повредят шалаш твой камышовый!
- Но, расстелив свой плащ на свежей зелени,
- Прошу, зови его сюда: возможно, небо
- С его приходом милость нам подарит.
Барциний
- Коль хочешь подражать ему – пожалуй,
- Могу воспеть; хотя сюда свести его
- Совсем не так легко, как мыслишь ты.
Суммонций
- Хотел бы глас живой его услышать
- И каждый жест его оставить в памяти;
- Коль погрешил я в чем – не упрекай меня.
Барциний
- Поднимемся к его священной храмине;
- Ведь дивного холма и сада пышного
- Лишь он один и жрец и земледелатель.
- Молись же, да не возбранит нам ветер;
- Не то нужда укрыться будет в этих кущах,
- Коль засветло сойти не хватит времени.
Суммонций
- Не дай мне, небо, умереть нечаянно:
- Представив, что орган сей дивный слышу,
- Весь таю – плотью, нервами, утробою.
Барциний
- Идем, и жребий добрый да наставит нас!
- Но слышишь? Нежная вблизи играет дудочка.
- Тсс! стой, чтобы псы нас не учуяли.
Мелисей
- Твоих волос, Филлида, здесь, в ковчежце
- Ношу я прядь и, коль перебираю,
- То острый шип мое терзает сердце.
- Я то сплетаю их, то расплетаю,
- Очами проливая дождь безмерный,
- Сушу их вздохами и снова собираю…
- Низки стихи мои, беспомощны и бедны;
- Но если плач на небесах имеет силу,
- Восстанет верность против власти смертной.
- Филлида, плачу над твоей могилой,
- И бездна горя проживается сначала;
- Храни в душе, молю, то счастие, что было,
- Коль в водах Леты ты любовь не растеряла.
К свирели
Вот и подошли к концу твои труды, немудреная лесная свирель, по простоте твоей достойная того, чтобы играл на ней пусть не самый умелый, но самый счастливый из пастухов, – да не таков я. Ты губам моим и пальцам в это краткое время давала приятное занятие, а теперь, так уж угодно судьбе, налагаешь на них долгое молчание, – а может быть, вместе с ним подашь и вечный покой. Ибо пришлось мне, еще не навыкнув искусными пальцами управлять твоей гармонией, в силу печального случая, издавать устами – какие уж они мне достались – неученые ноты, более подходящие для бессловесных овец на лесных пастбищах, чем для образованных городских жителей. Я поступил, как тот, кто, разозленнный ночными кражами в саду, срывает яростной рукой с тяжких ветвей еще недозрелые плоды; как грубый крестьянин, который с высоких деревьев собирает гнезда с неоперившимися птенцами, лишь бы они не достались змеям или мальчишкам-подпаскам. Поэтому прошу тебя и изо всех сил увещеваю: будь довольна своей лесной простотой и оставайся в этих пустынных местах.
Ни к чему тебе искать ни высоких дворцов вельмож, ни наполненных гордыней городских площадей, добиваясь звучных рукоплесканий, суетного успеха и ветреной славы, с их спутниками – пустейшей лестью, лживыми заискиваниями, глупым и назойливым преклонением изменчивой толпы. Твой смиренный звук плохо слышен близ рева устрашающих буцин[369] и царских труб. Хватит с тебя, если среди этих гор будут играть на тебе губы какого-нибудь пастуха, приучая гулкие леса откликаться именем твоей госпожи и вместе с тобой горько оплакивать ее внезапную и безвременную смерть – вину непрестанных слез и безутешной скорби, в которых влачится моя жизнь (если можно сказать «живет» о том, кто погребен во глубине бедствий).
Так плачь же, обездоленная; плачь, есть у тебя о чем плакать. Плачь, убогая вдовица, плачь, злосчастная, горемычная свирель, утратившая то, что было тебе дороже неба. Не переставай плакать и сетовать о твоих жестоких несчастьях, покуда есть для тебя тростник в этих зарослях, издавая песни, наиболее подходящие к твоей жалкой и многослезной жизни. И если, по случаю, кто-либо из пастухов захочет воспользоваться тобой в делах веселья, предупреди его заранее, что не умеешь ничего иного, как только плакать и сетовать, а затем по опыту, на деле покажи ему, что так оно и есть, неизменно испуская под его дуновениями печальный, плачу подобный звук. И пусть он, опасаясь наполнить грустью свои праздники, держит тебя подальше от уст, пусть оставит тебя в покое, как прежде, подвешенной на дереве, там, где с обильными вздохами и слезами я оставляю тебя в память о той единственной, ради кого писал всю, до последней строки, эту книгу; в память о той, из-за чьей внезапной смерти не остается мне, о чем писать, а тебе – петь.
Иссякли наши Музы, засохли наши лавры, обрушился наш Парнас, до конца онемели леса, долы и горы утратили слух. Нет больше в лесах нимф и сатиров; пастухи забросили песни; овцы и коровы еле пасутся по лугам, грязными копытами равнодушно возмущая прозрачные воды, и по недостатку молока не дают пищи даже своим детенышам. Звери оставили привычные логова, птицы покидают уютные гнезда, суровые и бесчувственные дерева сбрасывают на землю еще недозрелые плоды; нежные цветы в печальных лугах все повяли. Бедные пчелы оставляют не начатый мед бесцельно пропадать в сотах. Все гибнет, всякая надежда истощилась, всякое утешение умерло.
Одно тебе осталось, свирель моя, – горевать, ночью и днем, с упорным постоянством растравляя свое горе. Горюй же, безутешная, горюй, сколько хватит сил – об алчной смерти, о глухих небесах, о неумолимых звездах, жалуйся на судьбу твою злосчастную. А если ветер среди этих ветвей, случайно тронув тебя, наполнит тебя дыханием, так закричи, насколько того дыхания хватит.
И не заботься, если кто-то, привыкший слушать, возможно, более изысканные звуки, презрительно посмеется над твоею простотой и назовет тебя грубой – ибо поистине, если вдуматься, в этом и есть твоя подлинная и главная хвала, – лишь бы только не отдалялась ты от лесов и от мест, для тебя подходящих. Но и здесь, знаю, не будет недостатка в таких, кто, строгим судом испытуя твои слова, скажут, что кое-где не вполне соблюла ты пастушеские законы, скажут, что не подобает выходить за пределы того, что кому прилично. Хочу, чтобы ты им, бесхитростно исповедуя свою вину, отвечала, что ни один пахарь, сколь бы ни был он искусен, не может пообещать заранее, что все борозды выйдут совершенно прямыми. Для тебя немалое извинение уже в том, что в твоем веке ты первая разбудила сонные леса и показала пастухам пример в пении уже позабытых ими песен. Ведь и тот, кто собрал тебя из этих тростниковых дудочек, отправился в Аркадию не как простой сельский пастух, но как образованный, хоть и безвестный юноша, и как изгнанник любви. Не говоря о том, что и в прошлые времена бывали пастухи столь дерзновенные, что речь свою возвысили вплоть до ушей консулов Рима; в их тени и ты, свирель моя, вполне можешь укрыться и защитить свое дело.
Но если, быть может, случится, что выйдет тебе навстречу некто другой, более благосклонного нрава, кто, сочувственно слушая тебя, проронит несколько дружеских слез, – о таком немедля вознеси горячие молитвы Богу, который, храня его счастие, да избавит его от бед, доставшихся нам с тобою. Ибо поистине, кто о чужих невзгодах скорбит, тот о себе самом поминает. Но боюсь, что такие будут редки, почти как белые вороны, перед намного превосходящей их толпою злоязычных. А против этих последних – не знаю, какими средствами снабдить тебя; только молю всей душой, чтобы ты, сколь возможно, держалась смиренно, с терпением перенося их удары. Хотя почти уверен, что такие усилия не понадобятся, если, как я тебе внушаю, захочешь ты пребывать среди лесов, втайне, вдали от молвы. Ибо кто не забирается высоко, тот не боится упасть; а упавший на ровном месте (что и случается-то редко) встает без вреда, не нуждаясь в помощи чужой руки. Из чего можешь принять за несомненную правду, что кто живет сокровеннее и дальше от людского множества, тот живет лучше[370]; и того среди смертных вернее назовут блаженным, кто, не завидуя величию других, скромно довольствуется своим жребием.




















