Читать онлайн Новая идеология: голодомор бесплатно
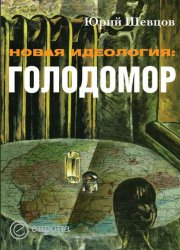
Предисловие
Миф о голодоморе – идеология нации, ищущей себе жертв
Юрий Шевцов взялся за трудное дело – разобрать своего рода «двойное историческое преступление». Матрешку, состоящую, во-первых, из реального страшного сталинского зверства 30-х годов, а во-вторых, из современной попытки превратить прошлое средствами политики в право на новые преступления XXI века, своего рода карт-бланш с умышленно непроставленными датой и намерениями.
Первое преступление стряслось в начале 30-х годов и в советской официальной истории успокоительно названо «коллективизацией», с зловещим уточнением «раскулачивания». Но еще в советское же время полуофициально его цель была названа – уничтожение крестьянина – собственника земли, и о результате говорили прилюдно: крушение русской деревни, от которой осталось спивающееся Нечерноземье, и Великий голод, пришедший вослед. На Украине тот голод называли Голодомором, хотя и там он был не последним (послевоенные голодные годы едва ли не страшней).
Второе преступление пока еще только готовится. Оно существует в намерении, нарочито нечетком. Для него и воспитывают будущего исполнителя, которого надо убедить сперва, что жертва – он, а значит, и палач-мститель в будущем тоже он! Новая киевская идеология призвана воспитать нацию – жертву Голодомора, целью и единственным содержанием жизни которой станет месть. И имя Голодомор, жуткое, как Холокост, мифологически кодирующее подсознание, не случайно выбрано из других.
Холокост – это зло, возникающее из ничего. Из суммы обстоятельств, ни одно из которых не казалось зловещим. Каким именно образом «обычные» людские пороки превратились в пытки? Как и почему шутливый бытовой антисемитизм превратился в газовые камеры Освенцима или упорную резню евреев войсками Украинской повстанческой армии? Во всяком случае, бесспорно одно – тех, кто уничтожал евреев, до того десятилетиями убеждали в том, что это они являются «жертвами еврейства». Нацист, расстреливавший киевлян в Бабьем Яру и бандеровец, вспарывавший животы крестьянкам под Ровно, оба твердо знали, что мстят за «страшные преступления еврейства». Идеология мнимой жертвы – мандат на будущий геноцид, втайне нацистский.
По ряду исторических причин Россию обошли европейские дебаты о Холокосте. Что оберегло нас от словесной пурги вокруг определения того, что считать геноцидом. Зато сделало интеллектуально неготовыми распознать новые типы нацизма и тех, кто готовит себя к новым зверствам. К преступлениям, кажущимся сегодня невероятными. Разве май 1945 года и Нюрнбергский трибунал не закрыли тему Холокоста? Разве разоблачения Хрущева и Солженицына не ограждают нас от рецидива сталинщины?
Но те, кто знал дело не понаслышке, кто прожил ХХ столетие на сквозняке – гетто, концлагерь, зона голодания, – единодушно, основываясь на личном опыте зла, настаивают, что угроза не исчерпана. Вышедший из Освенцима писатель, нобелевский лауреат Имре Кертес резюмировал: «В моих представлениях Холокост никогда не представал в прошедшем времени». Солженицын иными словами говорил о том же: раз ГУЛАГ был однажды, значит, ГУЛАГ возможен. А они знали, о чем говорят. И пока народы, дорогой ценой стряхнувшие прошлое, обучаются идеологиям «жертвы-мстителя», второе пришествие зла не только возможно – оно неизбежно. Об этом предупреждает исследование Юрия Шевцова.
Глеб Павловский
Введение
Актуальный голод
Голод 1933 года – удивительная тема. Более 70 лет прошло после этого безусловно трагичного события, но именно сейчас его трактовка стала большой политической и международной проблемой. Во второй половине 30-х годов, во время Великой Отечественной войны, в послевоенное время в УССР и даже в 90-х годах в уже независимой Украине вопрос об осмыслении того голода не раскалывал украинское общество и вообще не являлся актуальной темой. Актуальным голод 1933 года стал только сейчас.
И актуальность этой темы нарастает. Еще год тому назад трактовка голода 1933 года как геноцида украинского народа была вопросом в основном внутриукраинской дискуссии. Оранжевые революционеры навязывали украинскому обществу свое мировоззрение, частью которого было понимание голода 1933 года как геноцида, – и, в общем, всё. За пределы Украины эта тема особо не выходила. Однако сейчас ситуация изменилась: конгресс США 25 сентября 2008 года признал голод 1933 года голодомором, геноцидом украинского народа. Проблема приобрела самый серьезный международный статус из возможных, она стала частью большой конфронтации между Россией и США, еще более обострившейся после августовской войны в Южной Осетии.
Тема голода 1933 года стала предметом межгосударственной дискуссии и даже межгосударственного конфликта. Страны, которые поддерживают украинских оранжевых революционеров в этой теме, далеко не всегда просто бездумно солидаризуются с ними в антироссийском порыве. Нет, США, прежде всего США – это не та страна, где возможны какие-то действия столь высокого уровня без внутренней дискуссии и столкновения мнений. Если конгресс США принял такое решение именно сейчас, то причиной тому является не только желание поддержать Украину в конфликте с Россией. Причина лежит еще и внутри самого американского общества.
Миф о голоде как голодоморе востребован американским обществом, он прошел все уровни критики и стал частью американской культуры. Точно так же этот миф вошел и в культуру восточноевропейских стран в ее националистической современной части, в культуру некоторых иных стран.
Почему именно этот голод и его трактовка стали сейчас столь актуальными? Почему в западных обществах становится востребованным миф о геноциде украинцев этим голодом? Еще можно было бы понять, если бы эта тема была востребована в то время, когда существовал Советский Союз. Но почему это происходит именно сейчас? Ведь Россия нынешняя – а этот миф в постосетинском мире и новой холодной войне направлен против России – не наследница Советского Союза ни в идеологии, ни в традиции. Россия не отвергла реформы 90-х, над Россией триколор, а не красное «полотнище». Россия нынешняя к коммунистической идеологии не имеет никакого отношения. Почему же этот антисоветский миф, в глубине которого лежит нацистский постулат про «жидовский голод», про месть евреев украинцам за «Хмельницкого» и стремление евреев освободить украинские «черноземы» для себя, почему этот миф востребован именно сейчас в самых что ни на есть демократических странах и кругах?
Первый уровень – прагматический – лежит на поверхности. Украинский национализм нуждается в антироссийской и в определенной степени антисоветской идеологии. Голод, понимаемый как геноцид, противостоит главному постулату советской идентичности о родившейся в ходе сокрушения нацизма моральности СССР. Это важно для всего современного восточноевропейского национализма – сокрушить именно моральную трактовку победы над нацизмом. Если нацизм начинает пониматься как минимум равным коммунизму злом, это делает моральными все те националистические движения, которые во время Второй мировой войны служили нацистам или уклонялись от участия в войне с ними. УПА, Армия крайова, прибалтийские Ваффен СС и т. д. – все они приобретают моральность, если советский коммунизм обвинить в проведении политики геноцида по отношению к этим народам.
В этом смысле украинский голодомор по функциональному значению – это такой же тезис, как «геноцид» литовцев в 1940–1941 годах или Катынь для поляков. Если бы не тема голода 1933 года, украинский национализм обязательно нашел бы иной пример «геноцида» украинцев коммунистами. Странно то, что для подобного примера был взят нацистский в своей основе миф. С другой стороны, в основе мифа о геноциде коммунистами литовцев, латышей или эстонцев также лежит нацистская в своей основе трактовка: евреи обвинялись в геноциде, который они якобы проводили руками русских, прикрываясь коммунистическими лозунгами. Именно в рамках такого понимания «геноцида» 23 июня 1941 года, например, в Литве началось то, что там называют «национальным восстанием» – массовое уничтожение литовцами евреев в качестве мести за все «грехи» «советской власти».
Миф о коммунистическом геноциде восточноевропейских народов – это форма осторожной реабилитации нацистского мифа о захвате евреями власти в Российской империи в ходе коммунистической революции. Недаром этот миф ныне всегда идет рядом с героизацией нацистских коллаборантов из числа местных националистов. Причем именно в случае с украинским голодомором миф о геноциде восточноевропейских народов получил хоть какое-то обоснование фактами. Очевидно, что инкриминируемые советским коммунистам депортации прибалтийской интеллигенции или расстрел польских офицеров в Катыни и депортации перед войной поляков из западных областей бывшего СССР до этнического геноцида никак не дотягивают. А вот голод 1933 года, коснувшийся миллионов людей, если доказать его искусственный характер и т. д., действительно может быть «похож» на геноцид.
В общем контексте противостояния советскому культурному наследию голодомор особенно важен своим масштабом. Если принять аргументацию его апологетов, мы получаем самое большое в истории человечества преступление власти против своего народа, и тем самым мы морально обвиняем коммунистов в самом большом в истории человечества преступлении. И соглашаемся морально оправдать любую форму сопротивления коммунистам, в том числе и через коллаборацию по отношению к нацистам. Масштаб в данном случае имеет принципиальное значение. Речь идет о качественно ином, чем в случае с литовским «геноцидом» или высылками кавказских народов, примере. Речь идет именно о полном моральном осуждении СССР и коммунизма. Голодомор – тоталитарная в своей основе идеологическая конструкция, она выводит проблему осуждения советского коммунизма за рамки украинского национализма, хотя и работает в том числе на украинскую националистическую идентичность.
Голодомор обращается к страхам крестьян перед городом и перед коллективизацией и индустриализацией, перед властью как таковой. Для всех восточноевропейских народов эти страхи были очень важны – особенно для национализмов, выраставших на крестьянской социальной и культурной основе.
Признание голодомора закладывает глубокую основу для солидарности в страхе всех тех, кто апеллирует к «кулаку», к «хозяину», к национальному государству как сообществу свободных людей, то есть крестьян одной нации, – к крестьянскому анархизму в конечном счете. Это очень небезопасное обращение, ибо оно апеллирует к мракобесному, темному, наполненному необразованностью и неосмысленностью пласту восточноевропейских культур. Именно из таких пластов вырастали утопические и очень жестокие движения наподобие полпотовцев или, например, УПА.
Прагматическое понимание смысла голодомора как сильного концепта для объединения восточноевропейцев против советского наследия позволяет видеть в нем идейного «союзника» радикальных либералов – крестьянский страх перед модернизацией, зафиксированный в страхе неизбежного, организованного «городом», коммунистами, «евреями», «русскими», подразумевает идеализацию «фермерского пути», «единоличника», «хозяина». Это именно те образы, которые столь дороги либералам, и особенно постсоветским либералам, нацеленным на разрушение любых форм социальной солидарности, которые и навязали бывшему СССР и всему бывшему восточному блоку радикальные реформы.
Крестьянский индивидуализм имеет мало общего с принципом свободы личности, заложенным в либерализм. Но антисоциальную идеологию для короткого периода схватки против «СССР» или «России» создать на этой основе оказалось возможно.
Несомненно, то, что голодомор позволяет развернуть к националистическому развитию именно украинцев, очень важно с прагматической точки зрения. Здесь ясно просматривается концепт Бжезинского об Украине как о главном препятствии для воссоздания в Евразии сильного российского государства.
Наконец, важно и то, что национализм в Восточной Европе в послевоенные годы развивался в основном в эмиграции и как бы законсервировался. Группы эмигрантов своей корпоративной традицией были связаны в основном с коллаборантами времен Второй мировой войны и помнили свои народы как крестьянские. Для них время словно остановилось: вышиванки, «наш народ угнетен и страдает», «разогнуть спину», «родная сторонка», «хата», «колыбельная матери над люлькой под потолком дедовской хаты», Шевченко, гайдамаки, лесные братья… В послевоенные годы все эти стандартные образы в среде эмигрантских общин националистов модернизированы не были. Внутри СССР антисоветский национализм концентрировался либо в небольших группках гуманитарной интеллигенции, в основном связанной с литературным творчеством на национальном языке, либо в среде крестьян на уровне крестьянской ксенофобии. Тесной связи между эмигрантскими общинами, городскими гуманитарными интеллигентами и сокращающейся в ходе урбанизации крестьянской массой не было. Таким образом, сейчас мы имеем в основном немодернизированный, неспособный писать реальность своих обществ архаичный восточноевропейский национализм, и особенно хорошо это видно на самом масштабном его примере – украинском.
Концепт голодомора, как и концепт коллаборантов как героев, – это концепт из иной эпохи. Но другого национализма в Восточной Европе нет. И с этим надо считаться.
Голодомор – неизбежный концепт украинских националистов, и уже по этой причине он снискал поддержку внешних союзников оранжевых революционеров. Например, США.
Однако у голодомора есть и другая сторона: он развивался вместе с героизацией коллаборантов, и тем самым в Восточной Европе по мере усиления национализма был создан большой пласт стран, народов, культур, которые являлись носителями идеи ревизии итогов Второй мировой войны и реабилитации нацизма.
Нацизм, точнее расизм, – это старая болезнь европейской цивилизации. Тема неравенства являлась предметом дискуссий еще в Античности. Есть ли душа у раба? Раб – это вещь или же раб – такой же человек, как свободные люди? В эпоху христианства эта проблема звучала иначе: есть ли душа у индейцев, негров, язычников и т. д.? С развитием науки и секуляризацией Европы эта проблема зазвучала в новых формулировках – аристократы и простолюдины имеют разную температуру тела, разные народы происходят от разных «обезьян», высшая форма национальной самостоятельности – выведение с помощью евгенических, например, методов существа с соматической природой, качественно более совершенной, чем у остальных людей и т. д. В любом случае, подразумевается право одних людей владеть другими людьми как вещами, подразумеваются рабовладение и работорговля.
Расизм подобен вирусу опасной болезни – он проник в тело европейской культуры, укоренился в нем, он вырывается на поверхность, охватывая собою культуру в периоды ее ослабления. Вирус модифицируется и превращается в болезнь в новых формах. Немецкий нацизм – это всего лишь одна из исторических форм расизма. Работорговля или то, что устроили европейцы при освоении Америки, – абсолютно та же болезнь, но в иную эпоху и в иных формах.
И сейчас расизм может проявиться в новых формах, например, внешне либеральных, раз уж европейская цивилизация использует либеральный понятийный «аппарат» и «терминологию». Расшатывание моральной основы современной европейской общности – однозначного осуждения нацизма – это шаг в сторону высвобождения вируса расизма для его превращения в новую форму болезни европейской цивилизации.
Главное, что делает концепт голодомора, – убирает понятие морали из основы современной европейской идентичности. Ведь если через голодомор морально оправдывается коллаборация нацистам, значит, взятие Берлина и послевоенная денацификация более не могут однозначно считаться абсолютно моральными актами. Формирование в Восточной Европе целой группы стран, придерживающихся подобного взгляда, создает политическую базу для противников европейской интеграции и существования Европы в качестве гуманистического проекта, и даже – как единого интегрированного пространства.
Восточноевропейский криптонацизм отталкивает от Европы Россию, а без России европейская целостность никогда не была устойчивой. Конфликт между криптонацистскими восточноевропейскими странами и Россией – это не просто региональный конфликт. Это – глубокий идеологический конфликт. И этот конфликт втягивает в себя западноевропейские страны, создает сильный раскол между старой и новой Европой, препятствует консолидации ЕС и его связи с Россией, которая диктуется множеством взаимных интересов и взаимозависимостей. В конечном счете восточноевропейский неонацизм ослабляет глобальную конкурентоспособность ЕС и всей Европы, наносит удар по исторически недавнему нюрнбергскому единству Европы.
Конечно, можно искать субъекты мировой политики, заинтересованные в таком ослаблении Европы, но можно и не искать. Восточноевропейский парадоксальный современный неонацизм – скорее всего лишь неадекватная форма культуры и идеологии, возникшая как объективный процесс, без всякой особой конспирологии. Однако это не уменьшает его опасности не только для России, но и для всей Европы.
Расизм в истории Европы обычно превращался в крупный политический проект в моменты резких внутренних трансформаций, связанных с новыми открытиями в науке или с иными сильными трансформациями в европейских обществах. Нацизм, например, апеллировал во многом к научной рациональной «евгенической» логике, а не к проблеме наличия души и разного качества душ, как было в рабовладельческих идеологиях эпохи Великих географических открытий. Сейчас европейская цивилизация подошла именно к такой глубокой трансформации, при которой основные контуры новой жизнеспособной системы ценностей не очень ясны. Эту эпоху можно охарактеризовать разными словами: постиндустриальная, общество знаний, глобализация, и никогда ранее ни Европа, ни человечество в целом через такие эпохи не проходило. Поэтому сегодня чрезвычайно актуально, каким образом будет развиваться мир и взаимоотношения между развитыми странами и третьим миром, куда, в какие технологии пойдут инвестиции, как человечество будет решать проблемы истощения ресурсов или бороться с экологическими угрозами.
Та аморализация, которую восточноевропейские страны выдвигают через концепты геноцида и героизации коллаборантов, нацелена на разрушение понимания глобальной ответственности стран развитой части мира перед остальным человечеством. И в этом смысле трактовка голода 1933 года – это важный элемент проблемы формулирования европейских ценностей. В ЕС вновь может возобладать идеология колониализма.
Будет ли Европа относиться к России, исламскому миру, Китаю, Индии, Африке как к потенциальным колониям или же будет продолжать развивать европейские ценности как систему универсальных ценностей всего лишь с временной опорой на ЕС? Закладывается и определяется это именно сейчас и именно в ходе дискуссии и борьбы вокруг того, как понимать голод 1933 года.
Признание голода 1933 года геноцидом украинцев чрезвычайно опасно для всей Европы. Он не был геноцидом, и те, кто пытается навязать понимание голода 1933 года как геноцида украинцев, являются сознательными или бессознательными противниками гуманистического и ответственного развития европейской цивилизации, ЕС, всей Европы в целом. Они просто прикрываются своим конфликтом с Россией, но основным их противником является сама Европа.
Марко Эпштейн. Женщины стирают, 1920-е годы
Глава I
Крестьянский голод
Украина – смерть во имя будущего
Возможно, дело в советской культуре. В советских фильмах, которые мы смотрели, в книгах, которые мы проходили в школе, в пьесах, звучавших по радио, Восточная Украина как-то выделялась. Фильмы, книги, пьесы, статьи в газетах и журналах о ней были словно теплее и интереснее, чем о других регионах огромного СССР.
Советская культура подавала Восточную Украину через культуру труда. Наиболее симпатичные персонажи работали в шахтах или на крупных заводах. Это были высокие, широкоплечие мужчины или очень фигуристые женщины, с открытыми лицами, веселые и добрые, компанейские, патриотичные и очень отзывчивые. Они были трудолюбивы и любили свои шахты и заводы. Им было интересно работать. И следить за их работой по советским производственным фильмам и книгам было интересно. Они обязательно были хорошо образованы, а инженер или директор из них – это был почти бог во всем. Именно этот регион в зрелые годы СССР был советским мифологическим раем, где жили боги и герои.
Восточная Украина и ближайшие к ней районы России не были в подаче и восприятии страной воинов. Да, мы все читали «Молодую гвардию» и смотрели что-то про «вредителей» на шахтах и заводах перед войной. Но это не было доминантой. Вот восприятие Белоруссии и подача Белоруссии в советской культуре и в реальной советской идентичности шли в основном через культ партизанской войны 1941–1944 годов. С детства, лет с пяти, еще в детских садиках нам читали сборники воспоминаний детей, пострадавших от немцев. В основном тех, кто чудом остался жив после уничтожения их деревень.
Советский Союз был огромным. Каждый из регионов имел свои особенности и свое место в структуре этого громадного общества, но ни один из них не концентрировал в себе столь громадной материальной мощи, как «восток Украины».
Лидерство Восточной Украины было как бы естественным. В 1950–1980-х годах именно на востоке Украины и в прилегающих областях России было сконцентрировано около половины советского промышленного производства. Именно этот регион был промышленным ядром СССР. Более того – ядром всего восточного блока. Города, которые тянутся более чем на сто километров. Области, где лишь пять процентов населения заняты сельским хозяйством. Города, представляющие собой несколько громадных комбинатов, окруженных рабочими поселками и спальными районами. Трубы, затягивавшие небо дымами ста цветов. Производство ракет, танков, ядерных реакторов, морских судов, разнообразной «химии» – все было здесь. Промышленное сердце СССР – это около сорока миллионов людей, занятых почти исключительно в промышленности. Ни Чикаго, ни Рур, ни промышленные зоны Великобритании такой мощью не обладали.
Угасание значительной части промышленного очага востока Украины, происшедшее в 1990-х годах, было необратимо. Слишком громаден был этот очаг. И ныне нет необходимости иметь столь грандиозную концентрацию технологий индустриальной эры.
Почему именно тут возникло и так долго просуществовало материальное сердце громадного государства, пытавшегося возобладать в масштабе всей планеты? Почему местная культура выдержала столь грандиозную и тяжелую миссию?
Сейчас урбанизация уже «съела» традиционную деревню и в Западной Белоруссии, и в Западной Украине, и вообще во всей Европе. Но мне еще повезло застать живую деревню и, к сожалению, увидеть ее угасание после более тысячи лет царствования на громадных пространствах Восточной Европы и России.
Более двадцати лет назад я, очень молодой человек, узнал о голоде, который сопровождал появление этого промышленного очага планетарного масштаба. Вернее, не столько сопровождал, сколько обусловил. И все же живая деревня давала очень сильные эмоциональные ощущения. Когда Китай напал на Вьетнам в 1979 году, в нашей и в окрестных деревнях люди стали сушить сухари и прятать продукты на случай войны. И голода! Сухари сушили и в городах.
Мне всегда казалось загадкой, почему выжившие ТАМ не мстили коммунистам за эти смерти – когда пришли немцы, у нас в Белоруссии полицаев было много, а «у них» мало. Западная Украина, того голода не знавшая, породила УПА и дивизию СС «Галичина». А вот Восточная Украина, пережившая тот голод, массово воевала в Советской армии и в советских партизанах.
Разобраться с информацией о том голоде нелегко. Разность оценок людских потерь от голода 1932–1933 годов в Восточной Украине и в целом в бывшем СССР очень велика. Число жертв голода до сих пор у разных исследователей очень сильно варьируется: от 600 тысяч до 10 и даже 15 миллионов человек. Вот оценки, которые дает Станислав Кульчицкий: число умерших на Украине от голода в 1932 году составило 144 тысячи человек, а в 1933 году голод унес 3 миллиона 238 тысяч жизней. Некоторые историки отказываются принимать во внимание межреспубликанское сальдо миграционного баланса, указывая на невозможность его точного определения. При таком подходе оценки прямых потерь от голода автоматически увеличиваются до 4 миллионов 581 тысячи. Кроме прямых потерь от голода, Станислав Кульчицкий считает возможным говорить и о потерях опосредованных, выражающихся в падении рождаемости. Он указывает в связи с этим на снижение естественного годового прироста населения с 662 тысяч в 1927 году до 97 тысяч в 1933 году (без учета умерших от голода) и до 88 тысяч в 1934 году.




















