Читать онлайн 1920 год. Советско-польская война бесплатно
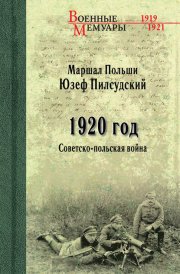
Предисловие
Год 1920-й надолго останется в памяти по крайней мере двух государств и народов. На огромном пространстве между Днепром, Березиной и Западной Двиной, с одной стороны, и Вислой – с другой, в вооруженной борьбе решались судьбы Польши и соседней с нами Советской России. В то же время исход этой борьбы на какое-то время определил и судьбы миллионов людей, которые были представлены сражающимися здесь войсками и их полководцами. Я не хочу вдаваться в рассуждения о том, не выходило ли значение боев, которые велись в 1920 году, далеко за рамки территории, расположенной между границами обоих воюющих государств; несомненно одно – нервное напряжение во всем цивилизованном мире было чрезвычайно велико, и к нам, тогдашним воинам, было обращено множество взоров, наполненных то тревогой, то надеждой, то слезами горечи, то улыбкой счастья. Поэтому неудивительно, что присущая человеку любознательность требует разрешения загадок и сомнений, которые волновали тогда людей. Понятен и наш интерес, интерес главных действующих лиц тех исторических событий, к поступкам, мыслям и даже мельчайшим подробностям работы тех, с кем нам пришлось скрестить шпаги. Пан Тухачевский (не могу найти другой формы обращения, так как не знаю, не обижу ли чем-нибудь своего бывшего противника, если буду называть его чины и звания) недавно издал книжицу под названием «Поход за Вислу». В свою очередь, польские издатели этой книжонки попросили меня дать свою оценку этому сочинению, желая сопоставить взгляды командующих обеих противоборствующих сторон и их подходы к описанию конкретных событий. По-моему, это была неплохая мысль, потому что такое рассмотрение одного и того же явления с двух сторон дает самое большое приближение к реальной правде и может стать очень хорошей основой для любого серьезного историка. Несомненно, п. Тухачевский[1] имеет передо мной преимущество, так сказать, первенство в захвате инициативы – он начал первым. Поэтому по воле обстоятельств я с самого начала оказался связанным как композицией и структурой его труда, так и его методами освещения событий; в литературном же труде, равно как и труде ратном, это немаловажное преимущество. А учитывая то, что и в нашем военном столкновении с точки зрения инициативы судьба была благосклонна не ко мне, а к противоположной стороне, я охотно согласился на предложение издателей, тем более что сам подход п. Тухачевского к данной теме отвечает потребностям широких кругов нашей общественности в освещении многих явлений и событий, так глубоко пережитых нами в переломном для нашей родины 1920 году.
Так, п. Тухачевский, издавая под указанным названием свои лекции на дополнительном курсе военной академии в Москве, пошел так далеко в ограничении их содержания, что свел их, как говорится во вступлении, к «общему стратегическому обзору операций», а «рассмотрения стратегических деталей и тактических действий соединений» он решил вообще избежать. Поэтому сочинение п. Тухачевского становится доступным широким кругам читающей общественности. Ведь стратегия, представленная в таком широком виде, без ее тесного увязывания как с тонкостями этой науки, так и с тактикой действий войск, освобождает пишущего или говорящего от тяжело воспринимаемого средним читателем анализа боевых ситуаций, не требует трудных для расшифровки неспециалистами схем и карт и одновременно переносит читателя или слушателя в ту область, где начинает господствовать, иногда безраздельно, зачастую неуловимое для точного анализа очарование военного искусства. Границы каждого вида искусства пролегают там, где среднеобразованный человек обращается относительно свободно или по крайней мере свободно себя чувствует: когда проводится выставка картин, тот, кто никогда не держал кисти в руках, совершенно свободно распространяется о художниках и их манере, когда же дело доходит до выставки военных действий, то нет более широко обсуждаемой темы, чем стратегические просчеты, недостатки и достоинства главных действующих лиц войны, и чаще всего именно их участием в ней ограничивается область стратегического военного искусства. Когда наш Станьчик говорит, что больше всего на свете таких врачей, которые умеют только давать советы больным, то смею уверить моего многоуважаемого соотечественника, что во время войны появляется несметное множество мудрых стратегов, которые умеют лишь свободно рассуждать о стратегических операциях. Поэтому сейчас, когда еще не смолкло эхо прошедшей войны, когда старые и молодые участники недавних побед и поражений еще рассказывают благодарным слушателям о своих похождениях, я признателен М. Тухачевскому за то, что своей работой он побудил меня вновь скрестить с ним шпаги, на сей раз невинно, на бумаге. Надеюсь, что таким образом мы оба будем содействовать более обоснованному и аргументированному решению спора между стратегическими дилетантами в обеих наших странах.
Когда я говорю о скрещении шпаг и отмечаю преимущество п. Тухачевского, имеющего право их выбора, хочу сразу же оговориться, что у меня тоже есть свои преимущества, которыми я не премину воспользоваться. Первым является то, что история поставила меня выше п. Тухачевского. Он командовал, правда, большей, но все же только частью воевавших советских войск, в то время как я был Верховным главнокомандующим всей польской армии. Если он, как подчиненный, в своих планах и намерениях иногда был связан необходимостью выполнять приказы начальников и обходиться выделяемыми ему силами и средствами для ведения войны, то у меня в этом отношении была полная свобода. По этой же причине обстоятельства заставляли меня в области высшей стратегии и военного искусства, а также в мыслях, с ними связанных, оперировать более высокими категориями, вращаться в более высоких сферах, чем это было отведено п. Тухачевскому. Меня утешает то, что на это мое естественное преимущество п. Тухачевский не обращает абсолютно никакого внимания, превращая меня в своих рассуждениях также в подчиненного то Генерального штаба Антанты, то мирового капитализма.
Остается обсудить другое преимущество с моей стороны, в связи с которым я долго колебался, стоит ли вообще браться за работу, о которой меня попросили. Если п. Тухачевский намеренно, как я уже имел возможность отметить, ограничился наиболее общим стратегическим обзором проведенных им операций и тем самым стал доступным для относительно широкого круга читающей общественности, то одновременно он действовал в ущерб себе, так как, повествуя о своей исторической деятельности по управлению большими массами войск, свел ее значение только лишь к функции командующего, часто производя впечатление ветряной мельницы, вращающейся вхолостую. Не хочу обижать или в чем-либо умалять п. Тухачевского, но, на мой взгляд, чрезмерная абстрактность лекций отделяет п. Тухачевского от армии, которой он командовал, такой зияющей пустотой, что только сделав над собой большое усилие, я смог бы идти по его следам и приспособить свою работу к его методике и к его композиции лекций.
По нескольку раз я перелистывал страницы книжки и никак не мог решить, взяться за предложенную работу или отказаться от нее. Потому что об исторических вещах, о событиях, которые реально происходили на войне, я не мог решиться писать так, как это сделал п. Тухачевский.
Я еще могу понять, если бы речь шла о лекции по общей стратегии или по какой-то другой ее части, и в качестве примера, иллюстрирующего мысль лектора, приводились бы те или иные обобщенные исторические факты – в этом случае метод п. Тухачевского был бы обоснован. Но ни само содержание изданной книжки, ни подход автора к теме не позволяли отнести работу п. Тухачевского к этой категории. Ее действительное содержание – это история ведущей мысли командующего советских войск, противостоящих нам на фронте севернее Припяти в безусловно прекрасной операции в 1920 году. И лишь одну небольшую часть лекций п. Тухачевского, а именно его анализ действий при помощи таранных масс, можно бы отнести к работам теоретического характера, требующим исторической иллюстрации. Если бы я пошел по следам п. Тухачевского, у которого эта теоретическая часть занимает лишь мизерное место, а остальное представляет собой историю в строгом смысле этого слова, я был бы вынужден нарушить все законы логики и законы истории, всегда довлеющей над великими военачальниками. Заставить же себя пойти на это я не мог.
Без сомнения, для истории любой войны необходимым источником является анализ хода мыслей, движений души каждого из военачальников. Ведь влияние, которое их мыслительная деятельность оказывает на исход войны, так велико, что без этого военная история становится непонятной, часто чудаковатой смесью бессистемных фактов и фактиков, где явление победы или поражения никак не удается поместить в рамки причинно-следственных связей, и оно зависает в какой-то абстрактной пустоте, неизвестно почему увенчивая лавром головы одних и заливая краской стыда лица других.
С этой стороны книга п. Тухачевского, без сомнения, представляет собой ценный исторический материал, так как в ней он раскрывает свои мысли военачальника и анализирует свою деятельность по управлению войсками.
Но тогда чрезмерная абстрактность книги дает нам образ человека, который – как я уже говорил – анализирует только свой мозг или свое сердце, намеренно отказываясь или просто не умея увязывать свои мысли с повседневной жизнедеятельностью войск, которая не только не всегда отвечает замыслам и намерениям командующего, но зачастую им противоречит или вынуждена противоречить вследствие действий войск противника.
Этим я отнюдь не хочу сказать, что п. Тухачевский именно так и управлял войсками, не хочу использовать во всей полноте свое таким способом полученное преимущество, но я не могу избавиться от мысли, что очень многие события в операциях 1920 года происходили так, а не иначе именно из-за склонности п. Тухачевского к управлению армией как раз таким абстрактным способом. В своем же стиле управления войсками я никогда не замечал такой склонности, и, если бы я решился взяться за предложенную работу, я никогда не стал бы размышлять и тем более писать о своей командной деятельности – когда речь идет об истории – так, как это делает п. Тухачевский. Поэтому я не отказываюсь от того естественного преимущества в нашем единоборстве на бумаге, которое мне предоставляет связь всех моих мыслей, всей работы моего ума с действиями командиров, которые были мне тогда подчинены.
Я так долго задержал внимание читателя на вступлении, не переходя к основному содержанию для того, чтобы избежать впоследствии многих отступлений от основной мысли работы, которые я должен был бы делать в процессе повествования, прослеживая ход операций 1920 года вслед за п. Тухачевским. Но уж если я решил вначале убрать помехи в работе, хочу сразу же прояснить еще несколько моментов.
Во-первых, я не хочу подражать п. Тухачевскому с точки зрения стиля, в каком он написал свою работу; конечно, он писал свою книжку не для нас, поляков и польских солдат, но своим, если можно так выразиться, сильно публицистическим уклоном он, прямо скажем, отнюдь не украсил свою работу. В его стиле прослеживается как бы желание агитировать своих слушателей или читателей в сочетании с настойчивой попыткой унизить своих противников. И хотя я лично не имею претензий к п. Тухачевскому за его колоритные описания масс, воевавших против него в 1920 году, за явное стремление предать нас общественному презрению, постараюсь избегать в своем ответе даже такого обычного у нас слова, как «большевик», потому что это выражение приобрело у поляков оттенок пренебрежения и желания оскорбить. Это вовсе не исключает того, что я выскажу свое отношение к взглядам п. Тухачевского по социально-политическим вопросам; они эпизодически разбросаны по разным частям лекций, а в концентрированном виде собраны в специальной главе под названием «Революция извне». Мне это представляется необходимым, так как социально-политические факторы несомненно играли очень большую роль и в самой войне и в замыслах военачальников.
Добавлю также, что, не найдя в лекциях п. Тухачевского, как уже говорилось выше, обобщенного анализа его деятельности в качестве главнокомандующего, я постарался привлечь другие источники, которые помогли бы мне заполнить этот пробел. Я нашел их в недостаточном, правда, количестве в ряде исторических трудов, созданных нашими бывшими противниками. С большим удовлетворением констатирую, что, как с точки зрения методологии, так и подхода к теме, они успешно могут выдержать сравнение с выдающимися произведениями подобного рода. Настоящей жемчужиной во всей этой литературе является книга Е. Сергеева «От Двины до Вислы», описывающая действия 4-й советской армии и деятельность ее командующего, автора книги. Я достаточно широко ею пользовался во всех моих попытках дать исторический анализ различных эпизодов кампании 1920 года. К сожалению, она вскрывает ту правду о командовании п. Тухачевского, которую я уже высказал выше.
Заканчивая вступление, очень сожалею о том, что некоторые наши исторические публикации стоят, к сожалению, так низко, что не могут ни служить хорошим источником, ни сравниться с работами в этой области наших бывших противников и часто, слишком часто создают впечатление работ трусливого школяра, который, зная, что провинился, юлит, выдумывает, гримасничает, стараясь обмануть строгого учителя – историю.
Глава I
Анализ работы п. Тухачевского я должен начать, несколько нарушив структуру подлинника, с одной из специальных сфер штабной работы, которую автор не выделил в отдельную главу, а дал в виде разрозненных замечаний в тексте или в специальных таблицах. Речь идет о расчетах, которые во время войны должны производить все командующие и все штабы, – о расчетах численного состава своих сил и сил противника. Эта работа не так проста, как кажется на первый взгляд. В каждом штабе есть офицеры, которые не занимаются ничем иным, как только непрерывно составляют расчеты сил, имеющихся в распоряжении для ведения боевых операций. В доказательство того, насколько сложны и запутанны такие расчеты, приведу факт, что военные историки, приступающие к своей работе с таким обилием материалов, которым наверняка не располагал никто во время войны, очень часто расходятся между собой в расчетах при исследовании одной и той же битвы или операции.
Пан Тухачевский, приводя данные о численном составе наших сил и, вероятно, зная, что его легко можно обвинить в неточности, с самого начала оговаривается, что система наших расчетов была слишком запутанной, так как принимала за основу количество штыков и сабель. В исторической литературе о действиях войск, которыми командовал п. Тухачевский, удивительным стечением обстоятельств я натолкнулся на расчеты, составленные по тому же принципу – по штыкам и саблям. Пан Сергеев, о котором я уже упоминал, рассчитывал свои силы именно таким способом. Одна из советских дивизий (2-я), описывая взятие ею Бреста в ходе кампании 1920 года, использует при расчете своих сил тот же метод. И если в советских армиях наряду со штыками и саблями дополнительно производились расчеты по бойцам, то у нас предпринимались попытки иначе учитывать то, что составляет суть современного боя – силу огня. Во всяком случае, мне показался странным факт, что п. Тухачевский не захотел принять наш метод расчетов по штыкам и саблям, в то время как его армия в этом смысле практически ничем не отличалась от нашей. Когда же я постарался более внимательно проанализировать таблицы, приведенные п. Тухачевским, мне невольно пришла в голову мысль, что трудности, которые он выискивал для подсчета количественного состава наших сил, были, мягко говоря, преувеличены, вероятнее всего намеренно, чтобы в окончательном итоге (это невольно бросается в глаза) прийти к цифрам, уравнивающим свои и наши силы, или даже дающим численное превосходство не себе, а нам. Признаюсь, такой публицистический метод расчетов отбил у меня всякое желание глубоко задумываться над каждой цифрой, приведенной п. Тухачевским.
Однако в качестве примера мне хочется привести несколько наугад выбранных цифр из расчетов п. Тухачевского, чтобы показать, как он, если так можно выразиться, играет составными частями своих расчетов. В таблице № 1 в графе советских войск указана 15-я дивизия кавалерии, в таблице № 2 эта дивизия исчезает, чтобы снова появиться в таблице № 3. В таблице 1, являющейся как бы прологом к описанию операции, проведенной в середине мая 1920 года, на нашей стороне показана 2-я литовско-белорусская дивизия в составе 4800 штыков, хотя в этой операции она вообще не принимала участия. Но самыми забавными являются явно предвзятые расчеты и итоги, приведенные в таблице 3 и показывающие соотношение сил перед началом 4 июля главной советской операции, завершившейся под Варшавой. В самом низу таблицы добавлена рубрика: запасные батальоны и эскадроны действующих полков. Для нас они показаны цифрой 27 000 штыков и 1200 сабель, «готовых влиться в строй». С русской же стороны мы находим вместо штыков и сабель лишь три звездочки, не означающие никакую цифру, но зато поясняющие, что батальоны и эскадроны уже учтены в составе дивизий. Это превосходно выравнивает соотношение наших и советских сил и даже дает нам преимущество почти в 30 000 штыков.
Трудно удержаться от улыбки и при сопоставлении между собой таблиц, где на каждом шагу замечаешь различные мелкие неточности и ошибки. Так, в таблице 1 неизвестно почему в некоторых наших пехотных дивизиях каким-то чудом появилась конница в постоянно повторяющемся количестве 400 сабель, в то время как другие дивизии таким подарком облагодетельствованы не были. В таблице 2, показывающей состояние наших войск через 15 дней, проведенных преимущественно в боях, численность конницы вдруг возрастает, и вместо 400 уже фигурирует цифра 500 сабель, как будто в ходе боев число штыков и сабель не уменьшалось, а, наоборот, увеличивалось. Я уже упоминал об исчезновении из таблицы 2 целой кавалерийской дивизии; этот же способ совершенно спокойно применяется для выравнивания соотношения сил и в отношении одного из важнейших соединений, а именно 29-й стрелковой дивизии, которая со своими почти 10 000 штыков и 600 сабель безвозвратно исчезла во всех расчетах.
Такой странный расчет соотношения наших и советских сил, полный грубых ошибок, мог бы быть весьма грустным свидетельством плохой работы советских штабов, которыми командовал п. Тухачевский, если бы не его явная агитационно-публицистическая направленность, отнюдь не повышающая ценность сочинения п. Тухачевского и выражающаяся в том, чтобы в окончательном итоге, в сумме, выводимой внизу колонок, тенденциозно увеличить наши силы и, наоборот, приуменьшить свои. Пана Тухачевского, видимо, не смущает факт, что в тексте при анализе своих действий как главнокомандующего он раз за разом противоречит цифрам, приведенным им же в таблицах. Так, на стр. 45[2] при описании подготовки к главной операции п. Тухачевский пишет, что «благодаря несокрушимой энергии красноармейских работников… пополнения тысячами потекли в наши дивизии». Это позволило выполнить план удвоения боевого состава, но в таблицах мы этого удвоения не видим. И опять на стр. 61 п. Тухачевский утверждает, что свыше 30 000 вполне надежных людей было мобилизовано и влито в ряды Красной Армии во время похода от Березины и Западной Двины на Варшаву, добавляя, что это есть «характерный блестящий пример классового укомплектования». Однако в расчетах численного состава армий нет и следа нового пополнения. Естественно, возникает вопрос, где же на самом деле содержатся эти намеренные преувеличения п. Тухачевского – в цифровых данных, приведенных в таблицах и имеющих явно агитационный характер, или в публицистическом восхвалении энергии красноармейских работников и системы классового комплектования армии?
Все сказанное не позволяет рассматривать цифровые данные, приведенные п. Тухачевским, и составленные им таблицы как исторический материал, и поэтому во всех своих выводах и анализах я решил не принимать их во внимание. Тем не менее не хочу обойти молчанием общие расчеты, которые в ходе кампании 1920 года я производил для себя.
О численном составе своих сил можно судить на основании донесений, периодически представляемых командирами различных частей. Однако каждого, кто захочет опираться только на эти данные, я, как историк, должен предостеречь от этого опрометчивого шага. Прежде всего потому, что любое донесение, независимо от того, какая информация в нем содержится, с исторической точки зрения может считаться надежным источником лишь после критического анализа, ведь донесения пишутся для начальства, они всегда имеют цель не только отчитаться в чем-либо, но и подспудно склонить начальника к тем или иным мыслям, к тем или иным решениям в отношении пишущего это донесение. Если так происходит в армиях, имеющих глубокие традиции и давным-давно до мельчайших деталей отработанную систему подготовки кадров, то что же говорить о нашей армии, совсем недавно сформированной и, если речь идет о командирах, состоящей из людей, по сути дела, случайно собранных из самых разных армий и школ. Именно по этой причине я никогда не относился в достаточной степени серьезно к донесениям наших командиров о численном составе войск. Я всегда вносил в них одну суммарную поправку, а именно: в нашей армии очень широко распространилась система откомандирования множества людей из боевых частей в ближний или дальний тыл для выполнения работ в интересах войск или командиров и по разным хозяйственным надобностям. В донесениях же эти откомандированные никогда или почти никогда не указывались, и для начальства их считали постоянно находящимися в полках. Попустительство в этом отношении зашло у нас слишком далеко, и мне не приходит на память хотя бы один случай, когда кто-нибудь из командиров применил бы здесь строгие дисциплинарные меры. Поэтому всегда, получая донесения о численном составе армий, я вносил в итоговую сводку, которую для меня готовили, суммарную поправку, суть которой состоит в том, что по крайней мере треть людей, считавшихся штыками и саблями, я не засчитывал в боевой состав. Для некоторых дивизий эта поправка была значительно выше и иногда составляла половину цифры, указанной в донесении.
Я вовсе не хочу сказать, что советская армия не знала подобной системы хозяйственного откомандировавния штыков и сабель. Более того, я уверен, что так было.
Тем не менее следует отметить, что дисциплина у нашего противника была чрезвычайно жесткой, часто даже жестокой, а меры, предпринимаемые для ее поддержания, настолько суровыми, что, думаю, командующему войсками нашего противника не было необходимости производить такие грустные расчеты, какие делал я. Настоящую зависть вызвало во мне, например, описание действий 27-й дивизии под Варшавой и особенно тот факт, что ее командир сумел 10 августа на р. Ливец увеличить численность своей дивизии путем включения в ее боевой состав тыловых команд и части бойцов из обоза. Могу заверить читателя, что в нашей армии подобного случая я не припомню.
Не хочу оставлять невыясненной и умышленную, как было уже сказано, ошибку п. Тухачевского в отношении запасных батальонов и эскадронов. По существовавшей у нас организации запасные батальоны и эскадроны служили не только для пополнения действующей армии, но и должны были также заботиться о сохранности всего имущества полков, непосредственно участвующих в боевых действиях. И поэтому, когда мы были вынуждены отступать вплоть до Вислы, все запасные батальоны и эскадроны не выполнили свою первую задачу – пополнение боевых полков, так как были заняты эвакуацией всего военного добра. Таким образом, речь может идти только об организационной работе в глубоком тылу. При стремительном же нашем отступлении, которое я проанализирую позже, я вообще формально запретил давать подкрепление, прежде чем войска выйдут к Бугу, потому что, как я скажу ниже, после отхода с линии Барановичи – Вильно я совсем не надеялся, что командующему этим фронтом генералу Шептицкому удастся где-нибудь задержать наступление противника. На Буг же и Нарев было выслано чуть больше десятка батальонов пополнения, которые были первой такой помощью войскам, отступающим от Двины и Березины.
Не имея сейчас перед собой всех необходимых материалов, даже о своих войсках, не хочу идти по пути п. Тухачевского и в опровержение его таблиц составлять свои, тоже не дающие необходимой исторической гарантии. Мне не хотелось бы также приводить наши расчеты, касающиеся сил противника, по своей сути еще более ненадежные. Самой верной у нас считалась следующая система подсчета: на основании показаний пленных мы определяли численный состав рот или эскадронов и, исходя из этого, старались воссоздать численный состав батальонов, полков и дивизий. Такая система представлялась наиболее подходящей, так как, по нашим наблюдениям, советская армия отличалась чрезвычайной пестротой с точки зрения количественного состава не только высших организационных единиц – дивизий и бригад, но и полков в бригадах и батальонов в полках. Коротко остановлюсь еще на одном обобщенном способе, которым я пользовался, когда хотел сориентироваться в том, чем я, собственно, располагаю для ведения боевых операций. Он заключается в принятии за основу всего, что в стране было поставлено под ружье. Из этой общей цифры, может быть, одной из немногих, которым можно верить, я старался – в общих чертах, опираясь на свои знания в области военного дела, – определить процент тех, кого можно было послать в бой. Этот процент в различные периоды был разным и зависел от того, когда пополнение прибыло на фронт. По моим расчетам, он никогда не превышал у нас 12–15 %. Такое неблагополучное состояние нашей военной организации было следствием чрезвычайно поспешного и неорганизованного формирования нашей армии, которое мы начали только в 1918 году, и притом практически с нуля. Здесь сказывалось также то, что представители нашей военной администрации всеми силами избегали, как какого-то греха, применения строгих дисциплинарных мер как внутри самой администрации, так и вне ее. Такое очевидное послабление в отношении тыловой работы приводило в итоге к тому, что огромная часть человеческого материала протекала у администрации между пальцев. Я всегда смеялся, что мы не можем избавиться от Добровольческого характера армии, так как у нас воюет только тот, кто хочет, или тот, кто дурак.
Судя по словам п. Тухачевского, зная дисциплину нашего противника, доведенную почти до абсолюта, я не думаю, что в этом важном вопросе у него дела были так же плохи, как у нас. Поэтому я позволил себе вышеприведенный наш процент увеличить для п. Тухачевского по крайней мере на 10 %, доведя таким образом долю его боевых сил в общем количестве личного состава, находящегося на довольствии, до 25 %. Думаю, однако, что и эта цифра занижена, потому что в нашем случае я вычислял указанный процент общего количества людей, находящихся под ружьем во всей стране, в то время как в отношении п. Тухачевского я делал расчеты, исходя только из имевшихся в его распоряжении фронтовых сил.
На счастье, в ходе изучения нашего противника я нашел числовые данные, показывающие количество личного состава и лошадей, находившихся на довольствии в советской армии, по состоянию на август 1920 года: бойцов 794 645, лошадей 150 572. И если мы применим обобщенный метод, о котором шла речь выше, то получим, что в начале августа, как, впрочем, и в июле, п. Тухачевский располагал боевой силой в количестве до 200 000 человек.
У нас – и это я заявляю со всей ответственностью – в течение всей нашей войны эта цифра никогда не достигала 200 000 чел., причем на всем фронте, а не только на той его части, которая противостояла войскам п. Тухачевского. Таким образом, со времени развертывания против нас в июле 1920 года всей советской армии противник всегда имел на действующем фронте численный перевес. Пишу это не для того, чтобы похвастаться, наоборот, считаю эти факты явлением чрезвычайно неприятным, свидетельствующим отнюдь не в нашу пользу. Это замечание окажется еще более справедливым, когда добавлю, что в общем и целом кровопролитные бои, где испытывались мужество и героизм в прямом значении этого слова, не были характерной чертой нашей войны 1918–1920 гг., так как боевые потери, понесенные нашими войсками в этой войне, были ничтожно малы по сравнению с потерями, понесенными нами в так называемой мировой войне.
В заключение главы приведу свои, к сожалению, слишком общие расчеты, которые я в свое время производил и на которых в принципе не настаиваю. К моменту начала операции 4 июля я оценивал численность войск п. Тухачевского в 200 000–220 000 человек – п. Тухачевский приводит в таблице цифру 160 188. Ген. Шептицкий, который был тогда в той же роли, что и п. Тухачевский, имел максимум 100 000–120 000 человек.
В заключительном эпизоде на Висле я оценивал силы п. Тухачевского в 130 000–150 000 бойцов, а наши, учитывая только те силы, которые могли быть использованы в так называемой битве под Варшавой, – в 120 000–180 000. И если последняя цифра дана в таком широком диапазоне, то только потому, что у нас тогда царил невообразимый организационный хаос, и в тот период нельзя было даже думать о том, чтобы бросить в бой все, что было под ружьем или что было готово к выдвижению.
Глава II
Как это обычно бывает перед началом крупных операций, п. Тухачевский и его начальники анализировали характер местности на операционном направлении и оценивали группировку своих сил и сил противника. Этим двум вопросам п. Тухачевский посвящает в своей книге соответственно главы II и III. Я не буду останавливаться на описании местности, которое полностью соответствует действительности и относится к области чистой географии. Задержу внимание читателя лишь на некоторых моментах географических рассуждений п. Тухачевского, так как, судя по тому, что он написал о своих методах управления, они сыграли большую роль в принятии решений в ходе боевых действий. Это будет мне тем более приятно, что один из терминов, который с видимым удовольствием повторяет п. Тухачевский, имеет польское происхождение, и поэтому я как бы имею право употреблять этот термин в его первоначальном значении, а не таким, признаюсь, странным образом, как это делает п. Тухачевский. Речь идет о следующем: п. Тухачевский пишет, что для проведения операции со столь далеко идущими целями он имел на выбор два направления для нанесения главного удара. Одно из них называется игуменское направление, ведущее прямо на Минск, второе – как он сам говорит – «поляки называют Смоленскими воротами». Пан Тухачевский избрал для проведения своих операций второе направление.
Как я уже отметил, наш термин обозначает совсем другой, более приближенный к самому названию, участок местности. Действительно, две главные пограничные реки, некогда разделявшие Речь Посполитую и страну царей, Западная Двина и Днепр, образуют в своем верхнем течении относительно узкий коридор, закрытый с востока крупнейшим в тех краях городом – Смоленском. В старину все набеги и походы, будь то с польской или с русской стороны, проходили через Смоленск, превращая его как бы в ворота, в которые необходимо постучаться, прежде чем планировать какие-либо крупномасштабные операции. Проходили столетия, и каждый раз, когда начиналась очередная большая война, Смоленск переходил то в одни, то в другие руки. В новой истории во время похода Наполеона на Москву вновь одно из крупнейших сражений произошло здесь, за обладание этими поистине воротами. До сих пор Смоленск носит явный отпечаток своего важного стратегического значения: мало где сохранились такие, как здесь, старинные стены и валы. Но п. Тухачевский переносит название «Смоленские ворота» в совсем другой район, не имеющий, по моему мнению, ничего общего ни со Смоленском, ни с одной из рек, образующих эти ворота, – с Днепром. Более того, как бы желая приуменьшить большую историческую значимость Смоленска, он переносит основной упор своих рассуждений в маленький городишко Ореховна. Признаюсь, это неожиданно возникшее название привело меня в ужас. Как мог я, Верховный главнокомандующий польской армии, в течение нескольких лет анализировавший самые разные варианты, взвешивающий до мельчайших подробностей все шаги как со своей стороны, так и со стороны противника, не заметить того, что в течение какого-то времени я имел в своих руках столь важный стратегический пункт, от которого, вдобавок ко всему, с моего согласия мы избавились при окончательном определении границы в соответствии с Рижским договором. Я склонен даже подозревать, что еврейское население этого небольшого городка намеренно стремилось к тому, чтобы оказаться на территории Страны Советов, так как именно под его нажимом мы сделали эту небезопасную уступку.
Если же п. Тухачевский весь этот район называет «Смоленскими воротами», то я позволю себе предложить городок Ореховна, расположенный сейчас как раз на нашей границе, называть калиткой, «смоленской калиткой». Но шутки в сторону. Судя по работе п. Тухачевского, Ореховна сыграла в войне важную роль.
Командующий советскими силами сетует, что в районе Ореховны он должен был изменить свою операционную линию, делая – как он пишет – большое захождение правым плечом на 90°, то есть меняя ее под прямым углом. По этому поводу, несмотря на то, что он был разбит в своей первой попытке, называемой им «майское наступление», п. Тухачевский утешает себя тем, что «Смоленские ворота» остались в наших руках вплоть до того момента, когда мы перешли во второе решительное наступление» (стр. 41).
Во вступлении я говорил о чрезмерной абстрактности трактовки темы п. Тухачевским. Трудно найти лучшее доказательство того, что эта абстрактность его ума существует на самом деле, если он с такой легкостью может связывать свою деятельность командующего со столь до смешного незначительными точками на карте. Когда заходит речь о проведении действительно сложного, требующего много времени маневра захождения тем или иным плечом большей части войск под прямым углом, видимо, нельзя связывать осуществление такого маневра с какими-то незначительными пунктами, даже если они расположены на главных коммуникациях. Подобный трудный маневр можно так же хорошо провести и не ограничивая себя какими-то конкретными пунктами. О, география и геометрия! Сколько же ловушек уготовлено в них для полководцев!
Военная история знает не один такой пример. Когда в конце мая мне пришлось задержать наше контрнаступление, я и не подозревал, что п. Тухачевский прорывал перед этим «Смоленские ворота» и в конце боя дрался за удержание даже не их самих, а их суррогата – «калитки в Ореховне». Это напоминает мне широко известное сражение между армиями Куропаткина и Оямы в январе 1905 года. Русские, которые тогда наступали, называют его «битвой под Сандепу», а называют его так потому, что и генерал Куропаткин, и командующий 2-й армией Гриппенберг развитие всей операции ставили в зависимость от успеха боя за Сандепу, за эту своего рода Ореховну на тамошнем театре военных действий. Название этого городка было так созвучно их помыслам, их планам, их тревогам и надеждам, что оно предопределило и название всего сражения. И вот, игра случая, японцы, которые перешли в контрнаступление, окрестили то же самое сражение совсем по-другому – «битва под Геи-кау-таи», под другой Ореховной, ибо именно здесь они познали весь ужас разгрома, столкнувшись с отборными войсками русских, именно это название связалось в их сознании с самыми большими трудностями и тревогами, с самыми большими потерями. В своих лекциях я всегда любил приводить этот пример, называя его комедией ошибок и образцом комического недоразумения. Я всегда предупреждал своих слушателей, чтобы в военных операциях, как малых, так и крупных, они всеми силами избегали ловушек, скрытых в географии и геометрии. И пусть меня простит мой уважаемый противник по войне 1920 года, если теперь, наряду с Сандепу, я буду приводить пример Ореховны. Когда я перейду к анализу боевых действий, то, думаю, мне удастся доказать, что упорное топтание мыслями вокруг подобных проблем у полководцев почти всегда неизбежно ведет тоже к топтанию, но уже ногами солдат, неутоптанной земли полей сражений с огромными затратами времени и сил.
Я задержал внимание читателя на этой части размышлений п. Тухачевского потому, что сам он, собственно говоря, анализ своих намерений и планов строит на одном только эпизоде – маневре поворота основных своих сил под прямым углом сразу после овладения, как он пишет, «Смоленскими воротами». Очевидно, что мысли п. Тухачевского были очень сильно заняты этим маневром, который он осуществил два раза: первый раз – во время майской операции, второй – в июле во время главного наступления, закончившегося под Варшавой. Это было связано со стремлением использовать железную дорогу Полоцк – Молодечно в качестве наиболее удобной транспортной магистрали для обеспечения главных сил его армии.
Мысль простая и понятная, но занятие и прикрытие главной операционной линии вовсе не требует ее, так сказать, физического вытаптывания основными силами в строгом соответствии с назначенными на ней географическими пунктами. Такая непосредственная увязка мыслительной работы полководца с географическими названиями и геометрическими фигурами всегда, повторяю, приводит в итоге к ловушке, смысл которой заключается не в чем ином, как в игнорировании при разработке плана дальнейших действий главнейшего препятствия, которое только может существовать на войне, – войск противника и их действий. Последние, в свою очередь, вовсе не обязательно увязывают свои действия с теми же географическими и геометрическими фигурами, а чаще всего имеют свою Ореховну, не совпадающую с Ореховной противника. У меня еще будет возможность вернуться к этим выводам при анализе действий п. Тухачевского.
Анализируя стратегическую группировку своих сил и сил противника, п. Тухачевский делает это очень коротко, говоря о себе, и значительно более обширно в отношении нас. О себе он говорит немного. Здесь он, как подчиненный, связан решениями своего Верховного главного командования. А оно, в свою очередь, выбрало место сосредоточения основной группировки своих войск и определило количество сил, которые под командованием п. Тухачевского должны идти в бой. С исторической точки зрения эти подробности очень интересны, но на них автор почти не останавливается. Он только отмечает, что ему был назначен район сосредоточения Витебск – Орша – Толочин и выделено под его командование до 21 дивизии.
Действительно, если подсчитать количество дивизий – в том числе 2 кавалерийские, – с которыми п. Тухачевский начал свое главное наступление в июле, то получится именно это количество войск, выделенных ему для проведения операции. Однако первая, майская попытка предпринималась только 13 дивизиями, то есть менее чем ⅔ сил, предназначенных для наступления.
Группировку своих сил п. Тухачевский рассматривает на основе анализа построения наших войск. В общих чертах его мнение о нашей группировке следующее: польские войска кордонно растягивались по всей занимаемой ими линии более или менее равномерно. Очень жаль, что другую часть своих стратегических рассуждений – рассуждений, представляющих собой украшение всей книги, п. Тухачевский поместил в другом месте, в анализе главной, июльской операции. Может быть, причиной тому было нежелание долго останавливаться на неудачном майском наступлении, но, признаюсь, я с определенным трудом пошел на то, чтобы в своей работе сохранить этот, на мой взгляд, нелогичный способ изложения. Сомневаюсь, чтобы п. Тухачевский, который свое майское наступление продумывал так же тщательно, как и июльскую операцию, не проигрывал в уме те же самые таранные действия, которые он так красноречиво описывает лишь при анализе главного наступления. Более логичная последовательность изложения была бы для меня удобней, так как давала бы мне большую возможность сказать несколько слов в отношении критики – с моей точки зрения несправедливой – стратегического построения нашей армии и моих личных приказов по этому поводу.
Итак, характеризуя кордонную группировку наших сил, п. Тухачевский утверждает, что такое равномерное расположение войск вело к тому, что «никакими усилиями польское командование не могло бы сосредоточить на любом направлении главные массы войск. Наше наступление непременно сталкивалось бы лишь с незначительной частью польской армии и после этого последовательно встречало бы контратаки резервов» (стр. 37). На этой основе п. Тухачевский предлагает создать такую обстановку, когда бы «войсковые массы давили и в полном смысле слова упраздняли в районе удара части передовой польской линии. После этого последовательные контрудары резервов уже становились не страшны…» (стр. 37).
Читая и перечитывая эти рассуждения п. Тухачевского, я мысленно возвращался к своим раздумьям над этим же вопросом. И если мои термины и мои мотивы отличались от тех, которые приводит п. Тухачевский, то результат, к которому я приходил, всегда полностью совпадал с мыслями п. Тухачевского и в общих чертах сводился к выводу, сделанному еще в конце 1919 года. Я пришел к заключению, что в нашей войне с Советами тот, кто энергично наступает, всегда добьется успеха и прорвет кордон или линию в выбранном месте. Поэтому, как я говорил в те времена, я всегда искал выход в маневре, даже если это был маневр назад, связанный с отходом войск. И, признаюсь, меня в определенной степени задело замечание п. Тухачевского, что польское «командование» выставило против него весной 1920 года слабенький кордон, с которым он собирался легко справиться.
Прежде всего, п. Тухачевский забывает о существенной разнице в ролях, которые выпали ему и его непосредственному противнику. Если ему было предписано захватить инициативу и атаковать неприятеля, то польские войска на Северном фронте, противостоящем п. Тухачевскому, наоборот, имели оборонительные намерения. А в обороне первый ее рубеж, ближайший к противнику, не может быть ничем иным, как только кордоном, тонкой, неглубокой линией. Даже сугубо окопная война, предусматривающая как принцип линию в ее чистом виде, пришла в своем развитии к необходимости иметь кордон – слабый, легко прорываемый и создаваемый единственно в целях наблюдения и в целях прикрытия. Кордон или линия в обороне необходимы, иначе невозможно выявить ни силы наступающего противника, ни его истинные намерения, ни направления его ударов. Это первая мысль, которая должна была прийти в голову п. Тухачевскому, если бы он глубже вник в положение своего противника. Таким образом, кордон был, и в этом кордоне, замечу, стояло на всем фронте против войск п. Тухачевского 6 пехотных дивизий и 2 кавалерийские бригады (дивизии – 8-я, 1-я литовско-белорусская, большая часть 3-й див. легион., 2-я див. легион., 14-я, 9-я).
Можно, конечно, спорить о том, хорошо это или плохо – выделять целых 6 дивизий на такую неблагодарную службу; можно, наоборот, как это делали мои подчиненные, утверждать, что при такой растянутой линии фронта эти силы недостаточны даже для ведения надлежащего наблюдения за противником. Но факт остается фактом: в кордон была выделена именно эта часть польских войск. И наконец, позволю себе заметить, что в сентябре 1920 года, когда я перешел в наступление, я нашел того же п. Тухачевского кордонно растянутым под прикрытием рек Неман и Шара. Он был в обороне, которая, несмотря на его резко негативное отношение ко всякого рода кордонам и линиям, вынуждала его стоять в такой же неразумной группировке, которую он приписывает нам в мае.
Переходя к проблеме резервов, сразу же скажу, что их группировка совсем не соответствовала какому-нибудь принципу кордона. В апреле, начиная наступление на Южном фронте на Украине, я тщательно обдумывал, как смогу помочь Северному фронту в случае, если он будет атакован. Над этим вопросом – возможностью контратак со стороны противника – я задумывался часто, причем придерживался мнения, расходящегося с точкой зрения моего ближайшего окружения. Так, генерал Галлер, бывший в то время у меня начальником штаба, считал, что контрудара следует ожидать на том же фронте, где мы перешли в наступление, потому что, по его мнению, именно на юге противник сосредоточил свои главные силы, разбившие Деникина, и там нарастала новая опасность в виде крымской операции Врангеля. Ему казалось логичным ожидать оттуда и контрнаступления, а в том, что оно будет, мы не сомневались. Что же касается меня, то я склонялся к мысли, что контрнаступления следует ждать на том фронте, где мы менее всего сконцентрированы. То есть если бы для весеннего наступления я выбрал Северный фронт, то контрудара ожидал бы на юге, выбрав юг, я бы больше рассчитывал на контрнаступление противника на севере. Тем более тщательно я должен был продумать, чем я буду отражать удар противника.
Таким образом, в резерве на северном фронте были оставлены: в Осиповичах и их окрестностях 6-я пехотная дивизия как резерв 4-й армии; в Полесье к той же 4-й армии выдвигалась 16-я дивизия. Обе эти дивизии поступали в полное распоряжение командующего 4-й армией генерала Шептицкого. Глубоко в тылу, в Лиде, располагалась 17-я дивизия, которую я оставил в своем распоряжении. Наряду с этим на фронте против Литвы, где не было боев, а велось лишь наблюдение, в нашей 7-й армии было две дивизии, из которых немногим более половины дивизии находилось в резерве, всегда готовом к использованию в другом месте. Таким образом, на одном только Северном фронте в резерве было три с половиной дивизии. Если же отнять 16-ю дивизию, которая почти немедленно была втянута в бои на Полесье, то останется две с половиной дивизии.
Это составляло почти половину сил, растянутых в оборонительном кордоне против п. Тухачевского; эти дивизии располагались так далеко, что в первые дни контрнаступления п. Тухачевского не могли подвергнуться его ударам и, вопреки его мнению, их можно было легко бросить на любое выбранное направление.
В еще большей степени это касается других, более глубоких резервов.
Еще дальше, в глубоком тылу, я имел 11-ю дивизию, которая находилась в состоянии реорганизации, а также формирующуюся так называемую 7-ю резервную бригаду в составе трех полков. Таким образом, в глубоком резерве, недоступном для п. Тухачевского, мы имеем уже около 5 дивизий, то есть силы, почти равные тем, что стояли в кордоне.
Более того, при планировании украинского наступления я приказал уже к третьему дню операции подтянуть в мой резерв 4-ю дивизию, расположенную в Коростене, а к четвертому дню – 15-ю дивизию (район расположения Козятынь и Бердичев). Что касается еще одной дивизии, 5-й, которую я хотел иметь готовой для переброски на участок ожидаемого контрудара, то здесь все зависело от степени реорганизации 18-й дивизии, выведенной в резерв в первые дни операции, так как эта реорганизация была ей необходима: как 11-я, так и 18-я дивизии были укомплектованы в основном контингентом старшего возраста, бывшими пленными, из которых они и были сформированы то ли во Франции, то ли в Италии. Это так ужасно сказывалось на моральном состоянии обеих дивизий, что без реорганизации они были непригодны для боя. Хочу отметить, что, действительно, для отражения майского наступления п. Тухачевского 4, 15-я и половина 5-й дивизии прибыли вовремя.
Итак, к началу наступления на Украине резервы, которые я создал, ожидая контрудара противника, в общей сложности составляли 8 дивизий. Из них две могли быть использованы для усиления фронта, оказавшегося под угрозой, и для попытки задержать контрнаступление противника из пяти или шести можно было создать ударную группу в нужном месте или на нужном направлении.
Поэтому мне не кажется правильной оценка п. Тухачевским нашей стратегической группировки. Я склонен думать, что такая ложная оценка вытекала из относительно узкого кругозора п. Тухачевского, который предоставлял право делать выводы из обстановки на всем польско-советском фронте своему главному командованию. Однако это оправдание мне кажется недостаточным, так как сам п. Тухачевский пишет, что, по плану главного командования, основная роль в войне с Польшей была отведена именно ему и войскам, которыми он командовал. А в этом случае п. Тухачевский был обязан более широко и масштабно отнестись и к своей задаче, и к расчетам, которые он должен был производить. Майское наступление п. Тухачевского не удалось; оно было отбито не чем иным, как согласованными действиями всех перечисленных сил из состава глубоких резервов, что полностью опровергает рассуждения п. Тухачевского.
Вопрос кордона и линейного расположения войск заслуживает, по-моему, дальнейшего рассмотрения – мы будем возвращаться к нему и при последующем анализе операций 1920 года. В течение всей прошедшей войны я был таким же принципиальным его противником, как и п. Тухачевский. Я всегда искал выход из любой ситуации в маневре – смело задуманном, требующем большого напряжения моральных и физических сил как со стороны командующего, так и со стороны войск. По-моему, именно это помогло мне довести нашу двухлетнюю войну до счастливого для нас завершения. Я не хочу, однако, сказать, что в наблюдениях п. Тухачевского за нами нет определенного рационального зерна; он был не так уж неправ, когда строил свои планы и замыслы, опираясь на нашу склонность к кордонам и линиям. Дело в том, что все польские полководцы, и я в том числе, приступая к войне с Советами, находились под впечатлением и влиянием длительной окопной войны, утвердившей победу линейной стратегии над, казалось, устаревшей стратегией живого движения и маневра. Если просмотреть множество оперативных приказов, отданных нашими командирами в течение 1919-го, а может, и 1920 года, увидим, что в этих приказах аж в глазах рябит от линий рек, речек, озер и даже ручьев: это считалось основой стратегического мышления. Иногда, просматривая представленные мне рапорта, читая копии различных приказов, наконец, при обсуждении обстановки со своими подчиненными, мне не раз вспоминались веселые анекдоты тех времен, когда я еще командовал бригадой легионеров. Часто, сидя в окопах, мы смеялись над страхами и тревогами наших соседей, австрияков, вызванными сто- и двухсотметровыми промежутками, которые ленивый легионер не захотел прикрыть фортификациями.
Мне хорошо известно, что такой же страх и тревога охватывали многих наших командиров, когда они не были уверены, что на каком-нибудь направлении, пусть даже наименее вероятном, противник не встретит хотя бы минимальное сопротивление.
Поэтому подробные карты расположения войск всегда пестрели разными «заставами», «караулами», неизбежно растягивающими армию в слабые кордоны. Если же взять огромную протяженность фронта в тысячи километров и сопоставить ее с количеством войск, которые нужно было распределить по этому фронту, то легко понять, сколько промежутков – уже не сто- и двухсотметровых, а значительно больших – должно было вызвать озабоченность и чувство бессилия у тех командиров, кто не мог отойти от линейных догм. Поэтому в рапортах, направляемых мне, как Верховному главнокомандующему, постоянно звучало требование прислать помощь для закрытия этих брешей, для устранения этих тревог и страха. Этим объясняются и нескончаемые попытки убедить меня: «Faites une ligne forte!» (укрепляйте линию! – Примеч. перев.), подсказанные самым умным и самым опытным советчиком – войной.
Этот привычный способ мышления не мог не отразиться, я уверен, и на группировке войск, которую наблюдал п. Тухачевский. Но, повторяю, когда в конце апреля в основу плана своих действий он заложил именно такую кордонную болезнь, он сделал ошибку, которая не преминула отомстить ему провалом широко задуманного наступления. К анализу этого наступления я и позволю себе перейти.
Глава III
На майской наступательной операции, как я уже сказал, п. Тухачевский останавливается очень коротко. Он дает только самый общий ее обзор, не вдаваясь в детали, так, словно они не имели большого значения. Но он сам себе противоречит, когда говорит, что ее план предусматривал прорыв через «Смоленские ворота», разгром левого фланга польской армии и прижатие остальных ее сил к Пинским болотам. Далеко идущий план, означающий полный разгром и вывод из дальнейшей игры целого нашего фронта почти до Припяти. Операция отнюдь не малого значения.
И действительно, в истории нашей войны эта операция сыграла свою выдающуюся роль. Прежде всего она перенесла большую часть наших польских сил (до четырех дивизий) на Северный фронт, что, естественно, отразилось на всем дальнейшем ходе войны. Затем, будучи как бы прелюдией к крупному июльскому наступлению Советов, она многому научила войска обеих сторон. Мне очень неприятно признаваться, но этот опыт наш противник использовал значительно более умело, чем мы. И наконец, она стоила нашему противнику значительной части его физических и моральных сил, в чем мы легко убедимся при анализе начального периода июльского наступления. Поэтому мне хотелось бы остановиться на естественном вопросе, который я часто задавал себе как в ходе войны, так и по ее окончании – зачем было нужно это первое, как бы пробное наступление? Этот вопрос звучит тем более естественно, когда известно, что оно было проведено до окончания намеченного сосредоточения войск, в которых, по моим расчетам, не хватало более чем ⅓ сил, предназначенных для проведения главной операции всей войны.
Хорошо помню тот момент, когда я получил известие о контрнаступлении на севере, именно там, где я и ожидал. Телеграмма застала меня в Житомире, когда я собирался ехать в Варшаву. Как я уже говорил, это не было для меня неожиданностью. Более того, примерно за неделю до этого я вызвал в Каленковичи генерала Шептицкого и обсуждал с ним мой план развернуть наше наступление, успешно развивающееся на юге, также и на север. Я имел в виду удар из Полесья, с одной стороны, в направлении Речицы (что в то время как раз и делалось), с другой – в направлении Жлобина и Могилева. Я считал, что, уже имея на юге в резерве 4-ю дивизию и значительное превосходство в силах в Полесье (9, 16-ю и 14-ю дивизии), я могу попытаться помешать начавшемуся сосредоточению войск противника на направлении, которое п. Тухачевский называет «игуменским» и на которое обращал мое внимание генерал Шептицкий. На Южном фронте тогда было затишье, так как обе действовавшие там советские армии были нами разбиты, а приближающуюся к нам конницу Буденного я, признаюсь, в расчет не принимал.
Поэтому, когда на житомирском вокзале начальник моего штаба генерал Галлер принес мне в вагон свежие телеграммы, я сразу привел в движение то, что в мыслях давно уже приготовил. Я приказал телеграфировать генералу Шептицкому, чтобы он принял командование и 1-й армией, отдал в его распоряжение стоящую в Лиде 17-ю дивизию и приказал немедленно двинуть вперед 4-ю дивизию из Коростеня, а потом 15-ю из Хвастова. У меня родился замысел немедленно контратаковать сразу на обоих флангах: из Полесья и на самом северном крыле. Сам факт наступления п. Тухачевского ни на минуту не вызвал во мне беспокойства. Отход 1-й армии из-под Глубокого, о чем сообщалось в телеграммах, не был для меня каким-то крупным событием, так как – должен с сожалением признаться – Ореховне я не придавал никакого значения, а ворот ни смоленских, ни каких бы то ни было других я там не усматривал.
По приезде в Варшаву я нашел новые телеграммы, более тревожные. Генерал Шептицкий считал, что обстановка очень серьезная, и просил возможно большей помощи. Я уже достаточно привык к такого рода депешам, тем не менее – в чем сейчас раскаиваюсь – решил значительно сузить размеры моего контрудара. Я отказался от глубокой контратаки из Полесья, и, учитывая положение ген. Шептицкого, решил обеими прибывающими с юга дивизиями прежде всего укрепить оказавшийся в опасности Минск, где главным угрожаемым направлением, по мнению генерала Шептицкого, было игуменское направление. В этом случае контратака могла быть проведена только по западному берегу Березины, а не по восточному, как планировал раньше.
Надо сказать прямо, тогда, при чтении телеграмм, я не видел повода для беспокойства, и наступление главных сил п. Тухачевского в направлении Молодечно особенно меня не тревожило. Я даже выждал несколько дней, чтобы назначить место сосредоточения войск для контрудара в восточном направлении. Я никак не мог понять намерения противника и поэтому не был уверен в безопасности и возможности сосредоточения в районе Свенцян. Правда, и генерал Шептицкий не облегчил мне задачу, так как в его телеграммах очень много места занимали мелкие поиски близ Игумена, которые, казалось, волновали его больше, чем что-либо другое. Что же касается меня, то данные, которые поступали от войск, ведущих бои с главными силами п. Тухачевского, действовали на меня успокаивающе. Мне казалось, что после первого, сравнительно мощного удара сила наступления значительно уменьшилась и как будто распылилась в мелких выпадах по разным направлениям. Замысел п. Тухачевского я представлял себе тогда следующим образом: либо все эти атаки имеют только локальный характер, без более глубокого значения, либо противник после первого успеха хочет осмотреться, наметить пути дальнейшего продвижения. Но действия п. Тухачевского были так неопределенны, что понять их действительную цель я был не в состоянии. Рапорты моих подчиненных тоже не вносили достаточную ясность, и, признаюсь, по приезде в Варшаву я несколько дней колебался, прежде чем принять окончательное решение.
Ведь если противник, как я допускал в первой гипотезе, имел намерение локальными атаками на Игумен и Глубокое вынудить меня заняться более севером, чем югом, то я сыграл бы ему очень на руку, проводя крупными силами контрнаступление, имеющее лишь локальное значение. Тогда я ударил бы словно в пустоту. Я очень жалел, что поддался игуменским страхам генерала Шептицкого и слишком сузил намеченные ранее цели контрудара. С другой стороны, если противник поступал, как мне казалось, по второй гипотезе, выжидая, изучая обстановку и выискивая с помощью мелких боев пути и средства для дальнейшего развития своих действий, то я боялся прежде времени выдвинуть резерв вы для действий из двух исходных пунктов, что в обстановке тревоги и обеспокоенности, ощущавшихся в поступающих донесениях, неизбежно привело бы к раздробленности удара. Генерал Шептицкий уже начал так действовать. 6-я дивизия, которую он имел в резерве, уже частично истрепалась в боях под Игуменом, а частично путешествовала на самый левый фланг всей стратегической группировки.
Наконец, я решил сформировать отдельную армию в районе Свенцян так, чтобы она могла быть использована независимо от обстановки на различных участках фронта. Сосредоточение должно было происходить под прикрытием 8-й дивизии, отступившей из-под Полоцка. В эту так называемую резервную армию я стянул все войска из глубоких резервов. От Минска я приказал ударить силами, прибывающими с юга, с единственной целью отразить наступление на молодечненском направлении так, чтобы по окончании этой локальной операции иметь возможность вывести в резерв остатки 1-й армии (минимум три дивизии) и таким образом получить полную свободу для дальнейших действий в любом направлении.
Из этого моего объяснения становится видно, что в действиях противника было нечто такое, что серьезно затрудняло нам понимание его намерений. Такие недоразумения в военной истории достаточно часты, ибо война есть действие в опасности и неуверенности, как говорит старик Клаузевиц.
Но в данной операции все время присутствовали – как мне казалось – моменты, превращающие ее в ту самую комедию ошибок, о которой я говорил выше. Даже после завершения операции, когда я проанализировал все ее подробности, в ней осталось для меня нечто необъяснимое, какое-то ощущение того, что противник сам как следует не знал, что он делает. И когда, уже после войны, анализируя этот ее эпизод, я пытался понять логику действий п. Тухачевского, я всегда приходил к одному выводу: единственной причиной этого, как я его называл, пробного наступления, было стремление выравнять наши шансы в войне, любой ценой нивелировать моральный эффект, который произвело наше стремительное и успешно проведенное наступление на Украине. Поэтому с огромным интересом я искал и у п. Тухачевского, и у п. Сергеева объяснение этой загадки.
К сожалению, оба они здесь существенно расходятся во мнениях. Пан Сергеев близок к моей гипотезе и дает дословно следующее объяснение: «Инициатива была в руках поляков. Широко развернутое продвижение польской армии на Юго-Западном фронте, взятие Киева и овладение переправой через Днепр застали наши войска Западного фронта неготовыми к переходу в наступление – они были еще недостаточно укомплектованы, плохо экипированы, почти без обозов и недостаточно многочисленны. Но было необходимо ответить ударом на удар и отвлечь внимание поляков от Юго-Западного фронта. И вопрос наступления с нашей стороны на Западном фронте был однозначно решен в штабе главкома. Направление удара было определено не сразу. В центре пока намеревались ударить вдоль северной части Полесья от Мозыря на Брест-Литовский»[3].
В свою очередь п. Тухачевский на стр. 38 утверждает, что главной причиной перехода от обороны к нападению было впечатление, что поляки сами накануне перехода в наступление. Для того чтобы не дать противнику втянуть основную группировку в навязанные ей действия, и было решено предпринять наступление 14 мая.
Ознакомившись с двумя до такой степени противоречивыми точками зрения, я не берусь определить с исторической достоверностью, как это было на самом деле. Но я склонен предполагать, что п. Сергеев более прав, нежели п. Тухачевский.
Но, повинуясь своему темпераменту полководца, п. Тухачевский явно слишком расширил рамки порученной ему операции, преследуя при переходе в наступление такую же далеко идущую цель, как и в последующей главной операции, когда он был значительно сильнее с точки зрения технической оснащенности. Он и сам в этом открыто признается. Несмотря на недостаток сил, он не хотел ограничиваться мелкими временными задачами, стремился к самым большим целям. Он жаждал решающих ударов, поэтому на подходящие в ходе операции войска смотрел, как на резервы. Читатель, вероятно, помнит смелые планы п. Тухачевского разгромить наш левый фланг, а остальные силы прижать к Пинским болотам.
При таких масштабах операции должно показаться странным, что мы никак не могли разгадать истинные намерения и характер действий войск противника. Ни в одном донесении командующих обеими армиями, противостоящими п. Тухачевскому, нет и намека на толкование действий войск противника по образцу, предлагаемому п. Тухачевским. О своих сомнениях, колебаниях и гипотезах, основывающихся на наблюдениях за действиями моего противника, я уже говорил выше. Так откуда же это странное недоразумение, откуда эта комедия ошибок?
Пан Тухачевский в своем освещении событий настолько скуп на факты и детали своей майской операции, что с трудом удается восстановить историю действий подчиненных ему войск. Значительно более подробное и точное описание приводит п. Сергеев, который в своей книге посвящает несколько больших разделов анализу этой операции и приводит в приложении свой доклад от 12 июня, где кратко излагает опыт, накопленный им во время неудачного майского наступления.
Читатель, по-видимому, помнит основное содержание маневра, который хотел осуществить п. Тухачевский: прорыв «Смоленских ворот» в районе Ореховны и захождение главной массой войск правым плечом на 90° для изменения операционного направления с западного на юго-западное. Сам по себе этот маневр требует много времени, потому что заходящий для смены направления правый фланг должен двигаться по относительно большой дуге, в то время как левый должен стоять на месте или очень незначительно перемещаться, выдерживая ровную линию войск, которые должны одновременно наступать в новом направлении. Естественно, чем больше войск участвует в таком маневре, тем больше времени он займет. Такой маневр имеет и другие недостатки. Предоставляя противнику время, он подвергает свое заходящее плечо – в данном случае правое – опасности удара с фланга, когда маневрирующие еще войска могут быть застигнуты противником врасплох. Поэтому такой маневр требует его прикрытия специально для этого выделенными силами. Вот что пишет по этому поводу п. Сергеев: «На обеспечение фланга нам пришлось выделить около одной трети всех сил, предназначенных для операции. Но силы оказались далеко не достаточными для отражения контратаки поляков»[4].
Чтобы показать читателю, какое время было необходимо войскам для выполнения маневра, задуманного п. Тухачевским, приведу даты из книги п. Сергеева. Наступление началось утром 14 мая, но только к утру 18 мая, то есть спустя долгих четыре дня, была создана группировка, более или менее отвечающая замыслу п. Тухачевского. Только тогда 6-я советская дивизия, находившаяся на крайнем правом фланге, была снята с прежнего направления и поставлена как резерв для дальнейших операций за правым флангом той части армии, которая должна была действовать в измененном на 90° направлении. И только утром 19 мая 53-я дивизия получает приказ прикрыть угрожаемый с запада фланг. Таким образом, четыре, а может, пять дней были мной выиграны не вследствие действий наших войск, а лишь в результате проведения сложного маневра войсками п. Тухачевского, который не мог использовать это время для преследования нашей отходящей 1-й армии. Это было как раз в то время, когда, вернувшись из Житомира в Варшаву, я колебался в тщетных попытках понять действия моего противника. А тем временем мои резервы из глубоких тылов и с Украины десятками поездов очень быстро и четко перемещались в районы сосредоточения для решающего контрнаступления, решение на которое я все никак не мог принять.
При анализе начального этапа июльской операции я буду иметь возможность еще раз вернуться к этому упрямому замыслу п. Тухачевского и надеюсь доказать правильность моих слов о том, что в географии и геометрии кроется много ловушек для полководцев. Здесь же я ограничусь лишь замечанием, что наша контратака выиграла во времени и силе удара вследствие маневра, которым, по-видимому, п. Тухачевский очень гордится. Я не мог без усмешки читать слова, приведенные на стр. 40: «Наше наступление быстро и стремительно стало развиваться; 15-я армия без затруднений проделала заворот в «Смоленских воротах…» Удивительное противоречие заключено в этой фразе: «быстрота», когда затрачивается несколько дней времени, которое тем самым отдается противнику; «стремительность», когда большая часть армии топчется на месте в ожидании выравнивания западного фланга, который только и находится в движении, но без контакта с противником, от которого, в дополнение ко всему, должен прикрываться, отрывая для этой цели все большие силы от главной операции. Эта мысль о “Смоленских воротах”» в Ореховые, этот геометрически выдержанный маневр – как же наглядно они свидетельствуют об абстрактности стратегического мышления моего уважаемого противника из 1920 года! Я этим отнюдь не хочу сказать, что только благодаря географии и геометрии майское наступление п. Тухачевского относительно легко было отбито и сорвано, нет, но это неизбежно создавало условия для срыва далеко идущих планов п. Тухачевского. Главной же ошибкой, которая заранее обрекала на неудачу грандиозные замыслы п. Тухачевского, была ошибка в оценке соотношения своих сил и сил противника, ошибка в расчетах, произведенных без учета второго хозяина войны, каковым является военачальник противной стороны. Расчет делался на наличие у нас кордона и линейного расположения войск в чистом виде, а все замыслы и планы разбились и были повергнуты в прах моими глубокими, заранее приготовленными резервами, оставшимися нетронутыми во время предварительных майских действий п. Тухачевского. Поэтому я твердо убежден, что у п. Тухачевского нет абсолютно никакого повода для гордости, и я решительно не согласен с его словами, приведенными на стр. 40: «Успех был настолько решителен и настолько неожидан для поляков, что их главное командование проявило определенную неустойчивость и начало переброску сил с Юго-Западного на Западный фронт». Из приведенного мной строго исторического анализа событий явственно следует, что на такое утешение – впрочем, довольно слабое – после неудачной операции п. Тухачевский не имеет никакого права.
Примерно такое же недоразумение обнаруживается при анализе нашей контратаки против советских войск, завершившейся в начале июня. Пан Тухачевский, перепуганный возможностью потерять дорогие сердцу «Смоленские ворота», вынужденный отступать по всему фронту, в конце концов организовал оборону этой обетованной земли. И вновь он превозносит великие заслуги своей 18-й дивизии, которая 7 июня недалеко от Германовичей обороняла подступы к Ореховне.
По свидетельству п. Сергеева, в этом бою дивизия потеряла до 70 % своего личного состава и была вынуждена отступить. Зато, как пишет п. Тухачевский, противник утратил способность к дальнейшим решительным действиям, и взлелеянная в мыслях Ореховна осталась в руках п. Тухачевского. Это было, добавляет п. Тухачевский, переломным моментом в операции.
Тем временем исторический анализ показывает, что ничего подобного с нашей стороны не было. Прежде всего, думаю, нет необходимости напоминать, что за все время операции у меня и в мыслях не было завидовать п. Тухачевскому в обладании (в виде Ореховны) великими историческими воротами, называемыми «Смоленскими». Я не за них воевал. Главной целью было закрыть совсем другие ворота. Самым важным для меня было сомкнуть два фланга моего контрнаступления с юга и с запада у больших болот в истоках Березины и Вилии. Таким образом отсекались все пути отступления для авантюрно продвинувшихся под самое Молодечно главных сил п. Тухачевского, а в дополнение к этому вся наша потрепанная 1-я армия автоматически выводилась в резерв. Этот план мне удалось реализовать только частично, так как быстрота ударов обеих контратакующих группировок была в течение всей операции слишком неравномерной. Генерал Соснковский со своей резервной армией, наступая от Свенцян и Постав, ударил быстро и решительно. В свою очередь южная группа, выдвигающаяся от Минска вдоль течения Березины, перемещалась значительно медленнее.
Предвидя это, я назначил южной группе начало наступления на день раньше, но когда противник дрогнул, 1-я армия перешла в лобовую контратаку и во фронтальном преследовании достигла Березинских болот значительно раньше, чем южная группа вышла на пути отхода противника. Поэтому части 1-й армии заняли место в общей линии фронта, уменьшая таким образом мой резерв.
С момента выхода к Березинским болотам я приказал остановить дальнейшее наступление, хотя действия противника меня к этому вовсе не вынуждали. При выборе общей линии фронта я руководствовался главным образом двумя соображениями, полностью противоположными какому-либо желанию бороться за «Смоленские ворота».
Во-первых, я намеревался расположить линию фронта на местности с возможно большим количеством заболоченных участков, что позволило бы мне сэкономить силы при обороне передовой линии и создать более крупные резервы. Во-вторых, мне хотелось иметь как можно меньше хлопот с обороной левого фланга, обороной, которая должна была растянуться вдоль Западной Двины. Это последнее соображение я посчитал более важным, чем даже возможность держать под наблюдением железнодорожный узел в Полоцке. И вот, заслушав мнение обоих командующих – генерала Соснковского и генерала Шептицкого, – мнения, как всегда, в таких случаях противоречивые, ибо исходят из своих локальных интересов, я принял решение и остановил всякое дальнейшее преследование.
Я здесь привожу исторический факт не для того, чтобы опровергнуть утверждение п. Тухачевского о том, будто заслуга в прекращении нашего наступления принадлежит ему и его войскам. Такие утверждения – естественное и обычное явление в военной истории, и на них обязательно наткнешься, читая донесения тех командующих, которые, проиграв, могут остановиться, больше не чувствуя на себе воздействия противника. Это хоть и маленькая, но характерная иллюстрация тех трудностей, которые стоят перед каждым полководцем при попытке определить положение и замыслы противника.
Выводы п. Тухачевского по поводу майской операции сводятся к трем пунктам: первый касается морального состояния армии, которое якобы значительно улучшилось; второй говорит о снятии части наших сил с Юго-Западного фронта, что облегчило там положение противника; третий пункт, который п. Тухачевский считает наиболее важным, – это занятие милых сердцу «Смоленских ворот». Не касаясь последнего пункта, по поводу которого я буду иметь возможность высказаться при анализе июльской операции, остановлюсь на первых двух пунктах, противопоставляя оценке п. Тухачевского мою оценку.
Удовлетворение п. Тухачевского повышением боевого духа подчиненных ему войск связано с его оценкой морального состояния тех дивизий, которые воевали против нас до прибытия п. Тухачевского, в 1919 году. Он пишет, что эти войска не вызывали к себе особого доверия, так как военные неудачи вселили в них некоторую неуверенность и робость перед польской армией. Признаться, я не очень понимаю, каким образом явное поражение в майской операции могло повысить моральное состояние этих войск. Сомневаюсь, чтобы в рядах Красной Армии любовь к «Смоленским воротам» получила такое всеобщее распространение, что несчастная Ореховна смогла заслонить и понесенные потери, и моральный урон от поражения. Вот и п. Сергеев, который более строг и точен в своих наблюдениях, пишет об этом иначе. По его подсчетам, в 53-й дивизии после майской операции осталось 1500 штыков, в 12-й – 1200, а в 18-й – 2000, в то время как в начале операции они имели: 53-я – 3157, для 12-й не имею данных, 18-я – 5000 штыков. Соответственно этому п. Сергеев утверждает, что «53-я и 12-я дивизии были так измотаны тяжелыми боями, что почти в панике отскакивали назад даже при самом слабом нажиме противника… Снижение боевого духа можно было заметить и в 18-й дивизии»[5]. Затем он добавляет, что при перегруппировке войск для новой операции п. Тухачевский приказал лучшие дивизии из тех, что принимали участие в майской операции, оставить в 15-й армии и «отдать численно слабые и морально измотанные дивизии (53, 12, 6, 56-ю) соседним вновь формируемым армиям»[6].
Эти слова представляют совсем в ином свете тот моральный выигрыш, о котором пишет п. Тухачевский. Такое положение вещей сказалось и на начале решающей операции в июле того же года. Я склонен считать, что с этой точки зрения польская армия находилась в лучшем положении, так как майское наступление п. Тухачевского, предпринятое до окончания сосредоточения и преследующее цели, непосильные для собранных войск, привело в окончательном итоге к исчерпанию физических и моральных сил его армии.
Что касается второго пункта, то, по-моему, п. Тухачевский, делая выводы о влиянии майской операции на общий стратегический расклад наших войск, представил дело слишком узко. Эта операция имела более глубокое значение. Что же касается уменьшения количества наших войск на фронте южнее Припяти, то оно было незначительным. Если с этого фронта было снято две с половиной дивизии (4, 15-я и половина 5-й – последняя прибыла к самому концу нашего контрнаступления), то практически немедленно туда были отправлены 3-я дивизия легионеров и три резервных, только что сформированных полка. Таким образом, количественное уменьшение наших войск на Юго-Западном фронте выразилось в едва ли одной дивизии. Значительно большее значение имело выдвижение к линии фронта всех глубоких резервов, а в дальнейшем удержание генералом Шептицким всех сил, выведенных в резерв, на удалении всего 10–30 км от фронта. Тем самым группировка войск приобретала форму того самого кордона, на слабые стороны которого так рассчитывал п. Тухачевский.




















