Читать онлайн Шесть тонн ванильного мороженого бесплатно
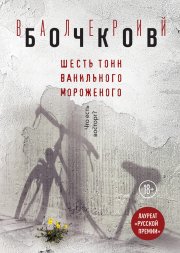
Брат моего брата
1
Городишко назывался Линде. Двухэтажный, бедноватый, но по-немецки чинный, он располагался в двухстах километрах от Риги на восточном берегу Даугавы. Отца перевели сюда из Германии, где он служил военным летчиком.
Старая кирха с островерхой колокольней, из которой разносились угрюмые звуки органа, два ресторана, две парикмахерских и один кинотеатр составляли культурную жизнь Линде. Еще был замок – скорбная махина из дикого камня, с пузатой башней и невпопад звонящими часами. Замок с парком, озером, мельницей и пустырем когда-то принадлежали барону фон Виттенгофу, верховному госпитальеру Тевтонского ордена. На баронских землях и расквартировался гарнизон.
В замке расположился дом офицеров. С библиотекой, бильярдной, буфетом и кинозалом, который в праздники превращался в банкетный зал. Аэродром построили километрах в десяти. Во время ночных полетов было хорошо слышно, как «МиГи» прогревают движки на форсаже. Впрочем, и латыши, и армейские к шуму истребителей постепенно привыкли, рев моторов влился в птичий гомон и шум деревьев, стал частью звукового фона местной жизни.
От тевтонской суровости замка не осталось и следа: военное начальство приказало стены оштукатурить, жесть готических крыш солдаты покрасили в шоколадный цвет, отчего на закате розовобокий замок приобретал кокетливый вид кондитерского изделия. Заднюю стену белить не стали, ее камни нависали над озером, стена уходила прямо в коричневую воду. Там желтели упругие кувшинки, на их круглых листьях грелись стрекозы.
На дальнем берегу стояли ивы, а дальше тянулся пустырь, заросший дремучими лопухами. Там, среди лопухов, белела часовня с узкими стрельчатыми окнами и облезлым куполом. Дверь была накрест заколочена досками, в окно едва пролезала ладонь. Внутри можно было разглядеть лишь грязный шахматный пол да кусок лестницы, ведущий куда-то вниз. По слухам, ступени вели в подземный ход, именно там были зарыты сокровища барона. Утверждали, что он приказал замуровать живьем свою неверную жену в одной из стен часовни. Кое-кто из местных видел даже призрак, разгуливающий по ночному озеру.
Часовня и репейное поле принадлежали нам, взрослые тут не появлялись. Здесь произошло легендарное побоище между «финнами» и «белодомцами». Летчики с семьями жили в финских домиках, а в двух трехэтажках из белого кирпича обитали семьи техсостава аэродрома.
Сражения на деревянных мечах постепенно сменились игрой в индейцев, здесь же, в лопухах, я учился курить, помню липкий портвейн из теплой бутылки, горький рижский бальзам с барбарисками на закуску.
Тут я учился драться. Дрались мы по-джентльменски, до первой крови, ногами не били, и, хотя напоминало это английский кулачный бой, синяки, разбитые брови и носы после поединков выглядели совершенно по-хулигански. Здесь я учился целоваться, постигал искусство расстегивания крючков, пуговок и петелек. Надо сказать, что это умение пригодилось в дальнейшем куда больше, чем мой коронный хук с левой или апперкот, которому меня обучил Серега Козлов.
У часовни я первый раз увидел Яну, она стояла с Шурочкой Авиловой и другими гарнизонными девчонками, смеялась, покусывая длинную травинку с метелкой на конце. На ней было желтое платье, такое яркое на фоне беленой стены, что у меня перехватило дыхание. Каникулы подходили к концу, было жарко, с берега горьковато тянуло костром и вареными раками. Яна улыбалась, морщила веснушчатый нос, от заката ее загорелые плечи и лицо казались оранжевыми, а волосы сияли. Я остолбенел, боясь пошевелиться, услышал, как над головой тихо гудят телеграфные провода, за лесом еле слышно пыхтит локомотив, а над озером кто-то зовет какую-то Вику.
Я был уверен, что никого красивей я не встречал в жизни. Тогда мне только исполнилось пятнадцать, сейчас, спустя двадцать девять лет, я по-прежнему придерживаюсь того же мнения.
В жизни не так много моментов, которые действительно имеют значение. Обычно ты их замечаешь лишь после того, как они уже промчались. Задним числом, оглядываясь, с недоумением осознаешь, что только по невероятной случайности ты оказался именно там и именно тогда. Мне повезло – свой звездный момент я распознал с ходу. У старой часовни меня пронзила уверенность, что эта рыжая девчонка в желтом платье перевернет мою жизнь.
Я желал этих перемен, ощущал кожей их волшебное приближение. Будучи уже достаточно взрослым для принятия решений, я в то же время оставался вполне наивным, чтобы решения эти стали причиной целой череды бед.
Солнце покраснело и запуталось в макушках парка, от деревьев протянулись фиолетовые тени, башенные часы пробили три раза, потом нерешительно звякнули еще раз. Я продолжал пребывать в почти религиозном предвкушении чуда, кто-то крикнул: «Айда на плотину!», и наша компания шумно двинулась сквозь лопухи в сторону водонапорной башни. Я оглянулся и поймал Янин взгляд. Мне показалось, нет, я был почти уверен, что она мне кивнула.
Меня кто-то больно ткнул в ребра, я с разворота хотел влепить наглецу, но Валет цепко ухватил мой кулак и, заломив руку за спину, крикнул мне в лицо:
– Втюрился! В лахудру чухонскую втюрился!
Внутриутробные месяцы, проведенные бок о бок с Валетом, оказались самыми безмятежными за все время наших братских отношений. Мать рожала в гарнизонном госпитале, я появился первым – быстро и без проблем. Валету повезло меньше: армейские эскулапы вытаскивали его щипцами и умудрились сломать берцовую кость. Родители боялись, что он так и останется хромым, первые годы брат постоянно болел, долго не говорил, поздно начал ходить. Мне кажется, что именно тогда Валет раз и навсегда решил, что я являюсь причиной всех его напастей. И пусть в пятом классе он уже лучше меня играл в футбол, а к концу школы даже перерос на пару сантиметров, любви ко мне он не питал по-прежнему.
Не будучи одинаковыми, мы были очень похожи – нас путали и в яслях, и в детском саду, и в школе. На новогодней фотографии мы сидим на коленях у Деда Мороза – даже родители не могли точно сказать, где я, а где Валет. В книгах и кино близнецов непременно связывает дружба. Те вымышленные братья, симпатичные и остроумные проказники, подменяют друг друга на свиданиях и экзаменах, одновременно демонстрируя благородство, доброту и преданность. Мой брат в три года пытался отстричь мне ухо маникюрными ножницами, когда я спал. Шрам остался до сих пор.
Я был не ангел и платил брату той же монетой. Ни одно существо на свете не будило во мне столь лютой злобы. Наша щенячья возня обычно заканчивалась слезами, взрослея, мы перестали плакать, слезы сменились кровью из рассаженных губ и разбитых носов. Валет от злости бледнел, лицо его обострялось, приобретая какую-то волчью угловатость. Мне и в голову не приходило, что тогда я видел свое зеркальное отражение.
Нам не было и семи, когда мать умерла: родители возвращались с Кондорского озера, отец не вписался в поворот, и его «Урал», пробив заграждение, свалился в овраг. Гибель матери наш мужской клан переживал поодиночке: мы с Валетом тайком друг от друга плакали, отец пил – его отстраняли от полетов, он пил еще больше – и от безысходной злобы на себя и весь мир лупил нас. Кожаный запах портупеи, белые рубцы от офицерского ремня, вонь ваксы сияющих сапог стали запахами моего детства и навсегда определили мое отношение к армии. Мы с Валетом продолжали колотить друг друга смертным боем, благо мать теперь не разнимала нас.
Отцу дали майора и сделали начальником эксплуатационной части, больше он не летал. Днем он гонял по гарнизону на открытом «газике», подражая командирам из американских фильмов про войну, вечерами пил пиво в офицерском буфете и до закрытия катал шары в биллиардной. Он раздался, заматерел, но по-прежнему был по-цыгански красив: смуглый, голубоглазый и без единого седого волоска в шевелюре. Как и раньше, форма сидела на нем щеголевато, ремни скрипели, пряжки сверкали, он ловко взбегал по лестнице, цокая подковками надраенных до зеркального блеска сапог. Изменились глаза – они стали тусклыми, будто погасли, я с трудом выносил его оловянный взгляд. В кобуре вместо табельного тупорылого «макарова» он носил привезенный из Германии изящный «браунинг», вороненый, с накладками из слоновой кости на рукоятке. Я могу только догадываться, что останавливало отца от того, чтобы не приставить ствол к виску и не нажать курок. Трусом он не был никогда, это уж точно.
2
Валет позвонил в пятницу.
Номер высветился какой-то тарабарский, я помешкал, но все-таки взял трубку. Последний раз я говорил с братом лет пятнадцать назад – сдуру сам позвонил в припадке благодушия. Видел же я его последний раз, когда нам было по семнадцать. Еще там, в Линде.
– Знаю, тебе плевать, – с обычной мрачной усмешкой в голосе проговорил Валет, – звоню для очистки совести. Вчера умер отец. Похороны в среду.
Меня ошарашило не столько само известие, сколько ощущение нереальности: я не только моментально узнал его голос, который спрессовал тридцать лет в ничто, главное, мне вдруг показался невозможным и нелепым я сам сегодняшний. Словно я – пацан с цыпками на руках, прогульщик и двоечник, обрядился взрослым человеком и пытаюсь себя выдать за неведомо кого.
Я не произнес ни слова. Трубка уже пищала короткими гудками, я смотрел вниз на мокрые огни, уныло текущие в темноте; светофоры на перекрестке одновременно загорелись красным, ярко и болезненно, огни застыли. Светофор дал зеленый, и огни снова начали медленно плыть в сторону моста через Ист-Ривер. Часы на руке тихо цыкнули – наступила суббота, первая суббота октября.
Страшно захотелось выпить, я прошел на кухню, тесную, как встроенный шкаф, налил красного, подумал и выплеснул в раковину. Нашел в потемках бурбон, свернул пробку и сделал большой глоток прямо из бутылки. Рот обожгло, я глотнул еще.
Сел в продавленное кресло, пружина привычно уткнулась в бок. Уродливое кресло в турецких узорах вместе с дюжиной других мебельных калек досталось мне при разводе. Уверен, если бы мы не развелись, Лесли этот хлам выкинула бы на помойку. Думать о Лесли как о хищной мерзавке было приятно, но несправедливо, виноват во всем был только я. Удивительно, что она продержалась так долго – почти восемь лет. С ней повторилась та же история, что случалась и до, и после: невероятным чутьем рано или поздно они все чувствовали, что лишь замещают кого-то. Лесли была права, говоря: «Я – не Яна. И никогда ей не стану. И я не хочу до конца жизни видеть твой тоскливый взгляд. Ты как пес, потерявший хозяина, не живешь, а ждешь. Чего ты ждешь, сам-то хоть знаешь?»
Да, я знал. Я ждал Яну. Я до сих пор стоял у часовни и ждал ее, ждал, когда она придет, улыбнется и скажет: «Ну что, Чиж, готов?» Та сентябрьская ночь для меня так и не закончилась; я боюсь, она не кончится никогда. Какая-то часть меня до самой смерти так и будет ожидать ее там. А может, и после смерти.
Тем вечером я сложил в рюкзак все необходимое: джинсы, майку с портретом Джимми Хендрикса, летный верблюжий свитер, две кассеты «Битлз», бутылку крымского шампанского, украденную у отца, которую я рассчитывал откупорить уже в Риге и отпраздновать начало нашей новой жизни. Во внутреннем кармане куртки лежали билеты на утренний пятичасовой поезд, новенький паспорт и двести сорок рублей, что я скопил за последний год, подрабатывая у Гунтара.
На озере поднимался туман, он сползал с дальнего берега, путался в ивняке и камышах. Белесые клочья над водой стелились как дым. На луну и звезды тоже время от времени наползала молочная муть, звезды гасли, а луна становилась серой и плоской.
Свежо пахло крапивой и горьковатой осенней травой, ночи уже стали холодными, но у меня от волнения потели ладони. Я смотрел на часы, то и дело ощупывал карман с билетами, словно они могли испариться, доставал фонарик и, закрыв ладонью, щелкал кнопкой, проверяя батарейки. Ладонь светилась красным, я прятал фонарь и снова смотрел на фосфорный циферблат своих «Командирских».
Изредка по мосту у плотины, гремя на стыках, проносились невидимые грузовики, за чернотой деревьев в одном из финских домиков проснулся и заплакал ребенок. Часы в замке уныло пробили два, я вздрогнул, сердце заколотилось, я приложил запястье к уху, Командирские уверенно тикали и показывали час ночи. Яна должна была появиться с минуты на минуту.
Где-то едва слышно играла музыка, я узнал латышскую песню. Мужской голос подпевал от души и невпопад. В ночной тишине звуки казались громкими. Потом я услышал женский голос, он долетел с озера. Женщина вскрикнула, застонала, вскрикнула снова. Я улыбнулся, мы с Яной иногда сами устраивались там, у тех ив, она тайком приносила из дома одеяло, грубое и колючее. От этой мысли мне стало еще жарче, я поправил лямки рюкзака и нервно зашагал от часовни до лопухов и обратно.
Со станции прогудел локомотив, протяжно и тоскливо, лязгнули буфера, диспетчер что-то прохрипел по громкой связи, запутавшись в собственном эхе. Состав дернул и, тихо постукивая, покатил.
Без четверти два я уже не находил себе места, сердце выпрыгивало из груди и трепыхалось где-то в районе горла, я был уверен, что именно так случается инфаркт. Выкурив подряд три «примы» и кое-как дождавшись двух часов, я бросился через лопухи в сторону Латышской балки. Каждую секунду я надеялся, что мне навстречу из темноты вот-вот появится ее взлохмаченная шевелюра, она улыбнется и скажет: «Какой же ты все-таки нетерпеливый, Чиж!»
Я добежал до ее дома, – калитка не запиралась, – ломая хрустящие гладиолусы, я подкрался к ее окну. Осторожно толкнул раму, окно тихо распахнулось. Достал фонарик. Постель была аккуратно заправлена, три подушки стояли безукоризненной пирамидой, я провел желтым кругом по коврику на стене – знакомые лебеди, знакомый пруд. На одеяле сидел знакомый плюшевый мишка и держал в лапах лист бумаги.
Я подтянулся, перелез через подоконник, на цыпочках подошел к кровати. Записка оказалась на латышском. Написано было немного, но моих познаний хватило лишь на два слова «до свидания» и «люблю».
Я сложил листок, вернул его мишке и перемахнул в сад. Было ясно, что мы разминулись, она наверняка пошла кружной дорогой, решив не продираться сквозь репей впотьмах. Мне снова стало весело, я уже представлял себе эти сердитые брови и упертые в бедра кулаки: «Ну и где тебя черти носят?» – она, моя Яна, девчонка с норовом. Я даже засмеялся и припустил еще быстрее.
У часовни никого не было.
В четыре я оказался на станции. В зале ожидания не было ни души. Снаружи пахло паровозным дымом. По платформе бродил мрачный латыш-железнодорожник с вислыми сивыми усами. Он степенно засмолил мою «приму» и сказал, что в десять на Ригу проследовал фирменный «Даугава», в час сорок два отбыл семнадцатый скорый, стоянка три минуты, следующий будет в пять ноль три. Стоянка пять минут.
Я перебил. Усач укоризненно оглядел меня, но все-таки ответил, что да, на семнадцатый были пассажиры, но девицы с рыжими волосами он не помнит, была вроде какая-то, но он стоял у почтового вагона и разговаривал с Луцисом, с которым он работал в Даугавпилсе, а теперь Луцис возит почту, а он застрял в этом Линде, будь он неладен.
Я невпопад пробормотал «лудзу» и побрел вдоль перрона, глядя на полированную сталь рельсов. В лунном свете они казались синими и, темнея, уходили вдаль, постепенно сливаясь с чернотой.
Потом, в качающемся тамбуре, в прогорклой вони окурков и мокрого угля, я, всхлипывая, достал из рюкзака бутыль шампанского. Распахнув дверь в грохочущий проход между вагонов, я изо всех сил саданул бутылкой в стальной пол сцепки. Брызнули осколки, вино взорвалось пеной, резко запахло кислятиной и дрожжами. До Риги оставалось всего два часа.
3
Утро началось омерзительно: накануне я умудрился высосать треть бутылки бурбона. Разбудил меня телефон.
– Ник оделся и спрашивает, когда же придет папа? Вот я решила позвонить и узнать: когда же придет папа?
Голос Лесли исходил вежливым ядом. Я с отчаянием вспомнил, что сегодня суббота, и я обещал Нику пойти смотреть динозавров и чучело мамонта. А потом есть клубничное мороженое в парке у пруда, где пускают модели парусных лодок.
– Дай ему трубку, – сипло сказал я, нервно роясь в кухонном ящике в поисках аспирина.
– Эй, приятель, как ты? – начал я бодро, испытывая к себе быстро растущее отвращение. – У нас изменение планов, динозавров придется отложить до следующих выходных. Мне надо слетать в одно место, я вернусь, и мы с тобой сразу же пойдем смотреть динозавров. Лады?
– Лады… – уныло отозвался Ник. – А куда ты летишь?
Он застал меня врасплох. Дело в том, что вчера я в конце концов решил никуда не ехать. Проанализировав (не без помощи бурбона) свою реакцию на звонок Валета, я пришел к выводу, что будет мальчишеством сломя голову нестись на другое полушарие, в то место и к тем людям, от которых я сбежал тридцать лет назад и без которых я худо-бедно прожил почти всю взрослую жизнь.
– А подарок привезешь? – спросил Ник.
– Конечно! – тут же отозвался я.
– А какой?
– Ты не подумай, что я удивляюсь, – в трубке снова возникла вежливо-холодная Лесли, – нет, наоборот, твое поведение отличается последовательностью и даже предсказуемостью. Просто ты должен уяснить, что у меня могут быть свои планы, и если субботы, которые ты выторговывал с таким упорством, тебя не устраивают, ты должен…
– Звонил брат, – перебил я, – отец умер. Там, в Латвии.
Лесли замолчала, потом своим нормальным голосом сказала:
– Прости… – Помолчав, добавила: – Я думала, что он давно уже…
– Я тоже.
– Ты летишь?
Я не знал, что ответить.
– Черт его знает…
– А виза? – Лесли во всех ситуациях оставалась практичной. – Тебе ведь русские…
– Какие русские? Это теперь отдельное государство.
– А-а, ну да… Я забыла. – Она помолчала. – Ты сам как?
Я пожал плечами. Она не видела, но поняла:
– Я с Ником поговорю, езжай, если надо. Мне правда жаль… насчет отца.
Лесли была хорошей бабой, впрочем, как и все остальные. Проблема была во мне. Яна поняла это первой.
Я проглотил две таблетки, запил тепловатой водой из-под крана и включил компьютер. Прямых рейсов до Риги я не нашел. «Люфтганза» с пересадкой во Франкфурте была наиболее удачным вариантом.
4
Рижский международный аэропорт напомнил мне аэровокзал в Мидлберри – вермонтском захолустном городке, где я полтора года отучился в университете, пока не перевелся в Нью-Йорк. В прокате машин клерк, худой и сутулый, с острым гусиным кадыком, неприятно суетился и пытался мне всучить «Мерседес» или «Ягуар». Он заискивал, часто моргал и, развязно жестикулируя бледными руками, нес какую-то околесицу на отвратительном английском. Мне становилось все более неловко за него, и я, протянув кредитку и права, сказал, что возьму «фокус». Он сник, словно у него кончился завод, и покорно выдал ключи.
В бардачке оказалась карта, из аэропорта я решил проехать через город, пересечь Даугаву по мосту Вальдемара, а после рвануть на восток по Двадцать второму шоссе прямиком на Линде. В свое время я порядочно поколесил по Штатам, и расстояние в двести миль выглядело пустяковой прогулкой.
Уже на мосту, когда передо мной развернулась открыточная панорама с нарядными башнями и шпилями, я понял, что совершил ошибку. В Риге я прожил самый мрачный год своей жизни, и один вид этого города моментально возродил во мне тоску и отчаянье. Я запарковал машину.
Дойдя до синагоги, я свернул налево и направился в сторону Святого Якова. Ноги вспоминали горбатую брусчатку узких улиц, узнавались фасады и вывески, ставшие ярче и кокетливей. Тут они явно перегнули – старый город, лишившись трещин, пыли, корявых подпорок и серой трубной сажи, теперь походил на муляж. Деревья казались вымытыми с мылом, мелкие кусты были подстрижены и напоминали сидящих дошколят.
Горожане и редкие туристы проходили мимо, ныряя в густые тени и всплывая в солнечных прогалинах. Коровистая американка, одергивая своего мелкого мужа в парусиновых шортах, елозила пальцем по экрану «мака» и с южным акцентом возмущалась отсутствием на карте Домского собора. Я подошел, помог, тетка обдала меня теплой волной христианской признательности.
Дойдя до аптеки с кованой змеей на вывеске, я вспомнил, как стоял тут в такой же закатный час и не мог найти ни одной причины, чтобы жить дальше. Город что-то бормотал, не обращая на меня внимания; если бы ко мне подключили прибор по измерению отчаяния, то он бы зашкалил и, скорее всего, сгорел. Я никогда не был так одинок, чувство было абсолютным, ничего подобного я не испытывал ни до, ни после Риги.
Я добрел до Ратушной площади. Уже стемнело, желтые огни горели ярче и рассыпались мелочью по мокрому булыжнику мостовой. Я зашел в первую подвернувшуюся забегаловку, сел в угол и попросил коньяку.
Отчего Яна решила бежать одна? – этот вопрос не дает мне покоя и сейчас. Поначалу я просто сходил с ума, мне казалось, что даже ее смерть я пережил бы легче. Первые месяцы я пытался искать ее, метался по улицам, вздрагивая при виде каждой рыжеволосой, но Рига, после моего захолустья, оказалась гигантским городом.
Пытался искать я и Айвара, который собирался помочь нам с жильем на первых порах. Яна показывала мне письмо и фотографию – письмо было на латышском, а на фото Айвар выглядел белобрысым бородатым здоровяком. Она подтрунивала над моей ревностью, в конце концов я смирился и почти убедил себя, что викинг-красавец – не более чем друг детства.
Я знал, что скажу, когда случайно столкнусь с ними где-нибудь на улице или в парке, какие жалкие будут у них лица, как у нее будут дрожать губы, когда она будет оправдываться, а он угрюмо пялиться в землю.
Я устроился в порт. Работа в доках была грязная и тяжелая, но именно это и спасло меня – я едва вечером доползал до общаги. Времени и сил на мысли просто не оставалось.
Потом я начал готовиться, еще в Линде мы с Яной решили поступать в рижский Политех. Экзамены я не сдал и тут же получил повестку из военкомата. Мой бывший бригадир, Лиепиньш, матерый антисоветчик и пьяница, похожий на морского разбойника, пристроил меня на сейнер-холодильник «Гинтарас». Военкомат Бривибасского района на пару месяцев потерял мой след, я уже провонял насквозь балтийской сельдью и почти успокоился, когда Костя по секрету меня предупредил, что капитану пришло радио от военкома и что меня будут встречать в рижском порту.
На обратном пути сейнер попал в шторм, у нас заклинило винт, и шведы с грехом пополам дотащили «Гинтарас» до Стокгольма. Пока решали, вставать в док или дожидаться своих ремонтников, я стянул из медчасти резиновую перчатку, сунул туда паспорт и сиганул за борт. Шведы деликатно выудили меня и доставили в полицию, где обогрели и напоили чаем с ромом. К моему требованию связаться с American Embаssy они отнеслись с пониманием, и вскоре в участок прикатил здоровенный негр в кремовом плаще и лайковых перчатках. Когда он их снял, руки его оказались темнее, чем кожа перчаток. Это был первый живой негр, увиденной мной.
Словарный запас подходил к концу, пробелы в языке я компенсировал жестикуляцией. Снова помог пьяница Лиепиньш: припоминая его антисоветский треп, я удачно вкручивал крамольные имена, названия каких-то правозащитных хартий; я так увлекся, что уже чувствовал себя отпетым диссидентом. Под конец, размотав резинку и шлепнув, будто козырным тузом, своим паспортом, я потребовал политического убежища. Негр пришел в восторг от моей смекалки в использовании медицинского инвентаря, басовито захохотал, а после, подмигнув по-свойски, заверил, что все будет о’кей.
Негр оказался прав – все сложилось довольно неплохо.
Мрачный малый с говяжьим лицом и в клерикально-черной униформе принес мне еще коньяку, я спросил его про гостиницу. Не меняя выражения лица, он весомо рубанул рукой на северо-восток, в сторону занавески, за которой прятался сортир.
Допив коньяк, я покинул душный зал и вышел наружу. Постоял в дверях, глядя на водяную пыль, клубящуюся вокруг фонаря, на зыбкие шпили костелов и башен, затейливо освещенных золотистым светом. Где-то далеко бренчало дрянное пианино. Я поднял воротник и, следуя указанию пастора-официанта «норд-ост», пошел искать отель.
5
Следуя античной традиции, возвращаться домой из долгих странствий надлежит пешком и в лохмотьях странника, а не на «Форде» пожарного цвета. Вспомнив о Валете, я с сожалением подумал, что зря отказался от того серебристого «Ягуара». Удивительно, но детское соперничество не сгинуло, оно вовсю бурлило во мне, искусно выдавая себя за принципиальность и желание справедливости. Сознавать это было достаточно противно, и я решил считать, что мне плевать на Валета, что еду я только из-за отца.
Я инстинктивно потрогал затылок – зашивали меня той ночью гарнизонные лекари. Зашили добротно, но неделикатно, шов прощупывался и сейчас.
Тогда я вернулся около десяти, на кухне горел свет, и оттуда в темный коридор полз приторный дым – отец почему-то в последнее время стал курить «Золотое Руно» вместо «Тройки».
– А ну, поди сюда!
Мрачный тон мне не понравился, но я поплелся на кухню. Отец сидел на табуретке, подавшись вперед и широко расставив ноги в надраенных сапогах. Он исподлобья оглядел меня, словно прикидывая, сколько я вешу. Тут же был и Валет; прислонясь спиной к буфету, он щурился, как от солнца, и загадочно улыбался. У меня засосало под ложечкой, как перед дракой, я сунул руки в карманы и буркнул:
– Ну?
Отец казался трезвым, на нем была полевая униформа болотного цвета. На столе лежала красная повязка, судя по всему, он вечером сдал дежурство.
– Ты с кем это там шляешься?
Я не ответил.
– Ты с кем там шашни разводишь?
Я молча сжал кулаки в карманах. Отец, не сводя взгляда, закурил, прикусив зубами фильтр, сунул горелую спичку в коробок.
– Ты, сын боевого офицера, – отец зло затянулся, – связался с фашистской шалавой. Ты знаешь, что ее дед Гитлеру служил?!
Единственное, что я точно знал, так это то, что отвечать нельзя. Я знал, что именно этого и ждет Валет.
– Не смей оскорблять ее!
Отец хмыкнул и выпустил дым мне в лицо. Я мотнул головой и продолжил:
– И дед ее служил не Гитлеру, а был в лесных братьях!
Отец засмеялся, резко и нехорошо:
– Братьях? А кому твои братья служили? Не Гитлеру?
– Они сражались против оккупантов!
Отец свирепел моментально, его то ли цыганская, то ли казацкая кровь вскипала вмиг. Я не успел даже понять, что произошло, только кухня подскочила, словно качели, желтый свет брызнул в глаза, а чугунная раковина гулко запела, будто где-то в полях ударили в большой колокол. Боли не было, просто померк свет, и кто-то заботливый выключил мое сознание.
6
В десять я проскочил Огре, считай, треть пути позади. Меня пугала стремительность, с которой я приближался к Линде.
Слева то появлялась, то исчезала серая гладь Даугавы, прячась за убранные поля или проваливаясь за лысый песчаный холм с сосновым бором на макушке. Я заметил, что высокие и осанистые балтийские сосны, с голым стволом-мачтой, совсем не похожи на наши, американские – по-мужицки кряжистые и разлапистые.
Путь мой лежал на восток, солнце встало и уже не слепило глаза. В отдалении проплывали хутора, крыши амбаров, пустые поля с фигурками одиноких крестьян, за изгородями из камней паслись коровы цвета молочного шоколада.
Серебристая щель, вспыхнув, раскрылась круглым голубым озером с бревенчатым хутором на пологом берегу. Яна рассказывала, что на таком же хуторе на Зилани Эзерс прятался отряд ее деда. Их окружили и расстреляли, а хутор сожгли. Было это в июне пятьдесят шестого, за пять лет до ее рождения.
Тем нашим летом мы с Яной часто гоняли на Зилани. Семь километров на велике – не расстояние; дорога петляла проселками, по бокам желтели ржаные поля с точками васильков, знойный полдень звенел кузнечиками и стрижами.
Ближе к озеру дорога шла под гору, поля сменялись орешником и редкими осинами, постепенно мы въезжали в сосновый лес. Шины мягко катили по ковру из рыжих иголок, иногда звонко хрустела шишка под колесом. Здесь было свежо, даже прохладно, пахло смолой, неяркие лучи наполняли бор торжественным сиянием, похожим на свет в католических соборах. Взявшись за руки, мы молча спускались к воде.
В Зилани били ключи, вода была кристальной, можно отплыть от берега и наблюдать, как на глубине бродят темные рыбины. Мы купались, ныряли, валялись на белом, мелком, как соль, песке. Ловили раков. Яна бесстрашно совала руку в нору, не пищала, если рак прихватывал палец клешней.
Потом я собирал хворост, под берегом у нас был припрятан котелок, в котором мы варили раков или уху. Солнце садилось, плавно опускалось на верхушки сосен, а после выкладывало длинные тени по траве. Лес становился полосатым, Яна, зябко потирая ладонями плечи, накидывала мою рубаху, и мне казалось, что счастливей меня нет никого. Я верил, что наша связь предопределена свыше, что наши отношения особенные. Еще бы – ведь я пролил свою кровь и в доказательство мог даже предъявить свежий шрам на затылке.
– Мне запретили с тобой встречаться, – сказала Яна и пристально посмотрела мне в глаза. У нее были золотистые брови, изогнутые и строгие.
– Тоже? Да пошли они все… – Я махнул рукой. Яна меня перебила:
– Отец, когда узнал про… – она запнулась и потрогала свой затылок, – про госпиталь, сказал, что отправит меня к тетке в Даугавпилс. Если я с тобой не… – она искала слова, но не нашла. – Вот так.
– Да пошли они… – уже не так бодро повторил я.
Яниного отца я видел мельком, нечто по-латышски сумрачное с пепельно-стальной шевелюрой. С матерью столкнулся, когда околачивался у калитки их дома. Мать ее была похожа на артистку, на каблуках, тоже рыжая, с красными губами и такими же красными клипсами. Мне показалось, что я встречал ее раньше. Она остановилась, от нее загадочно пахнуло духами, чем-то волшебно-пряным; в нашей мужской коммуне ничего, кроме незатейливого «Тройного», не употреблялось. От ее веселого взгляда мне стало легко, и если бы я был поумней, то мог себе вообразить, в какую красотку превратится моя Яна лет через десять-пятнадцать.
– А вы есть сын того симпатичного майора? – спросила она, поигрывая брелоком на своей сумке. – Очень похожи.
Она говорила с акцентом, словно изображала иностранку в кино. На «вы» меня никто не называл, и я, не зная, что ответить, стоял и улыбался как дурак, глядя на блестящий брелок – маленькую Эйфелеву башню, – точно такой же я видел на ключах отца.
Тут на крыльце появилась Яна, она торопливо взяла меня за локоть и, не глядя на мать, сказала:
– Пошли, сеанс уже начинается.
Я, продолжая ухмыляться, рассеянно спросил:
– Какой сеанс?
Лишь поздней, уже дома, я вспомнил, где я видел ее мать. Она работала в офицерском буфете в замке.
7
Прав был античный смекалистый грек насчет реки: дважды не войти, но время – штука хитрая. И я не знал главного: по улицам Линде в эти дни уже разгуливал дьявол в образе часовщика, предлагая свои услуги. Меня всегда завораживала эта строчка из Хармса, но только здесь я понял, что он имел в виду.
Я проскочил Вороний Хутор – крыша амбара прогнулась, как спина клячи, а вот дуб совсем не изменился, да и что такое тридцать лет для дуба? Сверкнув стеклами, пронеслись мелкие домики, похожие на дачи, я взлетел на холм и сразу же увидел кирпичную водонапорную башню, ломтик озера и башню с часами. На пустыре среди бурых лопухов белела макушка часовни. Нашей часовни! Я съехал на обочину, остановился и вышел, не закрыв дверцу.
Здесь не изменилось ничего – даже облако, похожее на дервиша в чалме, зацепившееся за шпиль кирхи, было из моего детства. Со станции донеслось бормотанье репродуктора, звякнули вагоны, я взглянул на часы – да, полуденный экспресс покатил на Ржев.
Я прислонился к капоту. Полез за сигаретами, достал бумажник, паспорт. Сигарет не было. Вспомнил, что бросил курить лет двадцать назад, когда жил с китаянкой и снимал чердак в Сохо. Впрочем, все эти факты вызывали сомнение. Паспорт с американским орлом казался ловко подстроенным трюком, а тридцать последних лет были не более реальны, чем просмотренное позавчера кино.
Янин дом штукатурили, пахло известкой, по мусору и стружкам ходили рабочие-латыши и весело переговаривались. Длинный парень окликнул меня. Я ничего не понял и, улыбнувшись, кивнул:
– Свейки!
Парень крикнул что-то в сторону дома, и в дверном проеме появилась Янина мать-актриса. Верней, это первое, что мне пришло в голову. Женщине было под сорок, она вытирала руки о передник и пристально разглядывала меня.
– Валет? – подходя, спросила она.
Это была сестра Яны, в те годы нечто рыжее, сопливое, путающееся под ногами. Я даже не вспомнил, как ее зовут.
– Чиж?!
Она тоже не знала моего имени, но отлично помнила мою кличку. Сквозь ее лицо вдруг проступило лицо Яны, проступило неуловимо, намеком. Это напоминало неудавшийся портрет, где вроде бы все черты похожи, все на месте, но что-то главное ускользнуло.
– А Яна где? – спросила она, разглядывая меня. От нее пахло детской: теплым молоком, пеленками и еще чем-то вроде карамели.
Я поперхнулся, именно тот же вопрос застрял у меня в горле.
– Она же уехала с тобой. Вы же вместе… – Она запнулась, видя выражение моего лица.
Мы стояли молча, я пытался хоть кое-как собрать свою разлетевшуюся вдребезги вселенную.
– Она уехала одна, – странным, глухим голосом произнес я. – Там же записка… на латышском… я думал…
– Там написано, что она уезжает с тобой… – неуверенно проговорила сестра, губы ее затряслись, она по-девчоночьи сморщилась и зарыдала. Я взял ее за руку, но она зло вырвалась и, что-то крикнув мне по-латышски, побежала к дому.
Рабочие с хмурым интересом разглядывали меня и мою ядовито-красную машину.
Я доехал до Русского кладбища. Оставил машину, пошел по аллее. Уже за воротами вспомнил, что не запер дверь. Вернулся, машина оказалась закрытой.
Я побрел вдоль холмов и оград, крашенных серебрянкой. К невысоким обелискам были приделаны пропеллеры, дюралевые модели «МиГов», просто красные звезды. Здесь хоронили летчиков. Я узнавал молодые лица капитанов и майоров в керамических овалах, вспоминал фамилии. Четверо из наших соседей в разное время погибли во время полетов; Лихачев разбился при катапультировании, Миша Куцый утонул. Моя мать тоже лежала здесь.
Рядом с ее холмом зияла яма. Справа высилась гора песка, вперемешку с черным грунтом, торчали две лопаты с отполированными рукоятками. Тут же, в затоптанной траве, лежал на боку фанерный обелиск с моей фамилией, набитой черной краской по трафарету. В букве «р» краска подтекла, и она стала похожа на ноту. Я совершенно забыл, насколько звучна моя фамилия; тридцать лет она не означала ничего, кроме набора звуков явно славянского происхождения.
Вдали ухнул барабан, за ним нестройно завыли трубы. Мне жутко захотелось убежать, исчезнуть, я бы согласился очутиться в любом другом месте, где угодно, только не тут. Вместо этого я лишь отошел в сторону, покорно слушая, как грозно приближается пугающая какофония.
Над кустами показался гроб, обтянутый красной материей с черной бахромой. Он плыл, покачиваясь, а после из-за кустов появились и люди. Толпа оказалась гораздо многочисленней, чем я ожидал. Во главе процессии кособокий старик нес атласную подушку с медалями, на флангах, как македонские щиты, пестрели венки из гвоздик, астр и прочей гробовой флоры. Валет скользнул по мне взглядом, не задерживаясь.
Гроб опустили на козлы, рядом прислонили крышку. Я стиснул кулаки и осторожно заглянул в гроб, мне стало ясно, как я буду выглядеть в этой ситуации. Скуластое лицо отца изменилось мало, лишь слегка усохло и отливало лимонным, а волосы даже не поседели.
Подняв глаза, я увидел себя: с короткой стрижкой и в дурацком костюме, какой я бы сроду не надел. Вопреки моим надеждам, Валет не обрюзг, не облысел, остался поджарым, как и я.
Начались речи. Старики в мешковатых пиджаках, с орденскими планками и медалями говорили долго, говорили одно и то же. О том, что подполковник Коршунов – настоящий советский офицер, настоящий летчик-истребитель, что таких больше не делают, что подонки-демократы развалили великую державу, уничтожили славную армию. Я, холодея, узнавал некоторых ораторов. Я помнил их веселыми мужиками, которые учили меня пить пиво и бить от борта в дальнюю лузу, я с ними ездил на рыбалку, где они варили мировую уху, жарили шашлыки по-карски, а после лихо хлестали водку и пели песни. И сам черт им был тогда не брат.
8
На выходе с кладбища в меня вцепилась какая-то крупная тетка с подведенными черным глазами. Она часто моргала, будто подмигивала.
– Чиж! Е-мое!
Я отстранился, от нее разило цветочными духами и потом.
– А я стою-думаю – он или не он! Ну мать твою…
Я улыбнулся, виновато пожал плечами.
Толстуха заморгала еще чаще:
– Во дает! Не узнает! Кто мне засос поставил в восьмом классе? На шее?
– Авилова? – неуверенно сказал я, изо всех сил стараясь найти хоть малейшее сходство с той Шурочкой Авиловой, румяной и сдобной хохотушкой, напоминавшей задорных девах с немецких игральных карт.
– А кралечка где твоя?
– Не знаю. – Я закашлялся и украдкой вытер щеку от жирной помады.
– Во дела! – она всплеснула руками в крупных фальшивых бриллиантах. – Такая любовь была – чума! Побег под покровом ночи!
Авилова затащила меня в автобус и припечатала мощным крупом к стенке. Старики, кряхтя и чертыхаясь, рассаживались, водитель по-хозяйски оглядел салон, сплюнул в окно и дал газ. На поминки я ехать не собирался. На поминки ехать не следовало.
Авилова болтала без умолку. Ругала московских демократов, требовала справедливости, возмущалась, что без латышского эти чертовы лабусы теперь никуда не берут. Когда перебазировали аэродром за Урал, всех отставников бросили здесь – живите как хотите! – она тоже дура, осталась. Работала тогда в парикмахерской на вокзале, ничего себе работенка, культурно и чаевые, а после лабусы открыли салон в городе – и все, хоть на панель иди.
– А как там, в Америке, парикмахерши, – до фига небось зашибают? В кино у их баб волос сильный, укладка, цвет. Я тоже, вон, когда мелирование на фольге освоила, ко мне запись за месяц была. Из Плявиниса приезжала клиентура, даже певица одна, как же ее? – ну как ее? Во, блин, склероз!
Столы накрыли под рябинами, прямо перед нашим финским домом. В детстве он мне казался царскими хоромами, на деле же был не больше скворечника и напоминал дачную баню. Старики, толкаясь, занимали места. Звенели тарелками, кто-то закурил. Вокруг деловито сновали крепкие тетки неопределенного возраста в нарядных платьях с блестками. Из дома к столу караваном плыли миски, кастрюли, бутылки. Под ногами шныряли дети.
Стульев не хватило, Авилова усадила меня на лавку, сама плюхнулась рядом. Тут же с невероятным проворством навалила в две тарелки всякой снеди, наполнила до краев рюмки.
– Ну, погнали! – подмигнув обоими глазами, выпалила она. – За встречу!
Я выпил. Выудил соленый огурец.
– Ты холодца покушай! – жуя и наливая водку, весело сказала она. – Небось привык там барбикью всякую есть! И джин-тоник, да? А тут простая русская еда… Простая, но полезная… Ну давай, Чиж, понеслись!
И она, запрокинув голову, влила в себя водку.
В моей тарелке растекался холодец, погребенный под винегретом, бок картофелины набух свекольным соком, кусок селедки угодил в оливье. Я поковырялся вилкой и понял, что не голоден.
– Да-а, батяня у тебя был… – хмельно качнувшись и закуривая, мечтательно проговорила Авилова. – Мужик!
Она выпустила клуб дыма и снова налила водки.
– Давай за батю твоего!
Мы выпили. Она курила, щурилась и покусывала губы, словно что-то припоминая.
– Это он под конец сдал, а до этого и на лыжах, и на рыбалку… Таких лещей вялил! Спинка жирная, ошкуришь его, а он прозрачный, аж светится! Угощал… А когда тетя Инга умерла, тут уж он… – Она махнула рукой.
– Какая тетя Инга?
– Во дает! Совсем в Америке память отшибло? Тетя Инга! Считай, теща твоя, мать Янкина.
На секунду мне показалось, что я ослышался. Или Авилова спьяну несет чушь.
– Ты чего мелешь, Шур?
– Ну ты, Чиж… – Она возмущенно закинула ногу, выставив круглую коленку с синяком из-под стола. – Это ж такой роман был, ты чего!
Я представил остроглазую задорную буфетчицу с копной волос из рыжего хмеля и своего отца, мрачного, перетянутого портупеями и застегнутого на все пуговицы майора.
– Когда? – тихо спросил я.
– Чего когда? Да мы еще учились в школе… Ты че, правда не знал?
Воробьи подбирали крошки и, уже вконец обнаглев, прыгали у самых ног; на другом конце стола запели про пиджак наброшенный и непостоянную любовь, пели нудно, с деревенским завыванием. Дядя Слава, который учил меня кататься на коньках, проливал водку и пытался сказать какой-то тост, но его никто не слушал, и он в третий раз начинал: «А вот когда во время Карибского кризиса нас с Гошей отправили на Кубу…»
В сигаретном дыму Валет, распустив галстук, спорил с каким-то стариком, хмуро тыча в него пальцем. Этот жест был знаком мне с детства. Я налил водки и залпом выпил.
Шурочка тоже выпила, порылась в сумке и снова закурила. Протянула пачку и мне, я зачем-то закурил тоже. Курить было противно, я бросил сигарету под лавку и придушил ее каблуком.
Во рту осела табачная горечь, от дрянной водки голова гудела и начинала болеть.
Я твердо решил, что сейчас же незаметно выползу из-за стола, доберусь до машины и уеду в Ригу, но вместо этого чокнулся с краснолицым толстяком, похожим на Бисмарка, и выпил еще.
Меня развезло. Я слушал обрывки бестолковых разговоров и звон посуды; казалось, что на лицо мне садится паутина, я вяло обтирался рукой и отплевывался. Шурочка бубнила не переставая, прерываясь на свое «ну, погнали!», после чего по-мужицки зычно крякала и шумно занюхивала хлебом. Пахло укропным рассолом и киснущим оливье, кто-то жгучим шепотом, давясь от смеха, рассказывал похабный анекдот, кто-то бесконечно повторял: «А вот я, грешным делом, люблю…», но расслышать, что он там любит, мне так и не удалось.
Я разглядывал старческие лица, уродливые руки в пятнах, с узловатыми пальцами, и мне становилось тоскливо и бесконечно жаль этих никчемных, никому не нужных людей. Я смотрел на Шурочку, на ее дряблое лицо, похожее на сырое тесто, на сальные губы в остатках помады, и отвращение во мне мешалось с невыносимой жалостью. Было жаль и пыльных воробьев, суетящихся под ногами, и пожелтевшей рябины, и надрывно каркающих, кружащих над репейным полем ворон. Потом мне стало жаль себя и своей бестолковой, уже почти прожитой жизни.
Я вспомнил, как мы с Яной гуляли по пустырю за Еврейским кладбищем и разрабатывали тайный план побега, мечтали о нашей будущей жизни. Она говорила, что мы вернемся в Линде через десять лет, у нас будет двое детей, девочка выйдет рыженькой, а мальчик будет черноволосым. И вся наша родня увидит, как мы счастливы и любим друг друга, они все поймут и простят.
Я резко повернулся к Шурочке:
– Авилова, а когда ты узнала про Ригу? Про наш план?
Шурочка застыла с вороватым кроличьим выражением, было ясно, что сейчас она начнет врать. Я огляделся, Валета за столом не было.
Входная дверь была распахнута настежь, я прошел через темный предбанник коридора. Здесь по-прежнему стоял крепкий дух сапожной ваксы. Валета я нашел в дальней комнате, которая у нас почему-то называлась гостиной. Ничего не изменилось и тут: рыжий абажур, на стене свадебная фотография, похожая на старомодную открытку на тему любви, рядом в раме из ракушек – мать под сочинской пальмой. На другой стене – варварский натюрморт с омаром в окружении овощей и фруктов.
Валет сидел за круглым столом в тусклом конусе желтого абажурного света, перед ним лежали медали, армейские значки, погонные звезды, кокарды. Рядом стояла пузатая бутылка «Плиски», уже наполовину пустая. В руках Валет держал отцовский «браунинг». Он поднял голову, безразлично посмотрел на меня. В канифольном свете, похожем на мутную озерную воду, его лицо было старым и уставшим. Он отвинтил пробку, сделал глоток.
– Будешь?
Я выдвинул стул, сел. Коньяк обжег горло, оставив теплую горечь во рту.
– Возьми на память что-нибудь… – Он кивнул на медали и значки. – Если хочешь.
Я молча разглядывал золотистые крылышки, пропеллеры и звездочки. Выбрал гвардейский значок с рубиновой звездой и знаменем, убрал в карман.
– Дети есть? – спросил Валет.
Я ответил:
– Пацан…
– Это хорошо. У меня две девки… Восемь и двенадцать.
– Женат?
– Уже нет, – хмыкнул он. – Слава богу. А ты?
Я не ответил. Он гладил вороненую сталь «браунинга», его руки – крупные, загорелые – были точной копией моих. На правой синела татуировка.
– Ты знал, что мы с Яной собираемся бежать?
Валет первый раз посмотрел мне прямо в глаза.
– Чиж, ты что? – Он усмехнулся и начал выравнивать медали на столе. – Сто лет прошло, конец прошлого века…
– Авилова тогда к тебе липла… она растрепала?
Валет огрызнулся:
– Отстань, Чиж, не помню я. Забыл, понимаешь? И ты забудь.
– Я бы с удовольствием, да вот не получается. Никак не получается.
Валет отпил из бутылки, придвинул ее мне. Я пить не стал.
– Я тридцать лет с этим живу, понимаешь? – Я сжал кулак. – Тридцать лет я пытаюсь понять, почему она уехала без меня? Тридцать лет!
– Тридцать лет? Да ты за эти тридцать лет бате так и не позвонил! Ведь ни разу не позвонил, сволочь! – Валет грохнул ладонью по столу так, что медали звякнули. – Проваливай в свою Америку, не трави душу!
Я видел, как у него чуть подрагивали пальцы, он тоже заметил и сжал кулак. Я наклонился над столом и тихо сказал:
– Ты мне не указывай, колченогий.
Это был удар ниже пояса. Валет хромал до третьего класса.
Брат застыл, глаза его сузились. Ствол «браунинга» смотрел мне в грудь.
Я сглотнул. Валет тихо проговорил:
– Правды захотел, сучонок? Будет тебе правда…
Он поперхнулся, кулаком вытер губы.
– Сдала вас Шурочка, с потрохами сдала. Я ее отодрал разок. Как сидорову козу. На островах. На песочке прибрежном…
Валет резко засмеялся, он начал говорить торопливо, словно боялся, что не успеет.
– Она-то все и выложила. Когда, куда… Хитер, думаю, Чижик-пыжик! Удрать задумал, сукин сын! Ну поезжай, мне же лучше, комната моей будет. А потом решил, что надо напоследок проучить Чижа. Чтоб знал…
9
Комната исчезла. Я увидел неяркие звезды, на тусклую луну наползала молочная муть. Увидел туман, он сползал с дальнего берега и стелился по озеру, как дым. Часы в замке пробили два, где-то заплакал ребенок. В слободе играла музыка, кто-то горланил латышскую песню.
Я увидел Валета, как он, пригнувшись, подобрался к темному окну, тихо постучал. Почти сразу приоткрылась рама. Яна, вглядываясь в ночь, удивленно прошептала:
– Чиж? Мы же договорились у часовни…
– Туда нельзя, – быстро перебил ее Валет, прикрывая рот ладонью. – Там караваевские бухают, у часовни. Мы у ивы переждем, а после сразу на станцию.
Яна скрылась в темноте комнаты.
– Держи! – Она подала Валету дорожную сумку. Потом ловко соскочила в траву и аккуратно закрыла раму.
Валет, закинув сумку за спину, развернулся и быстро пошел. Яна догнала его, пошла следом.
– Через Еврейское кладбище пойдем, – бросил он через плечо, – чтоб не нарваться на кого-нибудь.
Они пошли кружной дорогой, сначала через овраг, там было черно, лишь внизу тускло сиял ручей, потом тропа запетляла среди жухлого малинника, после поднялись на холм, утыканный вросшими в бурьян надгробиями. Запыхавшись, вышли к озеру, добрались до ивы. Там к стволу были привязаны две лодки, еще одна лежала вверх дном на берегу. Валет кинул сумку, сел на лодку, закурил. Яна перевела дыхание, подошла ближе.
– Валет. – Это уже был не вопрос, она хмуро смотрела ему в лицо.
Он выпустил дым, сплюнул и усмехнулся.
– Догадливая.
– Где Чиж? – Яна сжала кулаки.
– Угомонись. Мне потолковать с тобой надо, прежде чем вы в Ригу сорветесь.
– Откуда ты…
Валет засмеялся:
– Вот бабы! Шурка твоя все растрепала. Вы ж что кошки – вам брюшко почеши…
Яна потянулась за сумкой, Валет перехватил ее руку.
– Да погоди ты…
Она выпрямилась, брезгливо высвободила руку:
– Давай говори, что хотел.
Валет щелчком отправил оранжевый огонек окурка в темноту.
– Ян, ты же умная баба. На хера тебе этот мозгляк дался? Тем более в Риге. Он же сопляк, не мужик, да никогда мужиком и не станет. Я его с пеленок знаю, он всю жизнь чудиком малахольным был…
Яна усмехнулась:
– Понятно. Ты, значит, себя предлагаешь взамен? Так, что ли?
Валет, ухмыляясь, откинулся на локти.
– А что? Я суну – ты и разницы не почуешь, а уж по части техники он мне и не конкурент вовсе. Да тебе Шурка небось хвастала?
Яна молчала, потом тихо произнесла:
– Ну и мразь же ты… Что ты, что папаша твой!
Валет пружиной вскочил с лодки, Яна отпрянула, но он цепко ухватил ее за ворот куртки.
– Ну да! – сипло зашептал он ей в лицо. – А ты такая же шалава, как мать твоя, потаскуха рыжая.
Он с силой рванул пояс юбки, материя затрещала, Яна вскрикнула, сделала шаг назад и, размахнувшись, ударила его кулаком в лицо. Валет удивленно охнул, из носа и губы брызнула кровь:
– Ах ты… Тварь фашистская!
Яна вырвалась, побежала. Валет прыгнул ей на спину, повалил на землю и подмял под себя. Она хотела крикнуть, он зажал ей рот, другой рукой сдавил горло. Он налегал всем телом, его кровь капала ей на лицо, Яна хрипела, брыкалась. Потом в горле у нее что-то хрустнуло, она вытянулась и затихла.
– Вот тварь… лицо разбила… тварь.
Валет, пятясь на карачках, отполз к стволу. Тут его вырвало. Он хотел закурить, но руки ходили ходуном, спички ломались, он со злостью выплюнул сигарету и зашвырнул коробок в воду.
– Сама виновата… тварь, – забормотал он, горбясь и потирая руки, будто от холода, а глаза, не моргая, смотрели на труп.
10
– Там лодки были, я у лихачевской цепь выдрал якорную, у него гиря чугунная вместо якоря была, пудовая. – Валет говорил, глядя куда-то мимо меня. – Я ее этой цепью обмотал, короче, подгреб к омуту, там, за ивами, где сомов брали, помнишь? А сумку сжег после. Даже не раскрывал. Сжег, и все.
Я смотрел на дрожащую черную дыру в стволе «браунинга», на медали, разложенные по столу, на пузатую бутылку болгарского коньяка… И видел, как Валет волок мертвую Яну к лодке, обматывал цепью, осторожно, чтоб не шуметь, опускал в воду. Как она погружалась в коричневую воду, как гиря тянула ее на дно, а волосы неспешно струились, словно водоросли. А я в это время стоял у часовни и ждал ее.
Валет, не выпуская пистолета, подвинул к себе коньяк. Отвинтил пробку и, запрокинув голову, сделал большой глоток.
– Проучить я вас хотел… – сказал он, морщась и вытирая рот ладонью.
Я отпихнул стол, целясь ему в живот. Валет, взмахнув руками, завалился назад вместе со стулом, ножки у стола треснули, и столешница рухнула, рассыпая медали и осколки бутылки по полу. Я отбросил свой стул и, прыгнув Валету на грудь, кулаком ударил в лицо. Он звонко стукнулся затылком в пол и застыл. Браунинг лежал у ножки кровати, я дотянулся до него. Валет замычал и открыл глаза. От него пахло «Тройным» одеколоном, прямо из нашего детства. Я приставил ствол к его лбу.
– Сволочь… – прохрипел он. – Давай…
– Ты мне всю жизнь испоганил, паскуда! – зарычал я, вдавливая ствол ему в лоб.
Валет оскалился, засмеялся, губы у него были разбиты в кровь:
– Наша кровь, коршуновская. Жми, братан, не робей!
Под моим локтем колотилось его сердце, палец ощущал тугую пружину курка, я сипло и часто дышал, чувствуя, как во мне растет какой-то страшный звериный восторг, словно я научился летать и вот сейчас взовьюсь прямо под облака. Ничего подобно я не испытывал в жизни.
Потом я увидел его глаза, в них не было страха – только торжество и превосходство.
Когда я вышел, уже смеркалось. Поминки выдыхались. Тянуло самоварным дымком, по столу были расставлены свечи и керосиновые лампы, они коптили, от подрагивающих огней вокруг бродили фиолетовые тени.
Я пошел вдоль озера, постоял у ив, вода совсем не двигалась, и казалось, что по ней запросто можно дойти до того берега, где замок сливался с деревьями парка и чернел на фоне гаснущего неба. Я достал «браунинг», бросил его в воду.
Начал накрапывать дождь, я направился к часовне, пошел напрямик через репейник, как мы ходили в детстве. Двери по-прежнему были заколочены, здесь не изменилось ничего. Я нашел на северной стене, рядом с окном, имя, которое выцарапал тридцать лет назад. Провел пальцем по каждой букве. Да, все на месте. Буква «А» тогда получилось хромой, нож сломался.
Я поднял голову, крупные капли били по лицу, начинался ливень. Пошарив по карманам, нашел ключи от своей нью-йоркской квартиры. Выбрав подлиннее и с острой кромкой, я доцарапал ножку у «А». Это было единственное, что я мог исправить.
Агностик
– Даже не однофамилец, – отвечал обычно Куинджи, вежливо улыбаясь. – Ни эллинов, ни татар в роду не имею, – сухо добавлял он, глядя в глаза собеседнику и энергично потирая сильные загорелые руки.
Такими руками можно запросто задушить человека, однако Ларс Куинджи предпочитал расправляться со своими жертвами более изящным и изобретательным образом – при помощи слов.
1
Все утро накрапывал нудный дождь, а после обеда поднялся северный ветер и, бодро растолкав серое стадо туч, вмиг расчистил октябрьское небо. Оно оказалось ярким и синим, словно свежеокрашенным.
С верхних этажей «Кондор-Трайбеки» распахивался бескрайний горизонт, и тевтонское слово «ландшафт» теряло оловянную тяжесть и наполнялось свежим, воздушным смыслом. Прямо на восток, за ажурным мостом, как на ладони лежал весь Бруклин: кубики красных домов на Краун-Хиллс, мертвые трубы заброшенной фабрики Кристи, справа тянулись и исчезали в рыжей листве Сансет-парка плоские, покрытые варом и утыканные спутниковыми тарелками крыши китайского квартала. Над ними кругами носились голуби, а дальше сквозь дымку проступало «чертово колесо» на Кони-Айленд. При желании можно было даже различить горошины кабинок. За колесом угадывался океан.
Чико, девятнадцатилетний мойщик окон, тихо насвистывал Вésame mucho и разглядывал «чертово колесо». Оно казалось неподвижным, но на самом деле едва заметно вращалось. По горизонту, словно мишень в ярмарочном тире, пополз прозрачный силуэт океанского судна. Разобрать, под каким флагом корабль, оказалось делом дохлым. Зазевавшись, Чико забыл пристегнуть карабин. Сорвавшись и пролетев почти полторы сотни метров, он упал на крышу экскурсионного автобуса из Алабамы.
Ларс Куинджи только что вышел из душа и как раз выбирал галстук, когда услышал полицейские сирены. Ларс, с мокрыми волосами, голый и загорелый, прошлепал босиком на балкон. Не касаясь перил, вытянул шею, пытаясь заглянуть вниз. С высоты сорок второго этажа улица выглядела обычно – желтые букашки такси, белые гусеницы автобусов, муравьи-пешеходы. На соседней башне, покачиваясь на ветру, висела пустая люлька. Десять минут назад Ларс с завистью разглядывал парня, бесстрашно орудующего длинной шваброй, у него самого потели ладони от одной мысли оказаться в хлипкой корзинке на такой высоте.
Ларс поежился и вернулся в спальню. Выдернул лимонный галстук, прихватив двумя пальцами, приложил к голой груди. Пожевал губами, глядясь в зеркало, после одобрительно кивнул и бросил галстук на кровать. Галстук золотым угрем упал в косой солнечный луч, деливший пол спальни и кровать по диагонали.
Куинджи было за пятьдесят. Поджарый и жилистый, он и сегодня мог влезть в джинсы, которые носил в университете. У него было породистое, чуть лошадиное лицо, матовый крутой лоб с залысинами, хищные хрящеватые уши и крепкий нос с высокой горбинкой, которая всегда обгорала на солнце. В четыре года у него обнаружили астму. От лекарств толку не было, он кашлял и задыхался. Как утопающий, вцепившийся в спасательный круг, Ларс ни на секунду не расставался с ингалятором, даже во сне он сжимал в кулаке спасительный баллончик. Через год, сменив с десяток врачей, мать разыскала какую-то знахарку-хорватку, которая посоветовала давать Ларсу свиную кровь. Каждое утро мать приносила ему стакан свежей крови из мясной лавки. Потом его на год увезли в Палермо. К августу астма прошла – итальянский климат помог или свиная кровь, сказать трудно, но Ларса до сих пор передергивает от того сладковатого, ржавого привкуса. От Палермо в памяти осталась какая-то слепящая рябь, лазоревые пятна и Поко-Пикколо – портовый дурачок, навсегда вселивший в Ларса ужас сойти с ума. Он донимал мать расспросами, и та, по простоте душевной, ляпнула, что таким манером Господь карает непослушных мальчиков. Что и говорить – босоногий Пикколо надолго стал главным героем ночных кошмаров маленького Куинджи. А после, в зрелые годы, уже называя себя агностиком и посмеиваясь над религиозными ритуалами, бесами и загробной жизнью, он часто и всерьез задумывался над тем, в каких же потемках и по каким сумрачным долинам блуждает разум безумца.
Ларс с досадой оглядел просторную спальню, светлое окно во всю стену, яркое небо, макушки небоскребов Уолл-стрит, которые, как недомерки, привстав на цыпочки, пытались заглянуть в комнату.
«Вот ведь глупость, – раздраженно подумал Куинджи, – угробить чертову уйму денег и не сметь выйти на балкон!»
Он патологически боялся высоты. На смотровых площадках и мостах у него кружилась голова, ноги подгибались и становились ватными, накатывала дурнота. Он знал наверняка, что никогда и ни за какие деньги не прыгнет с парашютом. Да он и не собирался. До переезда в Трайбеку он относился к своей акрофобии снисходительно, как к нелепой причуде психики, в целом устойчивой и рациональной.
Куинджи скучал по своему прежнему жилью – допотопному особняку на Вест-сайд, кривобокому и узкому, словно стиснутому с боков двумя такими же домами-пенсионерами. Фасад, выложенный диким красноватым камнем, был похож на поджаристое овсяное печенье. В сумрачных комнатах пахло пылью и мастикой, лестницы с резными перилами круто взбирались вверх и скрипели на все лады. Как ему не хватало этого скрипа! Камин, с черным, как ад, зевом за кованой решеткой, кожаные кресла-великаны, беспощадно убаюкивающие свои жертвы, толстые, вытертые ковры из неведомых восточных стран – Куинджи, закрыв глаза, запросто мог вспомнить каждую царапину, каждый узор.
– Вот ведь глупость, – громко произнес он, глядя в зеркало; зазеркальный Куинджи не спорил.
Причина переезда была нелепа, Ларс осознавал это, но поделать с собой ничего не мог: однажды, проснувшись среди ночи, он с тошнотворной ясностью представил себе, как стареет. Как он стремительно и необратимо дряхлеет вот на этой самой кровати, похожей на древний катафалк, а из тусклой бронзы рам, насмешливо топорща тараканьи усища, на процесс распада взирают зализанные антикварные господа в кружевных воротниках и морские пейзажи с одинокими кораблями в бурных волнах. Ему послышалось даже, что особняк по-стариковски вздыхает и сердобольно кряхтит трухлявыми балками, мол, ну что поделаешь, брат, все там будем.
С той ночи Куинджи стало казаться, что дом затеял состарить его, злокозненно обволакивая пыльной паутиной уюта. Вырваться из сонного плена турецкого дивана или мягкой хватки плечистых кресел становилось все трудней. Арестантские полоски жалюзи ложились на пол при закате, рассветная муть встречала зловещим крестом оконного переплета на потолке. В любой, едва приметной трещине на стене, чешуйке облупившейся краски дверной рамы, в сладковатом запахе гнилой воды в цветочных вазах Куинджи чудился приговор. Он был готов поклясться, что его тело стремительно стареет вместе с домом и что он физически ощущает этот процесс. Ларс, холодея, вглядывался в зеркало, а за его спиной хохотали и гримасничали тени.
Избавление пришло внезапно: Тима Кларка в конце концов переманили в голливудский филиал, и он великодушно уступил свой пентхаус в «Кондоре» Ларсу Куинджи. Две башни в Трайбеке уже достраивались, сдача была намечена на август. Спортивный клуб, SPA с ловкими таиландскими массажистками, бассейн, скоростные лифты, чуть ли не каррарский мрамор и скандинавский дизайн, но главное – вид: верхние этажи разошлись еще до закладки фундамента. В строительной конторе Куинджи разглядывал глянцевые каталоги, нежно гладил образцы черного камня и зеркального паркета; после, улыбаясь, подписал контракт и тут же внес аванс.
2
Если б не Ивонна, Ларс ни за что не согласился бы пойти на эту премьеру, совсем не его статус – какая-то захудалая труппа то ли из Польши, то ли из Литвы, фамилию режиссера, состоящую из почти одних согласных, невозможно было не то что запомнить – выговорить. Наверняка будут умолять написать рецензию в «Таймс» или «Нью-Йоркер».
«К черту пошлю! Решительно и бесповоротно, – ворчал Ларс, выбирая запонки. – Сам факт моего присутствия на спектакле уже выводит этот балаган на незаслуженно высокий уровень. С них и этого хватит. Не говоря уже об убитом вечере».
Он, проходя на кухню, щелкнул пультом, телевизор включился и приглушенно забубнил. На канале NYОne шли местные новости, с вертолета показали дом Ларса, соседнюю башню, пустую люльку. Потом возникла энергичная мулатка в интеллигентских очках и с микрофоном: она тараторила, кивая на красный автобус с надписью «Алабама – родина храбрых». За ее спиной сгрудились прохожие, сновали медики и полиция.
Ларс вытащил из холодильника оранжевую потную бутыль сока, сделал пару глотков из горлышка.
– Хорош трепаться, погоду давай! – недовольно крикнул он мулатке, которая как раз пыталась заарканить какого-то доктора, воинственно тыча в него микрофоном. Ларс возмущенно защелкал по каналам, ничего не найдя, быстро выдохся и выключил телевизор.
Считая себя демократом, Куинджи запросто ездил в подземке, пил в жару дешевый «Бадвайзер», бегал трусцой вдоль Гудзона в застиранном спортивном костюме. Тот факт, что он влиятельный критик (иногда его называли «самым влиятельным», он пожимал плечами и кивал: «К вашим услугам!») и что его голос, пожалуй, решающий в совете директоров «Девятого канала», лишь добавлял его демократизму пикантности. Он любил поболтать с таксистом, по-свойски схлестнуться с барменом или официантом на тему бейсбола. Он всегда оставлял щедрые чаевые, не столько по причине природной расточительности, сколько из кармических соображений.
С кармой дела обстояли неважно, шансы на рай были невелики: лишь в последние годы Ларс стал помягче и пообходительней, а в начале карьеры он подписывал критические статьи псевдонимом Бритва. Псевдоним соответствовал и форме, и содержанию. Сегодня эти статьи зубрят студенты на факультетах журналистики.
Куинджи с ходу уяснил, что критиков никто не любит, поэтому и не пытался понравиться. Главное – чтоб запомнили. Это для начала.
Тогдашняя театральная критика отличалась вегетарианским простодушием. Его маститые коллеги пересказывали содержание пьесы, вяло поругивали или флегматично похваливали режиссера, а в конце перечисляли фамилии актеров. Критикессы напирали на костюмы и декорации, стервы непременно сообщали, что Джульетте за сорок, а Медея – жена режиссера. Такое называли «острой критикой», и это считалось почти скандалом.
Куинджи смерчем ворвался в эту затхлую богадельню, рухнул метеоритом в лесное болото. Мужья, краснея от хохота, вслух читали за ужином его статьи, офисные остряки заучивали трескучие пассажи, коллеги-журналисты пытались подражать стилю, воровали звонкие глаголы и сочные прилагательные. Бритва стал известен и почти знаменит.
Появились деньги. Все складывалось просто великолепно: ведь тот зануда, который утверждает, что слава и деньги не приносят счастья, как правило, не обладает ни тем ни другим.
Цель оправдывает средства – Куинджи не скромничал. Эрудит, трудяга и почти полиглот, он днями просиживал в архивах и библиотеках, а ночами по десять раз переписывал статью, снова и снова, до тех пор, пока каждое слово не било в яблочко. После его рецензии старик Сазерленд свалился с инсультом. Ларс в интервью «Третьему каналу» заявил, что искусство требует жертв, и после еще что-то добавил по-латыни, равнодушно почесывая подбородок.
Он стал часто появляться в разных программах. Ведущие его уже побаивались, особенно после того, как Куинджи в прямом эфире разорвал в клочья задиру О’Райли. После еще минут пятнадцать задавал ему вопросы, как двоечнику, а под конец встал и сказал, что хотя передача еще не кончилась, у него нет ни малейшего интереса тратить время на беседу с невеждой и дураком, и посоветовал телезрителям тоже заняться чем-нибудь полезным. Извинился и вышел из студии.
3
У Ивонны не было ноги, и это здорово усложняло дело – так бы Ларс давно уже ее бросил. По крайней мере, именно этим он оправдывал непомерно затянувшиеся отношения, которые он толком не мог даже классифицировать. Ну да, он с ней спал, но это тоже ни о чем не говорило.
Ивонна обладала редким даром: каждое слово, жест, улыбка, даже и не улыбка – тень, улыбалась она скупо, лишь бровями, само ее присутствие ощущалось как благодеяние, как милость. Ларса бесило ощущение задолженности, ощущение, что его облагодетельствовали, не спросив согласия.
Она почти не хромала: потеряла ногу в семь лет, с ее слов – угодив под газонокосилку на родительском ранчо где-то в окрестностях Цинциннати. Ивонна научилась ловко ходить на протезе, ее походка напоминала плавный танец, с едва заметным акцентом в нечетной доле. Эта синкопа придавала ей некоторый шарм, если, конечно, не знать, что левая ступня сделана из пластика телесного цвета.
Когда Куинджи первый раз увидел протез, он сразу и не понял, даже сморозил какую-то глупость про грязную пятку – обе ноги торчали из-под простыни, у искусственной подошва казалась темней, и пальцы были спаяны вместе, как кусок мыла. Кто мог вообразить, что у этой гордячки, которой он домогался с непонятной даже ему самому настойчивостью почти месяц, окажется такой дефект?
Куинджи остановил выбор на темно-синем двубортном пиджаке и серых твидовых брюках. Он думал о том, что хорошо бы сейчас плюнуть на хромоножку, рвануть в «Ла Гуардию», оттуда – первым рейсом на Сент-Джон, нанять там яхту, а ночью, развалившись на палубе, пить сладковатый местный ром и глазеть в черное звездное небо. Такие звезды бывают только на экваторе: сперва видны самые яркие, после проступают потусклее, а под конец, когда глаза привыкнут к темноте, вдруг открывается черная бездна, усыпанная едва различимой звездной пылью, живой и подмигивающей. И такая восторженная жуть берет, будто узнал самую жгучую тайну на свете. А утром, совсем рано, когда солнце только-только…
Распахнулась входная дверь, влетел сквозняк. Вместе с ним вошла Ивонна.
– Голый! – с презрительным возмущением констатировала она, звонко шлепнув себя по бедру лайковыми перчатками брусничного цвета. – Мойщик там убился, крышу автобуса насквозь пробил.
Ивонна опоздала родиться лет на сто. В сегодняшней наскоро скроенной Америке она казалась насквозь пропитанной траурным югендштилем, берлинским декадансом кануна хрустальных ночей и высокомерным пренебрежением ко всему румяному и здоровому. Бронзовые виньетки массивного ошейника с аметистами повторяли пренебрежительный изгиб ее бровей, ей действительно было наплевать на то, что вы о ней думаете, и она этого не скрывала. Куинджи никогда не испытывал к женщине подобного чувства – какой-то болезненной тяги пополам с ненавистью, жутковатой гремучей смеси, приправленной хорошо замаскированным страхом, в котором он не признавался даже себе. Это напоминало его проклятую высотобоязнь. И было похоже на ощущение, когда, закрыв глаза, ведешь рукой по шершавой стене, боясь напороться на ржавый гвоздь.
В такси Ивонна тут же достала телефон и стала проверять почту, выставив вверх костлявое колено в молочном чулке. Ларс от скуки пытался разобрать фамилию шофера на карточке – сквозь мутный пластик проступало нечто славянское и непомерно длинное. От Ивонны пахло чем-то пряным, приторным, Ларс, гордящийся среди прочего и своим обонянием, безуспешно пытался определить запах, равнодушно разглядывая кирпичные стены, разрисованные уродливыми граффити.
Уже проехали Колумбийский университет – мимо проскочили почти царские ворота с колоннами и львами, над мельтешней хищных пик ограды викингами пронеслись рыжие клены. Въехав в Гарлем, свернули с Бродвея, тут же влетели в колдобину, шофер непонятно, но с душой выругался.
Больные деревья, кособокие машины у тротуара, тусклые лица – все выглядело выгоревшим и пыльным. Зачастили облезлые вывески на испанском.
– Долго еще? – тихо спросил Ларс, чуть тронув локоть Ивонны.
– Уже… почти… там, – с расстановкой проговорила она, не отрываясь от экрана.
– Ну и дыра… – пробормотал Ларс себе под нос, зло отвернувшись к окну.
Пунцовый кусок заката промелькнул в щели между домов, ослепив на миг, и тут же окрасив все вокруг темно-фиолетовым.
«Все, хватит! Сегодня же! – Ларс сунул кулаки в карманы брюк. – Сразу же после этого дурацкого балагана! К чертовой матери! Соплячка…»
4
Опасения Ларса оправдались – место оказалось настоящей дырой. Когда-то здесь располагался отель, очевидно, не без претензий, на облупившемся фасаде по гвоздям, к которым крепилась вывеска, можно было разобрать название – «Ницца». Судя по всему, последняя волна нелегальной эмиграции из Мексики, наводнившая соседние кварталы, угробила заведение. Ларс тоскливо прикинул, что лет через тридцать вся Америка превратится в нечто подобное: трухлявая «Ницца», а вокруг – крепкий дух жареного лука, треньканье гитар и пыльные лачуги, набитые коренастым, веселым народцем.
«А я буду лежать на палубе и глазеть в звездное небо», – подумал он, распахивая перед Ивонной тяжеленную дверь.
Противный запах обдал их, разило намокшим старьем и скипидаром.
«Красят они тут, что ли…» – брезгливо ступая по грязному мрамору, подумал Куинджи.
На электричестве явно экономили, желтые лампы горели вполнакала, колонны, толстые и грязные, как слоновьи ноги, уходили вверх и что-то там подпирали. Потолок лишь угадывался в темноте, на стенах проступали аляповатые приморские виды, скорее всего, именно Ниццы, с одинаковыми пальмами и треугольными парусами на горизонте. Пожухнув, фрески неожиданно приобрели выигрышный античный вид.
У стен топтался какой-то люд, поодиночке и группами. Через распахнутую дверь было видно, как бритый наголо здоровяк в белой рубахе переставляет на барной стойке поблескивающие бутылки. Из той же двери появился долговязый старик. Замер, вытянув индюшачью шею, огляделся и, чуть подпрыгивая на тощих ногах, бодро направился к Ларсу.
– Такая честь! – хватая ладонь Куинджи обеими руками, холодными и сухими, проговорил он актерским баритоном, неприятно приближая свое дряблое лицо. – Шталмейстер труппы Отто Кранц.
При этом он подмигнул Ивонне и франтовато щелкнул каблуками.
Ларс с брезгливой аккуратностью вытянул кисть из стариковой хватки, сунул в карман. Хотелось вымыть руки. Все было нехорошо, жутко. Куинджи кивнул, притворно зевая, отвернулся, чтобы скрыть гадливое выражение.
На старике была тесноватая фрачная пара, к лацкану приколот какой-то маскарадный орден с фальшивым рубином и скрещенными мечами. Шталмейстер Кранц был высок и костляв, впалые виски в старческих пятнах, белые адмиральские бакенбарды, глаза рачьи, вокруг темные круги.
Старик важно пыжился и тут же угодливо кланялся, складываясь, как столярный метр, при этом рот у него кривился вправо, а шея вытягивалась, как у черепахи, так что был виден серый край нечистого воротника. К Ивонне он не обращался, лишь изредка поглядывал, моргая и пуча глаза.
– Современного зрителя не устраивает традиционный театр, современный зритель желает новых ощущений. – Старик презрительно выпятил сизую губу с фиолетовой горошиной, он явно не испытывал симпатии к современному зрителю. – Им катарсис подавай, да такой, чтоб до потрохов пробрало. До костного мозга чтоб!
Ивонна хмыкнула, а шталмейстер довольно ухмыльнулся и сладострастно повторил:
– До мозга чтоб!
Старик перевел дыхание и, чуть не захлебнувшись от пафоса, продолжил:
– Тело! Тело есть мера всех вещей и истина в чистом виде, мой дорогой мистер Куинджи! Слово написанное – ложь, слово произнесенное – ложь вдвойне. У слов одна цель – извращать, маскировать, приукрашивать. Короче, лгать. Не так ли, мистер Куинджи?
Ларсу казалось, что над ним издеваются. Он слушал, кивал, сухо улыбался, стиснув зубы. Старик взглянул в глаза, по-волчьи ощерился и азартно продолжил:
– Движение, жест – вот критерий истины, ибо тело есть носитель правды. Паганини, играя на скрипке, уже лукавит, лукавит непроизвольно, веруя, что через него говорит Бог. Наивно забывая, что между ним и аудиторией возникает посредник – скрипка, вносящая неизбежное искажение в божественный текст послания.
Некто юркий с собачьим взглядом поднес напитки. Куинджи хотел отказаться, но, представив, как старикан будет уламывать его, плюнул и взял высокий стакан. Оказалось что-то» цитрусовое с граппой. Тут же появилась проворная муха, настырно пытавшаяся сесть то на край стакана, то на рукав.
Старик, словно вспомнив что-то, схватил Ларса за локоть:
– А вот такой вопрос, не сочтите за бестактность, господин Куинджи, философского свойства: что для вас важнее – выиграть, незаметно смухлевав, или же проиграть, честно соблюдая все правила? А?
Ивонна, отгоняя муху, фыркнула и проговорила, глядя в нарисованные на дальней стене морские просторы:
– У мистера Куинджи косточки врагов похрустывают под каблуком. Что январский снежок. Идет и собой любуется.
Ивонна обожала говорить подобные гадости, особенно прилюдно. Ларса удивило, что он даже не рассердился. «Все верно, к черту! Уже не важно, пусть болтает, – подумал он. – Сегодня же, сразу же после балагана!»
В этот момент Отто Кранц ловким, кошачьим жестом поймал назойливую муху, молниеносно сцапав ее жменею с плеча Куинджи. Поднес кулак к уху, загадочно улыбаясь, прислушался, а после вдруг сунул муху в рот и проглотил.
Ларса чуть не вырвало.
Кранц близоруко моргнул и простодушно произнес:
– Щекочется.
5
Ударил гонг. Тяжелый медный звук траурно поплыл по фойе. Публика потянулась к распахнутым дверям.
Прежде здесь, должно быть, располагался ресторанный зал. С высокими колоннами и тяжелыми портьерами цвета запекшейся крови, циклопическими коваными люстрами на цепях. Сейчас люстры не горели, пыльные столы были сдвинуты в дальний угол рядом с полукруглой сценой, освещенной сверху слабым красноватым прожектором. Стулья, кое-как расставленные по сумрачному залу, сформировали кривые ряды. Паркетный пол даже не подмели.
«Если режиссер ставил задачу вызвать чувство омерзения еще до начала спектакля, то он успешно с ней справился», – подумал Куинджи, садясь в большое кресло, церемонно указанное Кранцем. Ивонна придвинула стул, села рядом, закурила и, стряхивая пепел на пол, принялась разглядывать зрителей. Те безучастно и молча, как статисты, рассаживались. Публики оказалось мало – большинство мест остались пустыми.
Ларс крутил в руках стакан, стекло стало теплым и липким, от приторной смеси слегка мутило. Он поставил стакан на пол, пристроив к ножке кресла. Теперь липкими казались и пальцы, и ладони, опять мучительно хотелось вымыть руки.
Свет на сцене погас. В темноте мерцающей точкой краснела сигарета Ивонны. Слева шумно дышал старик, от него тянуло чем-то кислым.
«Мухами», – угрюмо подумал Куинджи, ощущая растущее раздражение. Сидеть в полной темноте казалось глупо и унизительно.
– Это что? – сердитым шепотом спросил он.
– О! – скрипнув стулом, тут же отозвался старик. – Это Шекспир!
«Новаторы хреновы!»
У Ларса вдруг закружилась голова, непроглядная темень, утратив форму зала, постепенно стала вытягиваться, разрастаться, постепенно превращаясь в бездну. Он вцепился в поручни, зажмурился, ощущая, как сжалось сердце и перехватило дыхание. Из живота, медленно поднимаясь вверх к горлу, подкатила волна ужаса, как тогда, в детстве, когда, заходясь в кашле, он был уверен: еще мгновенье – и он задохнется. Удивительно, Ларс исцелился от астмы тысячу лет назад, а страх смерти, испытанный тогда, навсегда притаился где-то внутри, не тускнея и не слабея.
Снова ударил гонг. На сцене зажглась жидкая красная подсветка. Сознанию оказалось достаточно такой ничтожной зацепки, чтобы расставить все по своим местам – появился твердый пол, обозначился не столь уж высокий потолок. Горло отпустило, Ларс осторожно вдохнул. Мокрая рубаха прилипла к спине и противно холодила кожу. Мутный пунцовый свет вдруг напомнил Ларсу о детском увлечении фотографией: он тогда соорудил в кладовке настоящую лабораторию – с черным шестикратным увеличителем на штанге, большими кюветами и красной лампой на витом шнуре. На фотобумаге, опущенной в раствор, проступали в красном мареве какие-то неясные пятна, которые волшебным образом постепенно собирались в знакомое лицо или привычный пейзаж.
На сцене творилось нечто подобное – в вязкой мерцающей красноте скорее угадывалось происходящее, разум, ухватившись за узнаваемый нюанс, тут же дофантазировал картину. Сначала Ларсу почудился гигантский паук, он перебирал лапами и покачивался в такт глухому и мерному барабану – казалось, что где-то совсем далеко проходит парад и оттуда доносится утробное «бух-бух-бух». Потом паук распался – четыре мима, изогнувшись мостиком, по-крабьи расползлись по углам сцены. Из темноты в центр величаво выступил, почти выплыл, некто в короне. Он не отбрасывал тени, и Ларс с удивлением заметил, что ноги актера не касались пола.
– Это знаменитая «Мышеловка», – скрипнув стулом, восторженно шипел сзади Кранц. – Убийство Гонзаго.
Король тем временем растянулся на сцене, пристроив корону на животе. Крабы, помедлив, осторожно начали сжимать кольцо вокруг спящего. Барабанный бой нарастал, будто приближался. К нему добавилось гулкое эхо, казалось, что невидимый парад переместился в глубокое ущелье. Крабы обвили спящего, клубок тел забился в конвульсиях и вдруг замер. Из узла человеческих тел вытянулась вверх рука с короной.
– Где же принц? – тихо спросил Куинджи с нотой сарказма, откинув голову назад.
– Я здесь, – неожиданно ответила Ивонна.
– Ты? – Ларс резко повернулся к ней, лица было не разглядеть, лишь красный блик в волосах.
– Как? Вы не знали? – встрепенулся старик, точно испугавшись. – Госпожа Ландау… ну как же… «Терра Берлиника» прошлого года, «Золото Рейна» в Штутгарте, в Лондоне с Редгрейв, премия Лоуренса Оливье?
Куинджи давно уже не следил за театральными новостями – да и не генеральское это дело, критические статьи писал за него дрессированный молодняк, Ларс слегка редактировал текст и ставил подпись. Управление каналом и потасовки в совете директоров отнимали все время. Фамилия Ландау напомнила ему какой-то давний скандал, что-то связанное с семейной драмой – то ли убийство, то ли самоубийство. Ларс даже вспомнил имя – Максимилиан, точно, Максимилиан Ландау. Режиссер Ландау. Куинджи разгромил его «Тартюфа», спектакль сняли сразу после премьеры. Так, значит, Ивонна…
– Роль Гамлета и раньше успешно исполняли женщины, – с суетливым азартом влез старик, словно боясь, что его перебьют, – божественная Сара Бернар…
– …и тоже без ноги, – брякнул Ларс, цепенея от сказанного и не понимая, как такое могло сорваться у него с языка.
Ему показалось, что темнота справа набухла и налилась высоковольтным электричеством, как грозовая туча. Боковым зрением он увидел, что Ивонна не спеша стянула перчатку с правой руки, эта голая рука показалась Ларсу бледной и безжизненной, как у манекена. Ивонна небрежным жестом бросила перчатку на пол, потом, щелкнув чем-то у запястья, отделила правую кисть и аккуратно опустила бледно-розовый протез рядом с ножкой стула.
6
Барабан уже гремел во всю мощь, бил под дых, пробирая до мурашек. Сердце, попав в резонанс, беспомощно прыгало в грудной клетке и бухало в такт с барабаном.
Тем временем на сцене клубок человеческих тел превратился в многоногое-многорукое чудище, которое медленно сползло в зал и, раскачиваясь, направилось прямо к Ларсу. Одна из рук держала острозубую корону.
В красноватом полумраке зала возникло движение: зрители вставали и неспешно приблизились к Куинджи. Одни злорадно скалились, другие были деловито скучны. У некоторых вместо голов из воротников торчали рыбьи головы. Окружив, они подняли его вместе с креслом. Кто-то водрузил корону ему на голову. Ларс хотел вырваться, он решил сопротивляться, но по телу разлилась болезненная слабость, пробил холодный пот. Он почти терял сознание.
– Вино отравлено! Не пей вина, Гертруда! – с гадким смехом, кривляясь, прокричал снизу шталмейстер Кранц. Или это был не Кранц. Или это вообще только померещилось Ларсу.
Его несли, несли неспешно, будто саркофаг, будто жертвенное животное в нелепом и страшном языческом обряде. Куинджи, слабея, цеплялся за поручни кресла, красное марево раскачивалось и приближалось. Наконец кресло опустили на сцену. Куинджи поднял голову, прямо над ним горел тусклый красный софит. Взглянул вниз. Зал зиял слепой ямой, там колыхались щупальца и мокро мерцали рыбьи морды. Ларс был почти уверен, что разглядел Ивонну. Ивонна улыбалась и обмахивалась протезом правой кисти, как веером.
Барабан смолк. Одновременно потух софит, Ларс услышал, как, тихо потрескивая, остывала лампа над головой. В нарастающей темноте проплыли красные круги, потом погасли и они. Куинджи ощущал, как в густеющем мраке происходит какое-то движение. Он уловил странные метаморфозы, не услышал, но, подобно летучей мыши, запеленговал это. Чувство пространства обострилось, ему снова почудилось, что стены, пол и потолок медленно тронулись и начинают разгон. Внизу, раскрываясь, разрасталась душная мгла, предгрозовая, липкая. Ларс судорожно сглотнул, еще раз. Во рту стало сухо, в горле першило, подступал спазм. Судорога острой болью сдавила грудную клетку. Ларс испуганно зажмурился, чувствуя, как на лице выступил пот. «Все, конец!» – метнулась мысль. Куинджи, сжав поручни, вдавил свое тело в кресло. «Спокойно, спокойно… надо успокоиться, – уговаривал он себя. – Надо успокоиться».
Ларс начал глубоко и мерно дышать, пытаясь представить пол, крепкий деревянный пол из ладных струганных досок. Поначалу пол зыбился, шел мелкой рябью, топорщась сучками и неровными стыками. Постепенно волнение улеглось, и пол застыл.
Воздух посвежел, откуда-то пахнуло морем. Послышался тихий звон, словно кто-то пересыпал мелкие ракушки из ладони в ладонь. Донеслись едва слышимые детские голоса, они кого-то звали или дразнили. Ларсу удалось разобрать. Он разглядел и самого Поко-Пикколо – тот вполоборота стоял на границе светового круга, за которым гладкий дощатый пол тонул в непроглядной саже. Дурачок улыбался и манил, манил Куинджи рукой. Ларс с опаской привстал, осторожно выпрямился, сделал шаг. Еще один. Пикколо отступил во тьму. Ларс теперь различал его тщедушный силуэт, чернота уже не казалась такой непроглядной. Тощая фигурка удалялась, Ларс разглядел арку, за ней дверь. Пикколо радостно помахал рукой и исчез в проеме.
7
Там был коридор. Пол, бетонный и пыльный, шел под уклон, так что ноги переступали сами собой, ведя Куинджи от одного тусклого фонаря до другого. Бетонные плиты потрескались и лежали неровно, Ларс запнулся, упал, растянувшись во весь рост. Боль обрадовала его, он слизнул кровь с ладони. Вкуса он не ощутил, кровь оказалась пресной, как вода. Он помотал головой, зло сплюнул и, держась рукой за стену, побрел дальше.
Он сначала зачем-то считал фонари, но сбился на втором десятке. Теперь, приближаясь к очередной лампе, Ларс с размаху припечатывал ладонь к стене, пытаясь оставить на бетоне кровавую метку. Стены стали влажными и скользкими, словно вспотели. Ларс удивленно заметил, что на этих стенах кровь не отпечатывалась.
Он спотыкался, шаркал подошвами, отгоняя мысль о тупике. Сколько минут или часов прошло, Куинджи даже не представлял, время текло рывками, чередуя сгустки подробнейших, бесконечно нудных фрагментов с безнадежно глухими провалами.
Коридор кончился и уперся в двойную высокую дверь, почти ворота. Куинджи без особой надежды, устало уперев ладони, толкнул обе створки. Дверь качнулась, тяжело подалась и медленно раскрылась без единого звука. От неожиданности Ларс даже не обрадовался. Он замер в нерешительности, вглядываясь в темноту.
Перед ним расстилалась пустошь, поросшая бурьяном и низким кустарником, дальше шли огороды, которые спускались к темной реке, неподвижной и маслянистой, как деготь, с зеленоватой лунной дорожкой. На той стороне реки виднелась мельница, чернело колесо, вдоль берега росли старые ивы. В лунном свете макушки их казались припорошенными инеем. За ивняком начинался луг, тоже серебристый от луны, он полого тянулся до самого горизонта. Неподвижность реки оказалась обманчивой, Ларс разглядел, как течение медленно-медленно уносит блестящий предмет цилиндрической формы. Это был ингалятор, которым в детстве он спасался от астмы, только размером с гондолу.
Куинджи сделал шаг, хмыкнул и развел руками, словно извиняясь перед кем-то. В дальнем углу сознания всплыла вялая мысль: «Что за бред? Я ведь в Нью-Йорке, на Манхэттене. Этого просто не может быть». Но глаза, постепенно привыкая к серой тьме, разглядывали все больше подробностей – это был не Манхэттен.
Сквозь кусты и чертополох проглядывал красноватый свет, там что-то вспыхивало и мерцало. Ларс перелез через невысокий забор из дикого камня, обогнул старую, треснувшую пополам яблоню, всю в уродливых наростах.
В лощине горел неяркий костер. Перед огнем на земле сидел босой парень, зябко выставив вперед худые грязные руки. На нем был рабочий комбинезон и широкий клепаный пояс с карабином, каким обычно пользуются верхолазы. Парень рассеянно глазел на огонь и тихонько насвистывал какую-то мексиканскую песенку. Пламя лизало ладони мексиканца, плясало между его пальцев – Куинджи это ясно видел. Он подошел ближе и окликнул парня. Тот повернулся, правая сторона лица пылала оранжевым, левая казалась фиолетовой дырой. Парень едва заметно улыбнулся и, кивнув головой в сторону реки, сказал:
– Уже скоро…
Ларс заметил, как в черноте дальнего берега возник неясный силуэт, в тишине послышался тихий всплеск, по лунной дорожке пошли круги, и она рассыпалась, как пригоршня мелких монет, а еще через мгновенье на освещенном плесе показались уже две фигуры. По воде стелился туман, и Ларсу почудилось, что фигуры скользят прямо по воде, приближаясь к его берегу.
Над рекой и лугами плыла полная луна, неяркая и размытая, словно задернутая марлей. Проглядывали звезды. Легкая муть застилала все небо и неторопливо ползла на восток, где вдали грудились черные грозовые тучи, освещенные по краю зеленоватым светом.
Марля плавно разошлась, и в прореху выглянула луна. Черная прореха вытянулась и стала похожа на китайского дракона, сочная флуоресцентная луна оказалась сияющим драконьим глазом. По воде пробежало зеленоватое мерцанье, лучистое и яркое, словно отражение неоновой вывески. Волшебный свет переливался и манил, обещая покой и прохладу.
«Художники называют эту краску лимонный стронций, – раздалось в голове у Ларса. – Как странно, я ведь это все уже видел…»
В памяти его пронеслось воспоминание, скорее, тень воспоминания, о забытой картине с какой-то давней выставки, кажется, из России. «Или в музее? Где это было? Здесь? В Европе?» Ни имени художника, ни названия пейзажа он вспомнить не мог, как и тогда, сразу же после выставки.
По небу чиркнула звезда. Куинджи знал, что нужно загадать желание. Ничего загадывать не пришлось: в берег уже уткнулся тростниковый плот, на котором стояла мать Ларса. Рядом, держась за ее руку, стоял и счастливо улыбался портовый дурачок Поко-Пикколо.
Ах, майн либер Августин!
Евгений Баратынский (1800–1844)
- Мой дар убог и голос мой не громок,
- Но я живу, и на земле мое
- Кому-нибудь любезно бытие.
Часть первая
1
А подошвы были цвета застывшей карамели – Алекс едва удержался, чтобы не лизнуть их. Казалось даже, что от них пахнет не дорогой британской кожей, а сливочным пломбиром за девятнадцать. Тем приторно-сладким, в тепловатом, кляклом вафельном стаканчике, совсем тряпичном на ощупь… И дух этот, вперемешку с запахом горьковатой пыли и летнего зоопарка и тут же услужливо всплывшим в памяти оранжевым с белой лепниной круглым зданием метро, неказистое название которого он передразнивал на разные лады – «Черносоленская», «Кислобельская», – чем приводил в восторг родителей, видевшим в этом безусловные признаки юной литературной гениальности, на миг перенесли Алекса в его московское детство.
Из которого те же родители безжалостно выдернули его – «как морковку». И тривиальное сравнение, однажды придя ему на ум, уже навсегда застряло в голове.
Как морковку!
Теперь даже в овощном отделе при виде этих скучноватых рыжих корнеплодов на Алекса накатывала легкая волна сладкой жалости к себе.
– Да! Как морковку! Вы детство у меня украли! – кричал Алекс-подросток насупившимся родителям, махал рукой и, грохнув дверью, выскакивал на улицу.
Это – когда он еще жил с ними и ходил в ту тоскливую брайтонскую школу, провонявшую насквозь щами и потом.
…С суетливым завучем Марк Аронычем, неизбежно прозванным «Макаронычем» – с вечно расстегнутой ширинкой и перемазанными мелом локтями, драчливыми братьями Коганами из Житомира и подсматриванием с крыши шашлычной поверх фанерных женских раздевалок на пляже.
2
Брайтон-Бич…
У Алекса тогда даже появился малороссийский акцент – и в русском, и в английском. Хотя, если честно, по-английски ни в школе, ни дома, ни тем более на улицах Брайтона особо никто и не разговаривал.
Говорили в основном даже и не на русском, а на какой-то замысловатой мешанине русского и украинского. С неожиданным вкраплением исковерканных обломков английского.
Тогда, впрочем, как это обычно бывало в критические моменты жизни их семьи, ситуацию спасла Мама Ната. Называть ее бабушкой никто не имел права.
Даже Алекс.
– Мальчика нужно спасать! Это ж наказание, а не школа!
Бывший завуч немецкого языка московской спецшколы – в чем-чем, а уж в школах-то она знала толк!
Как когда-то, в Москве, рассекая столицу по разноцветным диагоналям и радиусам метрополитена, Мама Ната, выйдя на пенсию, таскала за собой переваливающегося, как куль, укутанного в шарфы и платки поверх серой заячьей шубы Сашуленьку-Шуренка-Сашеньку то на скрипку, то на фигурное, даже на балет, правда, недолго, – при Большом, конкуренция была жуткой, и Алекса через месяц отсеяли, так и теперь, в Америке, энергично раздавив окурок в гжельском блюдце (пепельниц она не признавала), Мама Ната повторила:
– Мальчика нужно спасать!
…И стала возить его в «настоящую американскую» школу – в Бруклине.
Сейчас, спустя годы, Мама Ната трансформировалась в памяти Алекса в некое полумифическое существо, что-то вроде Вондер-Вумен. Разумеется, без сексуальной составляющей.
Ему даже иногда казалось, что она не умерла, а просто растаяла, растворилась вместе с сизым дымом ее сигарет.
Просто исчезла, как, собственно, и положено исчезать дыму.
В крематории Алекс подозрительно косился на серую гипсовую крынку с давидовой звездой на макушке в руках отца – как могла костистая, громкая старуха уместиться там? В этой банке?
Последние годы ее жизни просочились совсем неприметно – Алекса уже не нужно было никуда возить, родителям тоже было не до нее, они азартно грызлись друг с другом или же не разговаривали вовсе.
Мама Ната ненавидела Брайтон, на улицу почти не выходила.
– Бердичев! – презрительно кивала она в сторону входной двери.
Сидела в старом кресле фисташкового цвета, грязноватом и сильно выгоревшем с правой стороны. Кресло было развернуто к окну – в узкой щели между домов был виден лоскутик океана с молочно-мутными силуэтами кораблей на горизонте.
Нещадно куря вонючий «Кэмел» без фильтра («Казбек», который она курила в Москве, здесь, естественно, не продавался), Мама Ната пристально, словно опасаясь что-то пропустить, вглядывалась в просвет между домов – туда, где было видно чуть-чуть воды и совсем немного неба. Иногда, отложив сигарету, чуть фальшивя, играла на губной гармошке. Одну и ту же мелодию:
- Ах, майн либер Августин, Августин, Августин!
- Ах, майн либер Августин,
- Аллес форбай.
Песенка эта относилась к наиболее ранним воспоминаниям Алекса.
В четыре года он вовсю уже распевал немецкий текст под бабушкин аккомпанемент, вытягиваясь на крашенном грязноватой охрой табурете с кухни и срывая нетрезвые овации глянцево-краснолицих в белых нейлоновых рубахах папиных коллег из Мосплодовощторга на всех домашних торжествах и вечеринках.
– Наумыч! – хлопали они отца по белой нейлоновой спине. – Санек-то, а?! Вундеркинд!
Алекс знал значение этого немецкого слова, но к славе относился спокойно, как к само собой разумеющемуся факту.
Знал Алекс и перевод песни, неожиданно грустный при столь игриво-разухабистой (по немецким меркам, разумеется) мелодии:
- Ах, любимый Августин!
- Все в этом мире лишь дым!
- Где смазливые подружки?
- Где веселые пирушки?
- Где тугие кошельки?
- Все исчезло без следа, да, да, да…
Такие вот примерно слова там были… ну или что-то вроде этого.
3
В «настоящей» школе южнороссийский выговор быстро исчез – даже русский акцент в его английском стал почти неприметен, остался лишь какой-то птичий присвист в шипящих. В английском их, шипящих, немного – поэтому Алекса почти всегда принимали за коренного американца.
Относительно его лингвистических способностей родители, которые, кстати сказать, сами так и не выучились английскому, оказались правы.
Правда, лишь отчасти…
Университет Лонг-Айленда дал Алексу все необходимое для вступления во взрослую жизнь.
Умение лихо, одним глотком выпивать пинту пива, курить марихуану не кашляя и, конечно, диплом, который сейчас висел под мутным стеклом в пыльной рамке на стене его крошечного офиса без окон, больше похожего на кладовку их квартиры на Пресне, чем на рабочий кабинет старшего составителя рекламных текстов одного из ведущих агентств Нью-Йорка.
Алекс еще раз понюхал подошвы и бережно поставил ботинки на кровать.
– М-м-м! Ваниль!
Чайка за окном, сидевшая на перекладине насквозь проржавевшей пожарной лестницы, склонила голову и уставилась в Алекса любопытной пуговкой черного глаза.
Алексу птицы не нравились. Вообще. Особенно не любил он чаек, и, пожалуй, еще ворон. К мелким, типа воробьев, относился с брезгливой безразличностью.
Алекс схватил ботинок, замахнулся, сделал вид, что бросает. Птица присела, сделав вид, что испугалась. Хотя ведь даже глупой чайке было ясно, что между ними стекло и что никто не станет кидаться ботинками за двести долларов.
4
Он сбежал по лестнице, прыгая через две ступеньки. Лихо скользя по кафельным пролетам, с замиранием сердца представлял страшные царапины и шрамы, покрывающие теперь карамельные подошвы его девственных ботинок. Распахнул тугую дверь.
Божественно!
Кристофер-стрит по утрам выглядит почти невинно, если не всматриваться, конечно, в витрины некоторых магазинчиков. Зевающий Эрик с розовым оттиском подушечного шва с пуговицей на щеке упругой струей смывал клочья пены с мостовой перед своим баром. Отчаянно пахло земляничным шампунем.
– Хо! – увидев Алекса, проснулся Эрик и округлил рот с аккуратной щеточкой усиков, делавшим его похожим на Фредди Меркури. – Выглядишь очаровательно! – И чмокнул воздух влажными губами: – Персик!
– Спасибо! – Алекс солидно одернул пиджак. – Презентация начальству.
– Удачи!
– Пока!
Алекс мельком скосил глаза в пролетающую мимо витрину булочной – действительно потрясно! Костюм, двубортный, в тончайшую серебристую полоску, с едва уловимым чикагско-гангстерским привкусом, но прежде всего классический, нет – Классический с большой буквы костюм – новенький, с иголочки, как и великолепно сияющие английские ботинки, да еще галстук, лимонный, подчеркивающий неординарность мышления, креативность, так сказать, – все это вместе прямо и недвусмысленно заявляло: «Посудите сами, господин директор, Алекс Грин – импозантный, талантливый профессионал, за три года проявил себя с наилучшей стороны – явно заслуживает быть творческим директором отдела медикаментов. Подумайте, господин Старк, подумайте».
5
Кстати, вторую часть своей фамилии «берг» Алекс потерял на первом курсе, когда снимал крошечную квартирку в Бронксе пополам с Лорой, Лорой Файн. Изначально Файнштейн.
– Еврейство неактуально! – соря пеплом на немыслимо грязный афганский ковер, купленный на блошином рынке за пять долларов, заявляла она.
И хрипло смеялась, закидывая голову, снова стряхивая пепел на ковер.
Алекс иногда спал с ней, так, по-приятельски. Она, впрочем, не возражала – у нее с поклонниками тоже не очень клеилось.
Алекс даже как-то раз привез ее на Брайтон.
На старый Новый год.
Мама Ната строго посмотрела на Лору поверх очков, придушила окурок и заиграла своего Августина. Судя по всему, Мама Ната тоже считала еврейство не слишком актуальным.
– Вот и ты так будешь! – На обратной дороге, перекрикивая страшный шум подземки, Лора жарко дышала ему в ухо мамиными пельменями с луком. – Эмигрант!
Быть эмигрантом Алекс не хотел.
И поэтому стал Грином.
6
Он пересек площадь и сбежал в метро. Вниз, ловко цокая по острым чугунным ступенькам.
Станция, мутноватая после солнца, с пыльными желтыми фонарями, дохнула сырым и ржавым железом.
Ввинчиваясь в утреннюю толпу, наметанным глазом определил, где остановится дверь вагона. Протиснулся и стал ждать.
По центральным рельсам станции пронесся экспресс. Прогромыхал, лязгая, словно тысяча чертей сорвалась с цепи. Некоторые на платформе, сморщившись, привычно заткнули уши руками. На Кристофер-стрит останавливались лишь местные поезда. Грохот от экспресса был совершенно адским. Заломило в висках. Секунда – и поезд исчез в тоннеле. А густое эхо еще с минуту висело на станции, нехотя затухая.
Вообще, с непривычки нью-йоркская подземка производила достаточно гнетущее впечатление. Достаточно гнусное, можно даже сказать.
7
Алекс к подземке привык. Как-никак два раза каждый день – тут хочешь не хочешь…
Вдруг вспомнил белые воздушные арки, мрамор цвета копченой колбасы и сияющий натертой бронзой револьвер пограничника на «Площади Революции», кажется… Револьвер этот так приятно было трогать варежкой, мимолетное прикосновение в толчее – секунда – и все! – влекомый могучей энергией Мамы Наты туда дальше, наверх, где балет и странные слова па-де-де и па-де-грас.
Дверь действительно остановилась прямо напротив. Не вышел почти никто, все утром ехали в Мидтаун – работать. Алекс выдохнул, прижав руку к груди, как бы защищая лимонный галстук, втерся внутрь.
Оказалось, что внутри не так уж и тесно. Он повел плечами, приосанившись, поддернул манжеты. Посмотрел время – нормально, успеет даже еще в «Старбакс».
Мысль о кофе по-детски зажгла – как предвкушение крошечного праздника. Даже больше, чем предстоящая презентация начальству.
На Таймс-сквер часть пассажиров выдавилась из вагона, чуть меньше вошло. Стало вообще почти что просторно.
Алекс ухватился за теплый от чьих-то рук хром поручня и, качаясь в такт с грохочущим вагоном, понесся дальше сквозь темень туннеля.
Перед ним сидел мальчишка лет тринадцати. Согнувшись над какой-то пиликающей и квакающей игрой, остервенело гвоздил большими пальцами выпуклые кнопки, умудряясь одновременно держать одной рукой банан, изредка кусая его, ныряя головой вниз.
Алекс непроизвольно разглядывал эти маленькие, проворные руки, грязноватые и в царапинах (кошку наверняка мучает, пакостник), с расплывшейся переводной татуировкой (естественно, череп), нервно-шустрые, как два паука, снующие пальцами по разноцветным кнопкам, размазывая по ним клейкую банановую кашицу. От приторной вони Алекса замутило. Он сдвинулся бочком вдоль поручня, не без усилия оторвав взгляд от этих рук. Уставился в окно.
За тусклым стеклом с хрипом, свистом и мерным перестуком пролетала бесконечная чернота, змеиное сплетение грифельно-черных проводов в руку толщиной, уносились вялые желтые и ультрамариновые огни.
Как утверждала Лора – все, что она говорила, подавалось именно в форме утверждения или заявления, в диалоги, как правило, не вступала, – Алекс – вылитый скандинав. Внешне. Вылитый викинг.
Алексу это льстило, он ей не возражал. Хотя, конечно, понимал, что Лорин авторитет в данном, скандинавском вопросе, да и, уж если на то пошло, в мужском вопросе в целом, крайне сомнителен.
Он чуть поправил волосы. Сбоку, за ухом. С раннего детства они там закручивались вверх. Справа и слева. Двумя упрямыми крыльями. Приходилось их раскручивать и сушить феном. А из-за фена волосы стали выпадать. А может, просто, а вовсе не из-за фена. От возраста. Отца с волосами Алекс не помнил – розовая лысина с масляным бликом на макушке. Чертова генетика! Алекс переживал страшно. Втирал какие-то вонючие бальзамы – все бесполезно. Волосы лезли и лезли. Особенно спереди – поредели катастрофически, а залысины! – об этом лучше и не говорить.
Да, залысины… Алекс по-птичьи повертел головой. Да… Отражение его лысеющей головы с дырами теней вместо глаз, лимонным галстуком и великолепным, в тончайшую полоску, костюмом, покачиваясь, стремглав скользило по графитной черноте за стеклом вагона.
8
На следующей ему выходить, на Сорок второй…
А как он был счастлив, именно счастлив, по-детски доверчиво и бесконечно, когда после пяти муторных, как общение с дантистом, после пяти выкручивающих душу интервью Алекс, всего через полгода после университета, получил место в «Силвер-энд-Старк»!
Старший копирайтер!
Это вам не фунт изюма, как говорила Мама Ната. Это «Силвер-энд-Старк»! Семнадцатое агентство в Нью-Йорке – посмотрите «Форбс».
Он сразу же сделал две вещи, обозначив этим начало новой жизни. «Две вехи на пути к новой жизни!» – так он сам это называл. Во-первых, и это было совершенно безотлагательно во-первых, съехать с поганой квартиренки, которую почти четыре года делил с неряшливой Лорой!
Ему даже сейчас мерещилось, что от каких-то его старых вещей пахнет Лорой.
Правда, ошалев от счастья и впопыхах подмахнув контракт на аренду новой односпальной квартиры на пятом этаже чуть облезлого домика в Гринвич-Виллидж, Алекс с опозданием заметил, что живет теперь, оказывается, в самом сердце района, облюбованного лицами с нетрадиционной ориентацией. Сексуальной.
Но нет худа без добра – эта досадная неожиданность помогла ему в осуществлении жизненной вехи номер два. Веху звали Кристина.
Кристина была монголкой с плоским лицом, мускулистыми икрами и рискованной татуировкой на левой ягодице. Глядя на ее чуть кривоватые сильные ноги, Алекс воображал бескрайнюю степь, седовато-серебристый, стелющийся гладкими волнами ковыль. Коренастые лошадки, сияя глянцевыми крупами, несутся, дробно топоча в сторону заката.
Алекс никогда в Монголии, разумеется, не был. Ковыля он тоже не видел. Это был так, просто образ. В конце концов, он тоже творческая личность. Отчасти.
У крепконогой Кристины на Алекса были далеко идущие планы. Она хотела размножаться. Ей казалось, что пришло самое время. И поскольку их пресноватый роман вяло перетек в третий год, Кристина решила – пора! Алекс так Алекс. Пусть будет Алекс. Тем более вот он – тут, под рукой. Не хуже других. Не говоря уже о том, что для Кристины все эти белые были на одно лицо – чуть выше, чуть короче, а так – разницы особой нет – нос, два глаза.
То ли дело – монголы! Так ведь разве найдешь достойного монгола в Нью-Йорке?! И не пытайся – забудь!
9
У Алекса тоже были планы. Прямо противоположные. Хотя они, его планы, также включали в себя некоторые элементы процесса размножения. Но без детей. И не с Кристиной.
Кристина его вполне устраивала на том отрезке, в Бронксе. Она была на пару лет старше, работала каким-то начальником в компьютерной конторе среднего пошиба, гоняла, как маньяк, на открытом «Мустанге». Любила рестораны и была весьма изобретательна в сексе. Это плюсы.
Но вместе с тем… Вместе с тем, особенно на пляже – для Алекса пляжи и бассейны были просто пыткой, ему казалось, что все эти голенастые, с хрупкими щиколотками и изящной линией бесконечного бедра, все эти пышногривые блондинки – насмешливо, качая головой и прицокивая, поглядывают на степную лошадку и на него – белокурого красавца (тогда волосы еще не так лезли), и их томные васильковые глаза влажно шепчут: «Эх ты, викинг… Ну что ж ты так?» – и Алекс мучительно жмурился и переворачивался лицом вниз, на живот, чтоб не видеть ни этих, ни той, с которой он здесь, и, беззвучно поскуливая, нянчил свою тоску.
Он не сомневался, просто был уверен, что заслуживает большего. Гораздо большего! Нет, не просто самки с лучшим экстерьером. Хотя и это, конечно, тоже. Да! И непременно длинные ноги! Разумеется…
Относительно женщин: дело в том, что он видел смысл и увлекательность процесса в разнообразии. В вариациях. Поэтому обладать одной, пусть даже наипревосходнейшей, высочайшего качества (с бесконечными ногами, да!) особью женского пола – но лишь одной! – было для Алекса вариантом не слишком привлекательным.
И не то чтобы это был эгоизм в чистом виде. Напротив, самому Алексу казалось, что это что-то вроде его миссии – как он это объяснял как-то раз Лоре, выцеживая остатки из бутылки текилы себе в стакан и соря солью по столу, – хотя отчасти ведь это он делает и для них. Женщин, в смысле!
Эдакое сексуальное подвижничество… ну в некотором роде.
10
Вдобавок грубоватая, излишне эмансипированная (на взгляд Алекса, разумеется) Кристина сделала непростительную ошибку. Серьезный и фатальный промах. Услышав как-то от Алекса, что он-де похож на скандинава, она хохотала, долго и до слез. После, наконец, угомонившись и лишь изредка икая, трубно высморкалась в бумажную салфетку (вообще она сморкалась и чихала на удивление громко, с каким-то медным нутряным эхом, вроде геликона) и наконец сказала, что он, Алекс, чуть ее не уморил и похож он не на скандинава, а на рыжего стремительно лысеющего еврея.
Этим Кристина решила свою судьбу.
Исключительно справедливости ради – отчасти она была права. Летом по всему телу Алекса высыпал рой веснушек, а волосы, включая брови и ресницы, становились белесо-оранжевыми, как у недорогих кукол. Почти рыжими.
11
Обычно все романы Алекса, если, разумеется, инициатором разрыва был он сам, заканчивались хитросплетением тягучего вранья, бесконечным нытьем по телефону с внезапными вспышками сарказма и неожиданно едких обвинений и даже рыданиями (да, Алекс, запросто мог пустить слезу, особенно по пьяному делу). Этот тягомотный процесс долго вытерпеть не мог никто. Ни одна женщина. Собственно, в этом и был смысл.
Кристина же просто так сдаваться не собиралась – она рассматривала два с лишним года их отношений как инвестицию. Своего рода вклад. Не говоря уже о том, что за эти два года она не стала моложе. Скорее наоборот.
Алекс в панике, перетекающей в парализующий ужас, ясно вдруг увидел, что обычные его уловки здесь вряд ли сработают. Что от Кристины ему не отбояриться. Что он пропал, что это – конец.
И тут ему пришла в голову «совершенно гениальная идея». Это с ним, кстати, случалось довольно часто – гениальные идеи.
Он только что переехал на новую квартиру – туда, на Кристофер-стрит.
И вот, сидя в итальянском ресторанчике, уже ближе к десерту, Алекс трагическим голосом сообщил Кристине, что он гомосексуалист. И что он перебрался туда, на Кристофер-стрит, чтоб быть поближе к своим. «К своим» – так вот и сказал. И что он пытался… Все эти два года… С ней… Думал, а вдруг?!. Ведь родители, да, внуков хотят и все такое… Но против природы не пойдешь… А? Ведь нет. Нет…
Алекс сказал все это, замолчал. Сделал собачий взгляд. Понурил голову. Подумав, тихо захныкал.
Кристина молча выслушала его. Молча выплеснула остатки кьянти из своего бокала ему в лицо и на голубую рубаху с миниатюрным крокодилом, вышитом на кармане. Молча встала. И ушла.
Алекс вытер лицо салфеткой и попросил официанта принести только один десерт и сразу счет. Больше Алекс ее не видел.
Крепконогие коренастые лошадки ускакали за горизонт. Им на смену, заносчиво вскидывая горделивые коленки и зазывно поцокивая хрустальными подковками, выступил новый табун беспечных и шаловливых проказниц. Одна за другой, когда даже парами. С белокурыми гривами или цвета топленого молока, золотистыми или в медь, такими шелковистыми, если погладить, закрутились, замелькали, слились в веселую бесконечную карусель. Джессика, две Аманды, Лорейн… Моника…
12
– Сорок вторая! – прошамкал голос из радио. – Выход в город, Гранд-Сентрал, Мид-Таун, переход на «синюю» до Квинс!
«Чертова Кристина! Чуть свою станцию не прозевал! – Алекс протискивался сквозь туго втекающую в вагон толпу. – Черт!»
Высвободившись и чудом сохранив все пуговицы, Алекс, ловко балансируя, поспешил по краю платформы к выходу. Зашипев, закрылись двери.
Состав лязгнул и плавно поплыл, набирая скорость. Замелькали окна, лица, лица, лица, распахнутые газеты, чьи-то вздыбленные розовые, как сладкая вата, патлы…
Алекс отстранился от поезда и, не сбавляя шага, крепко зацокал эхом в сводчатый потолок.
Правая подошва вдруг заскользила. Как по льду. Завоняло бананом. Алекс поднял ногу. К подошве пристала раздавленная желтая в коричневых пятнах кожура, сочная и липкая. Алекса передернуло от омерзения. Он начал неуклюже шаркать ногой, счищая прилипшую гадость.
Тут загудел поезд. Алекс вздрогнул, стараясь сохранить равновесие, зацепил локтем несущийся состав. От удара волчком прокрутился вокруг собственной оси. «Как в балете!» – глупо подумал он.
Платформа с кремовыми шашечками кафеля вздыбилась, сцепилась с ревущей жестью вагонов. Алекс зажмурился.
Сзади кто-то закричал.
13
«Угодить под поезд! Именно сегодня! Вот было бы нелепо!» – с неожиданной веселостью подумал Алекс. И открыл глаза.
Состав скрылся в туннеле. На платформе лежал его черный ботинок.
Алекс, не рашнуровывая, втиснул ногу, поправил задник, пару раз стукнул каблуком, – порядок! – и побежал к выходу.
На кофе времени уже не было, ничего, потом!
В лифте пригладил, поправил, одернул – оглядел строго, подмигнул зеркалу – отлично!
Лифт волшебно звякнул – дзынь! – тридцать седьмой.
Деловито-лучезарное выражение лица, рука в кармане, уверенная солидная поступь.
Викинг!
Стремительно через стеклянные двери, неотразимая улыбка секретарше:
– Привет, Дженн!
– Все уже там, Алекс!
– Неужели опоздал?!
Двойные ореховые двери на массивных медных петлях с достойной плавностью беззвучно раскрываются.
Все уже действительно там.
И сам директор мистер Старк в малиновом кресле, похожем на трон. Улыбается. Бабочка на шее. И мистер Силвер, президент и компаньон. Тоже приветливо ему кивает, мол, заходи, не стесняйся! А грудастая мисс Лоренц, вице-президент, та аж смеется, закинув на стол ноги в изумрудных сапогах с золотыми подковками. И рукой ему машет. Вот дела!
Два арт-директора – один незнакомый, с черной разбойничьей бородой, другой Хэнк – лихо жонглируют пластиковыми пепельницами и мобильными телефонами, ловко и высоко подкидывая их. Иногда, зычно вскрикнув, успевают хлопнуть в ладоши, не обронив ни одного предмета. Высокий класс!
Пятерка смешливых копирайтеров, двое из его отдела – из медикаментов, обнявшись за плечи, приятно поет на несколько голосов, раскачиваясь, как на волнах. Другие хлопают шампанским, разливают вино по высоким бокалам, смеются, звонко чокаются.
А за всем этим – сквозь огромное во всю стену окно – влетает слепящее солнце, отражаясь в стеклянных небоскребах, стальных башнях и шпилях, в миллионе хрустальных окон-зеркал, рассыпаясь на многоцветье крошечных радуг, и еще этот запах! – ваниль! – запах сливочного пломбира… и еще чего-то, ну да! – теплой лесной земляники.
И Алекс тоже смеется, смеется вместе со всеми, чокается, пьет шипящее щекотное шампанское. Кто-то потянул за рукав, вложил что-то в его ладонь. Что это? Губная гармошка? Зачем?
Директор поднял руку, помахал Алексу.
Алекс облизнул губы, вдохнул полную грудь. И начал играть.
Сперва мистер Старк, – директор, а за ним уже и все остальные, и мисс Лоренц, и ребята из творческого отдела, даже секретарша Дженн, мышкой проскользнув в щель ореховой двери, все подхватили мелодию, все запели, сначала не очень чтоб стройно, чуть вразброд, а дальше все слаженней, все звонче.
А Алекс изо всех сил пучил щеки, дул в гармошку, а правой рукой махал в такт, дирижируя, чтобы они не сбивались:
- Ах майн либер Августин, Августин, Августин!
- Ах майн либер Августин!
- Алес форбай!
Часть вторая
1
– Ну не тяни ты кота за хвост!
Лесли поднимает глаза. Осуждающе смотрит на меня:
– Сколько?
– Не видишь?! Две! – У меня внутри уже все кипело. – Две!
Лесли вялыми пальцами снимает две карты. Снял сверху и эдак лениво подпихнул в мою сторону. Пижон!
Все уставились на меня. Притихли.
В игре остались только мы с Лесли, на кону миллионов семь. Может, больше, черт его знает… У меня на руках флэш-рояль на пиках. Без одной…
Лесли мелко-мелко постукивает указательным пальцем по своим картам. Аккуратной стопочкой сложил, педант! Но, видать, нервничает тоже.
Я прижимаю карты к груди, чуть отгибаю уголок первой – дьявол! – бубна. Шансы мои понеслись к нулю.
Лесли впился взглядом, серые глаза, черные дробинки зрачков. Пенсне.
Я – камень! Невозмутим, непроницаем. Лицо – маска!
На шее Лесли, сбоку, забилась, запульсировала жилка – психует! Покрутил вправо-влево головой, как курица, в тесном хомуте стоячего воротника, жмет, видно. На воротнике оловянная черепушка с дубовыми листьями – сегодня он вырядился штурмбаннфюрером СС. Дивизия «Тотенкопф». «Парадная униформа! – со значением сказал до начала игры Лесли, снимая ворсинку с черной бархотки лацкана. – Любимцы фюрера!» Лично мне это его увлечение военным обмундированием кажется слегка, м-мм… нездоровым… но это так, к слову. Его личное дело. Мне говорили, он много работал с тем сектором, по времени и территории, – говорили, что даже какие-то проблемы возникли, реабилитация, что ли, точно не знаю, врать не буду…
Тишина – абсолютная. Все ждут. Последняя карта.
Я думаю – была не была! – решаюсь… И тут запиликал мой пейджер! Заныл, занудел полудохлой мухой по стеклу.
Я глянул – срочность ноль! Категория А.» 287-й сектор. Дьявол (прости меня Господи)!
Ну тут все заорали, загалдели: «Миша, давай!» (Миша – это я.)
А Лесли выпрямился, ладошки потер. Этаким простачком, будто ни в чем не бывало:
– Ну что ж, отложим… Жаль, конечно…
Блефует, точно! На руках ничего! Ясно как божий день!
– Ну уж нет, сейчас и кончим. Сейчас! – кричу я.
Открываю последнюю – шмяк – шлепнул о стол. Ха! Туз пик!
– Флэш, – говорю, – рояль.
Ласково говорю так. И все карты выкладываю – десяточка. Валет, дама, король… И туз!
Все к Лесли повернулись – а у него что? Вдруг побьет? Но Лесли поскучнел сразу. Ноготком мизинца брезгливо свою стопочку карт отпихнул, хмыкнул, – мол-де, невелика потеря. Встал. Поскрипел кожей рыжей кобуры, бормоча «доннерветтер» и «цум тойфель», достал черный парабеллум, приставил к виску. Взвел курок.
Шут гороховый! Никто даже внимания не обратил – все давно привыкли к его выходкам.
Из-под стола Леслины лаковые сапоги торчат, блестящие, с серебряными шпорами. А на концах такие колесики. Как звездочки.
Я нежно сапоги подвинул, припав к столу, сгреб весь выигрыш. Ссыпал за пазуху. Потом посчитаем! Потом…
Пейджер продолжал зудеть. Замигал красным уже.
Дьявол!
Я подключаюсь, активирую САН. Пошел!
Я явно опаздывал. Минут на пять. Что с одной стороны – пустяк, миг… а с другой… Все очень относительно. Но об этом лучше не думать. Сейчас, по крайней мере.
Пробежался по досье. Обычный ССК из 287-го. Это легче – похоже, сюрпризов не будет.
2
Я пробил сноп рыжих искр, взрезал и рассек поток, вокруг все затрещало, зашипело бенгальскими огнями, звезды вытянулись струнами, вдруг спутались в горящий клубок, солнце подпрыгнуло из-за горизонта и выплеснулось на ледяной купол полюса, вонзив жало луча перпендикулярно вверх. В кромешную тьму.
Тут же внизу все взорвалось и вспыхнуло синим, потом бирюзовым. Я вошел в атмосферу.
Отключил САН. Начал снижаться.
Над сектором – ни облачка.
Был я в 287-м и до этого. Несколько раз. В других временных сегментах, разумеется.
Срезая угол, пробил несколько башен, непонятно, зачем строят такие высокие! – мерзкое ощущение, жутко зачесалось нёбо. Нырнул вниз. Господи! – коммуникации, тоннели, какие-то бесконечные провода, сами наверняка запутались, не знают, где что у них там. Сыр швейцарский!
Так… Похоже здесь. Точно.
3
Осмотрелся.
Клиента нет, черт… Спокойно, спокойно…
Еще раз и внимательней.
Внизу уже собралась приличная толпа, запрудив всю платформу. Поезд наполовину вполз в туннель, хвостовой вагон остановился посередине станции. Тучный негр, похоже, машинист, осев и согнувшись, упирался локтем в жесть последнего вагона. Словно пытался свалить его на бок. Поднимал лицо цвета серой глины с бессмысленно сизыми белками и опять нырял головой вниз. Его тошнило.
Рядом топталась медсестра, держа наготове шприц. Два полицейских переговаривались чуть поодаль. Медсестра поглядывала на них, разводя руками, вроде как извиняясь за машиниста.
Дальше вдоль платформы, между последним и предпоследним вагонами, несмотря на страшную толчею и давку, было пустое пространство. Полукруг. По периметру полицейская лента натянута. Желтая такая. Зеваки напирали, вытягивали шеи, привставали на цыпочки, стараясь заглянуть в щель между вагоном и краем платформы.
Изредка вспышка окрашивала потолок бледным холодом, тут же гасла. Фотограф, стоя на коленях, втиснул голову между вагонов и щелкал камерой.
Тут же, по огороженному полукругу, прохаживался некто в штатском, судя по бляхе на поясе, тоже из полиции, инспектор или что-то вроде того, короче, начальник. С кофе в картонном стакане. Делал глоток, морщился, будто пил отраву. Ходил туда-сюда. Присел на корточки, рассматривая что-то на полу. Какой-то темный предмет. Я пригляделся – башмак! Черный ботинок.
Инспектор щелкнул пальцами, что-то сказал, подозвал фотографа. Тот, кряхтя, вылез. Разогнулся, ворча. Начал фотографировать башмак.
Я пролетел вдоль состава, заглядывая в ниши в потолке и вентиляционные шахты. В последней, уже на входе в тоннель, нашел клиента. Своего ССК. Слава тебе Господи!
4
С души отлегло, похоже, все нормально… Я тут же, как и положено по инструкции, представился, мол, такой-то и такой-то… Объяснил ситуацию. Хотя, как правило, это пустая трата времени. Что тоже вполне понятно.
Он вяло переспросил:
– Размещений?
– Из Департамента приема и размещений. Точно! И я лично сделаю все возможное, чтобы процесс перехода прошел безболезненно. – Это я по инструкции шпарил, слово в слово. От себя добавил: – Безболезненно. По возможности даже приятно.
Он кивнул.
Я выдохнул с облегчением. Это самая что ни на есть собачья часть моей работы, вот эти самые первые минуты.
– Ну вот и славненько, – нежно улыбнулся я. – Тронемся помаленьку?
– А где я?
Ну вот, снова-здорово! Я кивнул в сторону поезда, полукруга, где лежал башмак, вокруг которого ползали на карачках фотограф и инспектор.
Он раскрыл рот, но так ничего и не сказал.
Я ужас как не люблю рассусоливать, так еще хуже. Предпочитаю сразу. Сразу и в лоб. Без недомолвок. Поэтому сказал просто и без обиняков:
– Под поездом. На рельсах. Где-то между первым и вторым вагоном. С конца.
– А как же? Я же… я же… И мистер Старк? А? И Августин?
Конечно, это была моя вина. Сто процентов. Но, с другой стороны, не мог же я флэш-рояль выкинуть, в самом-то деле. Ведь нет!
Поэтому начал я ласково:
– Видишь ли, Алекс, на практике в момент отделения… э-э… души, так сказать, от тела… собственно, непосредственно в момент… э-э-э… Ну ты понимаешь, да?
Он кивнул.
– Так вот… По инерции… – я, честно, в теории не очень, поэтому объяснял, как умел, – по инерции мысль, скажем, чтоб тебе понятно было, мысль, значит, она продолжает работать. Какое-то время… Поэтому в твоем сознании возникают разные там картины. Ну в смысле, образы. События. Плод фантазии, так сказать… Я понятно говорю?
Он снова кивнул.
– Я должен был тебя сразу забрать… ну как только ты… того… У меня задержка вышла. Заминка. Технического характера…
– Технического?
– Ну типа… Этот пижон, Лесли… понимаешь, я просто должен, должен был его на место поставить! Проучить! А у меня как раз флэш-рояль на руках!
– Покер?
– Ну да! Вот видишь, понятная ведь ситуация? А тут ты… Не мог же я просто взять все и бросить? А? Вот опоздал.
Он молча глядел на меня. Потом спросил:
– Ну и как?
– Что как?
– Проучил? Этого… Лэсси?
– Лэсси – собака из кино. Лесли. Проучил! Еще как! Застрелился.
Он вздрогнул.
Я засмеялся, махнул рукой:
– Да нет, нет. Все нормально, ерунда. Потом объясню. По дороге. Ну что, тронули?
Он рассеянно глядел вниз, на толпу под нами, крышу поезда. Полукруг с полицейскими. Ботинок. Спросил:
– Куда?
Его белесые ресницы наивно захлопали. Как у дорогих кукол с фарфоровыми лицами.
И хоть это против инструкции – никаких персональных эмоций, мне стало его жаль. Я мягко начал:
– Это что-то вроде, э-э, сортировочной станции… ну да… что-то типа того. Доставляем туда, размещаем. А уж потом оттуда, – я замялся, – ну кого куда…
Я зачем-то засмеялся и неопределенно кивнул вверх головой.
– Куда? Куда-к-к-уда-куда?
Он вдруг от волнения начал заикаться. Не на шутку разволновался, видать.
– Алекс! Я, – я хлопнул себя в грудь ладошкой, сделал честное лицо, – я из Департамента приема и размещения. Ангел пятого класса. Обслуживающий персонал. Вот доставлю тебя сейчас, устрою, размещу в лучшем виде…
– А потом куда? Куда?
– В геенну огненную! – пошутил я.
Зря пошутил.
5
– В ад! В ад! – Он схватил меня за руку, потянул, у самого губы дрожат. – В ад? Да? Ведь в ад?
Слезы покатились, крупными такими каплями, никогда не видел, чтоб вот так… Тем более чтоб мужик…
– Да угомонись ты, честное слово! Ад, ад! Заладил, как ворона. Попугай, в смысле… Нет никакого ада!
Он вскинулся, зачем-то мою ладошку обхватил и к груди притянул:
– Нет? Как нет? Нет ада?
Весь сегодняшний день шел наперекосяк, хорошо, если двумя-тремя штрафными отделаюсь… Если про опоздание узнают – дисциплинарку влепят, сто процентов!
Я выкрутил руку из его на редкость цепких пальцев:
– Ну подумай сам! Ты ж взрослый человек. Работаешь в… работал, в смысле… ну да не в этом дело… Что ж, кто-то, по-твоему, будет весь этот огород городить под землей? Да? С чертями, вилами, сковородками? Да?
Он слушал. Слушал очень внимательно.
– Вот ты, к примеру… Ты попал под паровоз, да? От тебя натурально один паштет остался. Без обид, я так, чтоб понятней… Так вот этот паштет, что ж, вилами и на сковородку? Подумай… нелогично как-то, а?
Он недоверчиво покачал головой:
– Не-е-ет, так не может быть…
Собственно, мне терять уже было нечего. Да и вообще он производил впечатление милого парня. Если не читать его досье. Я читал. Но все равно сказал:
– В двух словах и между нами. Идет?
Он кивнул.
– Так вот. Нет ни ада, ни рая. Есть только ты и твой жизненный опыт, м-м, со всеми плюсами и, так сказать, минусами.
– А как же адское пламя, грешники там… С этим-то как?
– Слушай, ты вроде образованный парень, университет окончил, да? Какое пламя? Чего там жарить? На пламени? Тела нет, вон паштет один на рельсах. Фарш, извини за грубость… Душу, что ли? Жарить, да? Душу? Это ж все для крестьян безмозглых придумано было. Ну ты-то, а?
И я покачал головой, вроде как ай-яй-яй.
Он задумался.
– Вот видишь, – продолжал я, – у тебя, если так, вчерне, два варианта.
Он насторожился.
– Первый… – я пробежался мысленно по его досье, – первый, позитивный… – будешь кувыркаться со своими дурами длинноногими до скончания веков, так сказать, рестораны всякие, курорты. Кстати, да! Никаких венерических болезней. В конторе у себя станешь начальником, потом еще главней, все тебе целовать задницу будут – ты ж любишь! Да, ладно, брось, знаю, любишь. Что там еще… Ну машины, чего ты там мечтаешь, дай гляну, «Мазератти» – будет и «Мазератти». И «Бугатти». И черт со ступой. Яхты-шмахты, виллы-шмиллы… Короче, полный набор.
Он заулыбался.
С какой-то даже детской невинностью. Голубые глазки распахнул, ими хлоп-хлоп. Я тут понял, что в нем девкам-то нравилось. Вот эта самая невинность. Вот ведь дуры, прости меня Господи!
– Но есть и второй, – я поднял палец, – второй вариант!
Улыбку вмиг сдуло.
– Второй вариант… Как ее, э-э-э, во – Кристина. Кристина! С работы тебя выпрут, станешь кормящим отцом. Ложка, плошка, поварешка. Передник в горошек. Кристина тебе будет детишек рожать, маленьких, кривоногих. Орать будут – жуть! Какать-писать прямо на коленки тебе. Потом вообще в Улан-Батор всей семьей переедете, кумыс на завтрак, обед, ужин будешь кушать. Кристина целый день на работе – компьютеризировать Монголию, а ты – в юрте, с ребятней… С детишками.
Он помрачнел, спросил:
– А кто решать-то будет, какой вариант?
– Это Комиссия. Все они. Там… – Я снова неопределенно мотнул вверх.
Он раскис. Представил, наверно, детишек. Или Улан-Батор.
– Не кручинься, брось, может, еще все обойдется. Может, первый вариант как раз и выйдет. С этими – Джессиками, Амандами… С Лорейн… Моника еще… Ну? Давай двигать, а? Как там бабка твоя, училка, пела: «Не грусти, Августин, гляди бодрей!» Так, что ли?
Я балагурил, валял ваньку, прихохатывал – хотелось мне Алекса хоть как-то приободрить. Но если честно и между нами, разумеется, то его шансы на семейное счастье в Монголии были очень высоки. Очень.
Виртуоз
- Волшебной силой вдохновенья,
- Как жезл посланника богов,
- Певец низводит в царство тленья,
- Уносит выше облаков
- И убаюкивает чувства
- Святыми звуками искусства.




















