Читать онлайн Господа офицеры бесплатно
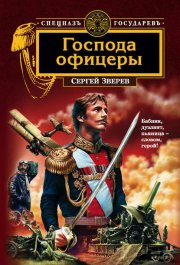
1
Весенний воздух был свеж и прохладен, сладко пахло молодой листвой, цветущими ландышами и жасмином. Крупные капли вечерней росы блестели и переливались в мягком лунном свете на травинках, бело-розовых щитках кашки, сердцевидных листьях сирени. Стояла полная тишина. В этом году середина апреля радовала погодой обитателей Царского Села, было тепло и сухо.
В глубине дворцового комплекса располагался двухэтажный флигель, фасад которого был украшен декоративными лепными венками, розетками, маскаронами, летящими голубями. Флигель был построен век тому назад, при Александре I Благословенном.
От флигеля, негромко урча четырехцилиндровым мотором, отъехал «Паккард» с откинутым верхом. В машине были двое. Гравий дорожки, окаймленной китайским можжевельником и фигурно постриженной туей, тихо похрустывал под колесами «Паккарда». В конусах яркого света фар автомобиля кружились ночные бабочки. Их тени, огромные и неровные, скользили по дорожке, словно исполняли фигуры какого-то фантастического танца.
«Паккард» затормозил перед воротами из литой чугунной решетки. Из будочки, стоящей справа от ворот, вышел часовой дворцовой стражи, гвардеец Семеновского полка, и приблизился к машине. Он сразу узнал молодого человека в кадетской форме, сидящего за рулем автомобиля.
Гвардеец вытянулся в струнку, отдал честь:
– Здравия желаю, ваше сиятельство!
Да, на шоферском месте сидел член царской семьи, шестнадцатилетний великий князь Николай. Было в его юном лице что-то характерно романовское, общесемейное, напоминающее его венценосного тезку Николая Второго, императора всероссийского. Отчаянные серые глаза, немного курносый нос и темный пушок над верхней губой… Симпатичный юноша!
Он был из Константиновичей, его дед – великий князь Константин Романов – заслуженно считался одним из самых приятных и обаятельных членов императорской фамилии. Под псевдонимом К. Р. великий князь Константин опубликовал сборник своих стихотворений, очень, кстати сказать, неплохих.
Второго сидящего в автомобиле человека семеновец тоже знал, как знали его, наверное, все в Царском Селе. Это был крупный усатый мужчина лет под шестьдесят, звали его Петр Николаевич Бестемьянов, а служил он «дядькой» при молодом великом князе, совмещая обязанности прислуги, гувернера, а в чем-то и контролера. Бестемьянов был отставным унтер-офицером, полным георгиевским кавалером. Еще совсем молодым он дрался с турками под Плевной. По слухам, Бестемьянов был лично знаком с самим Ак-Пашой, Белым Генералом, легендарным Скобелевым. Последняя же кампания, в которой участвовал Петр Николаевич, была куда менее славной для русского оружия: десятью годами ранее описываемых событий он храбро сражался с японцами под Мукденом и Ляоляном. У Петра Николаевича было широкое, что называется, простонародное лицо и прекрасная осанка.
– Открывай ворота, служивый! – потребовал Николай.
Часовой замялся:
– Не могу, ваше сиятельство! У меня приказ: никого с наступлением темноты выпускать из Царского Села не велено.
– А мое слово тебе, значит, не указ? – с обидой в голосе спросил юноша.
Часовой только глаза опустил, в неудобное положение попал гвардеец.
Вышедший из автомобиля Бестемьянов придвинулся к часовому и тихо, доверительно сказал ему:
– Пропустил бы, тут, вишь, дело молодое, – он кивком указал на своего питомца, – к барышне собрался… Весна, понимаешь, чувства нежные, то да се…
Часовой понимал, чего уж тут: шестнадцать лет князю! Он вздохнул и сказал:
– Подождите немного, ваше сиятельство. Пост не велено покидать, но ради вас и вашей симпатии… Я схожу за разводящим офицером. Если он разрешит, тогда что же… Пожелаю вам счастливого пути.
Не успели стихнуть удаляющиеся шаги часового, а Николай уже азартно крикнул Бестемьянову:
– Ну, давай же, чего ты там? Быстрее!
Юноша сжимал баранку руля «Паккарда» с такой силой, что побелели костяшки пальцев и шрам от ожога на тыльной стороне правой кисти. Этот ожог великий князь получил три года тому назад, когда запускал ракету фейерверка. Характерное такое осталось пятно, напоминающее латинскую букву «W».
– Недоброе дело вы задумали, ваше сиятельство… – укоризненно произнес Бестемьянов.
– Да как можно! – запальчиво выкрикнул молодой князь. – Я же русский! Она это оценит! Давай, не копайся! Пока офицер не подошел.
Воровато оглядываясь, Бестемьянов отворил ворота. И снова уселся на свое место рядом с юным князем. Лицо дядьки приняло хмурое недовольное выражение.
Меж тем часовой в сопровождении караульного офицера уже приближался к автомобилю.
Николай нажал на педаль акселератора, шестидесятисильный мотор «Паккарда» взревел, и автомобиль выехал из ворот, обдав на прощанье гвардейца-часового и офицера вонью сгоревшего бензина.
– Стойте, стойте… Ваше сиятельство, куда же вы?
Черный «Паккард» с открытым верхом скрылся за поворотом дороги.
2
Озеро Ван расположено довольно высоко в горах Западной Армении, или, если по-турецки, Восточной Анатолии. В начале третьей декады апреля здесь еще довольно холодно, особенно по утрам.
Ван – самое крупное озеро в Турции, оно живописно. Яркая синева водного зеркала в сочетании со снежными шапками прилегающих гор производит неизгладимое впечатление!
Рождался новый день. Восточную сторону горизонта вдруг пронзили золотистые стрелы солнечных лучей, а озеро словно бы покрылось тысячами крохотных, блистающих серебром щитов. И вот все вокруг запылало алым заревом, из глубины которого полилась, заструилась белая пена дневного света, заполнившая весь мир. Утро выдалось свежим и ясным, небосвод был чист, лишь на северо-востоке, над Армянским нагорьем, висели растрепанные белые облака.
Сверкали в солнечных лучах и новенькие блестящие рельсы, проложенные рядом с берегом озера. По рельсам, пыхтя и пуская клубы дыма из трубы, шел мощный паровоз. Он тянул огромную железнодорожную платформу, на которой угадывалось какое-то громоздкое сооружение, но разглядеть его было невозможно: платформу укрывал брезент.
На паровозе и на платформе виднелось множество вооруженных турецких солдат, сооружение, укрытое брезентом, бдительно охраняли. Сзади, за платформой, был прицеплен штабной салон-вагон.
Паровоз остановился, и через несколько минут по лесенке штабного вагона на землю спустились двое человек. Оба они были одеты в турецкую военную форму, знаки различия на мундирах свидетельствовали о том, что один из них был генералом, а второй – полковником.
Генерал выглядел классическим турком, его голову даже украшала феска с кисточкой. Он был невысок и очень широк, живот так и выпирал из генеральского кителя. На груди вояки свободного места не было от сверкающих в солнечных лучах орденов и медалей, иные из которых были с чайное блюдце величиной. Под крючковатым носом турка виднелись густые ухоженные усы с основательной проседью. Генерала звали Махмуд Киамиль-паша, он командовал третьей турецкой армией, что противостояла 4-му Кавказскому корпусу российской армии.
Полковник же выглядел европейцем, каковым он и являлся. Это был начальник штаба Киамиль-паши, немец Вильгельм фон Гюзе, поклонник плана Альфреда фон Шлиффена и знаток военной теории фон Мольтке.
Турция в этой войне примыкала к Тройственному союзу. Эта страна расположена на перекрестке важных дорог, соединяющих Европу и Азию и черноморские страны со странами Средиземноморья. Водная система, включающая Мраморное море, проливы Босфор и Дарданеллы, является единственным путем, соединяющим Черное море с Мировым океаном. Через Турцию совсем недавно, перед войной, была проложена железнодорожная магистраль, связывающая Европу со многими странами Азии. Поэтому Турция была вовсе не второстепенным, а весьма важным союзником для немцев.
Именно кайзеровская Германия готовила кадры для турецких армии и флота. Надо признать, очень неплохо готовила. Турецкая армия в Первой мировой войне проявила себя неплохо; кстати, недооценка турок Антантой привела к поражению англичан, канадцев и австралийцев под Гелиополисом.
Начальники штабов от полкового уровня и выше были в турецкой армии преимущественно прикомандированными немцами.
Вильгельму фон Гюзе было на вид лет сорок – сорок пять. Он был чуть ли не на две головы выше генерала Махмуда и раза в три тоньше. Фигура немца отличалась поджаростью, держался он подчеркнуто прямо, про таких говорится, «как аршин проглотил». Лицо герра Вильгельма хранило несколько скучающее выражение, но глаза смотрели пристально и твердо. На груди немца виднелся лишь один орден – рыцарский Железный крест, рядом с роскошным иконостасом Киамиль-паши выглядел он довольно скромно.
Этот упорный, настойчивый человек с непроницаемым лицом прусского юнкера очень хорошо умел молчать, умел всегда оставаться в тени, на заднем плане, за кулисами событий. Махмуда немец втихую презирал, полагая, что тот ничего не смыслит в военной науке. Но держал себя фон Гюзе с турецким генералом подчеркнуто вежливо и почтительно.
Из штабного вагона горохом посыпалась генеральская обслуга. Махмуд Киамиль-паша любил комфорт, представляя его себе в духе национальных турецких традиций. И вот уже чуть поодаль от вагона появились, как по волшебству, два удобных полукресла с расшитыми подушками, в правой руке турецкого генерала оказалась чашечка со свежесваренным черным кофе, в другой руке – дымящаяся трубка с душистым крепким табаком «Метаксуди». Над чашкой с горячим кофе завивался в белую спираль ароматный парок.
Киамиль выпустил колечко табачного дыма, проводил его взглядом и негромко сказал, задумчиво глядя в сторону странного сооружения на железнодорожной платформе:
– Думаете, это пробьет русскую оборону?
– Уверен, – коротко кивнул в ответ фон Гюзе, сидящий на соседнем полукресле.
– Гм-м-м… Все это очень хорошо. Однако артиллерию всегда можно вычислить, тем более такую артиллерию. Это же не полевая трехдюймовка. И тогда ее «накроют». После каждого выстрела эту платформу эвакуировать на другие позиции проблематично. К тому же у русских есть аэропланы. А бороться с ними, не имея других аэропланов, совершенно бесполезно! Надо бы маскировку.
Разговор велся на немецком языке. Махмуд Киамиль-паша говорил по-немецки довольно чисто, только иногда останавливался посредине слова, будто сомневался в ударении.
– Ни в коем случае! – живо возразил турецкому генералу фон Гюзе. – Пусть русские знают о нашем супероружии. Это их окончательно деморализует! В современной войне очень важно использовать психологический фактор!
– А если все же бомбежка? – не давала Киамиль-паше покоя мысль о русских аэропланах.
– Я уже все придумал, – успокаивающим тоном произнес Вильгельм. – Сейчас мы полюбуемся на нашу красавицу, теперь уже можно, здесь нет чужих глаз.
Повинуясь его властному жесту, турецкие солдаты принялись снимать с платформы брезент. И на платформе открылась во всей своей завораживающей жути гигантская гаубица типа «Большая Берта», чудовищное дитя заводов «стального короля» Германии Круппа фон Болена. Ее сестричку немцы уже применяли для обстрела Парижа, теперь, надо понимать, пришла пора использовать подобного монстра на русско-турецком фронте.
Характеристики сверхорудия поражали: скорострельность – один выстрел в 15 минут, максимальная дальность полета снаряда – полтора километра, вес гаубицы – 125 тонн, калибр – 480 мм. Одного снаряда «Большой Берты» хватало, чтобы полностью сровнять с землей девятиэтажный кирпичный дом вместе с фундаментом и подвалами. Абсолютно любые инженерные сооружения перед этим чудовищем были беззащитны.
Вильгельм фон Гюзе одобрительно улыбнулся, поглядев на орудие.
– Все три расчета укомплектованы германскими военнослужащими, – довольным тоном сказал он. – Это превосходные артиллеристы, опытные и умелые. Они будут нести боевое дежурство посменно. Мы дадим русским медведям жару!
– У нас нет надежных и подробных артиллерийских карт русских позиций, – недовольно сказал Киамиль-паша.
Немец хищно усмехнулся:
– Эта беда поправимая. Будут, обещаю вам, Махмуд-эфенди. Главное в том, что ни одно орудие противника нашу красавицу не достанет, – у русских сверхдальнобойных орудий просто нет. То, что местность горная, нам только на руку – гаубицы как раз и приспособлены для такой стрельбы навесными траекториями. Пушка, стреляющая настильно, в горах неудобна. К тому же пушка – оборонительное оружие, а гаубица – наступательное. Мы же собираемся наступать на генерала Огановского, не так ли?
– Я согласен, ответным артогнем противнику ничего не добиться. Но сверху? Но русские аэропланы? – не сдавался турок. – Что мы им противопоставим?
– Психологию, генерал! Мы сделаем так, что русские побоятся бомбить нашу гаубицу!
– Побоятся? Но почему? Они не из пугливых!
Вильгельм фон Гюзе вновь хитро улыбнулся:
– В ходе недавнего русского наступления под Сарыкомышем вы захватили немало пленных… Можно взглянуть на кого-нибудь из русских офицеров?
Киамиль-паша лишь пальцами щелкнул. Он понятия не имел, с какой стати его начальнику штаба вдруг вздумалось полюбоваться на пленных русских офицеров, но по прежнему опыту знал: Вильгельм фон Гюзе ничего просто так не делает. Задумал, не иначе, какую-то каверзу! Он даром что немец, а по лисьей хитрости любому азиату сто очков вперед даст.
…Конвоиры поставили перед генералом Киамилем и Вильгельмом фон Гюзе пятерых человек в офицерской форме русской армии. Держались русские спокойно и с достоинством. Посмотрев на фон Гюзе, один из них, лучше всех изъяснявшийся по-немецки, сказал за всех:
– Мы согласны сообщить вам лишь наши имена, звания и номера частей, в которых мы служили. Согласно Гаагским международным конвенциям о статусе военнопленных.
В словах русского офицера не было подчеркнутой агрессивности, лишь четкое осознание собственных и товарищей по несчастью прав.
Немец с благодушным видом кивнул:
– О, конечно! Вот вы, например… Назовитесь, сделайте одолжение!
– Штабс-капитан Андрей Левченко. Таманский 5-й пехотный полк 4-го Кавказского корпуса. Больше я ничего не скажу!
– А я ни о чем вас больше и не спрашиваю, – столь же благодушно отозвался фон Гюзе. – Кстати, вы прекрасно говорите по-немецки, герр Левченко.
Андрей Левченко был среднего роста, стройный и подтянутый, лет около тридцати с виду. Загорелое обветренное лицо с высоким лбом и по-славянски чуть резковато выступающими скулами. Нос типично наш, славянский, с легкой курносинкой. Коротко стриженные русые волосы, выгоревшие на южном солнышке до светло-пшеничного оттенка. И внимательные темно-серые глаза. У него была замечательная улыбка, но улыбался штабс-капитан редко, а сейчас, в плену, было Андрею вовсе не до улыбок. Словом, внешность самая заурядная, если можно так выразиться, простонародная.
Меж тем текла в жилах Андрея благородная кровь! Принадлежал он к небогатому полтавскому дворянскому роду Левченко. Все мужчины в этом роду связывали свою судьбу со службой в Российской армии, были офицерами. Его прадед, например, дослужился до гренадерского полковника. 11 июля 1812 года в сражении с войсками наполеоновского маршала Даву при деревне Салтановке, близ Могилева, он дрался под началом самого Н.Н. Раевского.
Прославленному герою Отечественной войны генералу Раевскому долго не давалась тогда победа! И Николай Раевский, взяв за руки своих сыновей, пошел с ними во главе войск на одну из батарей противника, воодушевляя солдат: «Вперед, ребята, за царя и Отечество! Я и дети мои укажем вам дорогу!» А рядом с генералом шагал Петр Левченко. Батарея была взята, но прадед штабс-капитана сложил голову в том бою…
– Этот русский офицер уже пытался бежать, – сказал один из конвойных, – но был пойман и наказан. Посажен на хлеб и воду.
– В следующий раз он заслуженно получит пулю! – нахмурил густые брови Киамиль-паша.
– Я все равно убегу, – твердо сказал Левченко. – Не удержите!
Неожиданно Вильгельм фон Гюзе рассмеялся:
– Не удержим, говорите? Ну-ну… – Он обернулся к конвойным: – Уведите пленных!
– Зачем вам понадобились эти русские? – недовольно спросил немца генерал Киамиль. – Словно вы просто посмотреть на них хотели…
– Так и есть, – кивнул фон Гюзе. – Посмотреть, сгодятся ли для моих замыслов. «Живой щит»… Вам, эфенди, не приходилось слышать такого выражения? Меж тем мы уже применяли этот прием. Далеко отсюда, в Мазурских болотах. Только не афишировали его применение. Зададимся вопросом: пойдут ли русские на бомбардировку нашей позиции, если будут точно знать, что рядом с ней мы содержим их пленных товарищей? Согласитесь, генерал, подобное маловероятно. Смею надеяться, что я неплохо разбираюсь в психологии русских. Они побоятся бомбить! Во многом русские еще варвары с варварскими же понятиями о чести. Они посчитают, что убивать своих же пленных соплеменников, – а бомбежка без этого не обойдется! – подло. И тогда мы в безопасности, мы можем обстреливать русские позиции из «Большой Берты» совершенно безнаказанно.
Махмуд Киамиль призадумался. Идея немца ему нравилась, она была вполне в янычарском стиле. Турецкий генерал был на самом деле вовсе не так глуп, как казался порой! Он тут же ухватил один любопытный аспект в предложении фон Гюзе. Естественно, где-нибудь в Восточной Пруссии немцы на такое бы не пошли: Европа! Общественное мнение, Женевская конвенция, крик в оппозиционной печати, которую кайзер Вильгельм почему-то никак до конца не раздавит… А тут все можно списать на азиатское коварство турок. Хитро придумано…
«Да пусть думают о нас все что угодно в своей гнилой Европе! Лишь бы прорвать русский фронт, и супергаубица может очень этому поспособствовать. Но уверенности в том, что немец прав, у меня нет, – подумал генерал Махмуд. – Велика важность – пленные! Меня бы такие соображения не остановили, что за сентиментальность? Я бы бомбил, несмотря ни на что, на то и война».
– А если русские все-таки будут бомбить по своим? Кого им особо жалеть, серьезных фигур среди пленных нет, – сказал он. – Нижние чины, унтера, прапорщики, поручики, штабс-капитан тоже невысокого полета птица. Вот если бы поместить в лагерь какого-нибудь…
– Пленного генерала? – закончил фразу фон Гюзе. – А Верховного Главнокомандующего Николая Николаевича не хотите? Или сразу его тезку, императора Всероссийского?
– Было бы неплохо, – усмехнулся в прокуренные усы Киамиль-паша.
3
Вечером в последнюю среду апреля в гостиной особняка, принадлежавшего графу Александру Николаевичу Нащокину, проходил традиционный прием гостей. «Нащокинские среды» славились в аристократических кругах Санкт-Петербурга, ныне переименованного в Петроград. Хозяин, веселый толстяк средних лет, граф и камергер, отличался хлебосольством и добродушием, его жена, очаровательная Мария Петровна, заслуженно слыла покровительницей искусств, сама прекрасно играла на рояле. Поэтому на приемах, проводившихся дважды в месяц, всегда можно было встретить интересных людей. Бывали у Нащокиных модные писатели, музыканты, художники. Обычно приглашался кто-то один из служителей муз, потому что публика эта ревнивая и неуживчивая, чуть окажутся двое рядом, так сразу начнут выяснять, кто из них талантливее. И в выражениях не стесняются!
Скучающие аристократы из высшего света и их жены, – а они составляли большинство приглашенных, – всегда относились к таким гостям графа с повышенным, порой даже болезненным интересом.
Вот, не далее как месяц тому назад читал на «среде» свои новые «эгопоэзы» поэт Лотарев, пишущий под псевдонимом Игорь Северянин. Все были очарованы!..
Изюминкой этого вечера была молодая, но уже необыкновенно популярная актриса, «королева» недавно народившегося русского синематографа, Вера Холодная. Эта женщина стремительно прославилась благодаря своему таланту, живописно яркой внешности и образу жизни. О ней много и главным образом восторженно говорили.
Мужская половина гостей смотрела на актрису с восхищенным любопытством: мало того, что Вера отличалась редкостной красотой, она к тому же представляла новый и непривычный еще в России тип – «роковая женщина, снедаемая страстями». Кстати сказать, в своих ролях Вера Холодная тоже держалась этого амплуа, она творила, как жила. Было в ней что-то неотразимо привлекательное, в самом прямом значении этого слова. Именно такие привлекают мужчин, к ним тянет, как магнитом, и, как правило, они сами прекрасно об этом знают, что только прибавляет силы их сокрушительному обаянию. Это своего рода божий дар: либо он есть, либо его нету!
Комплименты так и сыпались на молодую актрису, но Вера, против обыкновения, почти не реагировала на них. Сегодня она выглядела вялой, подавленной и печальной.
Может быть, творческие неудачи? Тем, кто дерзнет вступить на новую неизведанную дорогу, легко не живется! Авангарду всегда плохо приходится, это и к искусству относится в полной мере. А Вера Холодная недаром слыла новатором в своей профессии, к которой относилась очень серьезно и ответственно.
Или сердечные неурядицы? Молва приписывала «королеве» изрядную влюбчивость…
Рядом с Верой, практически не отходя от нее, держался темноволосый молодой мужчина с подбритыми в ниточку усиками. Он кружился вокруг актрисы, точно Луна вокруг Земли, время от времени заговаривал с ней, и тогда досада на лице Веры проступала еще отчетливее.
Никто из гостей Нащокина не знал этого типа. Его лицо с выступающей нижней челюстью выглядело несвежим, помятым, однако читалось на нем чуть презрительное выражение полной и непоколебимой уверенности в своих достоинствах и в своем превосходстве над окружающими.
Гостиная, в которой проходил прием, была обставлена богато и со вкусом. На фигурном паркете располагались ломберные столики и кресла в стиле ампир – прямые линии ножек и спинок, проложенные узкими лентами полированной бронзы, врезанной в мореный дуб. В углу гостиной стоял громадный концертный рояль красного дерева, гордость хозяйки, графини Марии Петровны.
Гости прохаживались по залу, некоторые сидели в креслах, вели оживленные беседы или просто болтали о последних петербургских новостях. Как ни странно, но тема великой войны, которую в составе Антанты вела Россия, в разговорах не затрагивалась, точно по молчаливому уговору.
– …у графа Васильчикова. Они что, друзья?
– Бога побойтесь! У Васильчикова – и друзья?!
– …милая моя! Пусть ваша тетушка обратится к обер-прокурору кассационного департамента Сената. Это мой дальний родственник, деликатный такой, добродушный старичок. Но превосходный юрист с громадным опытом. Я телефонирую ему. Надеюсь, он поможет вашей тетушке. Ведь Аделаида Венедиктовна статс-дама, я не ошибаюсь?
– …как же, третьего дня встретил я графа Андрея в Благородном собрании. Ну, что сказать? Выглядит он неважно, лицо серое, под глазами мешки. Запойное пьянство никого еще до добра не доводило. Э-э, батенька, мало ли что сухой закон военного времени!.. Чтобы граф Андрей да выпивки не нашел?! Он за рюмку горькой до Москвы пешком дойдет.
– …Савушкин купил за сто шестьдесят целковых годовалого жеребца, ахалтекинца. А жеребец возьми да околей! Кто ж его знает от чего, ветеринар только руками разводил. Эх, и ругался же корнет, слушать страшно было!
Два почтенных сановника, сидящие vis-a-vis за ломберным столиком, обсуждали свои планы на приближающееся лето.
– О! Я познакомился с неким помещиком, Ганецкий его фамилия. Отставной майор. И нанял я на лето в его усадьбе под Гатчиной верхний этаж большого каменного дома. Что за прелесть, Алексей Николаевич, если б вы знали! Комнаты громадные, парк дивный, с такими аллеями, каких я никогда не видывал, река, пруд, церковка старинная на пригорке… Алексей Николаевич, голубчик, да неужели вы все лето будете жить в городе? Ай-ай-ай, это даже жутко!
– Дела, князь, дела! Рад бы в дачный рай, так грехи не пускают. Я ведь вот уж как полгода избран в члены попечительского совета Общества взаимного кредита. Это, скажу вам, князь, анафемская работа! Удивительно, сколько в этом Обществе прохвостов и жуликов! Редкостная шайка пройдох, право слово!
– Пустое! Дела делами, а о здоровье тоже не грех подумать, мы с вами, голубчик, уже не юноши.
В гостиную вошел чуть запоздавший к началу приема гость, молодой мужчина, высокий шатен с мускулистой, изящной фигурой. Серые большие глаза выделялись на лице с правильными, благородными чертами. Это был князь Сергей Михайлович Голицын, поручик Лейб-гвардии Гусарского Его Величества полка.
Левая рука поручика висела на черной перевязи, на груди виднелся крест ордена Святого Георгия 4-й степени и медаль «За храбрость». И та и другая награды считались в русской армии очень почетными: их удостаивали лишь за лично совершенный подвиг. Никто не сомневался, что поручик свои награды заслужил не в штабной палатке сидя, а в седле.
Боевой офицер, прибывший на побывку после ранения и вскоре возвращающийся в действующую армию, привлек к себе всеобщее внимание. В его одежде, манерах, выражении лица, во всем внешнем виде чувствовалась спокойная сила и уверенность в себе, сдержанная мужественная энергия. На какое-то время Сергей Голицын затмил даже звезду сегодняшнего вечера, Веру Холодную.
Спустя четверть часа к поручику подошел хозяин дома, граф Александр Николаевич. Нащокины доводились Голицыным отдаленной родней.
– Я слышал, князь, вас на турецкий фронт командируют? – поинтересовался Нащокин.
– Да, я подал рапорт, – вежливо кивнул Сергей.
Александр Николаевич, стараясь не привлекать к их разговору внимания, отвел Голицына чуть в сторону, к роялю:
– С вами побеседовать хотят, князь… Конфиденциально. Если не возражаете – в моем кабинете. Поднимемся на второй этаж…
Кабинет графа поражал воображение своим размером и убранством. Темно-коричневый, отлично натертый дубовый паркет. Высокий потолок со старинной лепниной: не то нимфы, убегающие от сатиров, не то какие другие мифологические персонажи… В центре потолка закреплена небольшая люстра из полированной бронзы. По стенам, обшитым деревянными панелями, – книжные шкафы, в недрах которых золотятся корешки книг. Широкие стрельчатые окна с огромными фрамугами завешены с двух сторон шелковыми портьерами.
– Присаживайтесь и подождите минутку, князь, – Нащокин указал Сергею на столик, на котором были сервированы два кофейных прибора, стояла бутылка «Шартреза» и коробка с сигарами. Затем граф Александр Николаевич вышел из кабинета.
Ждать поручику пришлось недолго. В кабинет вошел высокий старик в генеральской форме с императорскими вензелями на погонах. Голицын с первого взгляда узнал в нем министра Двора, члена Государственного совета, графа Владимира Борисовича Фредерикса.
– Ваше высокопревосходительство! – вытянулся поручик.
Фредерикс слабо улыбнулся:
– Рад видеть вас, князь! Как ваше здоровье? Поправились после ранения?
– Так точно, ваше высокопревосходительство! Подал рапорт и вскоре отбываю на турецкий фронт.
– Кхе-кхе… – прокряхтел Фредерикс. – Вот то-то и оно, что на турецкий. Поэтому вы, князь, мне необходимы. И не только мне!
«Загадками говорить изволите?» – подумал поручик.
О Фредериксе, а также его роли при императорском дворе князь Голицын был наслышан и к престарелому сановнику относился с почтением и уважением. Придворная лестница имеет скользкие перила и ступени, чем выше по ней взбираешься, тем больнее падать. Да и взбираются по ней по-всякому, используя порой не слишком чистоплотные приемы. Фредерикс, начавший службу еще при Александре Освободителе, деде нынешнего императора, поднялся на самый верх, ничем не замарав свою безупречную репутацию. Он славился своей абсолютной преданностью царствующему дому Романовых и был, несмотря на семидесятисемилетний возраст, человеком, которому Николай Второй всецело доверял и на которого полагался. А таким отношением императора к себе немногие могли похвастаться, излишней доверчивостью Николай не страдал! Граф Фредерикс был к тому же одним из пяти особо доверенных лиц, имевших право в любое время суток рассчитывать на аудиенцию у императора. При дворе не сомневались, что, случись надобность, Владимир Борисович не постоял бы перед тем, чтобы разбудить его величество.
– Вот что, князь, – продолжал министр Двора, – разговор у нас будет… э-э… особенный. Такой деликатный и неофициальный, что прямо не знаю… Можете считать, что графа Фредерикса, министра и камергера, тут нет, а есть так… тень бесплотная. И вообще – наш разговор только снится. Нам обоим. Поэтому давайте без чинов, не до них сейчас. Обращайтесь ко мне просто Владимир Борисович. Я же вас хорошо помню, Сергей Михайлович! Еще по параду довоенному, в Царском Селе, в тринадцатом году. Ах, какие чудеса вольтижировки вы там показывали! Да-а, и отца вашего я помню, и деда знавать доводилось.
Следующие пять минут говорил только Фредерикс, а Голицын, не перебивая, внимательно слушал престарелого сановника. И все лучше понимал, отчего их встреча обставлена с такими предосторожностями.
– Николенька очень хороший мальчик, честный и чистый, – грустно говорил министр, – но в реальной жизни он ни бельмеса не смыслит! Ведь удрал не куда-нибудь, а на фронт, бить супостата и Отечество спасать. Понятное дело, никто бы его добром туда не отпустил. В сообщники взял своего дядьку, Бестемьянова Петра. Машину нашли брошенной у Николаевского вокзала. Там – записка, мол, не волнуйтесь и не ищите, победим врага – вернусь. Или грудь в крестах, или голова в кустах! Эх, молодо-зелено… Я, князь, сам таким в его возрасте был. Мы допросили, кого можно… Никто ничего не знает. Наверное, Николенька тщательно готовился. И что теперь прикажете делать? Ну, дам я по шапке дворцовому коменданту, пропесочу за ротозейство дворцовую стражу, а толку с того? Приметы разосланы абсолютно по всем полицейским участкам, хоть мы, конечно же, не указываем, кого именно нужно поймать. Однако надежды мало. Наверняка он выправил себе документы. И притом – не один комплект. Кроме того, еще раз: не можем же мы открытым текстом сообщать, что беглец – юный великий князь. Это – удар по репутации правящей династии! Представляете, поручик, какое оружие могут получить в свои руки враги России, как внешние, так и внутренние?
– Куда же именно он мог бежать, Владимир Борисович?
– Скорее всего – на турецкий фронт.
– Почему не на прусский? Не на австрийский? – недоумевающе спросил Голицын.
Фредерикс посмотрел на дверь, смущенно кашлянул. Мощный с залысинами лоб графа прорезала вертикальная складка.
– Несколько недель назад штабс-капитан Андрей Левченко попал в плен к туркам, – печально произнес он.
– Позвольте полюбопытствовать, Владимир Борисович… А кто такой этот Левченко? Не имею чести знать…
– То-то и оно! Старший брат Веры Холодной… Э-хе-хе, любезный Сергей Михайлович! Я же говорил вам, положение деликатное. Николеньке шестнадцать лет, вы себя в шестнадцать вспомните! Сплошная, поручик, романтика и ветер в голове. Юнец, со свойственной его возрасту пылкостью, влюбился. Да, в королеву синематографа Веру Холодную. Ту самую, которая сейчас в гостиной графа изволит пребывать. Вы обратите на нее внимание, князь: чертовски хороша! Она его отвергла: член императорской фамилии как-никак, зачем актрисе такой рискованный роман? Да и молод он для нее! А этот дурачок надумал: мол, я рыцарственно спасу ее брата, и уж тогда… Для его лет такое поведение вполне объяснимо, но нам с того не легче. Откуда, спросите, мне известны его мотивы? Я же старый караульный пес, Сергей Михайлович, я на дворцовой службе все зубы съел. Мне ли не догадаться! О его влюбленности в актрису половина Царского Села знала, такое не скроешь. Да и проболтался Николенька парой слов своим ровесникам, что, дескать, попал в плен к супостату братец его любимой и как бы замечательно было его спасти. Ах, если бы эти оболтусы обмолвились мне об его словах! Но – увы! Видите, князь, тут у Николеньки и патриотизм, и влюбленность пылкая, и юношеский задор, и бог знает что еще перемешано. Каждый в юности уверен, что способен в одиночку горы своротить да мир перевернуть. С годами это проходит. Но… Представьте, какую кашу он с таким месивом в голове может заварить и в какое болото влипнуть!
– Да-а, ну и дела! – поручик покачал головой. – И вы, ваше высокопревосходительство, хотите, чтобы я…
– Не только я хочу! – воскликнул Фредерикс. – Речь идет о просьбе от лица всей императорской фамилии и лично государя. Вы, поручик, отбываете на турецкий фронт, в распоряжение генерала Юденича. Так вот, не могли бы вы аккуратно и деликатно прозондировать всех вольноопределяющихся и прапорщиков запаса? Особенно поступивших совсем недавно. Очевидно, Николенька не только изменил внешность, но и имеет несколько комплектов безукоризненных документов!..
– Но почему именно я? Я же не в сыскной полиции работаю!
– Агенты сыскной полиции им тоже занимаются! Естественно, им невдомек, кого ищут. Знают лишь словесный портрет и о главной примете: шрам от ожога на правом запястье. Но государь хочет, чтобы поисками молодого шалопая занялся еще и честный боевой офицер!
– Ведь в нашей армии есть немало честных офицеров, Владимир Борисович! И повыше меня чином…
– Но вы, князь, – один из самых честных! Кроме того, вы храбры и умны. Ваши подвиги в Восточной Пруссии говорят сами за себя. Вы с блеском выполнили два очень непростых задания. А что чин у вас невелик, так это пустое: иной поручик двух полковников стоит. И знайте, князь, если вы отыщете Николеньку, милость государя будет безграничной. Вот рекомендательное письмо к генералу Николаю Николаевичу Юденичу. Его, в случае необходимости, можете посвятить в детали своей деликатной миссии. Но лучше было бы избежать этого.
…Когда Голицын, пообещав Фредериксу сделать все возможное, чтобы отыскать беглеца, вернулся в гостиную графа Нащокина, поручика представили Вере Холодной. Она посмотрела на князя своими глубокими томными глазами и печально сказала:
– А вы чем-то похожи на моего несчастного брата!
– Надеюсь, с ним все будет хорошо, вы встретитесь с ним и даже познакомите нас, – вежливо ответил Сергей.
– Ах, как бы я этого хотела! Я слышала, вы отправляетесь на турецкий фронт?
– Да, сударыня. Послезавтра.
Вера была права: чувствовалось в поручике Голицыне и штабс-капитане Левченко глубокое внутреннее сходство. Равно как и во многих других молодых русских офицерах. Ах, как вспоминалось им порой счастливое довоенное время! Они были молоды, хороши собой, веселы и беспечны. Чудили! Так чудили, что порой самим не верилось: неужели может человек такое – мало что выдумать, так еще и сотворить… Они были сумасбродами, озорничали буйно, талантливо и совсем не зло.
Молодости, энергии, внутреннего жара им на все хватало: на дружбу и любовь, на стихи и веселое хвастовство, на охоту и кутежи, на ссоры и примирения. Но настало суровое военное время, и эта блестящая молодежь отправилась на фронт, чтобы защищать Отечество.
В самом конце званого вечера, когда гости уже начали расходиться, актриса подошла к князю Голицыну и незаметно отвела его чуть в сторонку.
– У меня к вам просьба, князь. Мне необходимо встретиться с вами наедине…
Когда она сказала это, глаза ее странно изменились: стали по-настоящему огромными и влекущими. Поручику захотелось, что называется, утонуть в них. До чего же она была хороша: высокий чистый лоб; глаза яркие, миндалевидные; тонко очерченный прямой нос, алые полные губы… одета с не бросающейся в глаза роскошью.
«Какая женщина! – потрясенно подумал Сергей Голицын. – Ах, какая женщина!»
А невдалеке стоял и смотрел на эту сцену тот самый темноволосый мужчина с усиками, что увивался вокруг Веры Холодной весь вечер.
Нехороший был у него взгляд. Пристальный, напряженный, словно мужчина подслушивал разговор поручика и актрисы.
4
Полуденное солнце ярко сияло над красавицей Курой, отражаясь в ее воде мириадами слепящих бликов. Вытянувшись на двадцать верст вдоль обоих берегов реки, лежал Тифлис, один из самых красивых и своеобразных городов Российской империи.
Особенно хорош Авлабари – центральный район города. Историческая местность. Камни этой мостовой помнят древний Картли, великую государыню Тамару, царя Вахтанга.
На одной из улиц Авлабари за тенистым сквером стоял солидный двухэтажный особняк из красного кирпича. В нем располагалось тифлисское отделение Русско-Азиатского банка.
Минут через двадцать пополудни перед особняком остановилась извозчичья пролетка, из которой вышли двое: невысокий усатый молодой человек, по виду преуспевающий купчик, и пожилой мужчина, в котором сразу можно было опознать лакея. Пара двинулась к входу в банк, тихо, но возбужденно переговариваясь на ходу.
– Пойдешь ты! – молодой купчик сделал уверенный жест рукой, хоть уверенности в его голосе явно не хватало.
– Да как же я пойду? – еще более неуверенным тоном ответил пожилой. – Я ведь никогда прежде аккредитивов не снимал. Перепутаю что-нибудь…
– Ничего не перепутаешь! Там на предъявителя. Покажешь вот это. Не могу я идти, мне опасно. А без денег нам никак нельзя.
Слуга уныло кивнул, взял из рук усатого молодого человека бумаги и скрылся за входными дверями банка. Купчик остался на улице и стал нервно прохаживаться взад-вперед. Он то убыстрял шаги, то замедлял их, хмурил брови, покусывал нижнюю губу. Словом, вел себя несколько странновато для человека, который всего лишь послал слугу снять с аккредитива некоторую сумму. Словно опасался чего-то.
Неподалеку от входа в банк стоял на углу двух улиц немолодой городовой. Выглядел он просто потрясающе, именно таким, в представлении обывателя, и должен быть образцовый городовой: рослый, широкоплечий и пузатый, с роскошными бакенбардами, пышными седоватыми усами и подусниками. В лучах тифлисского солнца ярко блестели начищенная номерная бляха и пряжка ремня. А сапоги-то как сверкали! На боку городового висела шашка, не кавалерийская, конечно, а из тех, что в просторечии именуются «селедками». Что и говорить – внушающий уважение страж порядка!
Городовой нес службу не первый год, был бдительным. Поведение молодого человека, который так и метался туда-сюда около двери особняка, ему не понравилось. И выражение лица тоже: тревожное какое-то. А здесь не что-нибудь, а банк! Мало ли…
Городовой крякнул в усы и тяжелыми шагами подошел к беспокойному молодому человеку:
– Э-э… почтеннейший! Паспорт ваш покажите. Или еще какой документ.
Тут поведение купчика стало совсем подозрительным! Он сперва покраснел, точно вареный рак, затем побледнел и стал лихорадочно хлопать себя по карманам.
«Эге! – подумал блюститель порядка. – Что это он там нащупывает? Хорошо, ежели паспорт, а ну как револьвер?»
И тут случилось такое, что у городового глаза на лоб полезли, а подозрение, что перед ним мазурик, переросло в уверенность: у молодого человека отклеился правый ус! Такое случается, когда гримироваться толком не умеешь, да еще и вспотеешь от волнения.
Городовой железной хваткой взял купчика за локоть. Куда ж его тащить? В участок? Сдать околоточному, пусть разбирается? А может, сразу… Городовой глянул в сторону мрачноватой громады Метехского замка, где размещалось тифлисское жандармское управление и отдел контрразведки Кавказского фронта. Молодой человек дернулся, но куда ему было справиться с такой громадиной!
И в этот драматический момент из дверей банка вышел пожилой слуга. Лицо его лучилось: похоже, он удачно выполнил поручение своего хозяина и деньги с аккредитива снял. Но когда он увидел происходящее, в глазах его мелькнул ужас. Он стремительно бросился к городовому:
– Милейший! Отпустите моего хозяина, он ни в чем не провинился! – тон пожилого слуги был просительным и заискивающим.
Отпустить? Как бы не так! Сперва разберемся, что вы за птички!
– Это что за накладные усы?! – грозным басом пророкотал городовой. – Вы кто такие? Налетчики? Анархисты? А может, вовсе германские шпионы?!
Хоть вид у городового был угрожающим и его – настоящие! – усы топорщились, словно у рассерженного кота, но… Но опытный служака ясно чувствовал: никак не тянет эта пара на налетчиков! Да и на шпионов тоже. Что до анархистов и прочих революционных элементов, так их сейчас днем с огнем не сыщешь. Это десять лет тому назад в Тифлисе ужас что творилось: чуть не каждый день бомбы взрывали. Но за эту публику круто взялись, они попритихли, по щелям попрятались. Так что больше всего напоминала эта парочка обыкновенных мошенников.
Купчик, которого городовой продолжал крепко держать, ничего не ответил, только глазами сверкал. Пожилой оказался разговорчивее:
– Какие мы налетчики, ваше превосходительство? Хозяин это мой, у них спектакль любительский дома, загримировался вот, а в натуральный вид себя привести-то и забыл!
Городовой недоверчиво усмехнулся: м-да! Уж слишком такое объяснение белыми нитками шито, враньем отдает! Ишь ты, его аж в превосходительства произвели, прям как генерала. Сейчас я вам, господа мазурики, покажу «превосходительство»! Но тут он заметил, как пожилой слуга ловким незаметным жестом протягивает ему какую-то бумажку. Страж закона и порядка скосил глаза.
Ого! Бумажка оказалась сторублевой ассигнацией. Тут мысли городового побежали совсем по иному направлению…
Нет, нельзя сказать, что он был особо корыстолюбив и драл взятки с кого и за что угодно. Однако детишек кормить надо, не так ли? И сестра болеет, а доктора в Тифлисе дорогие. И старики родители… Меж тем сто рублей – денежки приличные, это его трехмесячное жалованье!
Опять же, будь эти субчики по-настоящему опасны, нипочем бы городовой денег не взял и их не отпустил. Но вот не чуял он настоящей-то опасности! Ни стрельбы в банке не было, ни взрывов… Не выскакивают из дверей ополоумевшие кассиры с воплем: «Караул! Ограбили!» Все тихо, спокойно и благолепно. Провернули эти двое какую-то хитренькую аферу? Так и бог бы с ними, пусть служащие банка пастью не щелкают. Вклады, кстати, застрахованы, а он даже и вкладчиком Русско-Азиатского банка не является, рылом не вышел-с! Ему что, больше всех надо? Вот и думай тут…
Ясное дело, думал он недолго. Волосатая кисть, удерживающая локоть молодого человека с приклеенными усами, разжалась. И сотенная мгновенно оказалась в ней.
Купчик, морщась, стал поправлять отклеившийся ус, и тут городовой заметил на тыльной стороне правого запястья молодого человека странный, точно от ожога, шрам в форме латинской буквы «W».
Городовому показалось, что где-то он о таком шраме слышал. Только вот где? От кого? В связи с чем? Но быстротой соображения страж порядка не отличался, был тугодумом. Пока он силился вспомнить обстоятельства, при которых услышал о таком вот шраме, пара непонятных личностей успела исчезнуть в аллеях скверика напротив здания банка.
Кстати, так ничего городовой и не вспомнил.
5
Небо над небольшим городком Эрджишем, расположенным на северном берегу озера Ван, заливала влажная апрельская синева. Ярко светило солнце, южный ветерок нес запах свежей озерной воды, расцветающего жасмина и еще чего-то радостного, неуловимо весеннего. Весело и ошалело кричали птицы: они тоже приветствовали расцвет весны, пели свои гимны торжествующей природе.
Но выражение лиц у двоих людей в генеральских кителях русской армии было отнюдь не веселое. По некоторым деталям поведения становилось очевидно: эти двое знают друг друга давно, хорошо и находятся в приятельских отношениях. Сейчас они негромко переговаривались между собой.
Одним из них был генерал-майор Николай Николаевич Юденич, командующий Кавказской армией. Юденичу пошел пятьдесят третий год, но генерал не утратил ни юношеской прямизны осанки, ни прицельной точности взгляда, ни быстроты ясного, острого ума. Верховный главнокомандующий русской армией великий князь Николай Николаевич заслуженно считал своего «двойного тезку» одним из лучших стратегов России и очень доверял Юденичу. Сейчас на плечах Юденича лежала вся ответственность за положение дел на русско-турецком фронте.
Собеседником Юденича был его подчиненный, генерал Петр Иванович Огановский, который командовал 4-м Кавказским корпусом. Он был несколько моложе Юденича и славился как блестящий тактик, мастер маневренной войны. Во всем облике Огановского ощущалась скрытая сила. Чем-то напоминал Петр Иванович туго сжатую стальную пружину, которая готова распрямиться и ударить.
Оба генерала с блеском окончили Академию Генштаба, правда, в разное время. «Фазаны», как называли генштабистов, считались элитой русского генералитета и всегда тепло относились друг к другу.
– Что-то давненько подарочек не прилетал, – нервно посмеиваясь, сказал Огановский. – С полчаса… Я уже привыкать начал, право слово!
– Перестаньте, а то накличете, – в сердцах отозвался Юденич. – Не томите душу, без того тягостно.
Вдруг откуда-то сверху раздался жуткий, ни на что не похожий визгливый вой, точно свора чертей из ада вырвалась. Двумя секундами позже в километре от генералов вспух куст грандиозного разрыва, грохнуло так, что ушам стало больно, задрожала, как при сейсмическом толчке, земля.
– Накликали! – мрачно усмехнулся Юденич. – Взял бы их наводчик на четверть градуса правее по горизонтали, и нет двух толковых русских генералов. Даже погон от нас не нашли бы.
– Вероятность слишком мала, – живо возразил Огановский. – Они же сажают в божий свет, как в копеечку. Слишком должно не повезти, чтобы прямиком под эту дуру угодить.
– Это до поры до времени они в божий свет сажают, – еще более мрачно сказал Юденич. – Что с потерями от обстрела: большие?
– А нет потерь. Пока нет, берегут нас святые угодники. Разве что полевую кухню прямым попаданием накрыло. Лошадь и ездовой прямиком на небо вознеслись. Н-но… Тут ведь что плохо, Николай Николаевич: боятся солдатики. Я их понимаю, мне – и то страшно. Ведь заглянешь в воронку, так оторопь берет: готовый пруд. Заливай воду и разводи карасей. Психологическое давление оказывают, сволочи, не считаясь, заметьте, с расходами. Представляю, сколько может стоить один выстрел. Но как только случится первое серьезное попадание с множеством жертв, расходы сразу же окупятся, вот ведь что! У каждого второго солдатика полны штаны будут от страха. Не считая каждого первого. И как я такое воинство в бой поведу? Бог мой, откуда у турок эта пакость взялась на нашу голову?!
– От немцев, откуда ж еще? Пакость, как вы изволили выразиться, изготовлена в Эссене, на заводах Круппа. Как она оказалась здесь? Очень просто, по настоятельному совету тех же самых немцев. Я вам даже скажу, чья это блестящая выдумка. Гольц-паша постарался, голову на отсечение даю.
– Гольц-паша? – переспросил Огановский и тут же догадался: – А-а! Это вы про фон дер Гольца, главу немецкой военной миссии при Генштабе турок?
– Про него, – кивнул Юденич. – Я с этой хитрой прусской сволочью лично знаком. В 1903 году отношения у нашего государя с кузеном Вилли были еще более-менее приличные. Проводились тогда под Вильно совместные с немцами маневры и штабная игра. Я в ту пору служил полковником оперативно-тактического отдела Генерального штаба. Вот там, на Виленских учениях, и познакомились. Фон дер Гольц тоже штабистом был. Русских он уже тогда терпеть не мог и даже не слишком это скрывал. Хитер, как целый выводок лисиц. Выученик самого фон Шлиффена. Кстати, Петр Иванович, как у вас с агентурной разведкой?
– Грех жаловаться, а почему вы спрашиваете, Николай Николаевич?
– Кто у Киамиля начштаба, знаете?
– Знаю. Некий полковник Вильгельм фон Гюзе. Правда, более мне ничего о нем не известно.
– Это жаль, что более ничего. Ладно, я пошлю запрос в наш Генштаб. Надо бы фигуру этого прохвоста прояснить. Сам Махмуд никогда звезд с неба не хватал, а вот этот немец может осложнить нам с вами жизнь. Подробных карт у противника, видимо, нет. А что, если появятся? Вы только представьте, что произойдет, если турки выяснят точную дислокацию наших войск и составят подробные карты. Это закончится весьма печально.
Огановский представил, и лицо его окончательно помрачнело. Было от чего.
Оба военачальника прекрасно понимали, что никакого противоядия против «Большой Берты» у них нет. У русских отсутствуют аналогичные орудия, способные накрыть страшную дальнобойную сверхгаубицу врага.
– М-да! – зябко передернул плечами Огановский. – А если они вдобавок ухитрятся подсадить сюда своего наблюдателя-корректировщика? Тогда нам совсем погано придется, Николай Николаевич. Могут ведь сорвать наше наступление. Вот что: эту дальнобойную мерзость нужно уничтожить!
– Хорошая мысль! – с иронией произнес Юденич. – Как?
– Аэропланы? – задумчиво спросил Огановский, и непонятно было, к кому он обращается: к собеседнику или к самому себе. – Правда, в условиях гористой местности использовать их тяжело, но, может, стоит попробовать?
– Стоит, – немедленно согласился Юденич. – Мне, кстати, еще вчера та же самая мысль в голову пришла, и я уже телеграфировал в ставку Верховного. Оттуда обещали прислать несколько «Фарманов». Но вот что меня смущает: не мог этот фон Гюзе не просчитать такой простой вариант наших ответных действий, ежели он не полный осел. Значит, у противника может иметься некое противоядие!
Разговор двух генералов прервал нарастающий свистящий вой падающего снаряда. На этот раз он брякнулся в прибрежные воды озера. Раздался утробный грохот, над озером встал могучий фонтан воды высотой с пятиэтажный дом.
– Ух ты! – воскликнул Огановский. – Это сколько же рыбы наглушило! Сейчас пошлю команду, пусть соберут. Солдатики полакомятся, рыбешка здесь вкусная…
6
На ширазском ковре лежала яркая, узкая полоса света, просочившаяся сквозь щель между тяжелыми шторами. Эта полоса приблизилась к вычурной кровати непривычной овальной формы. Ножки и спинки кровати были причудливо изогнуты. Полированное дерево спинок украшал сложный орнамент из переплетающихся спиралей, окружностей, эллипсов, причудливые арабески в стиле позднего барокко. Очень модерновая мебель, на такой кровати не всякий человек уснет.
Солнечный лучик дотянулся до лица спящей женщины, нежно тронул ее щеку, пощекотал шею. Вера Холодная вздохнула сладко и глубоко, потянулась под атласным белым покрывалом всем своим гибким молодым телом, открыла глаза. Актриса изящно, словно кошка, повернулась, бросила взгляд на настенные часы: начало двенадцатого.
«Рано еще! – подумала Вера Холодная. – Попытаться снова заснуть?»
Королева синематографа ни в коем случае не была лентяйкой и сибариткой, работала Вера Холодная до седьмого пота. Но и отдохнуть она умела! К тому же вставать с петухами в ее кругу считалось – как бы это сказать? – немодным. Принято было отходить ко сну далеко за полночь, ближе к рассвету. Ничего не попишешь – стиль жизни такой! Волей-неволей до полудня в кровати нежиться будешь.
Еще раз: работать Вера Холодная умела и любила, пользовалась громадной популярностью, а потому и зарабатывала немало, даже по столичным меркам. С такими доходами она могла позволить себе снимать роскошную семикомнатную квартиру на втором этаже одного из новых многоэтажных домов на Александровском проспекте. Квартира была оформлена и обставлена в едином стиле, который лучше всего назвать изысканным декадансом. Стиль этот, отличающийся утонченностью и барочной вычурностью, в котором оригинальность исполнения преобладает над содержанием, не совсем, пожалуй, соответствовал собственным вкусам Веры Холодной, она предпочла бы что-нибудь попроще, но… Назвался груздем – полезай в кузов! Что это за «роковая женщина, снедаемая страстями», без декаданса? Не поймут-с!
Спальня актрисы была выдержана в бело-золотых тонах. Казалось, что в этой просторной комнате нет ни одной прямой линии, даже углы стен были слегка округлены. Огромное зеркало отражало два туалетных столика, раскиданные по ковру в кажущемся беспорядке мягкие табуретки на гнутых ножках, полочки и этажерки, уставленные вазочками, флакончиками и какими-то красивыми безделушками вовсе непонятного назначения.
Живых цветов в спальне не было, для них, – а Вера Холодная получала букеты и корзины с цветами ежедневно и в немалом количестве, – другие комнаты есть. Зато было очень много изображений цветов, выполненных разными художниками, но в одинаковой манере. Той же самой – поздний декаданс, когда не сразу догадаешься, что это за цветок изображен и цветок ли это вообще.
Конечно, не только цветы были темой небольших картин, рисунков, набросков, эскизов, которые были во множестве развешаны по стенам комнаты. Вера вообще любила живопись и неплохо разбиралась в ней.
Она гордилась, что ей дарили свои работы такие признанные мастера, как Александр Бенуа и Мстислав Добужинский. Но более всего актриса любила небольшой этюд прерафаэлита Габриэля Росетти, женскую головку. Этот этюд висел над одним из ее туалетных столиков, и, хоть внешнего сходства с хозяйкой квартиры в женской головке не обнаруживалось, чем-то она неуловимо напоминала Веру. Гордым и загадочным взглядом, быть может?
Одно изображение вносило явный диссонанс в это художественное изобилие. Уже хотя бы потому, что это был фотопортрет, единственная фотография в комнате, ее актриса повесила над вторым туалетным столиком. Фотопортрет был выполнен в тоне сепия, с него смотрела сама Вера Холодная в одной из своих ролей. Актриса недаром любила этот портрет: фотографу удалось почти невозможное, он смог передать стремительное и текучее выражение ее прекрасного лица, поймать неуловимый момент перехода одного настроения в другое.
Поспать еще часок Вере так и не удалось – раздался осторожный стук, дверь открылась, и вошла горничная:
– К вам с визитом молодой мужчина, офицер. – Она протянула хозяйке серебряный подносик.
Актриса привстала, взяла с подносика визитную карточку: «Князь Сергей Михайлович Голицын, поручик Лейб-гвардии Гусарского Его Величества полка».
– Ах да! Я же сама… На половину двенадцатого… Просите!
Нет ничего удивительного в том, что Вера Холодная собиралась принять Голицына в спальне, лежа в постели. Это тоже было принято в ее кругу, представляло еще одну черту того же куртуазного, богемно-декадентского стиля.
Сергей вошел, коротко поклонился:
– Я всецело к вашим услугам, сударыня!
– Присаживайтесь, князь, – сейчас, полулежа, одетая лишь в пеньюар и укрытая атласным покрывалом, Вера Холодная была редкостно очаровательна. – Я очень признательна вам за визит.
Голицын уселся на пуфик, стоящий рядом с овальной кроватью. Его ноздрей коснулся тонкий аромат женской кожи и французских духов «Пуазон».
«Бог мой, но до чего же она хороша! – подумал Сергей. – Зачем же я ей понадобился?»
Ответ он получил немедленно:
– Князь, меня очень волнует судьба моего несчастного брата. Мы всегда были так близки с Андреем! И вот он в плену, я ничего не знаю о нем… Может быть, он тяжело страдает… Я подумала: вы ведь будете там же… Возможно, встретите Андрея, поможете ему…
– Простите, где «там же»? – недоуменно поинтересовался поручик Голицын. – В плен я не собираюсь! И, окажите любезность, называйте меня просто Сергей, ведь мы же не на официальном приеме.
Недоразумение быстро разъяснилось: просто Вера Холодная была бесконечно далека от военного дела и фронтовых реалий. Она наивно полагала, что русско-турецкий фронт представляет собой нечто вроде большого светского салона, где все друг друга знают. Актриса была наслышана о поручике Голицыне, героический ореол, окружавший князя, навел женщину на мысль, что Голицын, может быть, поспособствует освобождению штабс-капитана Левченко… Правда, механизм этого «способствования» Вера Холодная себе совершенно не представляла. Ну, совершит блистательный поручик очередной геройский подвиг, долго ли ему, и ее любимый брат окажется на свободе! Да, да – это было трогательно похоже на то, как представлял себе предприятие по вызволению штабс-капитана Левченко из плена влюбленный в Веру великий князь Николай.
Сергей только усмехнулся мысленно такой детской наивности, но разубеждать актрису в своей способности хоть луну с неба достать ему вовсе не хотелось! Эта женщина кружила ему голову, глядя на нее, он пьянел, точно от бокала «Ирруа». Теперь он хорошо понимал молодого великого князя Николеньку: ради такой в преисподнюю полезешь дьявола за рога дергать.
Сергей Голицын кем-кем, а монахом и аскетом не был! Он любил женщин и пользовался взаимностью, потому что был молод, хорош собой, редкостно обаятелен, остроумен и весел. Да к тому же тот самый героический ореол! Еще бы Голицыну не пользоваться успехом у женщин! У поручика было множество романов, но надо сказать, что ни в одном из них не было и следов пошлости. Нет, это всегда становилось прекрасным дуэтом во славу радости жизни и любви. И вот сейчас поручик явственно чувствовал, как его медленно, но верно затягивает воронка нового любовного омута.
Сопротивляться? А с какой бы стати?!
– Ведь вы обещаете, Сергей?
– Я постараюсь, – честно ответил поручик. – Но я очень постараюсь! Я сделаю все, что смогу, для спасения вашего брата, сударыня, – добавил он, подумав, что в самом деле совершит все возможное и невозможное ради того, чтобы добиться благосклонности этой прекрасной женщины.
– Сергей! – томным голосом произнесла актриса. – Я попрошу вас еще о двух одолжениях…
– Рад служить вам! – наклонил голову князь.
– Во-первых, вы тоже называйте меня просто Верой. Договорились? Вот и замечательно! А во-вторых… – она некоторое время молчала, а затем, вздохнув, продолжила: – Ах, эта проклятая война, будь она неладна! У меня есть личный оператор, он снимал три последних моих фильма. Владислав Юрьевич Дергунцов, вы, Сергей, возможно, видели Владислава на том приеме у графа Нащокина. Такой, с усиками. Он еще не отходил от меня. Я очень ценю этого человека, Сергей! Нет, нет, не как э-э… близкого друга, а как изумительного профессионала. Посмотрите: вон, над столиком мой фотопортрет. Это его работа. Превосходно, не правда ли?
– О да! Но в жизни вы еще прекрасней, Вера! – пылко воскликнул Голицын.
Королева кино потупила глаза:
– В самом деле? – Вера Холодная не сомневалась в искренности восхищения князя, она себе цену знала. – Так вот, хорошего оператора нелегко найти, а такого, как Владислав, почти невозможно. И что же? Дергунцов мобилизован! Никак не удалось освободить его от этого… Будет фронтовым корреспондентом. Он меня просил… Словом, не могли бы вы поспособствовать, чтобы Владислав был направлен именно в Турцию. Он считает, что там безопасней всего…
«Это очень зря он так считает! – мысленно усмехнулся Голицын. – Хотя, конечно, веселые кабачки Тифлиса и Эрзерума – это не гиблые болота Восточной Пруссии! Странная позиция для мужчины: стремиться туда, где опасность меньше… Впрочем, что с него, штафирки, взять! Замолвлю словечко, никакого труда мне это не составит».
– Сделаю все, что в моих силах! – пообещал Голицын. – Не думаю, что добиться этого будет слишком сложно.
– Я бесконечно признательна! – ее губы дрогнули в улыбке, щеки окрасил слабый румянец. – Но, возвращаясь к моей главной просьбе… Сейчас я покажу вам фотографию моего несчастного брата!
С этими словами Вера Холодная, откинув покрывало, встала с кровати и, как была, в пеньюаре, босиком, подошла к бюро красного дерева и открыла один из ящичков.
Голицын с восхищением глядел на стройную фигурку актрисы и ее маленькие босые ножки. Вера Холодная обладала изумительно пропорциональным сложением и двигалась грациозно, как профессиональная танцовщица. Сердце поручика билось все сильнее, во рту пересохло. Да, Вера была неописуемо хороша и желанна.
– Вот он, мой братик Андрюша! – женщина протянула Сергею фотографию кабинетного формата. При взгляде на нее Вера не смогла сдержать слез.
– Тому, кто спасет моего несчастного брата… я бы все на свете… до конца дней!.. – тихо сказала она.
В ее широко открытых глазах Сергей Голицын явственно прочитал: «Спаси моего брата, и я буду твоей!»
…Уже садясь в пролетку, поручик Голицын четко осознал: он пылко влюбился в эту роковую женщину! Сергей с замиранием сердца вспомнил, как на прощание Вера обвила руками его шею и нежно прикоснулась губами к щеке:
– Я буду молиться за вас, Сергей…
Он достал трогательный подарок Веры: медальон с ее портретом и прядью волос, посмотрел на него восхищенным взглядом и покачал головой.
«Ну и влипли вы, князь! – мысленно сказал Голицын, обращаясь к самому себе. – Просьба Фредерикса, да что там Фредерикса, самого государя императора! Обещание, данное блистательной Вере… Не очень-то ясно, как их совместить! А самое главное: воевать-то когда, разрази меня гром?! Уж, наверное, генерал Юденич передо мной свои задачи поставит…»
7
Казалось бы, Вильгельм фон Гюзе имел все основания быть довольным: уже сутки чудовищная гаубица исправно выпускала снаряд за снарядом. Изделие крупповских оружейников работало четко, как часы. Столь же четко работали сменяющие друг друга орудийные расчеты.
Но ни немец, ни его номинальный начальник, турецкий генерал Махмуд Киамиль-паша, до конца довольными не были. Сейчас оба они стояли в полукилометре от «Большой Берты» и наблюдали, как она изрыгает свои громадные снаряды, летящие в сторону русских позиций.
То-то и оно, что «в сторону», именно это удручало фон Гюзе и Киамиль-пашу. Говорить о точности стрельбы не приходилось, а раз так, то эффект от нее был более психологический, нежели разрушительный.
– Шуму много, – недовольно произнес Махмуд Киамиль-паша, – а вот много ли проку от такой стрельбы? Снаряды летят настолько далеко, что мы не можем проконтролировать результаты. Где они взрываются? Нам это неизвестно, мы стреляем почти наугад.
– Вынужден согласиться с вами, – мрачно отозвался Вильгельм. – Кроме того, каждый выстрел «Большой Берты» стоит денег. Весьма немалых денег! А деньги нужно тратить с умом. Конечно, если такой снаряд вдребезги разнесет, скажем, русский армейский нужник вместе со всем его содержимым, это не окупит даже сожженного пороха.
В очередной раз раздался громовой удар, под ногами собеседников вздрогнула земля. Еще один громадный снаряд, с воем разрывая воздух, помчался на север.
– Что вы, как мой начальник штаба, сделали для того, чтобы исправить ситуацию? – требовательным тоном спросил турецкий генерал. – Не могу же я сам заниматься этим вопросом. Аллах свидетель – у меня и без того хватает проблем!
Полковник фон Гюзе скрыл насмешливую улыбку: да, формально он подчиняется этому турецкому варвару, но если посмотреть в корень, то еще большой вопрос, кто из них принимает окончательные решения. В отношениях турецких военачальников и их немецких помощников и подчиненных весьма нередки были случаи, когда «хвост вилял собакой». По крайней мере здесь наблюдался как раз такой случай. Фон Гюзе считал подобное положение вещей справедливым: никакие пышные звания и ордена величиной с тарелку не заменят профессиональной военной выучки прусского образца.
– В расположение русской армии были направлены несколько лазутчиков. Увы, все они оказались растяпами и были задержаны казачьими разъездами.
– Досадно!
– Неизбежные издержки, – пожал плечами немец. – Последний из лазутчиков, самый опытный, отправлен в Сарыкомыш. Пока что он не вернулся, и никаких сведений о нем нет. Но, эфенди, думаю, что попадется и он. Я не слишком полагаюсь на лазутчиков, а армейская полевая контрразведка у русских налажена, надо отдать им должное, весьма неплохо.
Махмуд нахмурился: что же получается, ему докладывают о сплошных неудачах? И стрельба могучей гаубицы так и будет оказывать на русских по большей части лишь психологическое воздействие? Не этого он ожидал, когда давал согласие на предложение Вильгельма фон Гюзе об установке «Большой Берты»!
– Что лазутчики? Это лишь вспомогательные меры. Нам нужны точные карты русских позиций. И надеюсь, эфенди, вскоре у нас будут такие карты, которые вам и не снились! – уверенным тоном сказал немец, желая приободрить Киамиль-пашу.
– Каким образом, позвольте узнать? – Киамиль был заинтригован.
– Пусть это пока останется моим секретом. Не хочу испытывать судьбу и раньше времени посвящать вас в скучные подробности, – вот теперь фон Гюзе ясно давал понять турецкому генералу, кто есть кто. – Когда дело будет сделано, вы узнаете все детали.
Турок с мрачным видом кивнул. Он, конечно, понимал, что его вежливо поставили на место, но ссориться с немцем не захотел. Вильгельм фон Гюзе был слишком ценным специалистом, Махмуд нуждался в нем. Кроме того, пока что все хитроумные замыслы немца успешно претворялись в жизнь и давали отличный эффект. Было у Киамиль-паши, хитрого, как шакал, и еще одно соображение. Пусть Вильгельм фон Гюзе делает что хочет, пусть рискует своей репутацией и карьерой. Если он добьется успеха, то успех этот всегда можно будет разделить пополам или вовсе приписать себе. А если не добьется, то это будет только его провал. Вот так это будет выглядеть в глазах высшего турецкого командования. И немецкого, кстати, тоже.
– Допустим, что вам удастся достать карты, – сказал Махмуд. – Но ведь нужен еще и артиллерийский наблюдатель, который по второму комплекту карт должен корректировать огонь!
– Эта догадка делает честь вашему уму, генерал, – несколько высокомерно парировал фон Гюзе. – У нас будет такой наблюдатель. Да, в самом скором времени.
Вновь раздался громовой удар выстрела.
Командующему третьей турецкой армией никак не давала покоя еще одна мысль: засечь позицию громадной гаубицы не составит большого труда для разведки противника! «Большую Берту» не спрячешь от русских. И если они сумеют каким-либо образом уничтожить могучее орудие, это будет серьезным пятном на репутации генерала Махмуда. Помнится, фон Гюзе говорил, что у него в запасе есть психологический трюк, который обезопасит гаубицу от удара с воздуха?..
– Полковник, русские не дурачки! – сказал Киамиль-паша. – Они непременно пошлют сюда аэропланы!
– Пусть посылают, – рассмеялся немец. – Лишь бы до того момента до противника дошла кое-какая информация. Да, о том, что за объект располагается в непосредственной близости от нашей красотки. Впрочем, убедитесь сами, эфенди. Давайте подойдем, и вы увидите, как ловко я все организовал.
…Неподалеку от позиции, занимаемой исполинской гаубицей, был огорожен в два ряда столбами с натянутой колючей проволокой небольшой клочок земли, квадрат сто на сто метров. По коридорчику между столбов шагал охранник-турок с немецкой винтовкой «манлихер» за спиной. Внутри периметра виднелся голый плац, посреди которого стоял унылый одноэтажный барак, несколько хозяйственных построек.
– Прошу взглянуть! – довольным тоном произнес Вильгельм фон Гюзе. – Это временный лагерь русских военнопленных. А на какое время, прошу прощения за невольный каламбур, он сохранит этот статус, зависит только от нас. На такое, которое нам понадобится.
– Почему временный? – спросил генерал Махмуд. – Сколько их там?
– Немного, двадцать три человека. Тут вопрос не в количестве. А временный статус для того, чтобы избежать обвинений, что мы нарушаем Гаагские международные конвенции. Видите, там, внутри, все весьма аскетично… Организовано-то буквально за десять часов. Даже караульных вышек поставить не успели еще. Ничего, за вышками дело не станет, к завтрашнему дню мы их установим. Часовых добавим, организуем караул по всем правилам, никуда русские не денутся. Да, конечно, пленные испытывают некоторое неудобство от того, что буквально у них над головами грохочет наша «Большая Берта». Ничего не попишешь, – немец лицемерно вздохнул, – полевые условия. Нашим караульным тоже не позавидуешь!
Это уж точно, несчастный турок с винтовкой имел очень кислое выражение физиономии. Когда громадное орудие выстрелило вновь, он даже присел со страху! Несколько пленных русских офицеров, прохаживающихся по плацу лагеря, увидели это и весело рассмеялись. Нет, этих людей орудийный гром не пугал! Хотя неприятно, конечно…
– Нам-то с вами, эфенди, как раз и нужно, чтобы «Берта» грохотала именно над их головами, – по-лисьи улыбаясь, продолжил фон Гюзе. – В непосредственной близости. Противник не станет бомбить нашу гаубицу, чтобы по своим не попасть. Русские же поймут: сбросить бомбу настолько точно, чтобы угодить лишь по «Большой Берте» и не зацепить лагерь, – дело невозможное. А хотя бы у них и были такие иллюзии относительно искусства своих пилотов, это ничего не меняет. Попав в гаубицу бомбой, они вызовут детонацию боеприпасов. Но даже взрыва одного снаряда нашей красавицы хватит для того, чтобы от лагеря с его обитателями даже пыли не осталось.
– Что ж, – благосклонно откликнулся Киамиль-паша, – эта ваша идея относительно живого щита оч-чень недурна!
– Теперь дело за немногим, – фон Гюзе самодовольно усмехнулся. – Надо, чтобы информация о положении этого лагеря ушла к русским…
– И как это сделать?
Вильгельм фон Гюзе не ответил. Задумчиво покусывая нижнюю губу, немец смотрел на одного из тех русских офицеров, что смеялись над перепуганным турецким солдатиком. На того самого молодого штабс-капитана, который недавно так дерзко разговаривал с ним.
8
До прифронтового городка Сарыкомыша молодой великий князь Николай и Бестемьянов добрались из Тифлиса легко и без всяких неожиданных неприятностей, вроде встречи с бдительным тифлисским городовым. Николай до сих пор заливался краской стыда, вспоминая этот момент: ведь весь его план висел на волоске! Оттащил бы его городовой в участок, там полицейское начальство живо сообразило бы, кто попался к ним в руки. Юноша не сомневался в том, что семья и двор предпринимают отчаянные попытки вернуть его в Царское Село, не позволить ему идти путем настоящего мужчины и героя.
Вот и вернули бы! Как нашкодившего щенка! Ведь это какой бы был позор, бр-р-р… Подумать страшно! А если бы слухи о его поимке дошли до любимой?! Тогда в ее глазах он так и остался бы смешным мальчишкой, хвастуном и фанфароном, и ему оставалось бы только застрелиться от невыносимого стыда.
Великий князь как-то упустил из виду, что свести счеты с жизнью ему вряд ли позволили бы…
Но уберегли святые угодники, видать, божья воля способствует его замыслу! А чего бы ей, спрашивается, не способствовать?! Он же не просто так из Петербурга сорвался, он за веру, царя и Отечество драться хочет. Все дерутся, а он чем хуже? Мало ли что великий князь, что, великие князья патриотами быть не могут? Вон Верховный главнокомандующий всей русской армии тоже, между прочим, великий князь!
Молодец дядька Николаич, ловко сунул городовому бумажку! Зато теперь у них есть деньги, зато теперь до линии фронта осталось пяток верст. И тут уж все зависело от его настойчивости, храбрости, ума и воли. Только они могли принести успех – да еще немного удачи.
…Вот такие примерно мысли роились в голове юного храбреца и героя. В свою удачу Николенька верил безгранично, что до выдающихся личных качеств, вроде ума, храбрости и прочего, то и тут сомнений не возникало! Любимая еще оценит его по заслугам!
Нет, Николенька вовсе не был самовлюбленным болваном, он просто был очень молод. В юности психически нормальный человек всегда несет заряд органического, природного оптимизма и самоуверенности. Жизнь воспринимается в приподнято-романтическом духе: молодому человеку кажется, что впереди его ждут захватывающие приключения, грандиозные события, подвиги и великие свершения, неземная любовь… А также многое другое в том же радостно-телячьем духе. И лишь приобретя некоторый печальный опыт, неоднократно приложившись на жизненном пиру физиономией об стол, он с грустью начинает осознавать, что перемены к лучшему – скорее исключение, чем правило. Только часто бывает поздно!
Документы у Николая были отличные, как уж он их достал – дело темное, но все же юноша был членом императорской фамилии, в деньгах не нуждался и возможностями располагал соответствующими своему статусу. Из документов следовало, что он уже окончил университет и, стало быть, несмотря на юный возраст, является прапорщиком запаса. Ну вот, в патриотическом, надо понимать, порыве, не дожидаясь призыва, решил добровольно послужить царю и Отечеству. Для чего и явился лично на русско-турецкий фронт: располагайте мной, господа военачальники!
Ясное дело, что, заполучив такого лихого вояку, «господа военачальники», например генералы Юденич и Огановский, в пляс от радости пустятся…
Самое любопытное заключалось в том, что авантюрный план юноши имел неплохие шансы на успех! Нет, что касается героического спасения из плена брата возлюбленной, штабс-капитана Левченко, то это навряд ли, не по плечу задача. Но вот относительно того, чтобы попасть в действующую армию и лично принять участие в боях… Отчего бы и нет? Вполне могла сбыться эта мечта Николеньки.
Хлебнув воздуха свободы, избавившись от опеки своих высочайших родственников и министра Двора Фредерикса, Николай за короткое время сильно изменился. И, надо сказать, дядьке Петру Бестемьянову не слишком нравились эти перемены.
Его питомец словно бы ошалел. Юноша, вчерашний мальчик, он почувствовал себя мужчиной. Великий князь и без того отличался упрямством и неуступчивостью, уж если ему в голову приходила какая-то идея, считал, что, кровь из носу, должен довести дело до конца. А теперь он и вовсе закусил удила: никаких резонов не признавал, никаких возражений и увещеваний Петра Николаевича слушать не желал! Но ведь Бестемьянов согласился помогать своему любимцу лишь из-за того, что был уверен: тот удерет и в одиночку, не удержишь такого, разве что в крепость посадить. Так лучше пусть рядом будет опытный и надежный, бесконечно преданный слуга, который всегда поможет советом. То есть он – Петр Николаевич Бестемьянов.
И вот сейчас Бестемьянов начинал горько сожалеть о своем решении. Может, впрямь лучше было бы в крепость? Но и выдать своего молодого хозяина военным либо гражданским властям старый дядька не мог, такое предательство было выше его сил. Приходилось только за голову хвататься да стараться из последних сил удержать чадо неразумное от совсем уж опрометчивых поступков. Получалось не слишком успешно.
Вот и сегодня, добравшись до прифронтового Сарыкомыша, перед тем как отдавать себя в распоряжение «господ военачальников», юный великий князь решил гульнуть напоследок. А чего тут такого?! Мужчина он, в конце концов, или нет?! Воин или кто?! Герой или как?! Именно что воин и герой, правда, лишь в будущем, но ведь совсем недалеком!
Деньги, хвала небесам, имеются. Так что устроим прощальную пирушку во славу Родины и любимой женщины, что осталась в далеком Петрограде!
Очень не по душе дядьке Бестемьянову была эта мысль, но он знал, что от своего Николенька не отступит. Без толку отговаривать, только время терять.
…Духан, где решил гульнуть Николенька, располагался в полуподвале на одной из кривых улочек Сарыкомыша. Городок этот был многонациональным, пестрым, шумным и чуточку по-хорошему бестолковым. Его улицы слышали речь на многих языках, но преобладали все-таки русский и грузинский. В позднем огне заката городишко этот показался Николеньке очень живописным и романтичным донельзя. Бестемьянов к местным красотам и экзотике оставался совершенно равнодушен, видал отставной унтер города и похуже.
Зал духана был небольшим, чистым и очень по-восточному уютным, заполненным почти до отказа. Великий князь с дядькой Петром Бестемьяновым устроились за угловым столиком, за особую плату старый духанщик согласился никого к дорогим гостям не подсаживать.
В пропахшем ароматами кавказской кухни воздухе слышались звуки многоязычной речи: в духане кого только не было из населяющих Прикавказье народностей. Грузины, армяне, турки, айсоры, курды… Бестемьянову даже показалось, что других русских, кроме них двоих, в зале нет. Не исключено, что так оно и было.
Отовсюду доносились непонятные гортанные слова: «…сацхали… генацвале… цоцхали…» В глубине зала восточный квартет – сазандари – распевал на четыре голоса «Шен хар венахи», старинный грузинский гимн вину и радости жизни.
У юного великого князя горели глаза: никогда он ничего подобного не видел и не слышал! Ясное дело: откуда бы? Ему доводилось бывать лишь в столице, Москве, Царском Селе, Гатчине. Ну, летом выезжали в Ливадию. Да, еще помнил Николенька, как на трехсотлетие дома Романовых, два года тому назад, сопровождал он в числе прочих своего венценосного тезку в пароходном вояже от Нижнего до Астрахани.
Нет, в Париже Николеньке тоже доводилось бывать, даже дважды. И по одному разу в Ревеле и Гельсингфорсе.
Но это же совсем не то! Всегда за его спиной маячили взрослые. Опекуны, наставники, гувернеры и прочие воспитатели-надзиратели. А здесь он сам по себе, Николаич не в счет.
И до чего все ново, интересно, необычно! Новые лица и слова, новые краски, звуки, запахи – вот она, настоящая жизнь, а не тоскливое дворцовое прозябание!
Словом, точь-в-точь походил сейчас великий князь на легавого щенка, которого впервые взяли на взаправдашнюю охоту: с ума сойти можно от восторга и новизны впечатлений.
Перед князем на простом деревянном столе стояло большое блюдо с кусками зажаренной на вертеле молодой баранины. Куски мяса, источающие восхитительный аромат, были обильно посыпаны мелко рубленной зеленью: кориандром, базиликом, черемшой и нежной весенней крапивой. Гарниром к жареной баранине служили вареные каштаны, сдобренные острой аджикой и грецкими орехами. Рядом, в глубокой керамической миске, зеленел своеобразный салат из стручков недозрелой фасоли, листьев кольраби и свекольной ботвы, заправленный сквашенным буйволиным молоком. В бело-зеленой массе салата сверкали, точно искорки, красные ягодки барбариса.
А ведь еще были на столе – гулять так гулять! – копченые цыплята в ореховом соусе и жареная форель с черноморскими мидиями, которые по вкусовым качествам любым устрицам сто очков вперед дадут. Вместо привычного хлеба – чурек из кукурузной муки, покрытый толстым слоем пастообразного козьего сыра.
Это ж все какая вкуснятина, пальчики оближешь! Никогда до сей поры не приходилось Николеньке пробовать ничего похожего. Он и наворачивал за троих, так, что за ушами хрустело. Вот это Петру Николаевичу очень даже нравилось!
Не нравилось Бестемьянову другое: его питомец налегал не только на блюда кавказской кухни, но и на местные вина.
А как же без них? Что же он за мужчина и герой, коли не выпьет как следует? Ведь не водку же противную пьет, а благородные напитки!
Надо сказать, что по молодости лет «водку противную» великий князь попробовал единожды в жизни, около года тому назад, на спор с двоюродным братцем, таким же желторотым шалопаем. Очень она ему не понравилась, полоскало Николеньку так, что хоть святых выноси, а наутро голова болела неимоверно. Он пообещал себе, что более этой пакости вовеки в рот не возьмет, не зная еще мудрой народной пословицы «Не зарекайся пить с похмелья».
Но и с вином великий князь был покамест знаком мало. Так… Фужер шампанского по большим праздникам. Или стаканчик массандровского муската.
Сейчас на столе стояли два больших глиняных кувшина. В одном золотое имеретинское вино, это под форель. В другом – кроваво-красное «Саперави», это под баранину и цыплят. Николенька отдавал должное и тому, и другому. Пил стаканами да нахваливал. Было, вообще говоря, за что: вина изумительные.
Но весьма коварные, как все сухие вина Кавказа! Пьются они очень легко, только с некоторого момента человек вдруг обнаруживает, что встать не может! Как поется в песне: «Голова у нас в порядке – ноги не идут!»
Однако ж и в голову непривычному Николеньке ударило основательно: его вдруг захлестнул приступ безудержного патриотизма!
– Да мы на православном храме Святой Софии водрузим русский флаг! Даром, что ли, Вещий Олег свой щит к вратам Царьграда прибивал?! Даром, я тебя спрашиваю?! – грозно наседал он на беднягу Бестемьянова. – Не-ет, недаром! Третий Рим… Исконно р-русские Босфор и Дыр… Дар-да-неллы…
Николая понесло! На миг он сам удивился тому, что болтает. Но только на миг.
– Ох, уж этим нехристям-басурманам покажем! – продолжал хорохориться будущий герой. – Я вот сам, лично покажу!
– Ваше сиятельство, хватит пить, – умоляюще прошептал Петр Николаевич. Изводило Бестемьянова сосущее ощущение неясной тревоги, особенно неприятное тем, что никак не удавалось старому дядьке осознать его источник!
– Эх, Николаич! Что ты в патриотизме понимаешь! – горячо воскликнул молодой человек. В мечтах он уже видел себя с имперским флагом на куполе Айя-Софии. – Мы побьем всех басурман. А еще… Я обязательно найду этого героя… штабс-капитана Левченко… и тогда она поймет, кого отвергла… и я… и она… и мы…
Меж тем мелодичное четырехголосье сазандари смолкло, теперь посетителей духана развлекал зашедший в зал кенто.
В русском языке трудно найти адекватный перевод этого слова, потому что и соответствия фигуре кенто в русской жизни нет. Кенто – порождение юга. Бродяга? Пожалуй, нет, ведь в России слово «бродяга» имеет негативную окраску.
Или да, но с важным дополнением: это бродяга с художественными наклонностями и способностями, веселый нищий, поэт, музыкант, сказитель, актер и циркач в одном лице. Этакий менестрель и вагант для бедных.
Кенто ходят из города в город, из селения в селение, из духана в духан, поют, показывают простенькие фокусы и тем зарабатывают себе на кусок хлеба и стакан вина. Часто их можно увидеть на базарах, вообще там, где скапливается народ. Относятся к ним с чуть презрительным добродушием, но стоит помнить, что иногда из этой странной прослойки вырастают изумительные таланты, народные певцы и поэты. Встречаются, правда, среди кенто жулики и мошенники, так ведь у любой медали две стороны…
Этот кенто держал в руках старенькую, но хорошо настроенную гитару. Ловко перебирая струны, он приятным тенором запел «Мравалжамиери». Многие в духане стали подтягивать, эту песню любили…
– Ну хватит пить, ваше сиятельство! – уже в полный голос попросил Бестемьянов. В тоне, которым дядька произнес эти слова, звучали прямо-таки отцовские нотки. – Ведь полный кувшин «Саперави» усидели!
– Как усидел? Эт-то что же такое, он пустой теперь?! Не-по-ря-док! Вон цыпленок остался, и вообще… Дай мне сюда деньги! – несколько неожиданно среагировал Николенька. – Сейчас еще закажем!
Деньги, конечно же, хранились у Петра Николаевича, с этим будущий герой и гроза басурман согласился сразу: понимал, что сам по разгильдяйству непременно потеряет.
– Да как же… Как хотите, ваше сиятельство, но я не дам!
– Тебе мое слово не указ? Мне завтра на фронт, может, голову придется сложить… Тебе лишней рюмки «Саперави» для меня жалко?
Нет, не мог Бестемьянов ослушаться своего молодого хозяина, привык подчиняться. Такие вещи в подсознание входят. К тому же любил он своего шалопаистого питомца безмерно. Да и впрямь: а ну как добьется мальчишка своего и угодит на днях на фронт?! Голова-то, даст господь, при нем останется, только на фронте не шибко разгуляешься! Пусть уж его…
С тяжелым вздохом Петр Николаевич достал портмоне, протянул его юноше:
– Эх, ваше сиятельство!.. Не нравится мне это! Добром дело не кончится.
Кенто с песней кружил по залу духана. Как раз в этот момент он оказался рядом с их столиком. Кенто скосил любопытный взгляд на странную парочку русских, глаза бродячего музыканта недобро сверкнули. Заметил он и портмоне…
Великий князь выпил еще стаканчик, доел цыпленка. Теперь ему в голову вдруг пришла неожиданная мысль: а не стоит ли прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик, написать письмо любимой женщине? Нет, в самом деле: он ведь ни словом не обмолвился актрисе, где он и почему вдруг пропал с ее горизонта! Вдруг Вера Холодная ночей не спит, переживает, не разлюбил ли он ее, не охладело ли его сердце? Так вот, ничуть не охладело!
Конвертами и писчей бумагой «Лонлан» Николенька еще в Питере запасся, в предвидении как раз такого вот настроения. Был у него с собой и особый патентованный английский карандаш, что давал такую красивую и четкую линию, что куда там чернилам! Стол – вот он, только пустые тарелки со стаканами в сторонку отодвинуть, света достаточно.
Правда, пальцы сегодня слушались Николая плоховато, бог весть по какой причине, и строчка налезала на строчку. Зато ценных мыслей было хоть отбавляй, а в груди прямо пожар пылал!
Не менее сорока минут юный великий князь сочинял свое послание. Бестемьянов терпеливо ждал.
«Бесценная Вера, свет очей моих! – закончил письмо Николенька. – Я уже почти на фронте. Вскорости я спасу вашего брата, и тогда, надеюсь, вы оцените меня по достоинству! Мысленно целую ваши прелестные пальчики, с совершеннейшим почтением и нежной любовью, навеки ваш…»
Он размашисто подписался, потом подумал минуту и добавил постскриптум:
«Уроните слезу, звезда моя, если я геройски паду на поле брани!»
Написав такое, Николай явственно представил себе свою доблестную кончину на ратном поле, среди десятков поверженных им врагов, и чуть не уронил восторженную слезу сам.
Он отдал запечатанный конверт Бестемьянову:
– Николаич, купишь марку и отправишь. Как кому?! Ей, конечно же, не кайзеру же Вильгельму!
… Бродячий актер и музыкант так и продолжал развлекать посетителей духана своими песнями. И пока великий князь сочинял послание даме сердца, кенто время от времени бросал на него внимательный, изучающий взгляд. При этом глаза его стали по-особому острыми и хищными. Так глядит на мир выслеживающий добычу волк.
9
Скорый поезд Петербург – Тифлис мчался сквозь вечернюю южнорусскую степь. Колеса мерно постукивали на рельсовых стыках, встречный ветер срывал шлейф дыма и искр с паровозной трубы, отбрасывал его назад. Окошки синего вагона первого класса мягко светились в подступающих сумерках.
На диванчике одного из купе этого вагона сидел в свободной позе поручик Лейб-гвардии Гусарского Его Величества полка князь Сергей Михайлович Голицын. Напротив Сергея, на втором диванчике, расположился его сосед по купе, оператор и фотограф, а ныне – фронтовой репортер Владислав Юрьевич Дергунцов.
Да, поручик выполнил одно из обещаний, которые он дал Вере Холодной. Как Голицын и предполагал, большого труда это не составило, потому что никакой принципиальной разницы в том, на какой из фронтов отправить еще одного фотокорреспондента, не существовало. На турецкий? Вам этого хотелось бы, князь? Ну и в добрый путь! Поступит ваш протеже в распоряжение генерала Юденича…
Все-таки влюбленность основательно отшибает человеку способность к соображению, но видно это только со стороны. Самому влюбленному как-то не до здравого смысла. Вот ведь нужно же было Сергею связываться бог весть с кем и хлопотать за совершенно незнакомую ему персону! Но… Вера так трогательно просила помочь!..
Сейчас Голицын тоскливо размышлял, что обещания, которые даешь такой женщине, надо, конечно, выполнять, но… Но это обещание он выполнил на свою голову!
Каждое хорошее дело наказуемо. Так получилось и в этом случае: вы, князь, хлопотали за этого… Как его там? А-а, Дергунцова! Вот и проводите его до ставки Николая Николаевича Юденича, чтобы этот шпак в пути не потерялся. Тем более что вы сами туда направляетесь!
Да еще новый знакомый, век бы его не видать, выразил настоятельное желание ехать в одном купе. Голицын поначалу было удивился, но не успел состав отойти от питерского перрона, как поручику стало все ясно. Вера Холодная предупредила своего оператора, что просила поручика Голицына принять в нем участие, вот тот и пользовался этим на полную катушку. Любой другой сосед Владислава Дергунцова был бы, мягко выражаясь, не в восторге от того, что и так тесноватое купе заставлено камерами, жестянками с пленкой, непонятными ящиками, загромождено штативами и треногами и прочим необходимым оператору оборудованьем. Ведь повернуться же негде, право слово! Все время о какие-то коробки спотыкаешься.
Голицыну тоже не доставляло большой радости то, что все это барахло занимало больше половины купе, но Сергей стоически терпел. Все же этот штатский фруктик – живое напоминание о любимой женщине, не в коридор же его выбрасывать с барахлом вместе…
Да, пылкий и быстро загорающийся князь Голицын уже всерьез думал о прекрасной Вере, как о любимой женщине!
Но загроможденное купе – это мелочь, беда была в том, что сосед категорически не нравился Сергею! Причем без всякой конкретной причины. Трудно сказать, почему один человек сразу нравится нам, а другой вызывает немедленную реакцию отторжения. Это все на подсознательном уровне происходит. Наши симпатии и антипатии – загадка для нас самих. Но порой бывает, – ровным счетом ничего дурного вам этот человек не сделал, просто не успел, а вот глаза бы на него не глядели.
Самым же неприятным были попытки Дергунцова вести с поручиком дорожную беседу. Оператор почему-то не желал просто помолчать и полюбоваться проплывающими за окном пейзажами. Но никак Владислав Дергунцов не мог найти ни подходящих тем для разговора с Голицыным, ни подходящего тона. То он становился излишне фамильярным, то, напротив, голос оператора звучал заискивающе, как первое, так и второе Голицыну удовольствия не доставляло.
Сперва Дергунцов попробовал вовлечь поручика в разговор о высокой политике. Откуда было оператору знать, что его попутчик придерживается золотой заповеди хороших военных: человек в погонах должен быть принципиально аполитичным.
– Вы не находите, князь, что англичане и французы хотят въехать в рай на нашем, русском горбу? – Дергунцов улыбнулся скользящей жиденькой улыбкой, что сделало его лицо еще более неприятным. – Мне приходилось слышать о ваших беспримерных подвигах в Восточной Пруссии, но кто снял пенку с вашего геройства, с геройства других русских офицеров и солдат?
Сергей Голицын молча пожал плечами, усилием воли сдерживая рвущийся с губ резкий ответ.
«Тебя бы, трепача, да в Мазурские болота, – подумал он. – Ишь ты, на нашем горбу… На твоем, что ли?»
– Наше правительство… – попытался продолжить Дергунцов, ободренный молчанием поручика.
Меж тем для князя Сергея Михайловича Голицына все подобные вопросы были решены давно и однозначно. Он, Сергей Голицын, – офицер русской армии. Армия не должна участвовать в политической борьбе, для нее недопустимы партийные симпатии и антипатии. Использование армии в политических целях мало того, что аморально, оно просто глупо и ничем хорошим, как правило, не кончается.
Армию создает и содержит государство. Из этого с железной логикой следует, что ее дело – охранять существующие законы и государственный строй. Армия должна охранять их до того дня, когда законная власть отменит «сегодняшний» закон и заменит его новым, тогда армия будет охранять этот новый закон и порядок.
Вот так. Просто и ясно. Но не станешь же излагать свое кредо этому напыщенному штатскому дураку!
– Господин Дергунцов, я не желаю обсуждать действия нашего правительства, – чуть приподняв уголки губ и тем обозначив улыбку, прервал попутчика Сергей Голицын. – Я всего лишь скромный гусарский офицер, защищаю Родину, как умею. Высокие материи не для моего ума. Смените тему, будьте столь любезны!
Оператор с удовольствием сменил тему. Теперь он заговорил о современном искусстве. Судя по его словам, он был на дружеской ноге с самыми видными его представителями, и о каждом из них Владислав Дергунцов умудрялся сказать какую-нибудь гадость. Послушать оператора, так всероссийские знаменитости были просто толпой неучей, бездельников, бездарностей и пьяниц. Сквозила в его отношении к этим людям угрюмая неприязнь.
Сергей Голицын был весьма далек от мира современного искусства, от живописи, поэзии, от всего того, что называлось Серебряным веком, хоть, само собой, Куприна с Боборыкиным или Блока с Георгием Чулковым не путал. И все же хамский тон Дергунцова раздражал поручика безмерно: разве можно так говорить о талантливых людях, которые, как знать, могут прославить Россию!
Конечно же, князь Сергей Голицын был абсолютно прав в своем брезгливом негодовании. Не стоит уподобляться библейскому Хаму. Он, право же, был настоящим хамом. То, что его папа – пьяница, хамоватый Хам заметил. А про то, что старый Ной строитель ковчега и спаситель жизни на Земле, Хам как-то позабыл. Таково отношение большинства людей к гениям, и это очень грустно.
– Вот все говорят, что Александр Блок хороший поэт, а вы знаете, какой он распутник? – продолжал брызгать грязью Дергунцов. – И алкоголик в придачу!
– Не имею чести лично знать господина Блока, и свечку ему, понятное дело, не держал, – с тщательно спрятанной злостью ответил поручик, которого этот разговор начинал утомлять. – Но стихи он пишет превосходные. Просто отличные стихи!
– Нравы среди богемы, скажу я вам по секрету, те еще! – оператор все никак не мог успокоиться и ненароком заговорил на весьма опасную тему: – Ту же самую Веру Холодную взять, уж мне ли не знать! Порассказал бы я вам…
Голицын попытался улыбнуться, но улыбка его получилась скорее похожей на досадливую презрительную гримасу. Однако тон его оставался по-прежнему безукоризненно вежливым и корректным, при всем том настолько ледяным, что хоть волков морозь.
– Милейший, избавьте меня от своих откровений! Я с большим почтением отношусь к таланту Веры Холодной и к ней лично. Поэтому говорить о ней плохо в моем присутствии категорически не рекомендуется. Могу рассердиться, а рассерженный я очень, поверьте, неприятен, – в голосе поручика звякнул металл. – Мало того! Если я узнаю, что вы непочтительно отзывались о Вере Холодной в чьем бы то ни было обществе, я рассержусь в не меньшей степени.
Дергунцов тут же осекся, мгновенно уразумев, что никаких двусмысленностей, злопыхательства и сплетен об актрисе Голицын не потерпит.
– Что вы, князь! Вы неверно меня поняли! – отыграл он назад.
Сергей только мрачно усмехнулся, все он верно понял. Поручика другое удивляло: как это такой отличный, по словам Веры, профессионал – фотопортрет ведь впрямь изумительный! – оказался настолько тяжелым и неприятным человеком?
…Род князей Голицыных ведет свое начало от Гедемина, а с начала XII века, времен Владимира Мономаха и Мстислава Великого, князья Голицыны постоянно упоминаются в русских летописях. По знатности и древности Голицыны никак не уступают Захарьиным-Кошкиным-Юрьевым, из рода которых вышла царская династия Романовых! Как бы не наоборот…
Сам князь Сергей, как подлинный аристократ, никогда не чванился своим титулом и древностью рода. Гордился, конечно, но это совсем другое дело, ничего общего с сословной спесью и вульгарной кичливостью его гордость не имела.
Однако, сталкиваясь с типами вроде Владислава Дергунцова, поручик мог выказать такое холодное барственное презрение, поглядеть на хама и выскочку с такой высокомерной усмешкой, что только держись!
Именно так себя Голицын и повел. Дергунцов окончательно увял…
…В дверь купе заглянула раскрасневшаяся усатая физиономия со шрамом от сабельного удара через щеку и веселыми шальными глазами.
– Ба! Никак Серж Голицын! Ну, здрав будь, боярин! – радостно и громко поприветствовал поручика обладатель усатой физиономии. – Ты тоже к Юденичу? Так что ж сидишь здесь один и киснешь? У нас компания хорошая, купе в конце вагона, айда к нам!
Поручик столь же радостно улыбнулся: этого человека он превосходно знал. Граф Владимир Соболевский, тоже поручик, но из конногвардейцев. Свой брат-кавалерист. Храбрец, забияка и пьяница, безудержный гуляка, редкостный волокита и добрейшей души человек. Кстати, когда конногвардеец сказал «сидишь здесь один», он вовсе не оговорился: просто штатских Соболевский за людей не держал.
– К нам, к нам! – продолжал орать Соболевский. – Там корнет из улан, и капитан пехотный, да аз многогрешный, а ты как раз четвертым будешь! Соорудим польский банчок по маленькой для скоротания времени. И пять бутылок «Цимлянского» имеются, и закусить есть чем. О! У корнета есть гитара, вот ты нам и споешь, а то самому корнету медведь все уши оттоптал… Порадуешь господ офицеров! Чего ждешь, пошли скорее!




















