Читать онлайн Пепел на ветру бесплатно
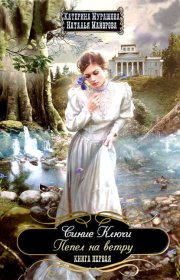
А. Блок
- «Огромный тополь серебристый
- Склонял над домом свой шатер
- Стеной шиповника душистой
- Встречал въезжающих во двор…
- Он был амбаром с острой крышей
- От ветров северных укрыт
- Здесь можно было ясно слышать,
- Как тишина цветет и спит…
- Бросает солнце листьев тени
- Да ветер клонит за окном
- Столетние кусты сирени,
- В которых тонет старый дом.
- Да звук какой-то заглушенный,
- Звук той же самой тишины
- Иль звон церковный отдаленный
- Иль гул весны.
- И дверь звенящая балкона
- Открылась в липы и сирень
- И в синий купол небосклона
- И в лень окрестных деревень…
- Белеет церковь над рекою,
- За ней опять леса, поля…
- И всей весенней красотою
- Сияет русская земля.»
ПРОЛОГ,
в котором незнакомый нам пока человек идет умирать, а кто-то другой, наоборот, изо всех сил пытается начать жить.
Москва, декабрь, 1905 год
Близость смерти ощущалась так же остро и пряно, как первая близость с женщиной. И вероятно могла бы также воодушевлять. Если бы не запредельная усталость, которая путалась в ногах и туманом клубилась в голове. У нее фактически не было границ. Человеку, идущему по заснеженным улицам, казалось, что его усталость значительно переросла его же собственное тело и теперь свисает из рукавов полушубка, течет на плечи из замерзших ушей, волочится позади ошметками грязного вонючего дыма, похожего на тот, который заполнял классы Фидлеровского училища после обстрела артиллерии, перед атакой драгун.
Огни фонарей давно погасли, и не было луны. Снег на крышах, карнизах и мостовых слабо мерцал собственным жемчужным светом. Небо молчало и затаилось. Медленно и величественно колыхалось вдалеке красное зарево. Стояли сутулые домишки с темными, недоверчивыми провалами окон. Иногда в глубине их промелькивали тусклые огоньки, показывавшие, что где-то еще живут и движутся люди. Откуда-то то и дело доносился нестрашный, ручной треск выстрелов, будто кто-то рвал старые тряпки. Между выстрелами в переулках давила тишина, в которой скрип снега под ногами или недовольное карканье потревоженной вороны казались звуками поистине оглушительными.
Случайный наблюдатель мог бы решить, что человек движется по ночной Москве наугад, без всякой видимой цели. Он несколько раз менял направление, сворачивал на перекрестках то в одну, то в другую сторону и пару раз даже возвращался назад. При этом оглядывался, приседал, выглядывая в соседний переулок или тупичок из-за крыльца или забора, и не вынимал левой руки из-за пазухи. Несколько раз, заслышав голоса, конское ржание и позвякивание шпор, человек перепрыгивал или, скорее, переваливался в палисадники и сидел прямо на снегу, наклонив голову, обхватив руками колени и прислонившись спиной то к стене дровяного сарая, то к срубу колодца. Сидя так, он ни разу не пытался посмотреть, кто или что движется по улице. Дождавшись, когда звуки утихнут, человек с трудом вставал и шел дальше. Первые несколько десятков шагов после отдыха он видимо припадал на левую ногу. Потом нога расхаживалась. Более всего ему хотелось лечь, свернувшись калачиком, в какой угодно сугроб и закрыть глаза. Идти и проделывать все прочее его как будто тянули на невидимой нитке. Большинство движений выглядели странно автоматическими, и иногда казалось, что, позабыв об отсутствии партнера, человек исполняет странный многофигурный танец. Порой он неловко спотыкался о заснеженный мусор, в изобилии разбросанный по улицам, и тогда приглушенно шипел от боли и досады. Однако ни разу не упал. Возраст человека нельзя было определить ни по его лицу, ни (из-за граничной усталости) по пластике его движений. Принадлежность к тому или иному социальному классу не определялась по одежде – туго подпоясанному полушубку явно с чужого плеча, валенкам и мятой шапке с матерчатым верхом. В отраженном сиренево-серебристом свете темнела большая ссадина на скуле. Иногда человек на ходу прикладывал свободную правую руку к шее и потом, на мгновение остановившись, без всякого выражения на лице осматривал вынутую из-за воротника ладонь. Ладонь тоже казалась темной и чем-то испачканной. Мимолетно нагнувшись, он вытирал ее о снег и шел дальше. На сиреневом снегу оставался черный след. Постепенно, по мере иссякания физических сил, движение его замедлялось, но становилось все более механически упорным. Ибо, вопреки предположениям случайного наблюдателя, идущий по улицам Москвы человек очень хорошо знал и ни на минуту не забывал о том, куда и зачем он идет. Он шел умирать, и прекрасно представлял себе, где и каким именно образом смерть настигнет его. В этой воображаемой картине его устраивало абсолютно все.
* * *
Мне нет нужды лгать. Все равно никто этого не прочтет, а если и прочтет по случаю, так ему не будет никакого дела. Отсутствие нужды в обмане есть облегчение и удовольствие само по себе, потому что в обыкновенной жизни я лгу постоянно. Два года назад я полагала, что такова моя лично несчастная доля. Нынче сомневаюсь: не все ли и не везде ли так? Жаль только, что я не умею складно и красиво писать, да и почерк мой не похож на вышивку крестом, как было у Юлии фон Райхерт. Но откуда бы взялось?
Когда вспоминаешь, все как будто бы возвращается, словно сказочная лошадь в голове бежит быстро-быстро назад к Черемошне и Синим Ключам по дороге от станции, и дни, месяцы, годы сматываются в клубок. Или как если б девушка сворачивала ленты для того, чтобы сложить их в коробку.
Первое, что я помню, – запах. Как-то наверняка знаю, что это – прежде всего прочего.
Но откуда, чего запах – этого не помню, не умею связать. И с каждым месяцем, годом, прожитым в Москве, память о нем уходит все дальше, глубже, словно погружается, вся в пузырьках, на дно пруда. Отчего-то мне кажется важным узнать, вспомнить, сохранить.
Летние травы перед покосом пахнут одуряюще. Запах такой густой, что его, кажется, можно увидеть в виде сине-золотой кисеи, медленно колышущейся над лугами. Но я не вижу. Картинки в моей памяти нет. Может быть, запах, который я помню – аромат цветущего луга.
Но, может быть, это запах волос Степки, который тащит меня на закорках. На ухабах я тыкаюсь носом ему в затылок и нюхаю, или еще смотрю вниз и вижу, как на ходу продавливается мягкая пыль между пальцами босых Степкиных ног. Я тоже хочу идти в пыли босиком, но у меня на ногах ботиночки, да и хожу я еще слишком медленно. Прежде того Степка учил меня кувыркаться на скошенной траве, которую мужики только что положили над речкой Сазанкой. У меня кувыркаться не получалось, мешала большая голова, и я все заваливалась набок, больно наступая локтем на растрепавшиеся волосы. Чтобы сделать голову поменьше, Степка пытался заплести мне косички, и его шершавые горячие пальцы щекотали у меня за ушами, а он обидно ругался, что у всех людей волосья, как волосья, и только у меня – проклятая ведьмина метла. Потом с озера Удолье, из которого вытекает Сазанка, пришла сизая ворчливая туча, под брюхом которой, словно раскидаи, привязанные на невидимых веревочках, играли вороны. Мне было очень интересно, что дальше, но Степка спешно, пока не промокла, потащил меня домой.
Или это нянюшка Пелагея, вымыв в большом темном корыте, укладывает меня спать в деревянную резную кроватку. И простынка, и положек от мух, и наволочка с жесткой, выпуклой монограммой Осоргиных (засыпая, я люблю гладить ее пальцем) пахнут свежестью и сушеными травами, которыми горничная Настя прокладывает выстиранное и выглаженное белье. В этой кроватке я сплю с самого рождения и вполне может случиться, что запомнившийся мне запах – это запах чистого, с голубым отливом, с мережковым снежным узором белья…
Но мне нравится думать, что это запах моей матери, про которую у меня нет совершенно никаких воспоминаний. Должна же я хоть что-то помнить о ней…
После запаха следуют картинки. Почему-то без звука. Такое впечатление, что чувства, положенные человеку от Бога, возникли у меня не все одновременно сразу после рождения, а по очереди. Сначала обоняние, потом зрение, и уж только после всего – слух.
Из ранних картинок: дряхлая, но грозная, как обветшавший дуб бабушка (ее звали Офелия Александровна и она вскоре умерла) идет в баню. В руке у нее березовая клюка. За ней Настя несет два победительно сияющих на солнце медных таза. Чуть позади идут еще две служанки. Одна тащит три мочалки и два веника (ольховый и березовый), а другая – узел с бельем. После всего подросток из комнатной прислуги несет на подносе хрустальный графин с холодным морсом, миску с наколотым льдом и голубым, вычурным, венецианского стекла стаканом. Я смотрю на все это из окна, раскрыв рот. Беззвучная для меня процессия сияет (и фактически звучит, как виден и запах над лугом – разные ощущения, отсутствующие и присутствующие, почему-то пересекаются в этих ранних воспоминаниях) ослепительными красками – тазы, посох, поднос, радуга в графине, вышитые передники и кофты служанок, рыжие волосы и веснушки мальчишки.
Следующая и тоже беззвучная картинка – Степка и Пелагея вечером рвут для меня орехи в лощине. Пелагея нагибает ветки, а Степка, встав на цыпочки, срывает гроздья спелых орехов и, щерясь в улыбке, показывает их мне, едва ли не тыча в лицо. Я вполне серьезно размышляю о том, как это было бы, если бы все люди вдруг тоже вот так срослись между собой, как орехи в гроздь. «Тогда они непременно носили бы такие же смешные зеленые шапочки!» – почему-то этот вывод кажется мне абсолютно неопровержимым. В лощине душные сумерки, внизу – переплетение сухих веток, в которых путаются мои короткие ножки, а на языке, во рту – упругие белые ядра орехов. Оттого, что нет звуков, вся картина помнится зачарованной, как в страшной сказке.
Когда же в моем мире появились звуки, то первыми со мной заговорили вовсе не люди.
Индюк, выше меня ростом, на заднем дворе вполне внятно сообщил мне, что он думает по поводу хворостины, которой снабдил меня предусмотрительный Степка.
Большие зеленоватые крысы опасливо бормотали в хлебном амбаре, и уходили от меня под настил, волоча шелушащиеся хвосты.
Цепной пес Мишка, которого никогда не выпускали со двора, хвастался старой отцовской гончей своими подвигами на охоте. Гончая смеялась, тряся влажными пятнистыми брылями.
Речка Сазанка, обмелев к июлю, бежала по камням к Оке и рассказывала всем желающим ее послушать немудреную сказку, всегда одну и ту же.
Важный белый рояль в гостиной никак не мог найти для себя достойного собеседника, и презрительно цедил слова по одному, с ядовитой иронией скалясь сквозь черно-белые зубы.
Потом, много позже, наконец заговорили и окружавшие меня люди. Но еще долго мне казалось, что их речь куда менее понятна, чем у всех прочих населяющих усадьбу сущностей. Я слышала их голоса, понимала отдельные слова, но никак не могла уразуметь, что же из всего этого следует для меня лично.
Что мне нужно делать? Чего бояться? Чему радоваться? Чем стремиться завладеть? От чего отказываться? – все эти вопросы я, по-видимому, долго и вполне успешно решала для себя без помощи слов. По крайней мере, у меня в памяти не сохранилось никаких затруднений, которые я как будто могла бы испытывать, не владея человеческой речью и не понимая ее.
Когда же ситуация изменилась, было, наверное, уже слишком поздно.
Глава 1,
в которой восстание на Красной Пресне терпит поражение, а товарищ Январев спасает от смерти московского гавроша Лешку, из чего проистекают самые неожиданные события.
Москва, декабрь, 1905 год
– Стой! Кого?!.. Куда идешь?!..
Две темные фигуры отделились от кучи наваленного поперек Большой Кондратьевской мусора – явно боевики, не случайные люди. Похожи на псов, охраняющих от чужаков родную помойку. Но у одного в руках револьвер, у другого вроде бы винчестер. У того, что пониже, перевязана голова.
– Иду сражаться за дело революции.
Боевик с перевязанной головой совершенно по-собачьи скалит крупные зубы – не то улыбка, не то оскал.
– Пароль говори!
– Я не знаю пароля. Мне… Я был без сознания, потом шел…
– Еще шпион, что ли? – спрашивает один другого. – В суд его…
– Я не шпион, товарищи, – с трудом цедя слова из сдавленного нервным спазмом горла, говорит недавно пробиравшийся по городу человек. – Я командир боевой группы Студенческой дружины. У меня есть оружие. Пустите меня в бой, там все увидите.
– Студент? – оживляется тот, что повыше. – Бомбы делать умеешь? А то товарищи на Прохоровской фабрике в лаборатории нашли чего-то, и теперь… специалистов не хватает…
– Умею. Но я бы хотел…
– Из анархистов, что ли? – неприветливо скалится маленький и издевательски передразнивает. – «Он бы хотел…» Про революционную дисциплину слыхал? Будешь делать то, что скажут, что на данном этапе важнее всего! Важнее всего – оружие. Имя – как?
На мгновение ему почудилось, что он потерял не только свои границы в пространстве, но и все свои имена.
– Январев.
– Очень хорошо. Макар, проводи товарища Январева к прохоровцам. И на всякий случай глаз с него не спускай…
– Товарищ Январев? Вы из какой дружины? Студенческой? Я – из Железнодорожной, Камарич Лука, геологоразведчик в миру, очень приятно… Подержите вот здесь лапку штатива… да, да, и передайте мне вон ту колбу из вытяжного шкафа… Вы думаете, селитры достаточно? Я не особенный-то специалист, когда учился, больше увлекался кристаллографией, но жизнь, знаете ли, внесла свои коррективы… Вы где обучались, с позволения сказать, взрывному делу?
– Кроме общих знаний, в Инженерном училище, там между митингами было организовано что-то вроде курсов.
– Да, да, я слышал, мне рассказывали. Хотя самому не довелось. Разве поспеешь? Везде, везде митинги: в университете, в Политехническом музее, в Высшем техническом училище, в Межевом институте. Поучительное и препотешное, в сущности, зрелище, вы не находите? Все собираются, слушают, кричат, волнуются. В проходах стоят девушки: глаза сияют, коса через плечо, на красной ленте кружка с надписью: «на бомбы». Весело, правда?
– Отчего же вы теперь здесь, товарищ Камарич, коли так видите? – голос у Январева неприветливый, гулкий, словно приходит не из горла живого человека, а из вытяжки, похожей на погасший и застекленный для каких-то неведомых целей камин.
В просторной, с низкими сводчатыми потолками комнате лаборатории стоит жуткий холод. Окна покрыты морозными узорами, в которых причудливо дробится свет, испускаемый керосиновой лампой, свечой и двумя зажженными для производственных нужд спиртовками. Посреди комнаты буквой П стоят три химических стола, вполне прилично оборудованные. Вдоль двух стен – застекленные шкафы с реактивами, вытяжка, мойка. Над мойкой на деревянных штырьках висят чистые колбы, пробирки, бюксы. В комнате четверо людей: Январев, Камарич, молчаливая молодая женщина в синем платье и наброшенном поверх него коричневом пальто, а также неясный субъект в прожженном лабораторном халате, служащий фабрики, если судить по тому, как уверенно он ориентируется в полутьме заставленной комнаты. Трое мужчин вполне слаженно, в шесть рук, изготовляют смертоносный состав, женщина набивает железные корпуса бомб-македонок, присоединяет взрыватели. Камарич и Январев не прерывают разговора.
– А почему же мне не быть здесь? Ведь все равно, со мной или без меня, дело идет своим чередом. Занятно быть на острие истории.
– А коли смерть? Небытие? Как это у вас согласуется? Или вы в Бога верите?
– Не верую с четвертого гимназического класса. Хотел бы веровать, пожалуй, да не выходит никак. А небытие чем же страшно? Кому бояться-то, коли меня уже не будет? Хотя, конечно, любопытно было бы взглянуть, как это окажется, когда все здесь, наконец-то, перевернется вверх тормашками. Заранее ясно, что сюрпризов будет – тьма.
– Когда ж это станет, по-вашему?
– Ну не сейчас еще, однако, я полагаю, скоро. Мы с вами, если исключить насильственную смерть, должны дожить.
– В нашем нынешнем положении, товарищи, трудно исключить возможность насильственной смерти, – с какой-то сумрачной радостью откликнулась со своего рабочего места женщина. – Я бы сказала, что она где-то даже подразумевается.
– Может, пока уже довольно смертей? – весьма непоследовательно поинтересовался Камарич, осторожно, лопаточкой добавляя в чашку голубоватый порошок.
– Крови должно быть столько, чтобы наполненная ею река смыла всю гниль старого мира, – немедленно ответила женщина. – Если нужна моя кровь, я готова.
Камарич тяжело вздохнул, помолчал, потом сказал, подчеркнуто обращаясь к Январеву:
– А ваше мнение?
– Я, видите ли, должен нынче умереть, – поколебавшись несколько мгновений, ответил мужчина.
Темные глаза женщины в синем платье блеснули золотистыми огоньками восторга. Служащий лаборатории досадливо поморщился. До нынешней минуты Январев нравился ему больше прочих товарищей. К тому же по движениям рук, уверенно манипулировавших лабораторной посудой и реактивами, он почти угадал в нем коллегу.
– Вот даже как? Непременно нынче? – с иронией переспросил Камарич. – А отложить никак невозможно?
– Нет. Таково, можно сказать, стечение нравственных обстоятельств.
– Ну что ж… – Камарич поднял острые плечи к ушам и задумался в этом положении, похожий на большую летучую мышь, сложившую крылья. – Это сильный жест, пожалуй. Я имею в виду не ваше решение даже, а то, что вы это сейчас перед нами вслух произнесли. У вас теперь такая своеобычная позиция получается… У меня в Фидлеровском училище по всей видимости погиб лучший друг. Когда я узнал, то именно хотел бы быть верующим. Не для себя, для него посмертной судьбы, хотя бы в виде моей временной иллюзии…
Камарич отвернулся и как будто вытер тыльной стороной ладони вспотевший лоб. Если бы в лаборатории не было так холодно, ему можно было бы поверить…
– Я был там.
– Они заплатят за все жертвы, которые пришлось принести трудящимся!
Январев и женщина произнесли это практически одновременно.
– Вы были в Фидлеровском училище?! – возбужденно переспросил Камарич и вперил в Январева подозрительно блестящий взгляд. – Расскажите же, как там было. Я никого не встречал, кто бы толком мог. Мой товарищ – Егор. Егор Головлев, очень высокий, с веснушками, вот здесь…
– Что ж рассказать?
Камарич отставил чашку, в которой пестиком растирал смесь и развел красивые руки каким-то странно беспомощным жестом, обернув их ладонями вверх. Январев, когда-то любопытства ради прочитавший пару трудов по хиромантии, успел заметить на правой руке Камарича глубокую и длинную линию жизни.
– Опять же вопрос оружия, – Январев с вялой досадой мотнул широким подбородком в сторону лежащих на столе заготовок для бомб и патронов. – Против нас – две роты гренадер Самогитского полка, эскадрон драгун Сумского полка, полиция, жандармы, батарея трехдюймовок. Все, естественно, вооружены по полной. У нас – несколько бомб, маузеры, револьверы, которые вот-вот развалятся от старости. Что еще? Грязный снег, комья мерзлой земли, снаряды залетают в классы и разбивают парты. Несмотря на мороз, очень много желтой пыли. Откуда она берется – я так и не сумел разобрать. Гренадеры стреляют размеренно, залпами, наши отвечают разрозненной дробью. Похоже, будто под дождем марширует кто-то призрачный и огромный…
– Это шагает пролетариат, который в ближайшем будущем неизбежно победит своих врагов, – мечтательно запрокинув бледное лицо, словно в трансе проговорила женщина, внимательно прислушивавшаяся к словам Январева.
– Скажите еще: призрак коммунизма, – сухо усмехнулся Камарич.
– Вашего друга с веснушками я, скажу сразу, не видал, – продолжил Январев. – Темно, неясно, все перебегают от окна к окну, стреляют, ничего не понять. Но товарищи из железнодорожников там были несомненно, вместе со студентами… Когда приняли решение прекратить сопротивление, выходили по требованию безоружными, револьверы оставили в классах. Я и еще несколько товарищей с самого начала были против, звали искать другой выход, как в «Аквариуме», где фактически всех дружинников удалось вывести через Комиссаровское училище… Выйдя, мы даже не успели оглядеться – из переулка вылетел эскадрон драгун. Рубили шашками безоружных, как на учении соломенные чучела. Скрыться некуда – ворота и подъезды закрыты наглухо. Уцелевших, по слухам, отправили в Бутырки. Может быть, ваш друг там… Я сам был легко ранен, притворился контуженным, с помощью товарищей мне и еще двоим из Студенческой дружины удалось бежать по дороге…
– Они за все заплатят! За каждую каплю рабочей крови!
– Как это все странно, если подумать…
Женщина и Камарич опять высказались совершенно синхронно, будто репетировали прежде. Служащий лаборатории невидимо улыбнулся бледной бегучей улыбкой. Где-то ухнула пушка и согласно ей звякнула лабораторная посуда в шкафу.
– Нет времени, товарищи, совершенно нет времени! – женщина прервала общее молчание и склонилась над столом. – Правильно сказал товарищ Январев – от вооружения зависит сейчас судьба революции. Надо работать.
* * *
– Дубасов уже отослал в Петербург телеграмму, что восстание подавлено. Но! Было принято решение сражаться до последнего человека. Но!
Январев увидел, как Камарич подавил невольную улыбку и отвернулся. Любое движение потрескавшихся губ причиняло боль. Но! Маленький человечек с большой головой, еще увеличенной из-за грязной, неопрятно наложенной повязки, действительно казался истерически забавен. Январев уже встречался с ним на улице, возле баррикады на Большой Кондратьевской, где тот принял его за шпиона и хотел предать рабочему суду. За прошедшие дни многое изменилось.
В низком подземелье подпольной типографии нечем дышать. Люди кажутся распластанными в воздухе, не касающимися ногами усыпанного гнилой соломой и застеленного досками пола. Лица – с расширенными зрачками и раздувающимися ноздрями, во всех – что-то средневековое и лошадиное одновременно. Серьезный Звулон Литвинов, с ввалившимися глазами и висками, один из руководителей дружинников, докладывает обстановку.
– 15 декабря по Николаевской дороге по личному приказу Николая прибыл Семеновский гвардейский полк. Сегодня – Ладожский пехотный. Семеновцы уже обходят Пресню от Брестского вокзала. Орудия установлены на Красной Горке, на Звенигородском шоссе, у Ваганьковского кладбища, на Кудринской площади. За заставой замечены казачьи разъезды.
– Что у нас с оружием?
– Приблизительно двести винтовок и ружей, около трехсот револьверов, полтораста сабель. Благодаря группе химиков (кивок в сторону Камарича и Январева) в наличии штук тридцать бомб и сколько-то патронов. Всего этого решительно недостаточно!
– Что по Москве? С мест?
Звулон нервическим жестом пытается пригладить стоящие дыбом пегие волосы. Тонкие коричневые пальцы дрожат.
– Помощи Пресне ждать неоткуда. Прибыли делегаты из Иваново-Вознесенска, с Коломенского и Сормовского заводов. Говорят, что на серьезную поддержку тамошнего пролетариата рассчитывать нельзя. Войска, в которых были волнения, разоружены и заперты в казармах. Московский рабочий комитет арестован. На улицах – вооруженные черносотенцы.
– Но почему-у?!! – на взвизг, на всхлип, не понять даже, мужчина или женщина.
– Прекратить истерику, товарищ, – устало говорит Звулон, массируя пальцами виски. – Причин временного поражения Московского восстания несколько. В первую очередь – недостаток вооружения и централизации. Но это первый серьезный бой революционного пролетариата, и его уроки в любом случае не пройдут даром… Какие будут предложения по дальнейшим действиям, товарищи?
– Умереть, но не сдаться! – раздается из темного угла, где прячется смешной человечек с перевязанной головой.
– Красиво и героически, но бессмысленно в сложившихся обстоятельствах, – тут же звучит отповедь. – Даже проигрывая, мы должны максимально сохранить силы для следующих боев, передать свой опыт бойцам, которые придут нам на смену, встанут с нами плечом к плечу в грядущих сражениях…
– Вам не кажется иногда, что все сошли с ума? – шепчет Камарич Январеву. – Даже вы сами?
– Это – священное безумие, – убежденно говорит кто-то рядом.
Лица не видно, из полутьмы блестят только огромные глаза, в которых причудливым угловатым демоном отражается типографский станок, занимающий середину помещения.
«Товарищи дружинники!
Мы одни на весь мир. Весь мир смотрит на нас. Одни – с проклятием, другие – с глубоким сочувствием… Мы начали. Мы кончаем…
Ночью разобрать баррикады и всем разойтись далеко. Враг нам не простит. Кровь, насилие и смерть будут следовать по пятам нашим. Но это – ничего. Будущее – за рабочим классом. Поколение за поколением во всех странах на опыте Пресни будут учиться упорству. Мы – непобедимы! Да здравствует борьба и победа рабочих!»
– Как же так? – женщина в синем платье растерянно вертит в руках свежеотпечатанное воззвание. – Мы же давали клятву…
– Так, так! Всем уходить! Распоряжение штаба! – Камарич, уже одетый, деловито распихивает по карманам готовые бомбы и патроны. – Семеновцам отдан приказ: если будет оказано вооруженное сопротивление, то истреблять всех, не арестовывать никого…
– Замечательно! – Январев сидит за лабораторным столом на высоком, крашенном белой краской стуле и неторопливо заряжает револьвер. – То, что нужно.
– Январев, у вас идефикс и лицо праздничное, как пряник, очнитесь, бросьте, надо же понимать, идемте вместе, товарищи проведут по переулкам, через реку за город, – раздраженной скороговоркой, сквозь зубы говорит Камарич.
– Не тратьте на меня время, товарищи. Уходите! – откликается Январев, и товарищи впервые за все время знакомства видят его улыбку. Оказывается, он совсем молод. От натяжения кожи лопается струп на скуле, и поверх выступает ярко-красная капля.
Женщина делает шаг, неловко, локтем вбок поднимает руку, пальцем стирает выступившую кровь и внезапно сама краснеет, как розан. Ей лет 19, не больше.
– Уходите! – повторяет Январев, слезает со стула и, наклонившись, целует женщину в лоб, как покойника. Уже вслед спрашивает. – Как вас зовут?
Она оборачивается.
– Надежда.
– Ну разумеется, – недовольно цедит Камарич. – Как же иначе…
* * *
Ночь морозная и темная. На Горбатом мосту, на Большой Пресне, на Георгиевской и Сенной площадях тлеют головешки от сгоревших баррикад. Чернеет сожженная громада – корпус фабрики Шмита.
Темно-серые шеренги солдат в барашковых шапках медленно и почти бесшумно движутся вперед в окаймлении сугробов. Решительные палочки ружей. Испуганные, злые глаза. Все вместе похоже на оживший орнамент, переданный в черно-белой гамме.
Напряженная тишина взрывается одиноким криком:
– Да здравствует…!
Что именно «да здравствует» услышать не удается. Треск винтовочных выстрелов, редкие разрывы бомб. Запах отчаяния и смерти.
* * *
– Товарищ Январев? Да? Так?.. Да подождите. Не надо пытаться мне помочь, это напрасно… Я учился на фельдшера и могу разобрать… Задет большой сосуд, так что я теперь же истеку кровью, и потому именно хочу просить вас…
– Что-то кому-то передать? Боюсь вас разочаровать, выбор не лучший… я сам…
– Бросьте. У вас дурацкое что-то на лице написано. Не надо – я вам уже с того края говорю, меня слушайте… Тут, с самого начала, среди товарищей пацан есть, лет двенадцати, не больше, зовут Лешкой. Вроде сирота с Хитровки. На равных со всеми, баррикады строил, патроны носил, булыжниками в казаков швырялся. Вообразил себя боевиком, Гаврошем, или может – так, по случаю пристал… Так вот его надо спасти, спасти обязательно – ребенок же, вы понимаете. Он все время рядом со мной держался, я ему велел, и сейчас здесь где-то, но я… уж ничего не вижу… В том на вас рассчитываю, товарищ Январев…
Человек в черном тяжелом бушлате замолчал, истощив жизнь в последнем спасающем усилии, выпустил рукав Январева, поник головой. Январев опустил его на испятнанный кровью снег, своей ладонью прикрыл мертвые глаза вмиг похолодевшими веками. За пазухой взмокло и била лихорадка. Зубы лязгали не ритмично, не попадая друг на друга.
Огляделся во вспыхивающей, потрескивающей выстрелами темноте и сразу заметил щуплую фигурку в нескольких разноразмерных кофтах, перетянутую по талии шерстяным платком.
– Ты Лешка? – спросил он. – Уходим сейчас!
– Дядя Митя… – всхлипнул Лешка.
– Помер дядя Митя, – почти равнодушно сказал Январев. – Тебе приказал жить долго. Идем!
– Не пойду я с тобой! Я с дядей Митей останусь! – отрезал мальчишка. – Почем ты знаешь, может, он еще не насовсем помер!
– Я сам врач, я знаю…
– Что ж ты тогда кровь ему не остановил, коли доктор?! – высокий голос разлетелся соплями, смешался с грязной руганью. – Да пошел ты…
Не тратя больше времени, Январев сгреб мальчишку, ухватив одной рукой за ворот толстой кофты, другой – за повязанный платок и потащил прочь. Не ожидавший атаки Лешка сначала замер, потом начал бешено вырываться. Изловчившись, больно укусил запястье. Январев примерился, отпустил одну руку и прицельно рубанул ладонью по тонкой шее, высовывающейся из ворота. Мальчишка обмяк. Мужчина подхватил его на руки и, припадая на одну ногу, пошел в темноту. Мелькнула естественно (неестественно?) – научная мысль: из проведенного на себе самом эксперимента явствует, что в каждом человеке как бы не вдесятеро больше сил, чем кажется. Вот если бы эти резервы научиться по желанию извлекать и направлять на что-нибудь, кроме вражды взаимной и смертоубийства… То-то бы зажили!
– Товарищ? Это Лешка у вас? Убит? Ранен? Нет? Контужен? Ладно! Сюда, сюда давайте!
Январев узнал маленького человечка с перевязанной головой. Их пути на восставшей Пресне все время пересекались. Наверное, это судьба.
– Давайте сюда, за мной. Я выведу вас… Но! Товарищи ушли за город, в лес, я тоже должен был… Но! Раненные товарищи, я не мог… А вам с ребенком… Вы вообще кто? Медик? Отлично! Можете укрыть его у себя на квартире? Еще лучше! Тогда идемте. Я знаю, как миновать патрули и выйти к Ямскому Полю, я уже вывел так трех товарищей женщин и двух раненных вынесли…
Эта ходка оказалась для маленького человечка последней. Прогремел выстрел ошалевшего от происходящего семеновца. В сполохе недалекого пожара увиделось его широкое крестьянское лицо…
– Январев, бегите! – крикнул человечек, падая лицом в снег.
Действительно побежал, напрягая спину и затылок, и ожидая пули. «Хорошо бы в голову! И все! – подумалось почти нежно. – А мальчишку примут за мертвого. Глядишь, и отлежится.»
– Глянь-ко, ребятенок у него. Не стреляй! – хрипло крикнул кто-то сзади. – И чего приказ? Не звери ж мы – по детям садить!
Свернул за угол, в спасительную темноту, и сразу же споткнулся на больную ногу, упал.
* * *
– Милостивый боже! Что с вами? Откуда?! Как там?! Где вы были все время? Мы уж подумали… Вы… Что у вас с лицом? Что это… кто это у вас?! Откуда вы его взяли?
Он даже не понял, кто задавал вопросы. Все шестеро жильцов меблирашек в Большом Кисельном переулке вместе с хозяйкой Аполинарией Никитичной, почтенной вдовой коллежского асессора, и прислугой прятались от стрельбы в задних комнатах, выходивших на двор. Младший дворник Василий, сердечный друг кухарки Федосьи, то и дело забегал с рассказом о событиях на улице, но из-за присущего Василию с детства косноязычия доклады его ситуацию не проясняли, а, скорее, еще больше запутывали. Теперь все столпились в коридоре, мешая пройти.
Надо было что-то ответить, как-то объяснить, но во рту скопилась и загустела горькая слюна. Ни проглотить, ни тем более сплюнуть ее прилюдно не было никакой возможности. В конце концов он отодвинул ее языком за щеку и сказал невнятно:
– Ребенок. На улице подобрал.
– Он ранен?! – с тревогой спросила одна из сестер Зильберман.
«Зильберманихи» – две белесые, очень похожие друг на друга немки держали довольно популярный среди небогатой интеллигенции «киндергартен» на Софийке, в котором по системе Фриделя обучали детей от трех до восьми лет.
– Вроде бы нет, может быть, легкая контузия. Но… Федосья, пожалуйста, сделайте… Нужна горячая вода. Мне умыться, согреть его и отмыть…
– Да, да, Федосья… Это обязательно! Пусть Василий принесет лохань, – решительно сказала Аполинария Никитична и, вместе со старшей из «зильберманих» поморщилась – лохмотья хитровского Лешки, отогреваясь с мороза, начинали весьма ощутимо вонять.
Просторная комната с большим окном казалась пустой на первый и даже на второй взгляд. На третий взгляд проявлялись распластавшиеся по стенам узкая кровать с плоской подушкой, умывальник, стол и шифоньер – все блеклое, незначимое, полустертое. Имели объем лишь три предмета обстановки – полка с книгами (из книг торчат закладки) над кроватью, черный с блестящими деталями бинокуляр, на предметном столике которого металлической лапкой зажат препарат, и большая лупоглазая кукла-младенец, сидящая у подушки на кровати – в немного выцветшем, но богатом платьице с оборочками, в кружевном чепчике, в шелковых чулочках, крошечных кожаных башмачках и изящных, выглядывающих из-под платья панталончиках.
Чуть поколебавшись, Январев опустил Лешку на кровать (куклу передвинул к стене), снял с его ног полуразвалившиеся ботинки, смотал и бросил на пол обмотки. Грязные ступни мальчика оказались узкими, вполне изящной формы, но выглядели ужасно. Внешняя сторона левого мизинца стерта до мяса. Под ногтем среднего пальца правой ноги почти созревший нарыв нехорошего вида. Никакого сочувствия или удивления Январев не испытал. Обучаясь медицине, он посещал разные больницы, и городские, и земские, и прекрасно знал, в каком состоянии обычно находятся кожные покровы у беднейших слоев населения. Особенно зимой, когда ноги и руки все время мокрые и холодные. Особенно у детей, которым для роста и формирования организма все время нужны разнообразные питательные вещества, которых они, конечно же, не получают в достаточном количестве.
Василий, грохоча по обнаженным нервам, притащил лохань. Потом два огромных ведра с горячей водой. Федосья принесла холодную воду, кувшин и полотенца.
– Помочь, что ль? – спросила она, с явным неодобрением глядя на разлегшегося на постели бродяжку. Не удержалась: Аполинария Никитична никогда не умела держать прислугу в строгости, и, как результат, часто увольняла ее за воровство и вольности с постояльцами. – Охота вам с ним… Коли невмочь, так сдали бы его в больницу или еще куда…
– Иди, Федосья, – сквозь зубы сказал Январев и почти с вожделением взглянул на исходящие паром ведра. – Я сам.
Достал чистую рубаху, разделся до пояса, с наслаждением умылся, промыл и промокнул салфеткой ссадину на щеке. Кровотечение под ключицей почти остановилось и, поскольку рука двигалась свободно, стало быть – немедленных опасностей нет, а после Адам взглянет – не ковыряться же в ране сейчас, в присутствии незнакомого мальчишки. Приложил тампон с мазью. Мимоходом взглянул на себя в висящее над умывальником зеркало – как всегда, не увидел ровно ничего привлекательного. Растерся теплым жестким полотенцем, пахнущим знакомой цветочной отдушкой – Аполинария Никитична издавна брызгала чем-то на белье для услаждения обоняния жильцов. У младшей зильберманихи от этой отдушки регулярно случался неостановимый никакими средствами насморк – года два немки без толку убеждали хозяйку, а потом стали пользоваться своим бельем.
Остро чувствовал себя живым – гнал чувство вины и собственной слабости, оставляя на потом: отдых, отдых, отдых, подумаю после… Надо бы разуться, осмотреть и перебинтовать ногу, там временная повязка, смастряченная из разорванной оборки незнакомой курсисткой в Фидлеровском училище… Еще минутку…
Когда оторвался от гигиенических восторгов, поставил на табуретку пустой кувшин, увидел, что мальчишка на кровати пришел в себя, но глядит не на него, как ожидалось бы по ходу событий, а на куклу – живые глаза прямо в нарисованные. Но вот приподнялся, сморщился, схватился грязной рукой за взлохмаченную черно-курчавую шевелюру.
– Голова? – спросил Январев. – Ничего, это пройдет. Зато – живой.
– Тебя будто просили, – проворчал Лешка. Сразу видно было, что этот маленький босяк не из тех, которые любят одалживаться.
– Просили, точно, – серьезно сказал Январев. – Умирающий товарищ о тебе думал. Это важно.
– Дядя Митя добрый был, – Лешка коротко сопнул маленьким носом. – Он на железной дороге работал.
– Да покоится с миром, – автоматически сказал Январев и тут же подумал о сомнительности мира в душе человека, погибшего в результате подавленных революционных беспорядков в борьбе с властями.
Мальчишка, видимо поглощенный печалью об ушедшем и собственной слабостью, поник на кровати. Потом протянул палец и осторожно потрогал оборки на куклином платье.
– Сейчас мыться будем, – с насквозь искусственной бодростью сказал Январев.
– Ни за что не буду! – тут же строптиво откликнулся Лешка.
– А кто тебя спросит, – пожал плечами Январев. – Человек чистым должен быть по божьему и природному замыслу. А ты? Лежишь тут и пахнешь хуже пса какого… А будешь вопить и брыкаться, отключу снова и все дела… Я же доктор, ты знаешь, мне известно, куда нажать. Кстати, ноги бы тебе надо обработать и нарыв под ногтем вскрыть, а то как бы общего заражения не вышло, а ведь случись оно – чего тогда и спасать тебя было… Но это уж после и не здесь, пожалуй… Вот что: мы с тобой в больницу сходим, к Адаму…
Несколько мгновений Лешка молчал, осознавая сказанное Январевым. Потом вымолвил почти жалобно:
– Ты, дядя, отпусти меня теперь, а? Я побегу быстренько и вонять тут больше не стану. А ты фортку откроешь, проветришь, и все дела – забудешь, как будто меня и не было никогда.
– Нет, дружок, – вздохнул Январев. – Я так не могу. Не по-человечески это. Мне товарищ Дмитрий, умирая, тебя поручил, я теперь должен его поручение исполнить. Ты где вообще-то живешь? На Хитровке? Родители есть?
– На Грачевке живу. Сирота, – хмуро ответил Лешка.
– Вот видишь. Не упрямься, иди сюда, знаешь, как приятно в горячей-то воде да с мылом… Я тебе потом рубаху чистую подарю и пиджак свой на вате – тебе заместо пальто выйдет. И ботинки какие-нибудь целые на Сухаревке купим. И не вопи ты только, ради бога, жильцы здесь все почтенные люди и хозяйка старенькая…
Говоря все это, Январев наполнил лохань, попробовал ладонью воду, положил мыло и повесил на спинку стула полотенце.
Лешка слова Январева, по всей видимости, услышал, потому что рванулся к двери хотя и отчаянно, но совершенно молчком, и так же молча отбивался, когда Январев без труда поймал его и, заломив через колено (чтобы не кусался) и кряхтя от боли в ноге, рывками стаскивал с мальчишки пестрые, расползающиеся под пальцами одежки. Какой-то сверток – не то журнал, не то толстая тетрадь – со стуком выпал у мальчишки из-за пазухи.
– Еще спасибо мне ска-… – с натугой бормотал мужчина, приближаясь к своей цели, как вдруг мальчишка обессилено обмяк, а сам Январев в раскрытой на груди нательной рубахе вскочил, словно обо что-то обжегшись, и даже потряс пальцами в воздухе.
Полуголый Лешка стоял на полу на четвереньках и с вызовом смотрел снизу вверх. Очень светлые глаза с маленькими игольчатыми зрачками странно и, пожалуй, неприятно контрастировали с иссиня-черными буйно курчавыми волосами.
– Ты… ты что же… кто же такой? Д-девица? – заикаясь, спросил Январев.
– Нет, петрушка с ярмарки! – огрызнулся бывший Лешка и попытался прикрыть остатками босяцкого наряда уже оформившуюся и очень симпатичную по виду грудь.
– Сколько тебе лет?
– Вроде пятнадцать.
Январеву было известно, что наследственные босяки с Хитровки нередко не знают не только дня, но и года своего рождения. Морщась от неловкости ситуации, он еще раз окинул взглядом щуплую фигурку девочки (постаравшись забыть знобкое и замершее в кончиках пальцев ощущение ее вполне зрелой груди) и сказал себе, что бывший Лешка явно накинул себе пару лет для солидности.
Перекинувшись в полураздетую девицу, бывший мальчишка как будто бы странным образом добавил себе уверенности.
– Либо ты сядь, дядя, либо уж я встану. Так нам беседовать несподручно.
Январев послушно уселся на стул. Девочка снова примостилась на кровати, сидя, с каким-то змеиным изяществом подогнув под себя одну ногу. Словно разрешив себе, схватила на руки куклу, понянчила ее у груди, погладила чепчик, поправила оборочки на платье, потом неожиданно чмокнула в целлулоидный носик.
«Пятнадцать лет, ага, как же… – не без облегчения подумал Январев. – Вон, в куклы играется.»
– Дядя, зачем тебе кукла? – спросила между тем девочка. – У тебя дочка есть? Так где же она? – огляделась с недоумением. – А жена, мать ейная? Уехали куда?
– Нет у меня дочки, – сказал Январев. – И жены нет. А кукла от сестры младшей на память осталась. Она от скарлатины умерла.
– Ой! – воскликнула девочка.
Он увидел, что ей и вправду жалко.
– Она, хоть и маленькая, понимала, что умирает, и сказала мне: я знаю, любимый братик, я уйду к ангелам на небо, а ты будешь по мне очень скучать. Вот, возьми мою самую лучшую куклу, она будет тебе вместо меня… Я взял. А следующим вечером она впала в беспамятство и к утру умерла. Я в тот день решил стать врачом. А кукла с тех пор со мной. Иногда я ней разговариваю, и знаешь, бывает, она мне даже отвечает…
Он никому никогда этого не рассказывал. Старшая сестра и мать знали, а когда про куклу спрашивали друзья, коллеги или приятели, он отвечал со спокойной улыбкой: да так досталась, по случаю, я уж привык. У кого пастушка фарфоровая на комоде, у кого Ника бронзовая на столе, а у меня вот пупс – по крайней мере оригинально… Все соглашались, что действительно – оригинально. Оригинальность ценилась и ни в коей мере не осуждалась.
– Дядя, я тебе вот что скажу: неправильно это – с куклой разговаривать, – припечатала девочка. – Тебе живая дочка нужна. И жена. А так еще поговоришь, и в сумасшедший дом съедешь. Брось ты это дело. А куклу вот что – мне отдай. Мне нужнее.
Январев вздрогнул и отрицательно помотал головой. Он и помыслить не мог, что расстанется с сестриным прощальным подарком.
– Ладно, дядя, раз ты такая жадина, так и пускай, – неожиданно легко согласилась девочка. – А тогда вот что – ты отвернись теперь, а я как раз и вымоюсь. Раз уж все равно все готово – чего вода в лохани пропадет!
Он согласился, и сел на стуле спиной, испытывая отчего-то бешеную неловкость. Он почти закончивший обучение врач – неужели раздетых людей не видал? Мужчин или женщин – медицине разницы нет… А здесь – не женщина к тому же, ребенок…
Девочка отчетливо двигалась за спиной – нешумно и экономно. Присутствие ее ощущалось остро и первобытно, как будто в комнате осторожно пошевеливался не человек, зверь. Январев вспомнил, как такое же чувство испытал однажды в детстве, когда жили на даче и сестра утром позвала смотреть задушенных ночью лисою кур. Хозяйка причитала над убытком, а до глаз заросший бородой хозяин хмуро сказал: «Здесь она прячется, я ее чую» – и в тот же миг он сам тоже ощутил напряженное присутствие хищного зверя, даже как будто бы почувствовал острый запах и словно наяву представил вымазанную кровью морду. Тогда убежал, непонятно чего испугавшись… Потом хозяин выследил и убил-таки эту лису из ружья, ее шкура, распяленная на веточках, сохла во дворе…
Сзади тихо всплеснула вода. В груди стало странно холодно, словно опахнуло морозом из раскрытого окна, а ладони и места под коленями, напротив, вспотели от внезапного жара. «Парасимпатические нервы сработали,» – механически отметил Январев и вспомнил нервно-мышечный препарат из лягушки, который готовили в лаборатории.
«Хоть бы одна приятная мысль с этим… с этой связалась… – с досадой подумал он. – Видно, уж так тому и быть… Разве и вправду теперь отпустить ее, выгнать даже? Коли ей так охота… Пусть себе бежит в свою жизнь, в свои трущобы… Какая у нее там жизнь? У девочки-сироты? Лучше и не думать. Позабыть… – тут же все внутри возмутилось. – Как – позабыть?! Умирающему товарищу обещал позаботиться – это раз. Нарыв у нее на ноге и ботинки всю воду и грязь пропускающие – это два. И три – что ж ты сам-то за человек такой, товарищ Январев, если чуть что – и сразу бежать, избавиться, позабыть! И как ты таким дальше жить будешь? И не лучше ли было…»
– Как твое имя? – глухо спросил он. – Не Алексей же…
– Нет, конечно, – ответили сзади сквозь плеск и низкое, почти звериное довольное урчание – девочка явно залезла в лохань и теперь поливала себя теплой водой из сложенных ладоней. Он почти увидел эту картину. Животный изгиб ее тощего тела, прищуренные от удовольствия длинные светлые глаза, темные, словно углем проведенные на лице брови, прилипший к шее черный локон… – Люшей меня зовут, Люшкой.
– А зачем Лешкой перекинулась? Чтоб на баррикады взяли?
– Не-а. Я и у себя, и по Москве, бывает, мальчонкой гуляю. И на Сухаревке торгую, и вообще. Сподручнее так.
– Отчего же?
– Да неужели ты сам не понимаешь, дядя? – захихикала Люша. – В штаны-то труднее залезть, чем под юбку! И убечь, если что, легче.
«Господи, идиот! – выругал себя Январев. – Действительно: как не понять? Она же (ребенок!) просто пытается в нечеловеческих условиях своей жизни уберечься от мужского насилия…»
– Где-то оно, может и к хорошему прибытку приводит – деньгами или хоть одежей какой, – продолжала между тем рассуждать Люша. – А в наших краях – ничего этим делом не заработаешь, хорошо, если в трактире накормят, а то ведь и убыток бывает – не угодишь, так тумаков надают. Да и дурной болезнью страшно заразиться. На рынке купи-продай или даже спереть чего мне больше нравится – веселее и больше по-людски как-то… А ты как думаешь, дядя?
Январев молча скрипнул зубами. Равнодушная и расчетливая доступность трущобной девочки, которая, постанывая от удовольствия, мылась в лохани в сажени позади него – не то, чтобы волновала («ну не животное же я!»), а пожалуй что бесила его. Ощущение было тягостным, восходящим почти до физической боли.
– А что тебя на баррикады-то понесло? – спросил он, чтобы сменить тему. – Неужто болеешь за дело социальной революции?
– Так весело же! – воскликнула Люша. – Я с самого начала там. Ух! Видел бы ты, дядя! Все тащили, кто что мог. Дружинники столб телеграфный валили. Да все студенты, видно, хлипкие – никак им. Извозчик, могутный такой, глаза мутные, соскочил с козел – и ну помогать. Мальчишки зеленщика вывеску сцепили – лавочник и не пикнул, я тоже с ними лазила. А трамвай с рельс опрокинуть – до чего здорово выходит! Р-раз! Р-раз! И набок, колесьями кверху, как кит издохший! Жильцы из переулков бегут: кто с доской, кто с ящиком, кто с корзиной – все улицу перегораживать. Даже приказчики из лавок выскочат – помочь, хотя мне потом дядя Митя объяснил, что они – классовые враги пролетариата. А потом как забухало, как драгуны поехали! Ружье вбок, дула – в окна! А дружинники из-за заборов по ним – бац, бац, фью-ить! Драгун и скопытился! А солдаты ехали, им две курсистки с красным флагом навстречу – убейте нас! Те и повернули… А потом у тех пушки – тум, тум! Только щепки летят! А мы с мальчишками булыг набрали и…
Люша увлеклась рассказом, а Январева мутило все сильнее. Это вот, девочкиными глазами увиденное «веселое дело» – дело революции, дело социальной справедливости? Дело, за которое погибли люди? Хотелось развернуться немедля и заткнуть многозубый лисичкин рот… Пусть укусит, но замолчит…
– Дикость какая-то… – пробормотал он.
– Отчего ж дикость? – удивилась Люша. – Жизнь у народа скучная, а здесь вот – пожалуйте вам, театр, и представление забесплатно, и сам в артистах, и декорации сам строишь… Снег, дома в темноте, зарево. Черное, белое, красное…
Такой оборот мысли у юной босячки показался странным. Она бывала в театрах? Знает про декорации?
– Ты небось и на пожары глазеть любишь? – по какому-то внезапному наитию спросил Январев. – Фабрика Шмита вот здорово горела, да? Треск, грохот, дым, пепел, люди мечутся…
Вместо ответа сзади что-то грохотнуло, всплеснуло, проехало по половицам. Январев вскочил, уронив стул. Девочка, сжавшись, сидела в луже на полу, подтянув к груди острые коленки и закрыв ладонями лицо. Черные мокрые кудряшки змейками вились между пальцами.
– Что ты, Люша?! – подался к ней, чтобы… что?
Девочка, как к известному убежищу, метнулась к кровати, мигом завернулась в пикейное покрывало, прижала к груди куклу, спрятав лицо в пыльных оборках ее платьица.
Январев постоял на месте, волей унимая бешено колотящееся сердце. Потом, тяжело хромая, подошел к двери, позвал:
– Федосья! Тряпку принеси. И ведро. Мы… пролили тут…
Пока Федосья прибиралась, а Василий уносил лохань, Январев на вопросы прислуги не отвечал, стоял столбом. Федосья глянула подозрительно, сказала: «Белье сразу переменить надо. Заразы бы какой не занес…» Люша лежала, вытянувшись, отвернувшись к стене. Если б не россыпь завитков на подушке, можно было б подумать, что на кровати никого нет. «А завитки похожи на медицинских пьявок из аптечной банки» – мстительно подумал Январев.
После сидел на стуле, думал, как заговорить. Как заговорить? С грачевской-то босячкой, разлегшейся на его кровати… Отдавало какой-то дешевой литературщиной. Вдруг сообразил, что девочка, должно быть, голодна. А у него, как назло, ничего нет. Можно сварить кофе на спиртовке, но даже хлеба – ни куска. Вести ее в общую столовую – немыслимо. Опять звать Федосью? Самому идти в кухню и просить…
– Люша, ты хочешь есть?
Кудри заелозили по подушке. Поди разбери: это согласие или отрицание?
– Так да или нет?
Люша села на кровати, словно приняв какое-то решение.
– Покушать хорошо было бы. Я все сладкое страсть как люблю. И еще пирожки с требухой, под Башней – за две копейки.
– Сладкое покушать? – растерялся Январев. Сам он сладостей с детства почти не ел, всему предпочитая хороший кусок мяса с хлебом. – Что ж? А вот – хочешь, Люша, прямо сейчас пойдем к Адаму в больницу – он и мою ногу, и твой нарыв посмотрит. А заодно заглянем в кофейню Филиппова – я тебе пирожное куплю. Договорились?
– Договорились, – сказала Люша и спросила жадно. – А пирожное – корзинка с кремом, да? И с цукатиком сверху, ладно? Я такое прошлым летом ела, скусно, прямо мочи нет! А можно, я куклу с собой возьму?
– Это еще зачем?! – удивился Январев.
– А пусть она погуляет? – девочка склонила голову набок, похлопала мокрыми ресницами и Январеву на мгновение показалось, что с ним кокетничают. Он списал нелепое видение на свою неопытность в этом вопросе. – Ей же тоже поглядеть любопытно. Небось, как сестричка твоя померла, так с ней и не гулял никто? Вот сидит она тут, сидит целыми днями, скучает…
«Ребенок еще, – почти умилился Январев. – Видно же, что она у целлулоидной куклы поддержки ищет.»
– Ладно, – решил он. – Погулять – возьми. Но насовсем я тебе ее не отдам – так и знай…
– Так я и не прошу – насовсем, – улыбнулась Люша. – Понимаю ж – тебе, дядя, от сестры память, да и я рылом не вышла, чтоб в таких кукол играться…
– Одевайся тогда, я не гляжу, – велел Январев, которому последняя реплика девочки категорически не понравилась.
Прошли к Тверской по Леонтьевскому переулку. Огромное зеркальное окно, разбитое во время беспорядков 25 сентября, было уже давно восстановлено. С прилавков левой стороны покупали фунтиками черный и ситный хлеб, который у Филиппова удавался так, что его поставляли даже в Петербург, к Императорскому двору. А филипповские калачи и сайки еще прежде везли и того дальше – в Сибирь. Их пекли на соломе и каким-то особым образом, еще горячими, прямо из печки, замораживали. Везли на возах за тысячу верст, и только перед самой едой оттаивали – тоже особым способом, в сырых полотенцах. И калачи попадали на стол где-нибудь в Екатеринбурге или Томске ароматными, как будто только что с пылу, с жару…
Вдали, вокруг горячих железных ящиков стояла разношерстная толпа – студенты, чиновники, дамы в пелеринах, бедно одетые женщины из работниц. Все жевали знаменитые жареные пирожки с мясом, с яйцами, с грибами, с творогом, с изюмом… Люша зашныряла глазами по обширному помещению и, как будто позабыв об обещанном пирожном, сразу потащила Январева к пирожкам.
– Мне два, хорошо, дядя? – скороговоркой попросила она. – Один с изюмом, другой с вареньем, хорошо? Не разоришься – они по пятачку. Хорошо? Давай тогда, покупай скорее – очень кушать хочется.
– Да пойдем в кофейню, – предложил Январев. – Сядем за столик, выпьем чаю…
Мраморные столики и лакеи в смокингах, видимо, смущали девочку. А может, надписи на стенах кофейной: «Вход с собаками и нижним чинам запрещен»? Хотя умеет ли она читать? Скорее всего, нет.
– Пирожки, дядя… – и опять этот взгляд искоса и всхлоп ресниц. – А потом уж чай. Хорошо?
– Ладно, бог с тобой.
Большие пятачковые пирожки со свежей начинкой, поджаренные на хорошем масле, исчезли влет. Кукла выглядывала из-за пазухи с глупым видом, как будто и вправду дивилась на мир. Люша ела сосредоточенно, достаточно аккуратно, не поднимая головы и не глядя по сторонам. После вытерла согнутым пальцем рот и пальцы об платок, повязанный на талии.
– Еще купить? – улыбнулся Январев.
– Нет, теперь чай…
Сели за столик у окна. Официант получил заказ на два чая, пирожное для Люши и сайку с изюмом для Январева. Люша вздохнула, вытянула тонкую шею и передвинулась на краешек стула, поглядывая в дальний угол, где висела темная картина в золоченой раме и стояла кадка с огромной пальмой.
– Что ты… – Январев огляделся, пытаясь понять, что происходит с девочкой. О чем она думает? Чего опасается? Может быть, здесь кто-то из ее прошлых обидчиков? – Публика действительно странная… – последние слова Январев, не заметив, произнес вслух.
– Так а чего же ты хочешь, дядя? – тут же откликнулась Люша. – Это же «вшивая биржа».
– Вшивая биржа?
– Ну… «Арапы», шулера, «жучки», «играющие»… Дела делают. Ты будто не знал?.. Ты уж прости меня, дядя, – неожиданно сказала Люша с покаянной миной на треугольном бледном личике. – Оно как бы и красиво получается: я – Гаврош на баррикадах, ты – Жан Вальжан, да еще вот и кукла, как у Козетты, но – не судьба нам, дядя… я ж вижу, что ты с идеями, и просто так не отвяжешься…
Прежде, чем Январев успел осознать услышанное (трущобная Люша не только умеет читать, но и читала роман Гюго «Отверженные»?!), девочка вскочила со стула и, подхватив куклу, бросилась в самый темный угол кофейной с криком:
– Гриша, спаси! Спаси меня!
Высокий, цыганистого вида парень поднялся из-за столика. На его среднем пальце красовался массивный перстень с огромным, явно фальшивым бриллиантом. Люша с разбегу кинулась ему в объятия и через плечо указала на Январева большим пальцем:
– Гриша, вот он, вот тот студент! Он – извращенец проклятый, дома с куклой живет. Вот с этой, гляди. Я без памяти была! А теперь он меня пирожками кормит и хочет, чтоб я опять к нему на квартиру пошла…
Январев побледнел в просинь, едва ли не сравнявшись с крахмальной скатертью на столе.
Цыганистый Гриша успокаивающе погладил вздрагивающие плечи девочки и угрожающе оскалился:
– Ты мне, пендель, Люшку не трожь, а то видит бог – почикаю, не задумаюсь. Пошел отсюда! Слыхал меня, пендель?!
Рядом с Гришей поднялись двое его сотрапезников – один в горчичной паре, другой – в старой фризовой шинели, явно купленной по случаю на Сухаревской барахолке. Сидящие за столиками оглядывались с ожидающим любопытством.
– Господа, господа! – испуганно взывал официант, подошедший с подносом. – Не надо этого!
Люша на мгновение оторвалась от широкой Гришиной груди, обтянутой красной рубахой и бросила сожалеющий взгляд на пирожное-корзиночку с аппетитным цукатиком. На Январева она не взглянула.
Январев вышел в Глинищевский переулок. Из ворот фабрики тянулись возы с традиционным рождественским подаянием «несчастненьким» – калачами и сайками для заключенных в тюрьмах. В эти дни булочные получали заказы от жертвователей на тысячу, две калачей и саек. В основном «спасало душу» купечество. Особенно усердствовали московские старообрядцы. Они по своему закону обязаны были помогать всем пострадавшим от антихриста, а все «вверженные в темницу» считались таковыми. Почему-то у них принято было считать, что благодарственные молитвы заключенных скорее достигают Господа.
Не забывали подаянием и караульных солдат расквартированных в Москве полков. «Интересно, семеновцам, накануне в упор расстрелявшим пресненских рабочих, тоже достанутся филипповские булки? – равнодушно, без возмущения подумал Январев. – Может быть, как раз моя сайка туда и отправится…»
Все чувства в нем как будто бы умерли.
Глава 2,
в котором странная девочка по имени Люша рассказывает о тайнах своего детства.
ДНЕВНИК ЛЮШИ.
В мире, в котором я живу первые годы своей жизни, очень много тайн и загадок. Иногда мне даже кажется, что весь мой мир соткан из них, как салфетка из ниток. Причем, как и в белой накрахмаленной салфетке, которую кувертом ставят на стол в зале в дни парадных или праздничных обедов, некоторые нитки специальным образом и по специальному замыслу выдернуты, а прочие – заплетены в снежные узоры мережек. Это не кажется мне странным, потому что другого устройства мира я не знаю.
Систематизации этих тайн и загадок, иерархии их значимости и власти над миром усадьбы и судьбами окружающих меня людей я покудова не ведаю тоже. Для меня все они равны.
За тумбой с зеркалом живет паук с крестом на толстом брюшке. Он ловко и бесшумно ловит в свою красивую сеть жирных мух и залетевших в комнату длинноногих нелепых комаров. Мне нравится лечь на пол лицом вверх, заползти под тумбу, поставить на пол огарок свечи и смотреть на его охоту. Паук знает и совсем не боится меня. Наоборот, мне кажется, он с нетерпением ждет моих визитов в его царство. Ведь на свет свечи летит паукова добыча.
Паук – это моя тайна. Когда Настя с тряпкой приходит убираться, я тщательно задвигаю домик и охотничьи угодья паука своей корзинкой и истошно верещу, когда горничная пытается передвинуть ее. Со мной Настя не связывается. Однажды она застала меня лежащей на полу под тумбой и потянула за торчащие ноги. Когда выползла голова, я изогнулась и укусила ее за руку. Крови было не так уж много, но Настя верещала так, как будто ей напрочь отхватили палец. Отец тогда подарил ей булавку с камушком. Потом я украла ее из Настиной шкатулки, но не навсегда – и довольно удачно пристроила булавку в обивке стула, на который села за обедом тяжелая, как ломовая лошадь, соседка Марья Карловна. С Марьей Карловной у меня давние счеты. В ее усадьбе всегда живут какие-то гадалки и вызывают духов. Однажды она хвасталась, что у нее есть даже настоящая веревка повешенного – для сильного и верного колдовства. Мы со Степкой хотели порадовать ее зрелищем потустороннего мира – на Святки переоделись чертями и по старой липе, растущей перед домом, залезли в окно ее спальни. Степкин зять-механик сделал мне такой ловкий хвост на пружинке и веревочке, я даже могла им вертеть, если просто поднимала руку. Марья Карловна не испугалась моего вертящегося хвоста, а выстрелила в нас из ружья своего покойного мужа, которое висело у нее над кроватью. Степке опалило ухо, а я с тех пор ее уважаю.
С утра по субботам, перед тем, как помыть меня в бане, нянюшка Пелагея берет узелок и палку, надевает на вечно распухшие ноги башмаки или валенки и уходит в сторону Торбеева. Это ее тайна и она никогда со мной об этом не говорит. Но я давно знаю, куда она ходит. Если не доходя до Торбеева свернуть с гречишного поля в лес, то в полуверсте справа будет дом и огород лесничего Мартына. Там, в отдельном маленьком домике живет сын Пелагеи Филипп. Она носит ему лакомства с господского стола и чистую перемену белья. Я бы переселила Филиппа к нам в усадьбу, потому что, мне кажется, это вышло бы забавно. Но еженедельные походы нянюшки мне тоже нравятся – в этом есть что-то из английских романов и одновременно на несколько часов отдаляет меня от еженедельной помывки в бане. Это совсем не тайна, а, напротив, очень шумно и весело, потому что гоняться за мной приходится всей прислуге, включая собак, и по всему двору – что поделать, я не очень люблю мыться. Нет, кое-что в бане мне интересно и даже приятно – например, запах распаренного дерева, синий колышащийся туман в парной, в котором отдельно плавают лица и прочие части тел, маленькая кикимора, живущая под шайкой в куче ветоши, и холодный, запотевший изнутри стакан фруктовой воды с тремя (всегда – тремя!) ягодками на дне, который мне дают после помывки. Если бы там еще не нужно было раздеваться, и никто никогда не дотрагивался до меня рукой или мокрой горячей мочалкой… Честное слово, в одежде я согласилась бы помыться в любой момент! Заодно она и постиралась бы, кстати. А то прачка вечно ворчит на нянюшку, что я много пачкаю. Пелагея часто заставляет меня переодеваться, это правда, но я все равно выгляжу как свинья – так говорит отец и дергает правым глазом. Я этого не понимаю, потому что, на мой взгляд, свиньи очень чистоплотны, и при малейшей возможности норовят еще помыться в луже. А поросятки – вообще розовое веселое загляденье, только очень шустрые, и поймать их нелегко. Бывает трудно себе представить, что большая их часть скоро окажется совершенно неподвижными у нас на столе на званных обедах – на серебряном блюде, с хрустящей корочкой, смоченной водкой, с веточками петрушки в ушах и яблочком в рыльце. Я их всех всегда узнаю и объявляю за столом: это был Васька, он был самый веселый, умел через палку прыгать и очень любил корочки от калачиков… Многие после этого поросенка не едят. Я ем, мне-то что? Иногда даже Пелагее остается, она тоже поросятинку любит, она мягкая, а у нее зубов мало осталось, да и те шатаются.
В общем, если бы можно было мыться в одежде, это решило бы много проблем. И не надо было тогда меня ловить… Почему люди не поступают так, как удобно? Пелагея говорит, что до четырех лет меня, наоборот, невозможно было одеть. При малейшей возможности я срывала с себя всю одежду и бегала голышом, даже во дворе и зимой по снегу. Особенно любила являться в таком виде к гостям отца, да еще и делать лужи посреди столовой или курительной комнаты. Я всего этого не помню, но похоже на правду. Если учесть, что говорить с посторонними я начала только в пять лет, а до этого на людях лишь рычала, хохотала, ревела или огрызалась, то нельзя не признать – с первых лет жизни я была весьма обаятельным ребенком.
Но с тех пор многое изменилось. «Все течет, все изменяется» – сказал философ, который живет у отца в шкафу. И в «Естественной истории» про то же самое сказано. Ух, какие там картинки и как я люблю их рассматривать! Из них понятно, что раньше было куда интереснее – в лесах водились огромные ящеры и птицы с перепончатыми крыльями, похожие на огромных летучих мышей. А по болотам бродили такие жуткие твари с длинными шеями и маленькими зубастыми головками. В книге написано, что они были глупыми и травоядными, зато с двумя мозгами: один в голове, другой – в жопе! Вот бы у нас в болоте жил хоть один такой. Славно было бы его подразнить! Но они теперь все вымерли. Это называется эволюция, и ей все подвластно. Даже я. Раньше я не любила одеваться, теперь – раздеваться. Интересно, что будет дальше.
Мне нравится изменяться. Если бы меня спросили, я хотела бы вылупиться из яйца или хотя бы пройти метаморфоз, как гусеница с бабочкой или глиста. Р-раз – и ты уже совсем другое существо… И потребности у тебя другие, и желания, и возможности. Совсем несбыточные, дурацкие даже мечтания?
Удивительно, конечно, но вот именно это у меня и получилось…
Самая большая тайна в Синих Ключах это, конечно, моя мама и все, с нею связанное. Мама давно умерла, но тайна ее живет во всех углах, и на нее можно наткнуться где угодно и в любой момент. Мне это не нравится – как слишком громкая музыка. Я уступаю эту тайну отцу и ни на что в ней не претендую. Степка со мной, кажется, не согласен, хотя прямо мы с ним на эту тему никогда не говорили.
Про мою маму в усадьбе вообще никто не говорит. Как будто бы ее никогда не было и я, «дочь хозяина», получилась прямо из отцовского ребра, как Ева из ребра Адама. «Покойной хозяйкой» слуги и крестьяне в Черемошне называют первую жену отца. И часто про нее говорят: «вот при покойной хозяйке в Синих Ключах бывало то-то и так-то…» Это правильно – к моей маме не применимо ни одно из этих слов. Она не «хозяйка» и не «покойная». С первой женой отец прожил пятнадцать лет. И я ею восхищаюсь, хотя именно из-за нее отец ударил меня. Тогда я еще совсем ничего не понимала про людей и потому даже не удивилась. Я хорошо помню это время: люди вокруг меня вдруг начинали кричать, плакать, смеяться, драться, восторгаться или хмуриться нипочему – без всяких понятных для меня причин. При этом они часто говорили слова, большинство из которых я уже понимала по отдельности. Например, я хорошо знала, что такое стол, тарелка, собака, каша, облако. Но связанные вместе и кем-нибудь проговоренные подряд знакомые слова теряли свой прежний смысл и не обретали нового. Когда я делала на синей скатерти небо с облаками из манной каши (на мой взгляд, у меня получалось очень похоже, масло было солнышком, а изюм здорово изображал летящих клином уток!), нянюшка Пелагея, Настя и все прочие были явно недовольны и что-то говорили мне знакомыми словами, что я понимала, как желание чистоты. Тогда я ставила на стол кухонного Трезорку, чтобы он все прибрал – и на столе и в тарелке. Трезорка ловко работал розовым языком, но мне опять что-то говорили теми же словами и я видела: теперь мною недовольны еще больше. Понять это было решительно невозможно.
В одной из комнат левого крыла дома висел портрет первой жены отца. Туда редко кто-нибудь заходил, и я сама наткнулась на него совершенно случайно, когда в коридоре ловила цыпленка, которого принесла в чулан посмотреть, будет ли он есть жирных червячков, которые завелись в огромной дохлой крысе. Портрет был не очень большой, но и не маленький – приблизительно аршин на поларшина. Он меня сразу очаровал, и я позабыла и про крысу и про цыпленка (цыпленок потом еще некоторое время жил в потухшем камине в голубом зале, выклевывая оттуда остатки лепешек, которые я жарила в камине весной, и ловко прятался под мебель при приближении людей – прислуга его иногда видела, но считала, что ей мерещится, – а потом, наверное, попал в суп). На портрете – я сразу так решила – была изображена королева из нянюшкиных сказок. У нее было белое прекрасное лицо и облако пепельных волос вокруг высокого лба. От обнаженных плеч и больших фиалковых глаз шло сияние. В прическе этому сиянию вторил чудесный желтый камень. Жемчужно-серое платье ниспадало атласно-переливающимися складками. Королева была грустна. Мне захотелось встать на колени и помолиться – я знала, что так нужно делать, если видишь царя или царицу, мне много раз об этом рассказывала кухарка Лукерья, и я ей верила, потому что она своими глазами видела на дороге русского царя Александра (по счету я их тогда не различала и до сих пор не знаю – какого именно из Александров удалось лицезреть нашей кухарке). Потом я заметила, что на раме, да и на самой картине скопилась пыль. Я разозлилась, потому что сразу же, как увидела портрет, назначила себя прислужницей королевы. Пренебрежение моей госпожой унижало и меня тоже. Я сбегала в чулан, принесла опахало из перьев и бережно смахнула пыль с полотна. Красота королевы засияла еще ярче. Потом влажной тряпкой протерла раму. Осторожно прокралась в комнату, где жили кухарки, и утащила вышитое полотенце с петухами от иконы Николы Угодника. У нянюшки тайком взяла бумажный веночек, у конюха – лампадку из толстого синего стекла. Правильно было бы отдать все свое, из своей светелки, но я понимала, что это – сразу заметят и начнут доискиваться. Когда я украсила свежевымытый портрет полотенцем, веночком и лампадкой, и спела тихонько, приплясывая, свою любимую песенку, мне показалось, что королева глядит слегка повеселее.
Королева была моей тайной пожалуй что месяца два (хотя тогда я еще не знала никаких временных промежутков – слова «час» «неделя» «месяц» «год» ничего не значили для меня). Во всяком случае помню, что лето уже сменилось осенью, когда Настя с Феклушей застали меня на коленях перед моей госпожой. Я со смиренной молитвой предлагала ей откушать наливного, порезанного мелкими дольками яблочка.
– Тьфу ты, язычница проклятая! – закричала Феклуша, разглядев убор портрета, и даже действительно плюнула на пол от омерзения. – И откуда что берется! Никто ведь отродью ни слова не сказал!
Я не поняла, к кому относятся ее слова, да и самих слов не поняла, но общий смысл был ясен, и я, конечно, тут же вступилась за честь своей госпожи. Когда меня от Феклуши оттащили, я уже успела как следует ее поцарапать и, кажется, даже укусила за щеку.
Потом лесник Мартын, как раз случившийся по делам в усадьбе, завернул меня в лошадиную попону, через которую я не могла ни кусаться, ни царапаться, и отнес наверх, в светелку. Пелагея уложила меня в кровать и напоила травяным отваром, состав которого остался ей от моей матери, а той – от ее матери и так далее. От этого отвара я всегда, как бы ни бесновалась перед тем, засыпала.
Но прежде, чем уснуть, я спросила у нянюшки:
– Та, из сказки, в комнате на портрете, кто она?
– Так это сама покойная хозяйка и есть, – спокойно ответила Пелагея. – Ты разве не знала?
– Она королева?
– Какая королева – чего ты выдумала?.. Из хорошего рода, конечно, этого не отнять. Древний род, гонору много, да… Наталия Александровна ее звали.
Имя Наталия Александровна мне понравилось. Прочие слова нянюшки я пропустила мимо ушей. Мысль, что мой отец был женат на королеве, потрясла меня. Я не знала, как выразить это потрясение в действии, и решила, что завтра вместо Степки почищу ему сапоги. С этим решением я и уснула. Сны мои были фееричны и исполнены жреческого восторга.
На следующий день я обнаружила, что комната с портретом заперта на ключ. Веночек, полотенце и лампадка вернулись на свои прежние места. «Так не доставайтесь же вы никому!» – хрестоматийно решила я и выразила свои гнев и скорбь отлучения от божества тем, что полотенце разорвала на мелкие клочки, веночек растоптала ногами, а лампадку на кованой цепочке раскрутила над головой и запустила в зарешеченное окно над головой жеребца Эфира. Лампадка летела так сильно и интересно, что я сразу немного успокоилась, покормила яблоком испуганного Эфира, и до вечера кидала камни с помощью разной упряжи, тряпок и веревок, остановившись на кожаном обрывке ременного повода. В конце концов я попала камнем в плечо конюха Фрола и была по распоряжению отца заперта в чулан. Много позже я узнала про поединок Давида с Голиафом и в этот момент была очень горда своей изобретательностью.
Однако сдаваться и оставлять свою королеву в забвении покрываться пылью я не собиралась. Ключ от комнаты с портретом для меня стащил Степка – он умел казаться почтительным и знал, как подольститься к экономке. Оказавшись перед портретом, который без привычных украшений казался мне голым, я тяжело задумалась.
Как спасти королеву из заточения? Приходить сюда регулярно и развлекать ее мне явно больше не позволят. Унести портрет в тяжелой раме и спрятать его где-нибудь? Пожалуй, я просто физически не смогу этого сделать. Но выход должен быть.
К вечеру я его нашла. Когда Пелагея уснула, я пробралась в комнату с портретом, вооруженная острым ножиком, и аккуратно вырезала королеву по контуру из холста, стараясь не повредить платья и – особенно – облако прекрасных волос над головой, похожее на туманный нимб. Потом я тщательно расправила и наклеила ее на специально заготовленную дощечку сапожным клеем и завернула в чистую холстинку. Теперь королева всегда останется со мной. Я все сделала как должно.
Утром Степка вернул ключ на связку экономки.
А еще через два дня приехали родственники первой жены отца, которым он, удивленный и встревоженный моим странным поведением, пообещал отдать портрет своей первой жены. Их чопорно приняли в белой гостиной (меня им, разумеется, не показали), а потом проводили в комнату с портретом…
Самой последовавшей за этим сцены я, конечно, не видела, но кое о чем даже тогда могла догадаться.
Я могла бы бежать, но это показалось мне недостойным. Служение подразумевало жертвы.
С криком: «Дрянь! Зачем ты это сделала?! Опозорила…» – отец ударил меня по щеке и швырнул на пол. Я проворно заползла под кровать и отогнула уголок холстинки. Я всегда хорошо видела в темноте, но и без того знала наверняка: королева улыбалась…
На краю парка, под сенью старых лип стоит полуразрушенный деревянный театр, выкрашенный белой и золотой краской. Краска облупилась. Некоторые доски в сцене сгнили и провалились, черные провалы зияют усмешкой, скамейки, на которых когда-то располагались зрители, куда-то исчезли. А может быть, их и не было?
Осенью на сцене ветер красиво кружит желтые и красные листья. Я танцую вместе с ними, воображая себя принцессой осени, украшенной золотом и рубинами.
Когда наступают холода, в щелях под сценой прячутся жуки и летучие мыши. Они там зимуют. Иногда на каменном основании, в темноте, сидят, распластавшись, большие бабочки. Они не живые и не мертвые. Я слышу их души. Их состояние интригует меня, но я не хочу распотрошить эту тайну, как кухонный Трезорка потрошит подушки, если запереть его в моей спальне. Пусть она останется как есть.
Моя мама – бабочка. Она не жива и не мертва.
Театр построил для нее мой отец, чтобы она не тосковала. Она благодарила его и танцевала и пела на этой сцене. Зрителей было мало, только крестьяне и почтовые служащие из Торбеевки и Черемошни, и наши слуги, которых сгоняли насильно – они не хотели смотреть. Соседи приезжали редко, только чтобы потом позубоскалить. Приезжали и гостили московские и калужские друзья отца, но из Москвы и даже из Калуги не наездишься. Родные отца не приезжали никогда.
Потом мама собрала детей в деревне, чтобы учить их танцевать. Старшая сестра Степки, которая теперь замужем за Ванькой-механиком, была среди них. Она говорит, что танцы не были похожи на деревенские хороводы, и ихняя бабка плевала ей вслед каждый раз, когда Светлана уходила в усадьбу. Но отец тайком платил по рублю каждой семье, которая посылала ребенка в мамину школу танцев. И еще детей после занятий кормили обедом с мясом и калачом. К тому же родители уже тогда думали о том, чтобы пристроить кого-нибудь из детей в услужение в усадьбу. Светлану не получилось, получилось – Степку.
Когда мама пела, птицы, гнездящиеся на старых липах, отзывались ей в такт. Они сохранили для меня мамины песни в своем птичьем роду и, если попросить, всегда поют их мне по утрам, когда роса еще не высохла на досках и завитушках с облупившейся позолотой. Я благодарна этим птицам с черной головкой и красной грудкой, и никогда не разоряю их гнезда и не позволяю Степке ставить силки вблизи старого театра.
Я люблю петь и танцевать. У меня много зрителей и слушателей. Прямо за театром протекает холодный и быстрый ручей. В нем живут рыбки с радужными крапками на боках. Они слушают меня и подпрыгивают в такт. Я учусь танцевать как рыбки и переливаться, как ручей. Птицы, которые помнят песни моей матери, слушают меня и поют мне песни своих матерей. Они простые, но очень красивые. Я учусь петь как птицы. Когда дует ветер, деревья тоже танцуют. Ветер могуч – он может танцевать сразу со многими деревьями и даже со всем парком. Он видит мой танец и подхватывает его, посылает мне кружащиеся листья, раздувает подол моего платья и мои волосы. Я учусь танцевать с ветром.
Осенними вечерами я приношу свечи и ставлю их на край сцены. Тогда из леса и из ручья приходят большие бородавчатые жабы и длинноспинные зеленые лягушки. Они сидят на тропинке и в траве и огоньки свечей отражаются в их золотых глазах. Они знатные театралы – могут смотреть и слушать сколько угодно. Но всегда молчат.
Еще меня слушают и смотрят на меня Степка, кухонный Трезорка, и моя лошадь Голубка, которая очень любит объедать траву возле самой сцены и даже иногда ритмично ударяет копытом по доскам. Я уверена, что она делает это, чтобы поддержать меня в самые высокие моменты песни или танца.
Голубка мне досталась не сразу. С самых ранних лет я часто убегала из дома, пряталась в конюшне и играла там с собаками и лошадьми. Умела даже доить свою тезку – конюшенную свирепую козу Лушку, которая не давалась больше никому, кроме своей хозяйки – кривой Зинаиды. Точнее, я просто вставала на четвереньки, мемекала и сосала молоко, как козленок. Лушка при том не протестовала и не брыкалась, она оборачивалась и задумчиво жевала и сосала мои кудрявые волосы. Зинаида, когда видела это, прикрывала уцелевший глаз, громко, с сожалением цыкала зубом и говорила: «Эх ты, Лушка, Лушка, жизнь в полушку!» Я не знала, кого она имела в виду – меня или свою злую козу.
В усадьбе долго судили и рядили, можно ли меня такую, какая я есть, подпускать к лошадям, не убьюсь ли я сразу. Отец даже хотел специально для меня купить маленькую лошадку пони. Но не успел, потому что я выбрала Голубку (тогда я не знала, что Голубку запрягали в коляску моей маме, а мне, конечно, никто не сказал). Лошадка сама была маленькая, но сильная и почти такая же злая, как Лушка. К тому времени она копытом сломала ногу водовозу и почти откусила ухо какому-то некстати сунувшемуся к ней крестьянину из Торбеевки. Лет ей было уже десять, жеребца она к себе, несмотря на усилия конюхов, не подпустила, и отец распорядился либо продать ее в деревне за любую цену, которую дадут, либо пристрелить.
Я тогда еще плохо говорила и потому, чтобы все сразу все поняли, повесила ей на шею табличку: «Голубка – моя. Люба Осоргина»
Как раз из этой таблички все и узнали, что я умею писать и читать.
Отец после долго экзаменовал меня в кабинете. Кончилось тем, что я вылила чернила на голову бронзовому ангелу, который стоял у него на столе, разорвала бумагу и воткнула перо в занавеску. Решили, что табличку написал кто-то по моей просьбе. Но так и не дознались – кто, потому что Степка, с которым я все время водилась едва не с рождения, тогда был еще неграмотный.
Все были против, только главный конюх Фрол сказал: человек и конь друг друга нутром чуют, голова тут не причина. Так от века повелось – завет между людьми и лошадьми. Если девочка с Голубкой друг друга выбрали – грех тому мешать.
Женское седло мне сразу не понравилось. Мужское седло годилось, только мне самой трудно было затянуть подпругу, а другим Голубка, признав меня своей хозяйкой, не очень-то давалась. Поэтому я предпочитала ездить вообще без седла – так я лучше чувствовала лошадь.
Когда я делала что-нибудь не так, Голубка хватала меня зубами за загривок и отбрасывала в сторону. Я была легкой и летела едва ли не полторы сажени. Но она никогда не нападала без причины. Я сама была такой – и ее понимала.
Именно благодаря Голубке я впервые узнала, кто я такая.
Глава 3,
В которой две девочки с московской Хитровки говорят об обыденном, читатель узнает историю Ати и Боти, а Люша рассказывает о своих родных местах.
Москва, декабрь, 1905 год
– Люшка! Холера ясна! Дева пречистая! Куды ж ты подевалась?! Я тут чуть с ума со страху не спрыгнула. Везде палят, везде жгут, даже деловые у нас в «Каторге» притихли, а тебя все нетути… Чего и думать мне… Да еще Атька с Ботькой чувствуют и ревмя ревут: когдя Люшика плидет? А чё мне им сказать?
Крепкая девочка с высоким лбом, ясными глазами и толстой русой косой тесно обняла подругу, обдав ее запахом застарелого кухонного чада, и тут же отстранилась, повела курносым носом, с несколькими даже в зиму уцелевшими веснушками, сказала строго:
– Эй, да от тебя никак мылом «Парис» пахнет! Рассказывай сейчас!
– Да погоди ты вязаться, Марыська! – с досадой откликнулась Люша. – Всему свой черед. Расскажу после, как на баррикадах была. Идем к малым. Глянь только, что я им принесла! Кукла! Гришка едва не запродал под стеной по дороге, так я ему ночью глаза выцарапать обещалась… Что у нас? Где дед Корней?
– В запое дед, где ж ему еще быть, коли башмаки за рупь продал, – брюзгливо сказала Марыся. – Двойняшек Марфа Бублик за двугривенный в день торгует, к Николинской церкви на паперть с ими идтить. Обещает сразу за три дня вперед заплатить. Если поторговаться, то и по тридцать даст – когда ужасти всякие, народ хорошо подает. Пустить, что ли? Я в трактире кручусь, дед пьяный валяется, тебя леший который день носит где-то…
– Обойдется Бублик! – решительно возразила Люша. – Шалавая она, простудит малых. Вон как на Крещение младенчика из Кулаковки взяла – и где теперь младенчик? Помер, а?
– Что ж, сама на паперть пойдешь? – уперев руку в отчетливо округляющийся уже по возрасту бок, спросила Марыся. – Говорю ж тебе: пока ты шлялась, дед последнюю одежу пропил, даже Атькин салопчик, что мы давечи купили. Лежит под нарами в «сменке» – позорище, все в дырах, мотня наружу болтается, дети вокруг ползают. Как меня почует – «Марыська, золотце, умоляю, водки подай!» Щас ему! У нас в трактире все деловые на дно легли, а кто в загуле – так тем под руку не попадайся. Вся Москва в патрулях, на чих стреляют, страшно от дома отойти – а жить как? Детям есть-пить надо? Атьке какое-никакое пальтишко? Ботьке башлык бы купить, на уши жалуется и сопли все зеленые из носа лезут… Да и деда, как ни крути, одеть придется. А тебе и дела нет! Тоже нашла себе веселье – по баррикадам под пулями скакать! Революционерка шалавая! А как подстрелили бы тебя или саблей посекли, а?
– Ты не гунди, Марыська, а? – почти жалобно попросила Люша. – Ну что ж ты сразу человеку плешь-то проедаешь! Могла бы еще хоть минутку порадоваться, что подруга живая отыскалась… Меня, между прочим, и вправду подстрелить могли очень даже. В самом конце уже. Возле фабрики. Пули в ночи – вжиг! Вжиг! Люди вокруг прям как снопы валятся… Меня студент спас!
– Ага. Спас, а потом в корыте помыл.
– Точно, а как ты знаешь?
– Да уж догадалась. Что я, студентов не видала! Дала ему?
– Не. Он идейный. Сначала думал, что я мальчонка, Лешка. Хотел меня спасать. В больницу, представь, потащил, ногу ножиком резать… Так я и далась!
– Мальчишку спасать или уж девчонку?
– Да ему без разницы.
– Извращенец чертов!
Люша расхохоталась. Большой рот, полный мелких зубов, раскрылся как кошель с рассыпанным жемчугом.
– Во, я точно так Гришке Черному и сказала! Привела студента на «вшивую биржу» пироги есть, думаю, там точно кто-нибудь из наших найдется… И сразу на Гришку и налетела! Он меня, конечно, от извращенца отбил…
– А пупс откуда?
– У студента и стибрила. Для малых.
Так беседуя, девочки спустились по кривому переулку и словно в яму нырнули в сумеречное пространство площади, затянутое вонючим желтоватым туманом. Вокруг стояли облупившиеся каменные дома. Между ними, как в чреве огромного животного, что-то шевелилось, мелькали какие-то тени, фонарики торговок-обжорок, раздавались приглушенные утробные звуки. Девочки уверенно пробирались между тепло одетыми женщинами, сидящими на чугунах с жареной, но прежде протухшей колбасой, мимо разносчиков с пирожками и папиросами, чанами с тушеной картошкой и разнокалиберными оборванцами, торгующимися из-за копейки или уже вкушающими свою вечернюю трапезу.
Вдвоем отворили тяжелую, понизу оббитую железом дверь в трехэтажном доме, выпустив наружу клубы теплого пара, пахнущего махоркой, перегаром и больным и нечистым человеческим телом. Поднялись в темноте по полуразрушенной лестнице, прошли лабиринтом коридоров и переходов. Зашли в большую комнату, сплошь перегороженную двухэтажными нарами. Под потолком – красноватый тусклый огонек. У окна, наполовину заткнутого тряпкой – деревянный стол с пролитой лужей посередине. В одном углу полуголый портняжка при свече перелицовывает явно краденную шубу. В другом за ситцевой занавеской отставной солдат с женой – съемщик квартиры. Девочки, не останавливаясь и не оглядываясь по сторонам, сходу нырнули под нары. Там – «нумера», разделенные рогожами. Размер метр на два. Идут в ночь по двухгривенному. Место на нарах – пятачок.
– Марыся, золотце, умоляю…
– Ох, дед, не нарывался бы ты сейчас…
– Люся, Люшика плишла!
– Вот вам! Играйтесь!
Двое очень похожих друг на друга ребятишек выползли из-под нар. Расширившимися одинаковыми глазенками смотрели на огромную, почти в их рост куклу, не решаясь взять. Девочка даже убрала ручонки за спину.
– Да берите же! – почти рассердилась Люша. – Чего боитесь, глупые?
– Ну и чего она им? – проворчала Марыся. – Без вывертов никак не можешь! Продать ее надо на толкучке, за один наряд дорого дадут, смотри кружево старинное, за ночлег заплатим, поесть купим, может, и еще на что останется…
– Не станем продавать! – Люша строптиво дрыгнула ногой. – Что за дела! Малым два года вчера исполнилось – забыла? А у них ни одной игрушки настоящей не было, если лоскутов, шкаликов да пробок не считать!
– Два года уже? – Марыся потерла рукой лоб. – А я и не думала про это. Я и своего-то дня рождения не знаю. Именины только… Как ты помнишь-то?
– Да уж не забудешь… – проворчала Люша.
Атя родилась здесь же, на Хитровке, в мусорной яме возле румянцевского дома. Услышавшие вопли солдатки-роженицы нищие перенесли ее с младенцем в тепло, в заднюю комнату «Пересыльного» трактира. Пока пьяные оборванцы рядили, что делать и кого звать, родился Ботя, а женщина умерла от потери крови и переохлаждения. Каждому видевшему новорожденных казалось, что дети не доживут до утра – мелкие, как котята, и также слабо мяучат. Жалостливая Марыся, помогавшая тогда тетке-кухарке в трактире, встала перед той на колени: давай возьмем деток, прокормим как-нибудь! «Хватит мне одной тебя, дармоедки!» – отрезала тетка, прищурив подбитый глаз. Марыся прибежала к Люше, умытая слезами – жалко младенчиков. Люша, ничуть не тронутая, пошла полюбопытствовать. Младенцы, завернутые в какое-то окровавленное тряпье, лежали на лавке на сквозняке, труп матери, от греха подальше, снесли обратно на помойку – утром пускай полиция разбирается. Девочка казалась уже сомлевшей, мальчик еще боролся за жизнь – шевелился, пищал, пускал пузыри. Люша поднесла руку, чтобы утереть кончиком тряпки красное, некрасивое лицо ребенка. Из тряпок высунулась маленькая ручка и крепко ухватила ее за палец. С минуту Люша стояла, не шевелясь, и всей собой ощущала, как уходят силы из маленького тельца, как отчаянно младенец взывает к миру и пытается удержаться на краю…
– Положи их к печке! – велела она Марысе. – И попробуй напоить. Я к Гришке Черному пойду.
Гришка Черный, «фартовый», первый Люшин покровитель, гулял в «Каторге».
– Гриша, у меня теперь двое детей, мне деньги нужны. На кормилицу и прочее обзаведение, – сразу расставила все точки Люша.
Пьяный, но еще не перешедший в тяжелую и хмурую стадию Гришка окинул девочку взглядом и расхохотался.
– Когда это ты успела-то, пигалица?! И почему – без меня? Я третий десяток давно разменял, мне бы сынка в самую пору…
– С тобой в следующий раз, Гриша, – пообещала Люша. – А на твоем месте я не зарекалась бы. Ты – «фартовый». Будто ты знать можешь, где твои кровные дети по свету горе мыкают. Помоги сейчас моим, глядишь, и твоим кто поможет. Бог правду видит.
Девочка била наверняка. Гришка полагал себя истинно и глубоко верующим человеком, носил на мохнатой груди огромный серебряный крест, который всегда целовал при совершении сделок в доказательство честности своих намерений. То, что небеса не разверзались над ним прямо в этот момент, считал признаком особой благорасположенности к себе сил небесных. На самом деле он, как и все «фартовые», был не столько верующим, сколько суеверным, и, идя на «дело», неизменно учитывал множество странных примет и давал несколько вполне дурацких зароков…
– Ты все равно все пропьешь или проиграешь, – еще надавила Люша. – А тут не что-нибудь – две души спасешь.
– Помогу, видит Господь, помогу! – засуетился Черный. В его больших, темных, выпуклых глазах заблестели пьяные слезы. – Спасу! Души безгрешные… И моим, если они и вправду есть где-то, – Бог поможет!
Гришка достал из-за пазухи пачку ассигнаций и кинул ее на стол, прямо между остатками немудреных закусок. Люша проворно кинулась вперед, стукнула кого-то по протянувшейся к деньгам волосатой руке, царапнула ногтями, сгребла деньги, просунулась к Гришке на колени, отпила из его стакана и защекотала кудрями грязное ухо:
– Гришенька, ты отряди сейчас кого-нибудь со мной, кому доверяешь, а то ведь знаешь же – они все видели и сейчас: стукнут по башке, деньги отберут, а то и под решетку меня, в Неглинку, чтоб тебе после не пожалилась. Гришенька, голубчик… докончи дело… Мне ж прямо сейчас, в ночи, кормилицу искать, еще чего, дел много, младенчики ждать не умеют, помрут раньше…
– Не помрут!! – Гришка со всего размаху ударил кулаком по столу. Подпрыгнули стаканы с сивухой, колбасный круг и надрезанный каравай. – Григорий Черный ник-кому не позволит! Божьи души! Ты, Сашка, водки по болезни не пьешь – пойдешь сейчас с ней! А потом сюда придешь и мне отчет дашь!
– Спасибо, Гришенька! – Люша приласкалась к вору и едва ль не замурлыкала.
Глаза ее оставались холодными. Трезвый, желтый, помирающий от внутренней язвы форточник Сашка поежился и подумал: «Господи боже, твоя воля, но что ж ты с людьми делаешь-то! Ведь едва на второй десяток девчонка перевалила. А вырастет змея подколодная, не хотел бы я с ней дороги пересечь… Да я не увижу уже…»
* * *
Именно с той хмельной и многогрешной ночи и минуло уж два года. Давно упокоился в безвестной могиле форточник Сашка. Съездил на каторгу и побегом вернулся с нее на родную Хитровку Гришка Черный, лишившись по дороге большей части зубов, но не растеряв гонора «фартового человека». По приезде он сразу «встал на дело», а по счастливом окончании его заменил часть утерянных зубов золотыми, что придало ему вид еще более хищный и «шикарный». В Мясницкой больнице скончалась от побоев сожителя тетка Марыси. Четырнадцатилетнюю, но уже вполне аппетитную Марысю в память тетки взяли судомойкой в тот же разгульный трактир – голодной смерти здесь можно было не бояться, но теперь синяки часто окаймляли уже Марысины красивые и большие глаза. Постоянного дружка и покровителя у нее не было. Когда Люша пеняла на то подруге, она неизменно отвечала: а чего лучше? Эти вдарят и забудут, а тот, если чего, так и вовсе убьет, как тетку. После возвращения Гришки подросшая Люшка считалась под его покровительством, напоказ хвасталась своей девичьей победой над «фартовым» и хранила страшную Гришкину тайну, которая… – ни-ни, никому ни слова!
Выживших благодаря Гришкиным ассигнациям и заботам подруг младенцев назвали в честь Марысиных покойных родителей: Борис и Анна. Развитием их умов занимался дед Корней, старик-нищий, всю жизнь проживший на Хитровке, изучивший все ее закоулки и особенности, и по доброте душевной покровительствовавший не одному поколению «павших». Летом он носил ребятишек в лес в самодельном коробе с двумя отделениями и пускал играть в траве, пока сам собирал на продажу грибы и ягоды. Зимой возил на специально приспособленных саночках на паперть просить милостыню. Подавали старику с двумя одинаковыми, закутанными в платки, младенчиками очень охотно. А молодые купеческие дочери на жалостливую историю про смерть стариковой дочки и оставшихся после нее сироток-двойняшек, бывает, и сами слезу пускали. И все время старый Корней с ребятишками разговаривал – рассказывал Божий мир, как он сам объяснял. И оттого ли, или по другому какому случаю, дети и сами заговорили рано и складно – Анна сразу после года, Борис чуть попозже. Называли они друг друга и сами себя на детском языке – Атя и Ботя. И все их так звать стали.
И все бы хорошо, кабы не был дед Корней горьким пьяницей. Да где на Хитровке трезвенника отыщешь? Сашка, небось, последний был…
ДНЕВНИК ЛЮШИ
Мой дом – Синяя Птица. Она живет на холме и смотрит в небо. У птицы два больших бело-голубых крыла. Они распахнуты с юга на север и обнимают большой цветник, в котором вокруг фонтана купами растут пионы, резеда, гелиотропы и поддерживаемые фигурными решетками шапки душистого горошка. Еще у птицы есть спинка с полосатой от столбиков террасой, выпуклое брюшко с колоннами и башенка-головка с клювом-шпилем на ней. Лет до пяти я была ее глазами и не отделяла себя от дома-птицы. Я жила внутри нее, как в прозрачном яйце.
Теперь я – живущий отдельно птенец. Курица забывает своих цыплят, когда они вырастают, но дом – Синяя Птица меня помнит.
Странно, про крылья птицы говорят все: приготовьте гостям комнаты в южном крыле; поищи в чулане, в северном крыле… А когда я говорю про брюшко или головку дома-птицы, смеется даже нянюшка Пелагея. Но какая же разница?
Вместо лапок у птицы широкая полукруглая лестница. На ее ступенях удобно спать собакам – когда я выхожу утром, они похожи на разбежавшиеся разноцветные клубки шерсти из нянюшкиной корзинки. Увидев меня, собаки сразу вскакивают и бегут за мной к конюшне. Я раздаю им вкусности из кулька, который припасен с обеда и ужина. Псы смешно грызутся между собой и вертятся у меня под ногами. Когда я была меньше, большие собаки часто роняли меня, и я катилась вниз по ступенькам, набивая красивые синяки, которые потом по неделе меняли цвет и оттенки, прямо как закатное небо над полем. Теперь я легко могу приструнить собак криком или пинками. Феклуша говорит: «Барышня у нас как попрошайка с ярмарки – объедки в кулек собирает» и еще: «Собачья прынцесса».
К западу от дома-птицы – старый парк. С одной стороны его окаймляет речка Сазанка, с другой – Новая дорога, которая ведет в Торбеевку и дальше – в Калугу и Москву. Через парк от развилки с вазонами почти полверсты ведет гостя усадьбы – подъездная аллея. Ближе к дому она выстроена из старых лип, а на въезде – из сосен с розоватыми стволами. Самое любимое для меня место в парке – большой, тенистый, наполовину заросший ряской и кувшинками пруд с островком посередине и ажурной беседкой-пагодой на нем. С берега и с островка в пруд сходят мостки, а к мосткам привязана маленькая расписная лодочка. Нянюшка не разрешала мне на ней кататься, опасаясь, что я немедленно утону в пруду, а она ничего не сумеет сделать (Пелагея не умеет плавать). Но когда я стала кидаться в пруд прямо в одежде и в ботинках, добираться до островка вплавь и возвращаться домой вся мокрая и опутанная водорослями, отец распорядился выдавать Степке весла и разрешил нам пользоваться лодочкой.
К востоку от Синей Птицы вниз с холма расстилаются пашни, луга, перелески и лежащее в распадке озеро Удолье. К тому же над всем этим простором каждое утро еще и восходит солнце. Когда я была маленькой, я просто не могла всего этого вынести и начинала по-звериному выть от сочной избыточности этой величественной картины. «Пора вставать и за дело браться. Уж барышня на рассвет завыла,» – говорили слуги. В конце концов, по договоренности с отцом, нянюшка стала укладывать меня спать в северном крыле, в комнате, оба окна которой выходили в кусты сирени. После, днем, меня отправляли в мою светлицу наверх, и я там играла (если можно было так назвать мои обычные занятия) и уже с интересом смотрела в окно на расстилавшийся до горизонта вид. Держать меня все время на первом этаже в одном из крыльев было невозможно, так как уже лет трех я легко взбиралась на подоконник и выпрыгивала из окна наружу. Стекло в раме меня при этом не останавливало. Пару раз порезав руки и ноги, я научилась выбивать его подручными предметами. Высота же светлицы и довольно резко уходящий вниз восточный склон холма все-таки заставлял меня быть осторожной: я подолгу сидела на подоконнике, но никогда не пыталась спрыгнуть вниз.
Больше, чем сам дом, меня всегда интересовали принадлежащие усадьбе службы – конюшня, коровник, прачечная, каретный сарай с сеновалом, оранжереи, огороды. В домике садовника Филимона и на конюшне я проводила едва ли не больше времени, чем в господском доме. Бездетные Филимон и его жена Акулина вырезали для меня смешных лошадок из игральных карт, делали игрушечные яблоки и груши из папье-маше и с сочувственным умилением смотрели, как я все это ломаю. «Сиротка наша», – говорили они, а нянюшка Пелагея злобно фыркала у печи-голландки, в старом продавленном кресле, попивая чай с вареньем, который подносила ей Акулина, знатная огородница, выращивавшая отменные, всем на зависть спаржу и артишоки. «В самом Париже такого не едали», – признавались гости усадьбы. Акулине доносили лакеи, и она лучилась тихой, несуетной гордостью мастера. Только в самом начале жизни меня пытались ограничивать в этих прогулках. Потом поняли, что лошади, козы, коровы, собаки и птицы не представляют для меня никакой опасности. А я – для них. Когда я исчезала из дома, все его обитатели вздыхали с облегчением. Хотя и были обязаны отслеживать мое местопребывание.
– Любовь Николаевна где?
– В конюшне лошадям хвосты крутит.
– Куда барышня-то пробежала?
– На огород к Акулине – попастись…
За Сазанкой парк переходит в лес, который тоже принадлежит моему отцу – и владениям Синей Птицы. Там – овраг, Ключи, Старые Развалины и вообще сплошные чудеса. Все эти чудеса мне известны и мною же внесены в реестр. Ничто не забыто: ни большой муравейник на краю оврага, ни русалка из омута на Сазанке, ни старое гнездо цапель на ольхе, ни древний, расщепленный молнией, наполовину живой дуб, в почерневшем дупле которого живет такой же древний филин, ни болотный леший, ни знахарка Липа…
Однажды отец, будучи в хорошем (о чудо из чудес!) расположении духа, разрешил мне покрутиться на вращающемся кресле у себя в кабинете, потом вдруг остановил кресло, оперся на поручни по бокам, взглянул на меня сверху вниз и сказал: «Ты вот, Любовь Николаевна, ничего не понимаешь, и сказать не можешь, и запомнить, а между тем когда-нибудь Синие Ключи и все земли, что вокруг, будут принадлежать именно тебе. Удивительно это!»
Я тогда очень хорошо его поняла, все запомнила и с тех пор чувствую ответственность. Отсюда – реестр лесных чудес. Они – мои, и мне ли их не знать?
Глава 4,
В которой Люша и Марыся говорят о будущем и немного о прошлом, и продают собачку Феличиту.
Под нарами в тряпках – даже уютно. Деду Корнею солдатка-хозяйка дала в кредит полстакана сивухи – он и уснул. Атя с Ботей тоже, повозившись и поворковав над новой игрушкой, заснули, положив дареную куклу промеж собой. Насупротив других ночлежных детей, они вообще жили мирно – никогда не дрались ни из-за еды, ни из-за игрушек. Всегда делились. Это оттого, – говорил дед Корней, любивший пофилософствовать. – Что в утробе матери своей из общего корешка произросли и потому единая разделенная сущность езмь. Разве правая нога с левой поссориться может?
Люша с Марысей не спят. Люша в лицах рассказывает, как кидали бомбы, как рабочие печатали воззвания, как правили суд. Всплескивает руками, взбрыкивает ногами, мечется, круглит глаза, вцепляется руками в непролазную шевелюру. Марыся утишает подругу, чтоб не слишком шумела, но то и дело сама ахает и охает, закрывая рот ладошкой.
– Шпионов сразу к стенке и в расход! Хлоп и нету!
– А вдруг – ошибка?! – ахает Марыся. – Да и живая ж душа…
– Когда сходятся в решительной схватке класс эксплуататоров и класс эксплуатируемых – тут не до сантиментов! – с чужого голоса говорит Люша и добавляет от себя. – Так ведь и тех, рабочих, гвардейцы после постреляли – ужас сколько. Все по-честному.
– Люшка, а мы с тобой – какой же теперь класс?
– Ты, Марыська, – наемная работница, судомойка, самый что ни на есть пролетариат, – четко отвечает Люша. – А я – сирота-побродяжка, деклассированный элемент.
– Это почему это? – подозрительно спрашивает Марыся. В различных определениях их классовой принадлежности ей чуется какая-то обида.
– Феличита где? – не отвечая, спрашивает в свою очередь Люша.
– Бегает где-то. Третьего дня вроде видала, Ботька ее за хвост таскал, она его за палец кусила. Как ты уйдешь, так и она тоже пропадает. И чего ей с тебя? – с досадой добавила Марыся. – Кормлю-то ее я, да и у тебя особой к ней любви что-то незаметно…
– Я собачье слово знаю, – равнодушно ответила Люша. – У меня дома, в Синей Птице знаешь сколько псов было? Я их сама сосчитать не могла. И все Феличитке не чета – здоровые, мохнатые, зубастые… Значит так. Завтра с утра я побегу смотреть, как солдаты станут баррикады растаскивать. Может, из пушки еще стрельнут? Интересно. И разузнать, как там все – кто живой остался, кого убили и вообще. А на тот день – воскресенье… Пойдем на «Трубу» Феличиту продавать. Значит, сегодня вечером будем ее мыть. Как явится, привяжи ее и малым накажи, чтоб не отпускали. Мыло я у студента украла, а ты из трактира таз возьми и гребень приготовь…
– Вот еще – хорошее мыло на собаку тратить! – фыркнула Марыся. – Да я лучше завтра сама с ним в Сандуны схожу, меня ж студенты в корыте не купали! А для Феличитки у солдатки на копейку возьму.
– А вот и дура! – огрызнулась Люша. – Барыне в собачке что? – первым делом на руки и нос в шерсть суют. Им главное – чтоб пахло приятно! А чем она после солдаткиного мыла пахнуть будет, а? Если обмылок останется – тогда твое, а так – не обессудь.
Марыся тяжело вздохнула, признавая правоту подруги.
– А почему ты всегда дом свой Синей Птицей зовешь? Что за блажь?
– Отчего ж блажь? – удивилась Люша. – Испокон ведется. Дома людей, небось, не хужее. И жизнь у них часто длиннее человеческой. Как же без имени? Вот и у нас на Хитровке все дома по именам – дом Малкиеля, дом Шипова, и даже трактиры по именам – «Каторга», «Пересыльный».
– Так причина ж тому есть. Дома – как владельца зовут или звали. А «Каторга» – потому что, как с каторги бегут, так там и ошиваются. А у тебя чего?
– А у меня вот чего… – Люша вытянулась, закинула за голову руки (узкие локти треугольничками торчали вверх) и прикрыла глаза. – У нас главная гостиная, где балы давали, называлась «голубой зал» и была двухсветной. Нижние окна обычные, французские, в выходом на террасу, а в верхних окнах витражи в три цвета – голубой, синий и фиолетовый. По бокам-то все цветы, цветы и волны какие-то. А вот в центральном окне – синяя птица с распростертыми крыльями. Летит она над миром… полями, лесами, океанами…
– Красиво… – протянула Марыся. – Скучаешь за домом-то?
– Так нет же его больше. По чему скучать? По головешкам? Пустое дело…
– Обидно. Как отец помер, это ж твое было бы, если не врешь все, конечно. Богатая была бы. А теперь…
– Ничего, – сквозь зубы пробормотала Люша. – Я как в возраст войду, за все поквитаюсь. За нянюшкину смерть. И за свою здешнюю жизнь. Я ждать умею.
– С кем же квитаться? – удивилась Марыся. – Ты ж сказала: крестьяне усадьбу пожгли. Разве всей деревне мстить станешь?
– Деревня пускай. Отец их разозлил, плату за землю поднял, агитаторы с толку сбили, сеяться нечем, вот и пустили красного петуха… Это прошлое. Но нянюшку сожгли, и меня чуть-чуть не прикончили – это отдельный разговор, об отдельном человеке, и ему срока нету…
– Кто ж этот злыдень, что девчонке и старухе смерти пожелал? – ахнула Марыся. – И какая ему в вашей смерти выгода?
– Много будешь знать, состаришься скоро.
Помолчали.
– А я, Люшка, вот чего… – мечтательно сказала наконец Марыся. – Когда в силу войду, заведу свой трактир. Назову «У Марыси».
– Вона как… – Люша приподнялась на локте, попыталась в потемках заглянуть в лицо подруге. – А я полагала, тебе уж трактиры обрыдли… Думала, ты замуж пойдешь. За мещанина, или, если повезет, купеческого сынка окрутишь… А чего? Ты же, в отличие от меня, на лицо пригожая и фигура вся при тебе…
– Не, я свое дело хочу. Замуж – оно конечно, это я не прочь, если человек добрый найдется и руки не станет распускать. А все равно… Я уж все придумала, послушай, как оно будет: значит, по обеим сторонам печи с изразцами, чтоб зимой греться можно, и рядом длинные столы из сосновых обязательно досок (от них дух лучше идет) – это для черной публики, чтобы щец похлебать с хлебом, или пирожков там с требухой… А наверху такой как будто балкон и лестница туда ведет с красной дорожкой и с одной стороны половой стоит во всем белом, а с другой стороны – пальма… – Люша усмехнулась Марысиным прожектам, но ничего не сказала. Усмешка перешла в зевок. – Спереди – окна такие большие, как у Филиппова, может даже с витражами, как у тебя в доме, только чтобы не синь-синяя, а веселенькое что-нибудь – красное с зелененьким, к примеру. А там наверху столики на четверых, со скатертями чистыми в красную и белую клетку. А по бокам красные бархатные диваны, и фисгармония, или еще лучше – евреи чувствительно на скрипочках играют. Или певица – в парике, с пудрой и в длинном платье. И на каждом столике свечечка, а наверху – лампы, а по углам пальмы, и цветы живые цветут, а на стенах картины висят, и клетки с канарейками и ящики стеклянные, забыла как называется, а в них рыбы плавают, и еще всякие гады…
– Аквариум, – Люша снова зевнула. – Марыська, может тебе лучше сразу зверинец завести и оранжерею, а? Зачем тебе трактир?
– Ничего ты, дурочка, не понимаешь в мечтаниях честной девушки! – официально обиделась Марыся.
– А откель же мне в них понимать-то? – искренне удивилась Люша. – Если я честных девушек и не видала никогда… Давай лучше спать, Марыська, я ж, как рассветет, побегу уже…
* * *
Еще с Неглинного проезда несется собачий лай и птичий гомон.
Ружейные охотники, любители птиц и просто зеваки толкутся на Трубной площади, где по случаю воскресенья раскинулся рынок. На специальных подставках висят клетки – щеглы, канарейки, соловьи, скворцы, пеночки. Голуби всех пород – от обычных сизарей до изысканных, как японская хризантема, турманов. Справа в корзинах – индюки, гуси, утки и как упавшая на брусчатку радуга – петухи. В отдельном углу – рыболовные принадлежности, корм для птиц и рыб, лески и в специальных сосудах лягушки – предсказательницы погоды.
Люша и Марыся идут рядом, но словно незнакомы между собой. Марыся вся такая приличная – в цветном полушалке поверх пальто, в маленькой шапочке набекрень и в ботиночках на пуговках. Люша – типичный хитровский мальчишка-оборвыш. Кудри спрятаны под мятым картузом, озябшие руки – в дырявых карманах. В руках у Марыси корзинка, накрытая синей тряпицей. Из-под тряпицы выглядывает любопытная собачья мордочка – черный нос, розовые блестящие кудряшки, глаза тоже черные, сверкают любопытно и отважно. Это – Феличита, собачонка, подобранная девочками в сточной канаве на Грачевке – живая средь прочих уже захлебнувшихся новорожденных щенков. Выкармливали ее сначала молоком из пипетки, потом жеваным хлебом, потом – чем придется. Подросши, собачонка оказалась ушлая, самая настоящая оторва с Грачевки родом. Знала, когда промолчать и под лавку спрятаться, когда схватить и бежать, а когда и облаять и даже кусить неприятеля за икру. Шерсть имела тонкую и длинную, на груди и лапах белую, на спине палево-рыжую. Обычно ходила вся в репьях да в колтунах, ровно грязно-серого цвета. Когда же бывала отмыта, высушена в тепле и расчесана, превращалась в симпатичнейшего зверька с дивной волнистой шерстью, умными глазками и розовым язычком. Не собачка, а экзотический цветок. Именно в таком виде, с розовым бантом на шее ее и продавали по воскресеньям на Трубной площади.
Собачий рынок обширен. Возле сеттеров, лягашей, борзых и гончих – солидные члены богатых охотничьих обществ. Возле дворняг – домовладельцы с окраин, желающие недорого прикупить цепного пса для охраны. Отдельный ряд – дрожащие левретки, кривоногие таксы, человекообразные щенки бульдогов за пазухой у владельцев…
– Девочка, какой породы твоя собачка?
– Лиссабонская болонка, сударыня, – почтительно приседает перед купчихой Марыся. – Привезена с берега Атлантического океана, из страны Португалии.
– А чего ж продаешь такую редкость?
– Барыня моя стара и нездорова очень, уезжает за границу на воды, вернется ли – бог весть. С собой берет только любимицу Алисию. А прочих двенадцать – велела раздать. По большей части среди знакомых разошлись – в знатные дома. Эта вот самая молодая – Феличита. Последняя. Барыня разрешила мне ее продать, себе сластей купить, а остальные деньги в храм пожертвовать – чтоб за здравие ее молились.
– Покажи собачку-то – здорова ли?
Марыся вынимает Феличиту из корзинки. Собачонка лупится глазками, часто дышит, поджимает хвостик под розовое брюшко.
– Чтой-то худая больно…
– Так они все у барыни в еде разборчивые, абы что – не едят.
– А в комнатах не гадит? Ее же, красулечку такую, небось в спальне держать надо… А то у меня золовка купила таксу, так та ей все постели зассала…
– Да что вы! Ни боже мой! Чистоплотна пуще кошки. Можно и на двор не водить. Приучена гадить в специальный лоточек, куда надобно опилки сыпать. Но можно и гулять водить на шлеечке. Вон в том ряду, в конце возможно у тетеньки купить, а можно и самим смастерить. Только должна вас предупредить, мадам: Феличита грязи не любит, если мокро – ни за что не пойдет.
– Ишь ты, барыня какая! – ухмыляется купчиха. – А сколько ж хочешь за нее?
– Пять рублей.
– Ну это уж ты сказала! Не смеши публику! Да я себе за такую цену вон там сенбернара куплю!
– Мадам, если вам в спальне нужен сенбернар, а не лиссабонская болонка… – начинает торг Маруся.
Но тут в разговор вмешивается маленький мальчик в башлыке и хорошем пальто с бобриковым воротником.
– Мама, мама – купи мне эту собачку! – кричит он, таща за собой молодую женщину с худым лицом. – Ты обещала, если маленькая и породистая – купишь. Гляди, какая она красивая! Я буду ее дрессировать – помнишь, как мы в цирке видели. И гулять водить…
– Лучше по травке, молодой господин, – елейным голосом говорит Марыся. – Ведь самое для нее наилучшее развлечение – это ловить бабочек на цветущем лугу…
Люша поодаль не выдерживает и сгибается пополам от беззвучного хохота, хотя вся биография Феличиты от начала и до конца придумана ею самой. При том обе девочки хорошо знают: любимое развлечение безродной собачонки – воровать гнилую требуху с задов охотнорядских мясных лавок.
Женщина явно колеблется.
– Мы будем с ней вместе ловить бабочек на даче! – еще более воодушевляется мальчик. – А потом я буду насаживать их на булавку и сделаю себе коллекцию, как у Сережи!
Купчиха между тем взволновалась всем обширным телом, как пруд под ветром.
– Что ж ты, милая! – с упреком обращается она к Марысе. – Мы ж с тобой еще не поговорили толком, а ты уж и мальчонке готова отдать. Не по совести это…
– Мама, купи собачку! Скорее купи! Давай пять рублей!
– Мадам, я все помню, – с достоинством отвечает Марыся. – Вы первая подошли, но я решила, что вам цена не подходит. А коли теперь согласны – так ваше право.
– Ма-ама! Соба-ачку! Мне-е!
Купчиха, морщась от вопля мальчишки, достает кошель, отсчитывает пять целковых.
Маруся прячет деньги за пазуху, передает купчихе корзинку с Феличитой, предварительно сняв с собачонки розовый бант:
– Хоть это мне на память останется… – сокрушенно вздыхает она. – Такая уж ласковая собачка… Себе бы взяла, да не по чину нам…
– Ма-ама-а! – вопит мальчишка и бешено пинает ногами сугроб, подвернувшуюся коробку, подол матери.
– Может быть, я дам пять с полтиной? – наконец решается женщина.
– Торг закончен, – строго говорит Маруся и целует собачку в черный нос. – Прощай, Феличита.
– Погоди, погоди, девочка! – окликает купчиха. – Как порода-то зовется? Хозяину сказать…
– Лиссабонская болонка, – скороговоркой повторяет Марыся. – Страна – Португалия.
– Лиссабомская… Потругалия… – бормочет купчиха, удаляясь вместе с мальчиком, который несет ее покупки.
Феличиту она несет сама, прижимая корзинку к груди. Люша, сунув руки в карманы, идет следом за ними. Мальчишка падает на истоптанный снег и верещит, как будто его режут. У женщины измученное лицо. Известный всему Трубному рынку собачий вор Павка тут же предлагает ей купить у него лохматого кривоногого ублюдка, который ровно тоже самое, что у той барышни – лисбамонская болонка, только изволите ли видеть – кобелек-с…
* * *
– В Замоскворечье она живет, – тем же вечером докладывает Люша Марысе. – Возле Немецкого рынка. Собственный дом с садом, в доме – часы с боем и икон – видимо-невидимо…
– Все-то ты разглядела! – усмехается Марыся. – Что ж Феличитка?
– Да пусть поживет у купчихи денек-другой, поест сладко, поспит на подушечке шелковой… Знаем, где она, и ладно. А чего ты мальчишке-то не продала? Они больше давали, да и с квартиры сманить-сбежать легче, чем с купеческого-то двора…
– Да ты представь: если б ты ее сразу не сманила, этот противный мальчишка нашу Феличитку и за день так бы затискал-задергал, что – жизнь не мила… Пожалела я ее…
– Да ладно! – усмехнулась Люша. – Будто Атька с Ботькой ее за уши, за хвост не тягают…
– То – другое дело, – непонятно отговорилась Марыся. – Да и недосуг мне было дальше торговать – и так в трактире ругались, что надолго отлучилась… Вот, гляди лучше, какую я Ботьке шапчонку купила… и деду Корнею кацавейку… И то хорошо, что ходить никуда не надо – нашему портняжке как раз сегодня Семен-Кочерга отдал краденое перелицевать, я и выбрала…
– Деньги отдала?
– Два рубля за все. По-божески. Еще Атьке юбчонка из отрезанного края и мне косынка.
– Зря отдала. Для меня Гришка с Семеном договорился бы за так. Не могла подождать…
– А я знала?.. Люш… А чего у тебя с Гришкой-то? Я понять не могу: вроде ты его маруха, он так говорит, да и ты… а вот ночуешь-то ты завсегда здесь, с нами… когда по баррикадам и иным местам не скачешь, конечно… Как оно?
– Не твое это, Марыська, дело! – отрезала Люша. – О себе думай. А мы с Гришкой Черным как-нибудь сами разберемся.
– Оно-то конечно да… – неопределенно проворчала Марыся. Видно было, что ее любопытство отнюдь не угасло.
* * *
Спустя пару-тройку дней покруглевшая Феличита в шелковой шлейке и с огрызком поводка была уже дома, в ночлежке на Хитровке, облизывала соскучившиеся мордочки Ати и Боти, подставляла розовое, но уже заляпанное грязью брюхо деду Корнею, ластилась к Люше и привычно выпрашивала у Марыси трактирные объедки. Подождав для верности пару недель, ее можно было мыть, привязывать все тот же розовый бант (в промежутках между продажей собачки его в очередь носили Атя и Марыся) и продавать снова – доход для девочек нечастый, но верный.
Глава 5,
В которой читатель знакомится с новыми героями – Доном Педро, профессором Рождественским и его учениками – Аркадием Арабажиным и Адамом Кауфманом.
Москва, Московский университет, февраль, 1906 год
– Что ж профессор? Он, конечно, узнал о твоих планах? Ругался? Громыхал, обвинял в предательстве? Адам? – изрядно коренастый молодой человек подписал восковым карандашом последнюю пробирку, аккуратно поставил ее на штатив и с живым любопытством взглянул на друга.
Невысокий худой человек с узкой бородкой и умным лицом молодого Мефистофеля отрицательно покачал головой, уселся к лабораторному столу на высокий стул и зажег спиртовку.
– Скорее грустил. Обвинял меня в отходе от московских традиций. Решив посвятить себя психиатрии и отъехать в Петербург, я должен был раньше посыла научных материалов петербургским коллегам прийти к нему на квартиру и где-то между вторым и третьим самоваром покаянно признаться в изменнических намерениях…
– Что ж, где-то так я тебе и советовал. Еще?
– Еще Юрий Данилович широкими мазками рисовал твое будущее как руководителя борьбы с холерными эпидемиями в масштабах империи. Он в тебя верит!
– Звучит вдохновляюще… А ты?
– Я, естественно, приседал и кланялся, как Петрушка из уличного театрика.
– Смешно. Но я понимаю старика, Адам.
– Ты, Аркаша, всегда лучше понимал людей. И больше обращал на них внимание. Поэтому тебя, в отличие от меня, тянет к общественной деятельности.
– Но любимым учеником Рождественского всегда был ты. Аркадий Арабажин – скрупулезный экспериментатор и честный клиницист. Адам Кауфман – исследователь, талант и надежда науки.
Адам поспешно отвел глаза и даже просыпал чуть-чуть белого порошка мимо горлышка пузатой колбы. Аркадий понял, что угадал аттестацию, данную профессором, едва ли не дословно.
– Юрий Данилович никогда ничего такого…
– Брось, Адам! Я ни к кому не в претензии и отнюдь не собираюсь посыпать голову пеплом по поводу своей бездарности.
– Ты совершенно прав. У науки нет лишних служителей, и лишь будущее всех рассудит… Я сказал профессору, что ты хотел поговорить с ним. Юрий Данилович ждет тебя прямо сейчас. Это насчет твоей статьи? Ты сумел-таки проиллюстрировать препаратами исход некроза?
– Статья – повод. Как ни странно, у меня к Рождественскому частный вопрос.
– А… Тогда ладно, – Адам отвернулся и склонился над бинокуляром. Частные вопросы, не касающиеся науки, его не интересовали.
В темноватом кабинете почти все место занимают тяжелые и угрожающе-теснящиеся шкафы с книгами, журналами записей и планшетами, в которых хранились препараты для микроскопии. Свет – от лампы с каменным основанием и стеклянным зеленым абажуром. В кругу света – наполовину исписанный бисерным почерком лист бумаги. В углу с изысканным видом столичного денди стоит человеческий скелет. Аркадий привычно пожал плечами, встретившись с ним взглядом.
– Вот ведь – достался от предшественника вместе с кабинетом, – усмехнулся Юрий Данилович. – Сразу подумал: какая пошлость, убрать немедленно! А потом как-то между прочим не случилось, задержалось, а я уж и привык к нему, на исходе второго года стал, как и прочие, звать его Дон Педро, беседовать с ним по вечерам… Аркадий Андреевич, вы знали о намерениях Кауфмана?
– Да, конечно, – кивнул Аркадий. – Я даже помогал ему оформлять результаты исследований по позднему сифилитическому психозу.
– Я не понимаю. Сифилис и алкоголизм – это же в основе своей не медицинские, а социальные проблемы, и вы оба знаете это не хуже меня… Адам же одарен штучно, именно как исследователь, первопроходец! Он видит уходящие в будущее пути науки, которые скрыты от обычных смертных. Что ему делать в психиатрии?!
– Простите, Юрий Данилович, – с едва заметным отчуждением сказал Аркадий. – Но мне кажется, что нынешнее положение и перспективы развития российской психиатрии вам лучше обсудить с самим Адамом.
– Да, разумеется, – Юрий Данилович качнул тяжелой головой. – Простите и вы меня, Аркадий Андреевич. Я понимаю великолепно, что оперившиеся птенцы всегда вылетают из гнезда, но… Когда-то вы оба запросто, не чинясь, приходили ко мне домой, задавали вопросы, рассказывали об успехах и поражениях, а теперь я узнаю обо всем последним, практически случайно…
– Юрий Данилович, поверьте, Адам вовсе не хотел…
– Ах, оставим, Аркадий Андреевич, оставим Кауфмана и его дела, в конце концов, вы-то остаетесь в Москве… Я просмотрел ваши материалы, и согласен с тем, что нужна еще серия препаратов.
Аркадий кивнул и вписал пару строк в черную тетрадь, ниже аккуратно разграфленной и наполовину заполненной таблицы. Потом глянул нерешительно-ожидающе. Юрий Данилович тут же изобразил вопрос всем своим крупным, в породистых складках лицом.
– Профессор, вы, помнится, как-то говорили, что прежде бывали в имении Синие Ключи, Калужской губернии…
– Бывал, как же, бывал, – Юрий Данилович видимо оживился. – А что, Аркадий Андреевич, вы тоже с кем-то из тамошних были знакомы? Или из соседей?
– Так… случалось пару раз в гостях… – почти незаметно отведя обычно прямой взгляд, ответствовал Арабажин. – Там… что же теперь?
– Синих Ключей больше нет, дорогой Аркадий Андреевич, – профессор тяжело вздохнул, не решился на сильно звучащие слова и ощутил потребность в каком-то моторном выражении чувства. Хрустнул длинными пальцами и отпил остывший чай из стакана в серебряном подстаканнике.
– Но как…
– А вот так. Еще в 1902 году усадьбу сожгли дотла. Хозяина, моего старинного друга Николая Осоргина, убили, а его малолетняя дочь погибла в огне. Вместе с нянькой и воспитательницей.
– Почему все это произошло?
– Вы спрашиваете, Аркадий Андреевич? – горько усмехнулся Юрий Данилович. – Неужели вы думаете, что у меня есть для вас готовый ответ? Разумеется, был какой-то в меру дурацкий повод…
– Но причина?..
– Причина для подобного зверства всегда, во все времена одна и та же! – не скрывая раздражения и даже повысив голос, сказал Юрий Данилович. – Странно, что вы, естественник по образованию и устройству души, меня об этом спрашиваете. Особенно сегодня, сейчас, когда в Москве довольно на улицу глянуть или хоть с кем в разговор вступить…
– То есть вы полагаете, что любое движение масс имеет в своей основе природу биологическую? – насупился в свою очередь Арабажин. – Отрицаете само существование законов экономических, их роль в жизни общества?
– Увольте, увольте! – Юрий Данилович, наморщившись, помахал рукой, едва не сбив со стола пустой стакан. – Не обижайтесь только. Никак не виню, понимаю вполне, сам тридцать лет назад ту же коровью жвачку жевал вместе с товарищами с удовольствием немалым. Нынче – стар. Кто мыслит экономически – исполать тому. Кстати сказать… Для меня, учтите, – гордость и счастье, что никто из моих учеников не участвовал в недавнем смертоубийственном безобразии. Стало быть, я сумел-таки внушить, что благородное дело служения науке и медицине лежит вдалеке от злобных нападок слабоумного классово-коммунистического призрака…
Аркадий вздохнул коротко и несогласно, со всхлипом. Юрий Данилович, уже сожалея о своей вспышке, притушил острый взгляд, спрятал лицо, как в плащ, в избыточную лишь на первый взгляд кожу.
– Из доступных ядерных красителей я бы рекомендовал вам гематоксилин, коллега, – обычным тоном сказал он.
– Спасибо, профессор. Позвольте теперь откланяться.
– Разумеется, не смею задерживать. Был рад…
– Благодарю… – и уже на пороге, через широкое, надежное плечо. – Юрий Данилович, а есть ли уверенность, что все Осоргины действительно погибли в огне этого пожара?
Профессор удивленно повел кустистой бровью.
– К сожалению, да, коллега. В живых остался воспитанник Николая Павловича, родственник его первой, тоже уже покойной жены. Он же единственный наследник. А разве у вас другие сведения?
– Да нет, откуда, просто отчего-то вдруг захотелось уточнить. А как звали дочь Николая Павловича?
– Любовь, как же иначе, – ностальгически и непонятно вздохнул Юрий Данилович. – Ее звали Любовь… Бедная девочка, ей решительно не повезло в жизни с самого начала… и до самого конца.
* * *
Аркадий Андреевич остановился у входа в лабораторию и длинно вздрогнул головой и плечами, как делают крупные собаки, выходя из воды.
«Счастлив и горд, что никто не принял участие…»
«Профессор, профессор, если б вы только знали…» – лирически подумал он и вспомнил, как в октябре 1905‑го Адам, с отчужденным по обыкновению лицом выносил из университетской типографии пачки только что отпечатанных листовок.
Глава 6,
в которой Люша встречается со старой цыганкой, марушник Ноздря объясняет свое отношение к революции, а фартовый Гришка Черный подумывает об убийстве.
ДНЕВНИК ЛЮШИ
В поле за Черемошней, на краю перелеска встал табор цыган-кэлдэраров. Их мужчины лудили кастрюли и котлы. Женщины гадали, соблюдали хозяйство. Я узнала о цыганах от Степки, но еще раньше поняла, что происходит что-то интересное. Отец велел Пелагее «глаз с меня не спускать», Голубку отправили пастись в загон на дальнее пастбище. Настя под моим окном сказала Феклуше, вытрясавшей половики:
– Говорят, цыгане детей воруют. Ну так и украли бы нашу-то беду. Свое-то отродье забрать – сам цыганский бог велел.
Я уже знала, что в усадьбе действует закон: самое интересное от меня следует прятать. Например, когда в пастуха ударила молния, и он стал как обгорелая головешка – интересно же взглянуть! Но как бы не так! Сами, небось, все сбегали посмотреть, потом целый вечер в кухне болтали… Или когда у коровы Ромашки родился теленок с двумя головами – говорят, что прежде, чем он сдох, обе головы могли даже мычать! Но мне его, конечно, тоже не показали. И когда молодая крестьянка из Черемошни попала в молотилку, ей раздробило обе ноги, и ее принесли в дом, куда и доктор из Калуги приезжал – меня просто в комнате наверху заперли… Она выжила, кстати, только осталась без ног – обидно, конечно, замуж уже, скорее всего, не выйдет и вообще беда. Я ходила потом ее навещать в нижней комнате, принесла ей снежные кружева, которые нянюшка плетет, чтобы показать, чем ей теперь на жизнь зарабатывать можно, два рубля из своей копилки, и самые крупные цветы из нашей оранжереи – просто для красоты. Попросила посмотреть культяпки – интересно же! – но они все были забинтованы, и ничего не видно. Я пожалела: раньше, конечно, надо было смотреть, до приезда врача. С ней ее мать была, она деньги взяла, и они обе на меня так смотрели, как будто я – Ромашкин теленок. С двумя головами – и обе мычат. Но я не удивилась, потому что привыкла.
На следующий день с утра отец спешно услал Степку вместе с кучером и с каким-то делом в Торбеевку. Вернуться они должны были только через два дня. И я поняла, что если хочу увидеть взаправдашних цыган, то надо самой для себя постараться. Когда нянюшка прикорнула после чая, я оделась в Степкины старые штаны и рубаху (они у меня хранились под матрацем как раз на такой случай), вылезла через окно на крышу, проползла на брюхе по широкому карнизу до конца крыла, привязала к водостоку разорванную и скрученную простыню (я вполне могла бы и спрыгнуть, но с простыней мне показалось интересней – так всегда делали узники в романах) и благополучно спустилась по ней в куст сирени.
До дальнего загона я бежала бегом, напрямик через огород и ярко желтеющее поле с люцерной. Знала: как только меня хватятся, отрядят кого-то к Голубке, надеясь там-то меня и словить.
Но все обошлось. Голубка мне обрадовалась, съела сахар и вполне приняла за повод все ту же скрученную-связанную простыню, которая была намотана у меня вместо пояса. И мы поскакали к Черемошне по старой дороге.
Я изо всех сил вытягивала шею и уже видела поставленные кру́гом, возле развилки дорог кибитки. И палатки, и цыганок, хлопочущих возле костра, над которым висел большой закопченный котел, и играющих в траве детей. И распряженных, пасущихся на лугу возле перелеска коней с длинными гривами, в которые вплетены яркие ленты…
Голубка, заметив сородичей, приветственно заржала. И тут ее повелительным жестом остановила старая цыганка, идущая по дороге нам навстречу вместе с двумя цыганятами. Старший был одет в какие-то невообразимые лохмотья, а младший – вообще голый, с круглым животиком и вывороченным наружу пупом. Удивительно – моя Голубка, никого, кроме меня, не слушающаяся, встала как вкопанная, только пыль фонтанчиками взлетела и хвост взвился флагом.
Цыганка была очень старая и темноликая, а глубокие морщины на ее лице были как будто проведены чернильным карандашом. При этом – одета в яркие юбки, на шее – несколько ниток крупных бус, а в оттянутых ушах висели большие золотые кольца. Странно, я никогда до того не видела цыган, но что-то в них показалось мне знакомым.
– Ту ром сан? – хрипло спросила цыганка.
– Нет, я Люба, – ответила я прежде, чем поняла, что обращаются ко мне не по-русски.
Цыганка разразилась непонятной руганью. Я огорчилась – даже незнакомые со мной, очень далекие от усадебных гостей люди сразу же мною недовольны. Видно для людей во мне и вправду все не так. С пяток до макушки. Не то – для собак, лошадей, птиц, леса и ветра. Их во мне все устраивает… Почему так получилось?
Видя, что я ее совсем не понимаю, цыганка перешла на неправильный, но все же понятный русский язык.
– Зачем оделась в мужской одежда? Зачем села на лошади? Стыда не знаешь. Девушка не должен ездить верхом. Никогда не должен. Цыганский закон.
– А что мне до цыганского закона? – удивилась я. – Я же не цыганка.
– Зеркало гляди! Кто твой отец?
– Николай Павлович Осоргин, – ответила я. – Хозяин Синих Ключей.
– А мать?
– Она умерла.
– То-то. Зеркало гляди, – уже без злобы повторила старая цыганка. – И думай – где твой закон? Йав джидо!
– Йав джидо, бабушка! – повторила я, легко догадавшись, что это было что-то вроде русского «будь здорова!»
Старая цыганка блеснула глазами и пошла дальше – по своим делам. Младший цыганенок остался стоять – сунул в рот грязный пальчик и глядел на меня. Я достала из кармана большой пятак и сунула ему. Он осмотрел его с двух сторон и тут же прикусил большим белым зубом. Старший вернулся, отобрал пятак и отвесил брату легкий подзатыльник. Тогда малыш пришел в себя и побежал за старшими, пыля пятками.
Мы с Голубкой спустились в овраг и долго ехали прямо по руслу ручья медленным шагом, задевая растущие в овраге кусты и ветки склонившихся над ручьем ив. Солнце стояло почти в зените. Мелкие рыбки убегали с маленьких, прогретых дрожащим солнечным золотом отмелей, прятались в траве и под камушками. Голубка – единственная известная мне лошадь, которая пытается ловить рыбу. Бьет копытом и иногда даже пытается ухватить пастью. Мне кажется, она так играет. Обычно я подначиваю ее, но в тот день мне было не до лошадиных игр. Прямо по ручью мы въехали в лес. Недалеко от того места, где ручей вытекает из леса, на склоне оврага как ступеньки лежат две каменные плиты и три почти круглых камня. Непонятно, как они сюда попали – нигде в округе ничего подобного нет. Высоко над головой смыкают кроны старые деревья с поросшими лишайником и увитыми вьюнком стволами, внизу раскрытыми веерами растут огромные, темно-зеленые, почти в мой рост папоротники. А между плитами, из-под разноцветных камней (один – почти чисто белый, один – розоватый и последний – глянцево-черный) бьют те самые Синие Ключи, которые дали название усадьбе. Всего их пять, один – самый большой – обложен кирпичами и возле него сделана потемневшая от времени, поросшая нежным, изумрудно-зеленым мхом скамеечка. На ней стоит старая и помятая оловянная кружка. Вода в Синих Ключах действительно голубоватая, с едва заметным кисловатым привкусом. Даже лютой зимой самый большой ключ (деревенские называют его Дедушкой) никогда не замерзает. Синяя вода в нем тогда как будто бы кипит, вокруг сверкающее ожерелье из голубовато-лиловых сосулек, а дальше – пушистая, белая-пребелая шуба. А наверху – купол собора из переплетенных, уснувших на зиму и засыпанных снегом ветвей. Тихо, только иногда где-то глубоко подо льдом сонно взбулькивает овражный ручей… Я люблю приходить сюда в любое время года. Это мое место. Синие Ключи принадлежат мне. А я – им. Это странно, если произнести вслух, но тем не менее это – правда.
Я сижу на скамейке и маленькими глотками пью холодную воду из кружки. Голубка уже взобралась наверх и ходит по краю оврага, ощипывая черемуховые кусты. Я слышу ее шаги, треск веток и громкое фырканье, которым она выражает свое неудовольствие моим бездействием. Сама Голубка любит только действие – скакать, любить, купаться, драться, ненавидеть. Если пустить ее спокойно пастись на лугу, довольно быстро глаза у нее становятся мутными от злости.
Самый мой любимый ключ – самый маленький. Он похож на хрустальную шапочку, которая постоянно меняет форму. Раньше я была совершенно уверена, что под шапочкой прячется крохотный гномик и если не смотреть, а потом быстро повернуться, то можно увидеть, как он любопытно выглядывает из воды – его черные глазки и круглую бородку. Я так хорошо себе это представляла, что даже Степка мне ненадолго поверил, и вместе со мной прятался в кустах и пытался увидеть, как вылезает гномик.
Я глажу ключик пальцем и он ласкается ко мне, как прозрачная лягушечка. Песчинки на дне танцуют свой вечный танец. Я учусь танцевать у песчинок… Но не сейчас.
Наверху есть тропинка, по которой можно выйти на Новую дорогу. По дороге я пускаю Голубку рысью. Она поднимается в галоп и едва не сбрасывает меня в поросшую чертополохом обочину. Я не виню ее – она все поняла правильно и решила за меня.
Во дворе конюшни я сама выхаживаю ее и сама протираю сеном – никому другому она сейчас не дастся. Потом прямо как есть – в лошадиной пене, в сенной трухе, в Степкиных штанах и рубахе прохожу в правое крыло, в кабинет к отцу и спрашиваю:
– Моя мама была цыганкой? Я – тоже цыганка? Мне следует жить по их закону? Кто научит меня? Или я уже живу по нему – по зову крови?
Глаза отца – как самый большой из Синих Ключей.
– Ты бредишь, как всегда, – говорит он. – Если бы в наших краях кочевали зулусы, ты вообразила бы себя негритянкой? Волосы, во всяком случае, у тебя похожи… А сейчас выйди, вымойся, переоденься и вели Пелагее причесать тебя. Когда приобретешь достойный вид, постучись и снова войди. Если хочешь, мы поговорим.
Я выхожу и даже не хлопаю дверью. Отец растерян – мне его жаль.
– Нянюшка, цыганское отродье – это я? – спрашиваю я наверху у Пелагеи.
– Господь с тобой, деточка! – восклицает нянюшка, бледнеет и крестит меня чуть дрожащей рукой. – Кто тебе такую гадость сказал?! Язык оторвать…
– Не надо, нянюшка, – возражаю я. – Это была старая женщина с золотыми серьгами. Она не хотела ничего дурного.
Я иду в гардеробную, достаю из картонки шелковый платок, повязываю его на голову так, как у старой цыганки. Потом заматываю юбки и пояс из разноцветных шалей. Набрасываю на плечи еще один платок. Подхожу к зеркалу и смотрюсь в него. Из зеркала на меня смотрит бабочка – моя мать. Но вместо глаз у нее льдистые, зимние, Синие Ключи – глаза моего отца.
Пелагея, потащившаяся в гардеробную следом за мной, что-то сокрушенно бормочет.
Разговаривать с отцом я, конечно, не стала.
А через день пришел плотник и вставил в окна решетки – в моей комнате и в комнате нянюшки.
* * *
– Я – против революции! – твердо сказал марушник Ноздря, прибывший из Житомира прямиком в трактир Каторга, допил водку из мутного стакана, закусил соленым огурцом и вытер выступившую из длинного носа соплю рукавом полосатого пиджака.
– Отчего ж так? – спросил кто-то из воров, пировавших за длинным, липким от пролитого на него пойла столом. – Чем тебе революция не угодила? Нашему брату, суть понимаю, в мутной воде завсегда сподручнее рыбку ловить…
– Так-то оно так. Но – невозможно ж глядеть, когда через нее, проклятую, человек до последней степени озверения доходит.
– Ты, Ноздря, д-докажи! – с трудом подняв седую голову от стола, сказал хитровский ветеран, бывший студент, в восьмидесятых годах прошлого века отбывавший сибирскую каторгу по политическому делу. Во время недавних московских боев он твердо вознамерился идти на баррикады и как встарь бороться за народное дело, но не дошел, свалившись возле ближайшего шланбоя. Был избит и ограблен. Вернулся с перевязанной головой и путано врал о своих революционных подвигах.
– Да вот хоть последнее дело взять… – пожал плечами Ноздря. – Я понимаю еще, жидов бить и лавки ихние громить. Это у нас, можно сказать, с девятьсот третьего года обыкновенное дело…
– Да, конечно, жидов обязательно бить надо! Как же без этого?! – откликнулся из угла портной Фимка Бронштейн, лучший на Хитровке специалист по перелицовке дорогих краденных шуб.
– Ну вот и я говорю… – поддакнул Фимке Ноздря. – А тут уж – форменное безобразие. Судите сами. Настоящих революционеров у нас в Житомире не так, чтобы уж очень много… Но вот порешили эсеры и социал-демократы демонстрацию провести – в солидарность там с чем-то. Мы с ребятками конечно – тут как тут, где еще марушнику поживиться, как не на митингах-демонстрациях, когда люди в запале сами себя не помнят, не то что о кармане своем… Ну вот… Эти, значит, идут, кричат там, песни свои поют, лозунги несут: «Долой самодержавие!» и всякое такое, мы, значит, с ребятками работаем спокойно, а тут – насупротив тех – погромщики идут, раза в четыре больше: Долой иноверцев-интелихентов! А какие ж там иноверцы, если большая часть – гимназисты да курсистки, а то и вовсе случайные люди! Завязалась тут, конечно, потасовка. Эти тех, конечно, бьют, у них палки, да колья, полиция как вымерла вся, так те в управу забежали, закрылись там и, конечно, – сразу митинг. А эти – чтоб вы думали? – подожгли управу-то!
– Ох ты, черт! – ахнул кто-то.
– А как эти, демонстранты-то, стали выбегать, они их в колья! Девицы, мальчишки – им все одно! Управа полыхает, пожарников к ней погромщики не пускают, люди как снопы валятся, кровища льется… Ну уж этого безобразия моя душа не стерпела…
– И что ж ты сделал-то, Ноздря? – спросил внимательно слушавший житомирца Гришка Черный. – Неужто погромщиков усовестил?!
– Да ты что, Гриша! Мне еще белый свет не надоел… Побежали мы с ребятками да назади фасада окошко выломали, лестничку поставили. И поделились: одни революционера потихонечку вниз спускают, другие раздевают его да от кошеля-часиков-шубки-сюртучка-штиблетов освобождают (чем мы хуже эсеров с их экспроприациями – примерьте-ка, дамы и господа, на свою шкурку!), третьи переулочками в безопасное место выводят, ну а четвертые слам (награбленное, жарг. – прим. авт.) уносят… Человек тридцать таким вот макаром от погромщиков спасли!
– Ловко! – рассмеялся Гришка. – Так ведь это выходит, Ноздря, что тебе от революции один прибыток.
– Нет, не выходит! – строго возразил вор. – Я – честный марушник, мне убивство, и вообще всяческое возмущение претит. Я хочу жить спокойно, без бунтов. А для дела мне и праздников довольно.
(описанный случай с грабителями, спасавшими жертв погрома, не выдуман автором, а действительно произошел в Томске в 1905 году – прим. авт.)
– Гляди-ко – идейный! Видал-миндал?! – рассмеялся кто-то.
Люша вошла в трактир через кухню, где перекинулась словом с Марысей, выбралась в низкий зал, стянула картуз, огляделась, и, перелезая через лавки, пошла к Гришке.
– Люшенька! Девочка моя! – тоже заметив ее, позвал Гришка через головы собравшихся. – Иди сюда, водки с нами выпей! Ноздря сегодня гуляет…
– Дело у него выгорело? – деловито спросила Люша, усаживаясь Гришке на колени.
– Революционеров экспроприировал, – усмехнулся Гришка, обнимая девушку и пальцем перебирая ее тугие кудри.
– Играть сегодня в «Ад» пойдешь? – тихо спросила Люша.
– Как карта ляжет. А чего ты хотела?
– Надобно мне с тобой коротким словом перемолвиться. Чтоб чужих ушей при том не было. Отойдем?
Гришка тяжело выбрался из-за стола, шатаясь, пошел за Люшей в угол, под низкое окно, где оба присели на грязный ларь.
– Гриша, слухи про тебя идут. Про нас с тобой, если точнее сказать.
– Об чем же это? – насупился Гришка. – И кто распускает?
– Что, мол, если я маруха твоя, чего ж мы никогда не вместе – в ночлежке-то меня каждый видеть может. Люди говорят. Всем рты не заткнешь…
– Свечку, что ли, держали, мерзавцы?.. Ну… И чего ж ты хочешь теперь? Меня не обманешь, не-ет! – Гришка погрозил Люше пальцем. – Я ж вижу – ты уж чего-нито придумала…
– Свечку они, конечно, не держали, но… Надо тебе, Гриша, точнее показать, что мы с тобой…
– Как же оно? Платье тебе, что ли, напоказ подарить? Бусы? Говори!
– Гриш! Ну зачем мне зимой платье и бусы – сам подумай!
– Шубу?
– Пальтишко неплохо было бы… – вздохнула Люша. – И муфточку с мехом. Но я вот чего подумала… А что, если ты при деньгах сейчас, тебе в «Ад» пока не ходить, а нам с тобой съездить напоказ погулять куда-нибудь…
– Погулять напоказ? – тупо осклабился Гришка Черный. – Это как? А здесь, в «Каторге», тебе чем не гульба? То, что тебе водка не по нраву? Так я сейчас вина закажу…
– Нет, Гришенька, тут надо шикарно подойти. Чтоб все только о том и говорили…
Гришка тяжело уронил в руки лохматую голову, потом поднял на Люшу мятое лицо и сказал:
– Устал я, Люшка. Голова гудит. А у тебя умишко уже бабский, по иному – изворотливый. Ты мне обскажи завтра конкретно, как все сделать, а я уж решу…
– Договорились, Гришенька! – Люша быстро поцеловала вора и поднялась. – Я ж – ты знаешь – и вправду тебя люблю. И всегда твой интерес блюду. Но и себя, девушку, тоже забывать грех… – подмигнула лукаво. Гришка достал из кармана бумажник, вынул из него ассигнацию.
– Возьми вот на муфточку, – усмехнулся он. – А после и пальтишко справим. Чего шаль-то мою не носишь? Я ее, кажись, намедни на судомойке здешней видал…
– Спасибо за денежку, Гришенька, – Люба сверху обхватила чернявую голову, потерлась щекой. – А шаль твоя отменная, да к образу моему не подходит. Марыське боле к лицу.
– К образу?!.. Ох, Люшка, отметелить бы тебя разок как следует!
– А ты попробуй, Гришенька, попробуй… – Люша широко улыбнулась, показав разом много мелких ровных зубов.
Гришка покачал гудящей от долгой попойки головой и неожиданно понял, что хлипкая пятнадцатилетняя девчонка крепко держит его в своих маленьких ручках.
«Разве позвать ее на Грачевку гулять, пырнуть ножом и под решетку, в Неглинку? – подумал Гришка. – А после чего? Кто заместо нее? Ладно, пусть уж остается покуда как есть… Чего это она еще там выдумала… шикарное…» – слабо шевельнулось любопытство, тут же смытое поднимающейся изнутри тошнотой. Следовало срочно выпить. Полстакана водки все лечит.
Люша между тем снова вошла в кухню. Едва видная в душных парах Марыся ополаскивала в тазу мутные стаканы.
– Иди, Люшка, отсель! – прикрикнула старшая кухарка. – Некогда ей с тобой базарить. Вот сейчас обеих половником по плечам охажу!
– Ухожу, уже ушла, – пропела Люша и, проходя мимо Марыси, шепнула. – Готовься, Марыська, скоро поедем в настоящий ресторан, чтоб ты могла все до копеечки рассмотреть, как у тебя в заведении после будет. Только ты мне за то все платье вычистишь и чулки зашьешь!
Глава 7,
в которой читатель знакомится с семьей отца Даниила и лесником Мартыном, Филипп рассказывает о встрече с невестой, а Люша начинает свое расследование усадебных тайн.
ДНЕВНИК ЛЮШИ.
Обыкновенно, будучи чем-нибудь затронутой, я предпочитаю действовать немедля и изо всех сил, которые в данный момент могут быть мною мобилизованы. Моя атака на людей, пространство и обстоятельства бывает столь сокрушительной и недальновидной, что часто захлебывается сама в себе, не достигая никаких целей, кроме неспецифического выплеска возбужденной энергии. Считается, что в этом выплеске я не могу себя контролировать. Не помню отчетливо, как было прежде, но сейчас это давно неправда – в моей натуре мне уже многое подвластно. Поэтому в данном случае, ввиду важности затронутого вопроса, я решаю не торопиться и выработать подробный план действий. Я понимаю, что нащупала путь, следуя которому смогу разрешить если не все, то большинство загадок окружающего меня мира.
Первый пункт моего плана – это Светлана, сестра Степки. Она кормит младенца на ступенях крыльца и, зная, что мне интересно, совсем не конфузясь, дает посмотреть. Младенец меня не боится, потому что по своему положению в мире он еще ближе к ветру, лесу и птицам, чем к настоящим людям. У Светланы огромная светлая грудь с длинным темно-розовым соском, похожая на изысканный фарфоровый кувшин. Неужели у меня тоже когда-нибудь будет такая?! Это очень красиво, только, кажется, немного неудобно. У младенца жадные губки. Он уютно чмокает и перебирает на груди матери маленькими пальчиками, как будто играет на рояле.
Я объясняю Светлане: мне нужно знать, как все было. Откуда я взялась? И причем тут цыгане?
Светлана кривится, как будто съела целый лимон из нашей оранжереи, и машет на меня свободной рукой: уходи! Я ничего не знаю!
Я понимаю, что она боится моего отца и за место брата, и уверяю ее, что никому не расскажу, откуда узнала. Я умею хранить тайны, это, можно даже сказать, мое призвание в мире.
Но Светлана не верит мне. Маленькие девочки в ее мире не хранят тайн. Они тут же выбалтывают их соседям на деревенской улице.
– Уходите, Люша, – говорит она. – И Степку, как вернется, не пытайте – ему ничего не ведомо.
Младенец отказывается сосать, вертится, начинает хныкать – чувствует волнение матери.
Я ухожу, но не насовсем. Светлана – умная, как и Степка, и вся их семья. Но у Светланы есть муж. У него ум в руках – он все может починить или сам рассчитать-собрать какую-нибудь заковыристую штуку. В голове у него расчетов почти нет. Его легко провести.
Я нахожу Светланиного мужа в пристроенном к дому сарае. Он чинит борону – меняет сломанный зуб. Смешно – у него самого тоже спереди нет зуба, выбили в драке. Кто ему починит?
Он улыбается мне своей щербатой улыбкой. Не ждет дурного.
– Ваня, – спрашиваю я. – А когда ребенка называют отродьем?
– Когда мать с отцом в церкви не венчались, – отвечает он. – Тогда он считается в блуде зачатым. Но в самом ребенке – какая ж вина? Дурные люди так говорят… А вам, Люша, зачем? – вдруг спохватывается Ваня.
Поздно. У моего плана появился следующий пункт.
– Низачем, – говорю я. – Просто интересно.
До Торбеевки идти по Старой дороге – почти два часа. По Новой – полтора, но там всегда можно встретить кого-нибудь из усадьбы. Я иду напрямик, через поля и овраг.
Воздух дрожит над пшеницей, как будто гладит ее горячим утюгом. Ястреб раскинул крылья и заснул в небе, в теплом воздушном киселе. Я срываю огромные лиловые цветы чертополоха и голубые цветы цикория, сплетаю из них украшение себе в волосы. В канаве на камушке сидит лягушка и смотрит на меня золотыми глазами. Я сажусь рядом с ней и отдыхаю. Воздух такой плотный, что его надо откусывать и глотать. Мы с лягушкой дышим-глотаем в такт, на одно мое дыхание десять – ее. Потом лягушка прыгает в мутную воду, а я лезу наверх, к солнцу.
Вокруг колоколенки церкви св. Николы летают стрижи. Ее видно издалека и стрижи кажутся мелкой черной мошкарой, хотя вообще-то они большие и сильные, только ноги у них короткие – по земле они могут только ползти. Если подойти ближе, то видно, что избы Торбеевки, крытые соломой, жмутся к церкви, как цыплята к наседке. Купол расслабленно золотится под полуденным солнцем. Владелец усадьбы Торбеево не пожалел сусального золота, говорят, пожертвование на церковь составляло пуд без одного килограмма. Одиннадцать кило пошло на купол, да еще четыре украл новый управляющий.
Отец Даниил, священник церкви св. Николы, мне нравится, как нравятся индюки, которых разводят в торбеевской усадьбе. Он ходит животом вперед, у него розовая кожа и богатая темно-русая борода колечками. Весь он похож на кувшин с молоком, в которое добавили полчашки крови. «Кровь с молоком» – так моя нянюшка весело говорит про здоровых детей, и, кажется, не слышит, как жутковато это звучит. Отец Даниил и вправду немного похож на большого ребенка. У них с попадьей Ириной двенадцать детей. Матушка Ирина – длинная и тощая. Но вовсе не тихая и забитая. Она постоянно ругается на все свое большое семейство, включая мужа и старенькую свекровь, ее визгливые вопли несутся на церковный двор и иногда, как черные, стремительные стрижи залетают в церковь. Она похожа на высокий бокал с пузырящимся шампанским. С каждым новым ребенком матушка еще высыхает, а отец Даниил становится все толще и румяней. Как будто шампанское медленно, но неуклонно переливают в кувшин с молоком и кровью. А брызги, которые от этого получаются – их дети. Они все разные и интересные.
Отец Даниил в одной рубахе, босой, сидит во дворе своего дома на чурбачке и по-видимости ничего не делает. Щурится на солнце, шевелит толстыми розовыми пальцами на ногах, поглаживает то грудь, то бороду. Может быть, сочиняет проповедь? Трое или четверо из меньших поповичей играют у дровяника в стуколку. Старшая Маша, как всегда в темном платье и строго, по брови, повязанном платке, кормит кур. Попадьи Ирины не слышно. Может, прилегла отдохнуть? Для меня это только к лучшему.
Я встала в глазах священника внезапно и против солнца. Он вскочил и, кажется, хотел перекреститься. Но удержался.
– Люба! Это ты?! – восклицает он. – Ты одна? Как ты здесь? Почему?
Я, не торопясь, подхожу под благословение и целую отцу Даниилу руку, как меня учили. С гораздо большим удовольствием я поцеловала бы ту лягушку, с которой отдыхала в канаве, но, в общем, ничего особенного. И чего я раньше так вопила и сопротивлялась? Разве что и вправду – бесы, как Настя говорит? Потом стою смиренно, опустив глаза, и смотрю, как из-под кучерявой бороды виднеется в раскрыве ворота такая же кучерявая поросль на груди священника. Крест темного серебра лежит в ней, как бревна в кустах. Представила, как отец Даниил с длинной худой попадьей при свете разноцветных лампадок делают детей. Добавила к картинке тихое церковное пение. Получилось очень благолепно и церемонно, похоже на танец на средневековом балу.
Отец Даниил явно не знает, что делать. Ловить меня и везти в Синие Ключи? Пригласить в свой дом? Отвести в Торбеево и уже оттуда пытаться что-то предпринять? Я решаю ему помочь.
– Отец Даниил, у меня к вам всего один вопрос. Это важно для меня, а вы знаете наверняка. Потом я уйду, как пришла, и меньше чем через час буду в Синих Ключах, в своей комнате. Нянюшка Пелагея, может, и проснуться не успеет.
Священник пожевал красными губами и решил мне пока не перечить, чтобы не спугнуть.
– Хорошо, Люба, спрашивай. Я, коли и вправду знаю ответ, постараюсь тебе помочь.
– Венчались ли мой отец и моя мать?
Я бы на его месте соврала. Ложь во спасение. Ведь всеми считалось, что я неграмотна, и никогда не смогу прочесть в церковных книгах. Кстати, отец Даниил был одним из тех, кого отец в свое время приглашал для моего обучения.
– Люба, понимаешь…
– Моя мать была цыганкой?
– Люба, ну откуда мне знать! Она мне паспорт показывала? Я же священник, а не полицейский урядник!
– Ладно…
– Ты подожди здесь, во дворе пару минут, хорошо? – суетится священник. – Только никуда не уходи! Я сейчас матушку разбужу, она тебе чаю с баранками даст. И меду… А потом мы с тобой…
Он почти убегает, поддерживая штаны и шлепая босыми пятками. Живот бежит впереди него.
Поповичи бросили игру и попытались меня подразнить, строя рожи. Я погрозила им кулаком. Маша прогнала братьев, теперь стоит с лукошком и строго глядит на меня.
Мы с Машей давно знакомы, но это наша с ней тайна. Она бывает у Синих Ключей и у Старых Развалин, где в полуземлянке живет знахарка Липа. Когда я была меньше, Маша на скамейке у Синих Ключей много рассказывала мне из Священной истории и еще про Страшный Суд. Показывала картинки в книгах – интересные, которые можно долго рассматривать. Мне больше всего нравилось слушать про четырех всадников. Мы со Степкой в них даже играли. Голубка была Конь бледный. Когда слуги, отец и Пелагея поняли, что мы играем в Апокалипсис, Степку высекли, а меня на неделю посадили на хлеб и воду. И все допытывались: кто тебя подучил?! Но я Машу, конечно, не выдала.
Когда Маша говорит про свержение грешников в геенну, у нее глаза светятся вдохновенно и вся она становится почти красивой.
– А что ты мне скажешь? – спрашиваю я, отбираю у Маши лукошко и иду к курам.
– Человек за чужие грехи не ответчик, – говорит Маша, идя за мной. – Даже за грехи матери с отцом. Свою душу всегда спасти можно. Надо только молиться усердно, чтобы Господь силы дал.
– А как мне спасти душу? – интересуюсь я. – Сил у меня по моим годам и росту довольно, даже если Господь и не расщедрится больше. Я теленка поднять могу и на сосну без сучков влезть. Но это же к душе отношения не имеет. Делать-то чего?
– Молиться в первую голову!
– Опять молиться? Чего-то я не понимаю…
– Хочешь, пойдем со мной в монастырь. Я матушку уж почти уговорила. Станем послушницами в обители, так утешно… Батюшка вот только не согласен покуда…
– Еще бы он был согласен! – усмехаюсь я. – Ты ж полхозяйства на себе тащишь и братьев-сестер учишь-обихаживаешь. А как уйдешь в монастырь, так его попадья живьем сожрет. А бабу в помощь ей нанять – так он от жадности удавится!
Маша прыскает в ладонь и тут же поправляется:
– Грех тебе так говорить, Люша! Отца с матерью почитать надо!
– Особливо моих… – замечаю я. – Которые меня отродьем заделали, да к тому же – полной идиоткой.
– Люша, что ты говоришь! Какая ты идиотка!
– Это не я, Маша, это доктор из Калуги так сказал. «Идиотизм-с – к моему глубочайшему сожалению! – передразниваю я запомнившийся мне блеющий выговор доктора в золоченом пенсне. – Практически необучаема. В идеальном случае – навыки гигиенического самообслуживания. К этому и надо стремиться. Контроль полный и, желательно, круглосуточный – может быть опасна и для себя и для окружающих». И – двадцать пять рублей за визит…
– Двадцать пять?! – ахает Маша, явно прикидывая, что лично она могла бы купить и сделать за такие огромные деньги. – И такую ерунду сказал?! Не обучаема? Не верь этому! Я тебе вот что скажу и совершенно задаром: ты, Люша, лучше обучаешься, чем большинство моих братцев и сестер, а уж я-то могу сравнить!
Меня никогда не хвалят. Потому что не за что. А вот Маша нашла слова. Мне захотелось тоже сказать Маше что-нибудь хорошее и полезное.
– Знаешь, Маша, – говорю я, глядя, как пестрые курицы суетятся вокруг насыпанного мною корма. – Может быть, тебе пока и вправду погодить в монастырь уходить… Мне кажется, не готова ты еще…
– Отчего же? – удивляется Маша. – Это же мечтанье мое с младых лет!
– Ну… это конечно… Только уж очень ты грешников и все, с ними связанное, любишь! – выпаливаю я.
– Ерунда какая! – Маша насупилась.
Ну вот – я, как всегда, все испортила. Ко мне – с добром, а я всех обижаю.
– Марья, дурья ты башка! Ты разве другого дела для барышни, кроме лукошка с куриным кормом, придумать не сумела?! – с крыльца, по пути раздавая подзатыльники сыновьям, сходит жердеобразная матушка Ирина.
– Маша, тебе скучно будет в монастыре! – скороговоркой выпаливаю я и сую ей в руки лукошко. – Поезжай лучше в Африку миссионером. Может быть, они тебя даже съедят!
И пускаюсь бежать напрямики, через улицу и деревенские огороды. За мной, как стая гончих собак, с визгом и улюлюканьем несется свора поповичей. Но я бегаю быстрее – натренировалась в родном доме.
Я понимаю, что никто не ответит мне на прямо поставленные вопросы о моей маме. Слуги и крестьяне боятся моего отца. Кого боится мой отец – я не знаю, но об этом не стоит и думать.
Нужно задать им вопросы, на которые они захотят ответить. И я уже знаю эти вопросы. Наталия Александровна поможет мне – ведь не зря я развлекала когда-то ее пыльную тень в забытой комнате.
Первая моя жертва – Акулина, жена Филимона. Она точно не заподозрит подвоха. Ведь огородница Акулина – сама немного овощ. Временами мне кажется, что где-нибудь на ней непременно должны расти листочки или хоть корешки.
Акулина пикирует рассаду в деревянном ящике. Кажется, это будет поздний редис. Тут же в кадушке – какой-то вонючий рассол, который Акулина подливает под корешки каждому растению. Солнце наблюдает с небес. Иногда Акулина из-под руки взглядывает наверх и как будто что-то спрашивает. Кажется, что Солнце и Акулина работают вместе, в паре.
– Акулина, расскажи мне: как все было в усадьбе давным-давно, при покойной хозяйке? Весело небось?
Ее лицо молодеет от мыслей. Я понимаю: при покойной хозяйке они с Филимоном встретились и поженились, прожили свои лучшие годы. Ей не хочется говорить о хорошем второпях, между делом о редисе, которое она искренне полагает несметно важным.
– А вы приходите вечерком, Люшенька, попьем чайку с вареньицем, потолкуем. Давно ведь к нам не заглядывали.
Я киваю согласно. Вечерком так вечерком, я же постановила себе не торопиться. Но еще не вечер.
Светлана слишком молода, ее муж Ваня ничего не знает, кроме своих механических штучек, да и в усадьбе, наверное, бывал раза два. А вот кухарка Лукерья наверняка все помнит.
– Лукерья, при покойной-то хозяйке в Синих Ключах как, лучше было?
Кухарка рассказывает охотно и вкусно, но быстро начинает повторяться. Как мелодия в музыкальной шкатулке. Прежде я разобрала по винтикам штук пять таких шкатулок – все хотела понять, где там прячется сама музыка и нельзя ли сделать так, чтобы она поменялась. Не получилось. Вот и Лукерья такая, какая есть – не соберешь наново. Для верности, чтоб ничего не упустить, я прослушиваю ее «мелодию» три раза почти целиком – по кругу.
До вечера еще есть время съездить к леснику Мартыну. Я выпрашиваю у Лукерьи изюму и печенья, а также чаю в кулечек – для самого Мартына. От себя добавляю пять конфет в обертках и маленькую игрушечную лошадку со сломанной ногой. Потом немного ругаюсь с Пелагеей и, не дожидаясь, пока она позовет Тимофея, седлаю Голубку и еду к лесу по Старой дороге.
Сам Мартын где-то в лесу, по лесным делам, но должен скоро вернуться обедать. Его горбатая дочка Таня мне рада, зовет есть кашу из печи. Я благодарю и отказываюсь. Меня еще будет кормить Акулина. Тогда Таня снимает замок и открывает мне домик Филиппа. Я беру лампу и иду. В домике всегда темно – вокруг лес, окошко высоко вверху, под самым потолком, а лампу или свечу Филиппу не дают – опасно. Филипп сидит на лежанке и скалит белые зубы из-под спутанных волос – расчесывать их он дает только Пелагее.
– Пойдем гулять? – спрашиваю я.
– А их там нет? – спрашивает в свою очередь Филипп. – Они меня не заберут?
– Нет, их там нет. Пока я с тобой, они к тебе даже и близко не подойдут.
– Я еще твою лошадь боюсь, – сварливо уточняет Филипп. – Она меня кусает и лягает. Ты ее хорошо привязала?
– Хорошо, хорошо, не бойся, пойдем.
Таня заперла в сарай собак. Мы гуляем по тропинке – до дороги и обратно. Потом вокруг дома. Удивительно, что Филипп боится леса – ведь он, в сущности, никогда не видел ничего другого.
– Хочешь, дойдем до Сазанки и рыбок посмотрим? – предлагаю я.
– Не хочу! – Филипп мотает большой головой. – Там они меня точно заберут. Вот на поле я бы погулял. Там далеко видно – никто не подкрадется.
– В поля в следующий раз пойдем, – обещаю я. – Сейчас мне недосуг, мне Мартын нужен.
Филипп с явным облегчением возвращается в свой домик и внимательно следит, чтобы я заперла засов. Потом он за столом ест печенье и изюм (конфеты я решила отдать Тане).
– Филипп, сколько тебе лет? – спрашиваю я.
– Недавно тридцать сравнялось, – отвечает он, играя с лошадкой.
– А что «они»? Было что-нибудь интересное, пока я не приходила?
– Тебе бы такое «интересное»! – ворчит Филипп. – Два раза говорили, чтоб я под лежанкой на полу спал – с потолка де ночью порча идет, а лежанка задержит. Ну, это ничего. Потом велели на матушку воду из кувшина вылить – это ее от увечья на обратном пути оборонит. Матушка очень ругалась, даже по уху съездила…
– Да это как всегда! – нетерпеливо обрываю я. – А интересное-то?
– Они говорят: жениться тебе пора. Невесту ко мне присылали… – немного смущаясь, говорит Филипп. – Она беседу со мной вела, за руку брала – вот тут! – показывает на узкое, бледное запястье.
– О! Вот это ловко! – радуюсь я. – Ну и какая она, расскажи! И что говорила-то?
– Красивая очень, только прозрачная немного. Волосы как лен, глаза как цикориевые цветы, – прилежно рассказывает Филипп, раскачиваясь на сосновом табурете. – Рука холодная, будто только из кадушки с родниковой водой вынула. Платье длинное, до пят, по вороту мережка с вышивкой и пояс такой же. Говорила, как мы с ней жить станем, летом – в поле работать да венки плести, зимой – печку топить, да в санях кататься…
– А как же зовут твою невесту?
– Имя у нее Синеглазка.
Хоть я и привыкла давно и к рассказам Филиппа, и к загадочным голосам, с которыми он ведет беседы в долгие дни своего одиночества, а все же мне делается не по себе. Рассказал ему кто или и вправду девка-Синеглазка к нему приходила?
А тут и Мартын из лесу вернулся – собаки во дворе взвыли как оглашенные, хозяина почуяв. Таня меня снова за стол позвала, и я уж отказываться не стала. Пока Мартын ест, я у него все и разузнаю.
Совсем поздним вечером, когда нянюшка уже переоделась в ночную кофту, повязала косынку и прилегла, я присаживаюсь к ней на кровать и решаю и ее тоже попытать немножко. Заради этого даже даю ей почесать и заплести в короткую косу свои кудри, которые обычно на ночь просто перевязываю бечевкой.
– Нянюшка, расскажи, как раньше жили.
– Когда это раньше-то? При крепости, что ли, до реформы? Так я тогда малая была, вроде тебя, – мало что помню.
– Нет, позже. При покойной хозяйке.
– Ну, при покойной хозяйке много чего было, – говорит Пелагея, явно насторожившись (нянюшка все-таки не Акулина, да и знает меня получше). – Тебе что в первую голову надо-то?
Я задумываюсь. Что же мне интересно в первую голову?
– Каким тогда был мой отец? – спрашиваю я. – Молодым – это понятно. Веселым?
Нянюшка надолго задумывается, жует синеватые губы и почесывает под платком согнутым пальцем. Потом отрицательно качает головой.
– Так не скажешь. Веселым Николай Павлович никогда не были. Даже и в самой молодости. Спокойным был – вот так, наверное, правильно будет. Все в жизни шло, как испокон заведено, как Бог велел. В том и правда, и утешение.
– А утешение – в каких же скорбях? – я стараюсь подстроиться под нянюшкин способ говорить и думать.
«Бог велел!» – интересно, а мне-то откуда узнать, что он велел? Сам он мне ничего не говорил. Кто ж мне откроет? Отец Даниил, что ли? Так я и поверила, что Господь Бог с отцом Даниилом регулярно беседы ведет и все свои повеления ему растолковывает! Но с нянюшкой говорить на эту тему бесполезно. Я уже пробовала. В лучшем случае начнет вслух Псалтирь читать, где закладка заложена, а то и тряпкой замахнется…
– А чего это ты все выпытываешь-то? – нянюшкины подозрения еще усиливаются. – Небось, опять каверзу какую-нибудь замыслила? А ну-ка признавайся!
Я тихонько сползаю с ее кровати и, показательно повесив нос, бреду к себе. Знаю: скоро нянюшка придет мириться (ибо все тот же Бог не велел отходить ко сну во гневе), проверять, хорошо ли я укрыта, и целовать меня на ночь. Тогда я обязательно выведаю у нее что-нибудь еще.
В моем плане есть еще один пункт – горничная Настя. Кому-нибудь это могло бы показаться странным (Настя молода, и к тому же терпеть меня не может). Но я знаю, что делаю. Ведь Настя – дочка личной служанки покойной хозяйки, которая приехала в усадьбу вместе со своей госпожой. И после ее смерти недолго зажилась – схоронили года через три, я уж ее и не застала. Наверняка она что-нибудь дочке рассказывала.
С утра Настя вытирает пыль в голубой зале и с азартом ловит черных мух, которых летом в Синих Ключах всегда много. Никакая кисея на окнах от них не помогает. Но мне мухи не мешают, я их, пожалуй, даже люблю. Они такие энергичные, так забавно все время умываются передними лапками, и голова на тонюсенькой шее-волосинке у них при этом поворачивается почти по кругу – туда-сюда, туда-сюда. Как не оторвется?
О, я вдруг увидела! Настя сама похожа на эту муху. И убивает себе подобных. В книжке про эволюцию и вымерших ящеров это называется конкуренцией. Чужих, совсем непохожих на меня не замечаю. Убиваю того, кто на меня похож, чье место я могу занять… Интересно…
– Чего вам тут, барышня? – неприязненно спрашивает Настя. Она может занять мое место? Вроде бы нет. Но если подумать…
– Я к тебе пришла, поговорить.
– Ко мне?! – Настя отрывается от дел, от удивления садится на козетку.
Я смеюсь. От моего смеха даже Степка кривится. Наверное, со смехом, как и со многим во мне, что-то сильно не так. Хорошо, что я смеюсь редко.
Она была идеальной пореформенной барыней. У меня сложилось странное и даже жутковатое ощущение, что у нас в усадьбе 15 лет жил портрет. Прекрасная, беззвучная, неподвижная душа, спрятавшаяся от всех и остановившаяся задолго до смерти своего земного тела.
Говорила прислуге и крестьянам «вы», рисовала акварелью, вышивала что-то для церкви в Торбеевке. Почитала мужа. Целью и смыслом жизни видела «благие дела». Как это она еще так долго протянула?
Они с отцом были достойной парой, сделавшей равную партию (я должна была понять, что история с моей матерью была – неравной и недостойной). Их брак был сговорен родственниками чуть ли не сразу после рождения Наталии Александровны. В ее жизни не было места святочным гаданиям «на суженого-ряженого» и трепетному ожиданию. Она росла, зная своего суженого в лицо.
Перед свадьбой она была прекрасна, как хорошо убранный покойник, и имела вид месяца, который вот-вот опустится в ночные свечи цветущего каштана. Все слуги из обеих семей на свадьбе плакали навзрыд. Наверное, от душераздирающей красоты представленной картины.
Имела представление о том, как вести дом. Теперь я думаю, что читала Домострой и графа Толстого и прилежно высчитывала среднее. Вела хозяйство в полном согласии с мужем. Похоже, что это был единственный повод, по которому они вообще сообщались между собой.
Знала, что в доме должны веселиться. Веселие было хорошо организовано. Приезжали гости. Жили неделями и месяцами. Встречались за обедом – крахмальные скатерти, серебро, цветы, набор изысканных блюд, до сей поры в подробностях живой в памяти прислуги (из Москвы подводами (!) привозили всякие деликатесы, в оранжерее выращивали чуть ли не ананасы). Летом катались на лодках, охотились, играли в крикет, выезжали на пикники на озеро, верхами на прогулки в поля, в деревни… Сама хозяйка в веселье участия, кажется, не принимала вовсе, сидела на балконе в полосатом кресле с вышивкой на коленях, беззвучно улыбалась.
Давали четыре бала – желтый или золотой (осенний), белый или серебряный (зимний), розовый или красный (весна-красна) и зеленый (летний). На бал съезжалась вся округа. Приглашенные готовились задолго, как к событию первостатейной важности. Не получить приглашения – застрелиться. Но хозяйка никого не обижала, не имела врагов. Вся усадьба до последнего подпаска месяц стояла на ушах. Приезжали и из Калуги и даже из Москвы – друзья отца, подруги и родственники хозяйки. Летний бал давали между деревьев, на берегу пруда. Весной завивали березки, летом прыгали через костер, плели и пускали в речку венки, приглашали деревенских парней и девок водить хоровод. Костюмы полагались аллегорические – в соответствии с временем года. Украшения тоже – серебро и жемчуг зимой, изумруды – летом, золото – осенью, рубины и аметисты – весной.
Совсем иными, чем в моей памяти, были зимы при «покойной хозяйке». Перед домом заливали каток, ставили разноцветные фонари, над речным откосом строили катальную горку, с криками и визгом катались все подряд, включая крестьянских детей из Черемошни. Для зимнего бала строились специальные павильоны, с печками, увитые мишурой и еловыми ветвями. Старый управляющий из Торбеево делал скульптуры изо льда. Лепили баб, приз за лучшую – бутылка дорогого шампанского. Судила – Наталия Александровна. Строили крепость. Катались на тройках, опять же – охотились на зайцев и куропаток.
Моя зимняя память совсем иная. Тишина – в первую очередь. Дом в снежную пору как-то припадал к земле и почти сливался с ландшафтом. Я одиноко и беззвучно кувыркалась по сугробам вокруг Синей Птицы. Иногда компанию мне составляли два-три молодых пса с запорошенными снегом мордами. Их истерический лай рвал на куски замороженное пространство усадьбы. Собаки, заигравшись, рвали рукава и подол моей шубки, таскали, как добычу, меховую шапку. Нянюшка после долго ругалась, отдавая их на починку аж в Торбеевку (у нас в усадьбе своей портнихи не было).
Вечерами и ночами я часто сидела на подоконнике своей комнаты и заворожено глядела в синее бескрайнее ледяное пространство, залитое серебряным светом луны. Над ним – медленно поворачивающийся (я легко следила его движение) высокий купол с мириадами острых угловатых звезд. Порой в небе беззвучно закручивались величественные искрящиеся спирали, а над полями носились лохматые призраки-метели. Я понимала это, как превращение могучих энергий. Было так легко потеряться в этой огромности. Храп нянюшки Пелагеи из соседней комнаты удерживал меня в человеческом мире.
В залитые солнцем морозные дни выезжали на дровнях в зачарованный лес. Там с веток медленно падают и долго плывут в воздухе сверкающие драгоценности – легкие, как дыхание щенка. И на снегу, внизу, под деревьями то же самое: едешь и вспыхивают – синим, красным, зеленым – и гаснут сокровища – рубины, сапфиры, изумруды… Мгновенная свадьба солнца и снега, мир, залитый холодной золотой глазурью. Я люблю все это – золото, серебро, драгоценные камни, наверное, эту любовь я унаследовала от матери. Моя судьба щедра – зимний лес дарит мне целый мир, инкрустированный драгоценными камнями. Скрип полозьев, треск ломаемого хвороста, кружащий голову хоровод разноцветных блесток, влажный, свежий, огурцовый запах, разлитый в воздухе…
– Что это пахнет так? – спрашиваю я у Степки, который грузит на дровни охапки хвороста.
– Дак весна-красна, – отвечает он. – Она еще спит покуда, но уже дышит…
– А как ее увидать?
– А загляни в тот из Синих Ключей, который не спит, там на дне как раз ее и увидишь…
Подслушала разговор Феклуши и кухарки Лукерьи. Оказывается, вчера, когда я была у Мартына, в усадьбу приходила старуха цыганка с внуком, предлагала гадать. Мальчишка плясал перед дворней… Тимофей по указанию моего отца вытолкал цыганку едва ли не взашей. Она, вроде бы, наслала на Тимофея проклятье, и он уже к вечеру уронил себе на ноги кипящий самовар.
– Не к добру это! – таращила глаза Лукерья, спрятав под передник красные руки и надуваясь важностью.
– Отчего же, тетенька? – не понимала Феклуша. – Цыгане завсегда гадают.
– Кэлдэрарские женщины в деревнях не гадают – это раз. У них другое ремесло. А второе – ты своими глазами видела эту старуху. Она – драбарка, ведунья по ихнему. Травы знает и прочее такое. У своих уважением пользуется, едва ли не как цыган-мужик. Ей гадать вообще не по чину. Чего она здесь вынюхивала, а? – палец Лукерьи метнулся из-под передника и уперся едва ли не в нос отшатнувшейся в испуге Феклуши.
– А чего?
– То-то и оно. Что у нас здесь из цыганского-то наследства завалялось? Сама, небось, понимаешь…
– Ой-ёй-ёй, тетенька… А как же?
– А вот так!
Больше ничего вразумительного кухарки не сказали, хотя еще долго таким вот образом «беседовали» в кухне.
Старая цыганка приходила ко мне? Чего она хотела?
Я не понимаю. Даже в незамысловатых рассказах слуг звучит что-то странное, как будто обо всем этом они прочли в книге, а не видели своими глазами. Но этого же не может быть…
Захотелось поговорить с равным. Застыла перед этим желанием в немом ошеломлении – тогда, и застываю сейчас, когда пишу эти строчки. Что такое «равный» в моем случае? Кто был равен полудикому ребенку, не способному постигнуть самых простых примеров связи вещей, отверженному в своем собственном доме? Кто равен теперь хитровской попрошайке?
И странное ощущение, пришедшее тогда: мне равен лес, река, звездный купол над полями. Это с ними я должна говорить о своей матери, о своем прошлом и о прошлом Синей Птицы? Я не понимаю…
Кое-какие загадки разрешились. Одна прибавилась. Детей у моего отца с Наталией Александровной не было. Но была воспитанница – Катенька, Катиш. Дальняя родственница? Дочь умершей подруги Натальи Александровны? Никто из прислуги не знал толком. Но – жила в усадьбе лет с пяти. Была мила, не слишком красива, не очень заметна, любила качаться на качелях (по всему парку были повешены разнообразные, большие и маленькие – специально для нее), рисовать и читать романы. Молодежь в усадьбу приглашалась в том числе и для Катиш – она радовалась праздникам, оживлялась, хорошела, рисовала декорации, эскизы павильонов, костюмы, даже помогала повару делать пирожные и придумывала причудливые торты. Однажды на весеннем балу из огромного торта вылетели пять живых жаворонков и скрылись в небе. Все гости удивлялись и хлопали в ладоши. Катиш скромно стояла в сторонке, довольная явным успехом своего замысла.
Куда делась Катиш потом, после смерти Наталии Александровны? Никто мне так и не сказал. «Уехала,» – вот и все, чего я смогла добиться. Вышла замуж? Но почему отец, который фактически вырастил девочку, никогда не упоминал о ней, не приглашал в гости в усадьбу, много лет бывшую ей родным домом? Умерла? Но почему на нашем кладбище за часовней нет ее могилы? Скончалась где-то далеко? Тогда почему ее не поминают вместе с Натальей Александровной в заупокойных молитвах?
Загадка требовала разрешения. Судьба Катиш, о существовании которой я еще недавно и не догадывалась вовсе, как-то волновала меня. Хотя, что она мне, если как следует подумать?
И еще я понимаю: нет смысла так уж торопиться, потому что когда одни загадки получают свое разрешение, обязательно появляются другие. Когда же разгадываются все загадки, наступает темнота…
Глава 8,
в которой два героя нашего романа неожиданно сливаются в одном человеке, Люша покупает книги, а Аркадий Арабажин и Лука Камарич безуспешно пытаются принять участие в ее судьбе.
– Камарич! Лука, это вы? Постойте!
– Январев! Вы живы? Тогда вы, помнится, так свирепо себя хоронили, что я было подумал… Чувствительно рад, честное слово!
Мужчины обнялись, потом, отстранясь, разглядели друг друга. Их знакомство было фактически мимолетным, но в столь чрезвычайных обстоятельствах, что сейчас при случайной встрече оба ощутили необъяснимую близость, схожую, должно быть, с воинским фронтовым братством.
– Ну-с, Январев, как вам живется при реакции? – бодро осведомился Камарич. Его смуглое лицо стало еще острее, круглые глаза смотрели весело, как у пережившего зиму воробья. – Вы ведь по мирскому, не революционному делу… кто? Химик-органик?
– Медик… А живется…что ж… катары у людей случаются по-прежнему, и язвы в желудках как-то не слишком от политики зависят…
– Вы правы, вы правы, конечно! Это очень верно – катары от политики не зависят. А я… я, знаете, увлекся поляризацией света в кристаллах – это чертовски интересно! И, кажется, имеет вполне прикладные перспективы, но… Что ж мы на улице стоим? У вас есть время? Давайте, что ли, зайдем в чайную, сядем как люди, поговорим… Я бы позвал вас к себе, я тут недалеко живу, на Никитской, да только мы с товарищем снимаем на паях, а у него вечно народ, и разговоры все об одном, сказать, о чем или сами догадаетесь? Толкут в ступе политическую водичку… Впрочем, ежели хотите… Простите, я же и имени вашего не знаю…
– Нет, нет, пойдемте лучше в чайную, – улыбнулся Январев. – И давайте знакомиться заново. Аркадий Андреевич Арабажин – к вашим услугам.
– О, очень приятно. Январев, значит, кличка? Ого! А я-то конспирациям не обучен, так и есть, как вы знаете – Камарич Лука Евгеньевич.
В чайной под низкими сводчатыми потолками плавал теплый и сытный дух. Подпоясанные красными кушаками половые, одетые во все белое, сновали с подносами. Оба мужчины вдруг разом почувствовали, что проголодались, и за синхронность явленного желания парадоксально ощутили усиление взаимной симпатии. Заказали две пары чаю, суп, калач, кулебяку и пирог с клюквой.
– Аркадий, так как же вы тогда, в декабре?.. Я волновался за вас, право слово, у вас было лицо человека уже по ту сторону, и это казалось так глупо, неправильно…
– У меня тогда же внезапно образовалось дело, потребовавшее продолжения бренного существования…
– И слава Богу!
– А вы?
– О, я… На Пресне был заключительный акт трагедии – это я признаю всегда, не подумайте, но… но меня издавна преследует рок особого сорта – злополучный Лука вечно попадает в род комических куплетов… Послушайте как было: мы с двумя боевиками из Кавказской дружины пробирались Большим Кондратьевским переулком, мимо фабрики Шмита, Сахарного завода, совсем уже было вышли к Москве-реке, где нас ждали, и тут – нарвались на драгун, которые нас, естественно, сцапали. Они вместе с гвардейцами выводили боевиков прямо на лед и там расстреливали – представьте картину! Мы все, естественно, вооружены, но их больше, сомнений у них никаких нет, и я вижу, что наша песенка спета. Что делать? Орать «Да здравствует грядущее царство пролетариата!» и помирать мне вроде еще не хочется, и я решаю: пан или пропал! У последних домов прыгаю с места на сугроб, потом на забор, на поленницу, во двор и дальше – как придется… Солдаты, естественно, – за мной, стреляют, ранили меня в ногу, я еще бегу, но шансов – решительно никаких. Тут вдруг еще до времени слышу голос ангела: «Сюда, сюда давайте! Направо и вниз, там старый колодец – прыгайте!» Я, конечно, прыгаю, лечу сажени полторы, падаю, прокусываю насквозь губу, чтобы не заорать благим матом от боли и лежу мешок-мешком. Слышу, наверху ангел мой повстречался с гвардейцами и тараторит, аж захлебывается: «Видала, конечно, видала, голубчики-солдатики! Чуть со страху не померла! Туда, вон туда он побежал! Черный, страшный, с бомбой! Бегите скорее, вы его точно нагоните! Только убейте его обязательно, голубчики-солдатики, а не то я и спать лечь со страху не смогу. Ужас, ужас-то какой на свете! Когда только все это кончится!»
Тут я видно совсем сомлел от боли, а когда очнулся, мне по физиономии веревка елозит и ангел сверху зовет:
– Ау, голубчик-боевичок, ты там совсем помер или как? Если не совсем, так подай знак какой!
Я промычал чего-то, она обрадовалась и говорит:
– Обматывайся веревкой, сейчас тебя вытаскивать будем.
В общем, вытащила она меня, и привела, недолго думая, к себе домой. Дворника услала куда-то, старуху-няньку спать отправила, муж, как она мне сразу сказала, до утра, а то и до вечера из Купеческого клуба не явится. Сидим мы с ней вдвоем в покоях. Мебель красного дерева – только баррикады строить, комоды, иконы, лампадным маслом несет, на крючке клетка с канарейкой висит, на диване кошка греется. Молодая совсем купчиха – щечки розанами, губки бантиком, сарафанчик колокольчиком, хорошенькая, сил нет. В самом прямом смысле, понимаете, Аркадий? – сил нет! – а если бы были, то – ого-го!
Я, говорит, Раиса Прокопьевна, а вас как звать? А я, говорю, Ермолай Васильич. Оченно приятно, Ермолай Васильич, сейчас я вашу ножку обмою, перевяжу, а потом будем чай с кренделями пить и вы мне про революцию расскажете. Оченно мне все это дело интересно, а муж мой такой тюфяк, что и слова из него не вытянешь.
И вправду, ловко так все мне промыла, перевязала, не конфузясь нимало. Умыться дала, рушник чистый, рубаху, подштанники (берите, берите – это мужа, конечно, но все чистое, а у вас же все, глядите, в крови, это сжечь надо!), а тут и самовар поспел… И сидим это такось мы с ней, разговоры разговариваем, кренделя маковые кушаем. А она все слушает внимательно и вопросы такие умные ставит. А у меня после всего еще кровь играет, я тоже, опасности смертельной избегнув, в ударе… Вдруг на улице шум, крик: «Игнат, так тебя растак, ворота открывать будешь, хозяин приехал!» Вернулся купец. Ну, думаю, опять в колодец прыгать, там и замерзну. Да и не успеть. Оглянулся – прятаться некуда. Ангел мой немножко сбледнул с лица, но – никакой паники. Значит так, говорит, бунты и бунтовщиков мой муж ненавидит хуже чумы, если поймет, кто вы – даже солдат звать не станет, сам саблей зарубит. Спрятать вас тут я уж не успею, выход один – идемте в спальню, прикинемся, что вы – мой полюбовник!
Меня аж затрясло от нервного смеха. Бунтовщика он значит саблей зарубит, а полюбовника жены что ж – по головке погладит?
Втолкнула меня в спальню: снимайте верхнее платье и ложитесь, ложитесь быстро! Сама чем-то пошуршала, накинула капот.
Я, полностью уже одурев, упал под полог в какие-то подушки, да так и лежу – будь что будет! Из угла на меня святой угодник какой-то в свете лампадки смотрит, да строго так: что ж ты, паскудник, мужнину жену бесчестишь?! А я будто оправдываюсь перед ним, и комната вся перед глазами плывет, плывет…
За раскрытой дверью – бух, бух – шаги.
– Раиса, аль не спишь еще?
– Ох, голубчик-муженек, ты приехал, а собирался ведь в клубе, а у меня, распустехи, и обеда-то толком нет, только щи, да каша, да жаркое еще со вчера осталось, да расстегай с сигом, да кисель, да кренделя вот, а боле-то – ничего. Что ж подать велишь?
«Если все перечисленное ему «ничего» – так что ж он обычно-то за обедом ест?!» – удивляюсь я, и никакого страха уже не чувствую, того и гляди вовсе в мягких перинах засну.
– Да не суетись, не голоден я, в клубе пообедал. Из-за тебя приехал. Егор Кузьмич сказал, что недалече от нашей части стрельба, пожары, семеновцы с полковником Мином бунтовщиков ловят. Ну, я и обеспокоился – как ты тут. От нашего Игната – какая защита? Небось напился вдрызг и валяется. Выгоню к бесам! Чуть не самому пришлось ворота открывать… А ты, я вижу, чаевничаешь? Ну так подай и мне каши и расстегай, и киселя с калачом. Кренделя уж тебе… А чашки-то на столе две… С кем это ты?..
Купчиха моя молчит.
Муж ее заходил по комнате. Без нервов, так, будто ищет чего. Потом вышел куда-то, вернулся. Шаги будто мягче стали, переобулся? И – двинулся в спальню. Тут ангел мой встал на пороге, крылья белого капота распахнул и говорит:
– Муженек-голубчик, как я тебя до завтра не ждала, приняла милого дружка, полюбовника. Каюсь в том. Сама его на чай и все прочее позвала, моя и вина. Его не тронь.
– Уфф… – говорит купец и в комнату входит.
Я один глаз приоткрыл: матерь божья! Купчина уже сильно в годах, лет за пятьдесят, но могуч, краснорож, борода перец с солью лопатой, и весу пудов девять потянет. Такой не то что саблей, голым кулаком в землю вгонит. Смотрит на меня вприщур и говорит:
– Что ж, вставай, что ли, полюбовник, поздоровкаемся…
Встаю я, значит, с его супружеского ложа, в его же подштанниках, в которые еще два Луки поместить можно, и рекомендуюсь, белье руками придерживая:
– Ермолай Васильевич Троегубов (не все же вам, Январев-бывший, за псевдонимы прятаться).
– А я Овсов, Клим Савельич… Полюбовник, значит… Эх… Раиса! – ко мне, как будто, интерес потерял, оборотился к жене. – Врать вовсе не умеешь! На Казанскую ты галку со сломанным крылом подобрала, на Екатерину-Санницу – собачонку без лапы и с вытекшим глазом. А этот-то – с больной ногой и в моем исподнем – кто еще такой?!
Ангел стоит, опустил глазки.
– Прохожий, голубчик-муженек. Солдатики его случайно подстрелили. А я пожалела. А вообще-то Ермолай Васильич ученый человек, камешки изучает, рассказывал мне про то интересно…
– Минералогический институт при естественном отделении физико-математического факультета, – уточнил я.
– Ну и что ж ты, Раиса, ученого человека дураком выставляешь! Заставляешь в купеческую постель лезть, комедию играть, – головищей покачал. – Меня, небось, по господину Островскому расписала… Да вы, сударь, оденьтесь, что ли… Сейчас будем чай пить. И – кашу мне подадут или нет?!
Аркадий, который вообще-то веселился редко, пару раз за время рассказа Камарича не смог удержаться от смеха.
– И что ж после?
– Купчина велел няньке белье переменить и вскоре спать ушел, а мы с Раисой до утра чаи гоняли. Потом я восвояси отправился. Браунинг и две бомбы оставил до времени у нее, в кладовой…
– Так вас драгуны не обыскали?! – ахнул Аркадий.
– Не успели… А купчина ее как видно скорее удочерил, чем женился. Занятный, кстати, человек – с последовательным взглядом. Октябрист первой гильдии. Царя, считает, надо еще ограничить, но ни в коем случае не убирать. Без царя Россия погибнет – слишком велика. Вот в какой-нибудь Голландии, дескать, вполне может быть и республика. А у нас никакую более мелкую власть, чем самодержец, из медвежьих углов люди не разглядят, и будут вечно бунтовать на разор хозяйству. А хозяйство – это важнее всего. И главный в государстве вовсе не царь, а – мужик, хлебопашец… В общем, такая смесь из старого и нового…
– Может, сектант? – спросил Аркадий.
– Не исключено. А что же вы-то?
– Я… я… – Аркадий доел последний кусок кулебяки и как-то вдруг решился рассказать Камаричу то, что не рассказывал еще ни сестре, ни Адаму, ни кому-либо другому. Может быть, именно сочетание внезапной близости и необязательности встречи с Лукой подтолкнуло его. – По просьбе умирающего товарища я тогда, в декабре, вытащил из пекла мальчишку-гавроша, который после оказался хитровской девчонкой.
– Как так? – красиво прочерченные брови Камарича поднялись удивленно.
– Он был переодет… Точнее – она. Девчонка после от меня сбежала, но осталась тетрадь, ее дневник. И по этому дневнику выходит, что девочка вовсе не безродная нищенка, а из знатной семьи, к тому же наследница большого имения и капиталов.
– Девичьи мечтания?
– Да не похоже. Слишком много подробностей и деталей. И ровно никакой мечтательности.
– Но как же это могло случиться? Как богатая наследница попала на Хитровку?
– Там была какая-то трагедия. Ее родители умерли. К тому же – девочка изначально… сильно необычная. Не хотелось бы говорить о душевной болезни, но какие-то аффективные состояния налицо…
– Но ведь должен быть назначен опекун, какие-то поверенные в делах…
– Возможно, ее тоже считают погибшей.
– Вы думаете, вам… нам следует вмешаться?
То, как стремительно Камарич вписал себя в происходящее, удивило Аркадия. Так же легко – по ходу дела – он, по-видимому, вписался в революцию. В науку… Черта характера? Впору позавидовать… Да что он вообще знает о Луке Евгеньевиче? Ничего решительно!
– Надо отправиться на Хитровку, попробовать навести справки через местного городового. Если дело запахнет деньгами, я думаю, он поможет нам. Да и босяки, когда поймут, что мы не связаны с полицией, должны развязать языки. Если девочка еще там, мы ее обязательно отыщем…
– И что дальше? – спросил Аркадий. – Вы полагаете, я не думал как вы, Лука? Но все время задаю себе этот вопрос: что дальше? Мы же не сможем увести ее оттуда насильно. По всей видимости, ей вовсе не нужны спасители. У нее с самого детства были трудности в общении с людьми из общества, соответствующего ей по рождению, а теперь она вполне прижилась на дне. Я уже пытался ей помочь, а она, убегая, натравила на меня каких-то… жуликов или воров… У нее там наверняка есть дружок, еще кто-то… Нуждается ли она в возвращении в общество? Из дневника этого как-то не видно…
– Аркадий, помилуйте! Да вы сами себя слышите? Что вы хотите сказать: девушке, почти ребенку лучше прожить в нищете, разврате и побоях среди босяков, при том, что она может получить достойную жизнь, развитие, лечение в конце концов, если оно ей понадобится…
– Вы правы, Лука, конечно, вы правы, но мне кажется, что имело бы смысл сначала найти тех, кто может быть заинтересован в судьбе девочки – действительно, наверняка же имеются родственники, опекун… Хотя и здесь у меня есть опасение – нет ли тут какой-нибудь интриги? Отчего произошла случившаяся в усадьбе трагедия? Только ли стечение обстоятельств? Ведь наследство осиротевшей, не совсем нормальной девочки может для многих оказаться лакомым куском… Заинтересованы ли лица, которых мы отыщем, в ее «воскрешении»? И не является для нее Хитровка сейчас более безопасным местом, чем объятия родственников?
– Аркадий Андреич, да у вас, кажется, паранойя, – усмехнулся Камарич. – Здесь следует не рассуждать, а действовать по всем фронтам сразу и победа не замедлит явиться. Надо найти девочку – это в первую голову. Даже если отыщем родственников – что мы им предъявим? Неизвестно кем исписанную тетрадь? А может, это вы сами решили беллетристом заделаться…
– Но нельзя же так сходу…
– Тут вы правы. К походу на Хитровку следует подготовиться. Морально, да и материально тоже. Я думаю, что операцию по разысканию девочки имеет смысл назначить на понедельник – после загульного воскресенья все пьяницы будут тихо лежать по своим местам и мечтать о полтине на опохмелку… Тут-то мы их и облагодетельствуем, но не задаром… А до того…
«Сейчас он попросит дать ему почитать Люшину тетрадку, – подумал Аркадий. – Это разумно. Но я ему ее не дам. Почему? А черт его знает!»
– А до того вы выпишете для меня из этого дневника все имеющие значение для опознания факты: имена, фамилии, географические названия, может быть, названия улиц или описания домов, где живут знакомые с девочкой люди…
– Разумеется, конечно, обязательно, – с суетливым облегчением вымолвил Аркадий и подумал одновременно: «Балагур Лука Камарич – тактичен или умен?»
* * *
«Все вещи, откуда бы они взяты ни были, являются неотъемлемой собственностью того, кто в данный момент ими владеет…» – это слова генерал-губернатора Ростопчина, сказанные им в приказе от 1813 года.
И эти же самые слова – девиз Сухаревки. Здесь можно найти все, что угодно. От булавки до императорского чайного сервиза. От замка без ключа до картины Рембрандта. Подлинность не проверять, хозяина не искать. Однажды, говорят старики, продавали даже украденную из Кремля пушку. Когда обворованный москвич или гость города обращается в полицейский участок, жалуясь на памятность или особую ценность украденной вещи, ему так и говорят: «А вы в воскресенье на Сухаревке поищите…»
В 1813 году в Москву после пожара и отступления Наполеона начали возвращаться москвичи и, естественно, интересовались судьбой своего частью погибшего, а частью просто разграбленного имущества. Тогда-то генерал-губернатор, во избежание беспорядков и пр. и издал вышеприведенный указ, а так же разрешил владельцам эти вещи продавать, но только один раз в неделю, в воскресенье и в одном только месте, а именно на площади против Сухаревской башни. И в первое же воскресенье толпа народу с награбленным в войну барахлом запрудила огромную площадь…
С тех пор так и повелось.
Еще с ночи на воскресенье вырастают на площади сотни палаток, занимая всю широченную Садовую улицу. По обеим сторонам оставлены узкие дорожки для проезда, а посередине весь день колышется море человеческих голов. Над всем скопищем – древняя, высоченная Сухарева башня с огромными часами. Каждый ее камень – легенда или сказка, одна другой страшнее: колдун Брюс, золото, Черная Книга – обычный набор, который рассказывают старшие дети младшим, в спальне, зимними вечерами, погасив свечу. А в жизни, не в легендах, в верхних этажах башни располагались цистерны московского водопровода.
Краденные и за одну ночь перелицованные на Хитровке вещи сюда иногда возами везли. Воры-одиночки за бесценок скидывали добычу барышникам. Пьяницы продавали последнюю одежку, вдовы – оставшиеся от мужа вещи. Прочий товар – иногда дымом поджога пахнет, а иногда и кровью полит. Не только нищий, да несчастный – даже богачи являются сюда регулярно, на грош пятаков прикупить. Все всех надували. Все о том знали. И каждый приходит с надеждой – остаться в прибытке. Человеческая натура на Сухаревке – как на ладошке выложена. Приходи и изучай, кому интересно.
Люше как будто бы и не интересно. Идет с независимым видом, целеустремленно, по сторонам не смотрит. Что девчонке-оборвышу на Сухаревке надо? Отложила денежку на яркий платочек? Или уж совсем развалившиеся ботинки поменять решила на ношенные, но еще крепкие?
Палатки сухаревских букинистов все стоят кучно, ближе к Спасским казармам. Около них – сравнительно тихо. Бродят библиофилы, перебирают книги, ведут степенные беседы с продавцом. Шесть дней в неделю букинисты ищут свой товар – скупают по частным домам, усадьбам, целыми библиотеками покупают у разорившихся дворян или их не интересующихся книжной мудростью наследников. В трактирах на Рождественке, в Большом Кисельном переулке и на Малой Лубянке работает «книжная биржа» – там перепродают букинистам отдельные книжки все, кому не лень. Захотелось обалдую-гимназисту сводить в кофейню приглянувшуюся барышню – а где денег взять? У папаши в кабинете – большое собрание, разве он заметит убыль одной-двух книг?..
Букинисты знают всех своих постоянных покупателей в лицо, по интересам, и даже – как они платят. У них можно заказать какую-нибудь редкость или отсутствующий том в собрании сочинений. (Придет тот же папаша, посадив обалдуя под домашний арест на хлеб и воду – ему его же томик с улыбочкой и продадут, и цену заламывать не станут – все мы родители, всё понимаем). Благоволят букинисты и бедным студентам – дают нужные для экзамена книги или издание лекций напрокат без залога, по пятачку в день. И никогда за студентами книги не пропадают.
– Мне веселое чего-нибудь и умное еще. Две книжки, – для верности Люша показывает два пальца и протискивается к самому столику, оттеснив пузатого купца-библиофила, который, пыхтя и не торопясь, подбирает книги для своей библиотеки. Уже отобрал и отложил в сторону Салтыкова-Щедрина и поварскую, богато иллюстрированную французскую книгу.
– Извольте, барышня, – усмехается букинист. – Могу для веселья предложить сочинение мадам Ле Пюль, фривольно и пикантно, с альковными приключениями…
– Чего это?
– Легкое чтение про любовь маркиза и…
– Не, про любовь мне без надобности. Мне чтобы с приключениями, с дракой…
– Господина Дюма вы, помнится, брали уже… Тогда вот, сочинение Жюля Верна, «Дети капитана Гранта», увлекательно весьма.
– Приключения есть?
– Сколько душа пожелает!
– А смешное?
– Конечно! Образ рассеянного ученого Паганеля…
– Беру! Теперь умное.
– «Метаморфозы» Овидия?
– Знаю… нет!
– «Золотой осел» Апулея?
– Это точно умное? Что-то название больно дурацкое…
– Тонкая ирония римлянина, барышня…
– Не поняла… Но ладно… Сколько стоит?
– За два с полтиной отдам обе.
– Два целковых и все.
– Два и четвертак, барышня. Больше скостить никак не могу, увольте.
– Черт с вами, вот, получите!
– Как вы думаете, для кого эта девушка покупает книги? – спрашивает один букинист другого в минуту, когда нет покупателей. – Невозможно представить, что для себя.
– Вы правы. Я пытался в свое время чуть-чуть экзаменовать ее, она явно никогда систематически не училась.
– И с трудом поддерживает беседу… Может быть, книги – утешение для больного отца?
– Может быть… Но в любом случае – это мужчина, потому что от традиционно дамского чтения она всегда отказывается.
– Чудаковатый хозяин? Вспомните курьез: много лет являлся неграмотный лакей с аршином в руках и требовал книги в дорогих переплетах и известного размера. За ценой не стоял. Так собирал библиотеку его барин…




















