Читать онлайн Ручьём серебряным к Байкалу бесплатно
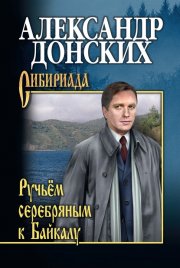
© Донских А.С., 2020
© ООО «Издательство «Вече», 2020
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2020
Сайт издательства www.veche.ru
Ручьём серебряным к Байкалу
Первая часть
Дева
1
Лёва рос тихим, рассеянным, задумчивым мальчиком с большими удивлёнными глазами. Он внешне был послушен, исполнителен, зачастую даже робок. Однако с годами явственнее примечалось за ним, что он никогда не поступает так, как все или многие, что он с какой-то особенной, не для всякого различимой и понятной странностью.
– Тихушник-противленец, – неясно выразился однажды отец в присутствии сына и потрепал его по голове, жёстко и как-то с раскачиванием, будто бы хотел, чтобы она покатилась.
Но жена возразила мужу, притворившись, что не расслышала:
– Против ленцев, говоришь, Паша? Правильно ты подметил, хотя где такое чудное словечко выкопал – ленцы? Ты присмотрись, присмотрись к Лёвушке: какой у нас трудолюбивый сынишка! Да и лишнего слова не скажет, – ласково погладила она сына, который исподлобья и вкось поглядывал на отца.
– Он идеал! – усмехнулся и притворно зевнул супруг. Не стал спорить – деловито зашуршал газетой.
Павел Михайлович Ремезов, отец Лёвы, успешный строительный инженер, был видный, внешне лёгкий и весёлый мужчина. Мать же, Полина Николаевна, вечная домохозяйка с образованием медика, выглядела противоположной ему – какая-то притиснутая, раздражительная, она, можно было подумать, чем-то глубоко томилась. И мальчик с раннего детства чувствовал и догадывался, что мать и отец как бы не совсем родные друг другу. Потом он осознал, что они во взаимной холодности, если не сказать – во вражде, а их совместная жизнь в одной квартире тягостна и мучительна для обоих.
Однажды Лёва, находясь в соседней комнате, а родители не знали, что он там, нечаянно услышал беспощадные, страшные слова отца:
– Ты, Поля, думала привязать меня детьми? Не вышло! Не в любви родились наши дети. Чёрт возьми, столько лет, сто-о-о-лько лет я угробил на тебя, на это дурацкое, притворное супружество! Ты тогда заманила меня в постель, молодого, бестолкового самца, потом забеременела, а я, будучи на все сто наивным и честным человеком, не бросил тебя. Но всего-то и нужно, чтобы жить по-человечески да в счастье, – любовь. Лю-бовь! Я, инженер до мозга костей, становлюсь, кажется, поэтом, – попытался он пошутить, но его голос перепадал и сминался.
– Ты бабник и бежишь по-кобелиному за всякой юбкой. Правильно сказал – самец. Всё такой же самец, что и в молодости. А у меня уже не сердце – одна сплошная рана. Я до времени состарилась и обветшала. И ты, ты – мой мучитель, истязатель, кровопийца! Бежишь от меня и детей? Хорошо: беги, беги! Удовлетворяй свои низменные страстишки, свою похоть, кобель проклятый!
– Ты неправа, Поля. Какие ещё низменные страстишки, какая ещё похоть! Я потому и бегу, пойми ты, что нет любви между нами, нет духовного сродства, а оттого и жизнь наша мучение. Разойдёмся, и дела у обоих поправятся, вот увидишь.
– Какая может быть любовь или духовное сродство от кобеля? Ты подыскал себе молоденькую сучку – она младше тебя на двадцать лет! – и хочешь сказать, что у тебя любовь к ней, пацанке? Молчи, я ничего не хочу от тебя слышать! У нас трое детей, а ты теперь лепечешь о какой-то любви? К поэтам примазываешься? Да ты заурядный подлец, ничтожество, потаскун!
Мать разрыдалась. Лёва не выдержал: крадучись, на цыпочках выскользнул в дверь и побежал, куда глаза глядели.
Родители развелись. Поделили и имущество, и квартиру, и детей. Никита, отцов любимец, жил с отцом в его новой семье. А Лев и Агнесса остались с матерью.
У матери вскоре появился новый муж – тучный, угрюмый, пожилой человек. Она, возможно, намеренно выбрала себе такого супруга – полнейший контраст прежнему, хотя сама была хороша, очень, говорили, хороша: тонка и изящна высокой фигурой, величественна и грациозна пышной причёской, притягательна и обаятельна чёрными большими грустными глазами. Она, несомненно, была интересная, редкостная женщина.
Как-то соседи судачили на лавочке, а Лев с балкона услышал:
– Смылся, говорите, к другой? И чего ему надо было: Поля-то вон какая краля. Да и врачиха.
– На молоденькое потянуло мужика.
– Говорят, молоденькая-то эта страшненькая и косолапенькая.
– Так ведь молоденькая!
– А может, любовь между ними.
– Ну, уж: любовь после трёх-то детей! Да и Полину как разлюбить?
– Бес их знает: чужая душа – потёмки, знаете ли.
Молоденькая – вот причина? Или у него настоящая любовь? – озлобленно спрашивал себя Лев. Он тосковал по отцу. Мысленно разговаривал с ним, прекословя ему, порой ругая. И ждал, отчего-то ждал его возвращения, хотя такое могло бы быть только явлением чуда.
А отец жил далеко, в другом городе, даже в другой области и за все годы ни разу не повидался с сыном и дочерью, не ответил на сыновние письма. Казалось, отрубил одним беспощадным взмахом какой-то невидимой, но отточенной секиры целую пору своей жизни и судьбы.
С отчимом Лев не сошёлся никак, но не дерзил ему, не грубил, а был холодновато вежлив, даже деликатен, хотя понимал, что отчим, кажется, человек неплохой – неглуп и нежаден, семьянин и трудяга.
И от матери Лев мало-помалу отошёл. Не в любви родились наши дети – вот было то молчаливое и затаённое, что выросло призрачным, но плотным ограждением между сыном и матерью. Он появился на свет не от любви, но от чего же? От тривиального соединения клеток? Какая мерзость даже такие мысли!
И временами Лев-старшеклассник презирал, ненавидел и мать, и отца, а то и весь белый свет.
Он стал рано влюбляться. Им, красивым, стройным, умным юношей, увлекались. Но он недоверял самому себе, своим чувствам, выводам и наклонностям. С девушками, с теми девушками, которые ему нравились, с которыми он танцевал на дискотеках, которых провожал, которых целовал, у него неизменно возникали напряжённые, отяжелявшиеся отношения, потому что в нём всякий раз начинали полнозвучно и требовательно свербить вопросы: та ли она? По любви ли он делает то, что делает? Не будет ли раскаиваться? Не сделает ли её несчастной? Не погубит ли своей жизни? А дети – в любви ли они родятся? Он не знал, от кого получить ясные, однозначные ответы.
И чувства к девушке в нём незаметно, но неизменно настывали, обволакиваясь горьковатой, иной раз едкой мутью досады и ожесточения на себя.
Он сходился с другой и вновь попадал в те же мрачные ходы и норы вопросов без ответов.
2
Однажды Лев нагрянул к отцу, чтобы поговорить, чтобы кое-что понять, чтобы, наконец, напрямую спросить. Чтобы пригасла, ослабла боль сердца своего, беспокойного и тревожного.
Льву представлялось, что отец обрадуется его приезду: столько лет не виделись! Может быть, оставит его возле себя.
Но Льву не обрадовались. Даже родной брат Никита мало и неохотно с ним общался, подолгу днями и вечерами, пока не уехал нежданный гость, где-то пропадал, а поутру незаметно исчезал из дома, чтобы, очевидно, лишний раз не встретиться с братом.
Отец был суховат и сдержан со Львом. О матери ни разу не спросил, будто и не бывало её на свете. Лишь про Агнессу справился, но так, без интереса, для приличия скорее.
Льва поразила и восхитила молодая супруга отца. Сам отец уже был морщинистый, сивый, сделался каким-то по-стариковски угловато-костистым. Она же рядом с мужем – совсем девочка, светлая, даже светящейся привиделась Льву. И имя – Светлана. Но не красавица, отнюдь не красавица. Его мать как женщина, несомненно, роскошнее, невольно сравнивал он. Что же эта Светлана? Нос – шишечкой, щёки – сдобные ватрушки, вообще вся толстоватая, талию не рассмотреть, и Лев отчего-то утешился, однако одновременно устыдился таких мыслей и чувств.
Без Светланы отец со Львом угрюм, несловоохотлив, брюзглив. Однако стоит ей войти в комнату – он улыбчив и общителен, можно подумать, вмиг молодеет. Мрачный, нравственно неподвижный, даже нелюдимый в своей прежней семье – теперь же вслушивается в каждое слово супруги, всматривается в неё, быть может, хочет понять: то ли делает, то ли говорит? Лев злился, про себя называл отца старым мерином, артистом из погорелого театра, взвивал в себе сарказм и раздражение, но добрая и чуткая его душа сама собой противилась – и злость молкла, пряталась.
Отец всегда и раньше был сдержан и холоден со своими детьми от первого брака, и полуслова ласкового не припоминалось Льву. Теперь у него трое маленьких, подрастающих детишек – славные, смышлёные, ухоженные девочки. И что только вместе с ними ни выделывает он: кувыркается, кормит из ложечки, уговаривает, баюкает, и Лев понимал, что его отец услаждается, торжествует, купаясь в этом своём состоянии отцовства, семьянина, наставника, друга.
Два дня Лев пробыл у отца и, уезжая, строго сказал себе, что когда-нибудь тоже создаст прекрасную семью, что возле него не будет ни одного горемыки, озлобленного, подавленного. А о Светлане подумал, что она – свет, что рядом с ней отец распрямляется, молодеет, живёт.
– Теперь ты нашёл свою любовь? – спросил сын, прощаясь с отцом на пустынной платформе железнодорожного вокзала.
Была осень, безучастно и чахло сыпался дождь. Садило мазутом и тленом тайги, которая обхватывала со всех краёв этот маленький сибирский городок, и его совсем не было видно за деревьями, сопками и дождём с лоскутами туманов. Лев зачем-то утягивал голову в куртку, будто зяб, хотя было ещё тепло. Рядом с ним и отцом не было людей, не было домов и деревьев, и небо не просматривалось, только лишь какая-то нечаянность мира – бесконечная железная дорога с обрубышем платформой, с маленьким облезлым вокзальчиком. Наверное, можно было бы подумать, что и сама жизнь есть некая нечаянность, некое недоразумение Вселенной, в которой так всё выверено, повинуется железным, но понятным законам, а жизнь – она вечно выпячивается с какими-то своими диковинными вопросами, маловразумительными претензиями, дерзкими поползновениями.
Отец приподнял торчащую волосками серую, старую, подобную ветоши, бровь, слабо, но с нескрываемой надменностью усмехнулся:
– Нехорошо чужие разговоры подслушивать. Мы с матерью всегда прятали от вас наши разногласия, но где же от тебя чего скроешь!
Помолчал, прикусывая губу. Сын прямо, возможно, дерзко, смотрел на отца.
– Про любовь спросил? Я знаю, ты переживал больше всех, что мы с матерью развелись. Но я не буду перед тобой оправдываться. Подрастёшь – кое-что сам поймёшь в этой жизни. Поймёшь, к примеру, что живём мы всего-то один раз. Всего-то один-одинёшенький разочек! И должен быть на вес золота каждый день и миг, иначе тебе, личности, – грош цена. Но как жить, если нет любви? Влачиться, врать? Я не захотел. Повезло мне – встретил Светлану. Чистую, юную девочку. Деву! Ей было восемнадцать, около девятнадцати, – всё одно ребёнок ребёнком.
– Неужели к матери у тебя совсем ничего не было? – пытался Лев заглянуть в подвижные, ускользающие глаза отца.
– Да отстань ты от меня со своей матерью! Вот ведь репей!
– Не отстану. Я должен знать, чтобы… – Лев на секунду задумался и чуть не по слогам произнёс: – Чтобы правильно жить.
– Правильно жить он собрался! Да что такое «правильно» или «неправильно»? Умник мне выискался! Святоша чёртов! Ну, отвечай: «правильно» или «неправильно» – что сие такое, что за редкие звери?
– Без роковых ошибок.
– Чего ты в меня впился взглядом, точно бы во врага народа? Да, да, мы с твоей матерью допустили эту самую твою раковую ошибку, – зачем-то исковеркал он мысль. – Ну так и что же теперь? Убиться и не жить? Чего ты от меня добиваешься? Сам не знаешь? Взбередил мне душу только. Что, я теперь до гробовой доски должен отвечать за грехи своей молодости? Посмотрю, каким макаром ты обустроишься, какой такой хитростью ты безгрешно проживёшь. Ишь, пра-а-а-вильный мне выискался! – сморщился и шутовски пропел он.
Сплюнул под ноги. Прикурил, обжигая пальцы огнём спички.
– Ты, отец, не обижайся на меня. Я ведь просто по-мужски хотел с тобой поговорить. Мне жить на свете. И кто меня наставит, как не ты?
– Ну, прости, прости.
– Зачем «прости», мы же не чужие друг другу. Кажется.
– Кажется, видите ли, ему! Креститься надо, коли кажется. Скоро поезд, – спросить-то ты чего ещё хотел?
– Спросить? Спрошу – обидишься.
– Да уж давай… руби. Мы, Ремезовы, люди откровенные и нехитрые, любим выкладывать сразу, чтоб, понимаешь ли, собеседника равно что обухом по голове, – мелко, тряско засмеялся отец.
Смутился, встретившись с неприкрыто ироническими глазами сына. Хмуро, гаркающе кашлянул в кулак.
– Отец мой, дед твой, Михаил Гаврилович, Царствие ему небесное, ведь чего вытворил по молодости? Любил правду-матку выплеснуть на человека, ушатом холодной, ледяной воды, да поковыряться, поковыряться до самого, о чём с усладой говаривал, корешка жизни. Ну, однажды и ковырнул: полюбопытствовал у своей матери, у моей бабки, Любови Фёдоровны: «Матушка, чёй-то я на соседа нашего, на Кузьму Захаркина, похож становлюсь. С чего бы? Или мерещится мне?» А Любовь-то Фёдоровна была ух какая женщина – ка-а-ак огреет его вдоль спины ухватом да ещё ткнула рогатиной в брюхо. Пару-другую рёбер, говорили, сломала. «Чтоб, сынок, не чудилось впредь! – ласково пояснила она. – А мамка твоя хотя и не святая, однако порядочная женщина». Почему, Лёва, не смеёшься? Невесёлая история? Так что ты хотел спросить у меня?
– Ты меня, надеюсь, не побьёшь?
– Где же вас, нынешних циников, побьёшь? Сами, если что, отмутосите родителя. Ну, спрашивай, пытай, противленец-правдолюбец.
– И спрошу! Со Светланой у тебя по любви или – что молодая она? Взял её, чтобы под себя воспитать, что-то из неё слепить такое, что устраивало бы тебя на все сто? Ведь взрослую женщину уже не переделаешь, что называется, с наскоку. Мать-то моя с характером, здравомыслящая женщина.
– Тьфу, замолкни ты, ради христа! «Под себя», «на все сто», «слепить» да ещё «что-то такое», – иезуит же ты, Лёвка, поганец, е-ей поганец! – оскаленно улыбался побледневший отец.
Лев почувствовал нарастающее ощущение гадливости и к себе, и к отцу, и к жизни всей, и прожитой уже, и не прожитой ещё. До боли прикусывал губу, страдая, казнясь, – как он мелок и ничтожен: радуется, что отец растерян и уязвлён. Но напирали и вопросы: «Почему я его ненавижу? Потому что он счастлив? Потому что мать сделал несчастливой? Мне нужно пожалеть его?..» Почувствовал в груди разрывающую грусть и обострённо понял, что нужно немедленно заканчивать этот странный, нехороший, очевидно, неродственный разговор. Но поезд ещё не подошёл, а потому придётся о чём-нибудь говорить, смотреть друг другу в глаза.
Отец покачал лысеющей, вымоченной дождём головой:
– Что ж, спросил ты, вижу, серьёзно – на полном серьёзе и отвечу тебе: любим мы друг друга. С матерью же твоей было у меня только одно – грех. Чую, горестно тебе слышать, да что есть, то есть. Сейчас такую любовь называют сексом, а тогда по-простому – спутались-де. Не скажу, что оба блудниками мы были, но вот – что называется, чёрт попутал. Не слышал пословицу: сучка не захочет – кобель не вскочет? Эх, чего-то я понёс, покуролесил, старый хрыч! Баста, больше ничего тебе объяснять не буду. Но так скажу напоследок: родятся у тебя дети – блюди за ними с малолетства. Блюди-и-и! И сам без любви – ни-ни! Ну, ты знаешь, о чём я, – дрожанием щеки подмигнул отец. – А про мать твою не хочу я ничего дурного сказать – любила она меня. А-а, что уж! Если чего лишнего ляпнул – великодушно прости: старый стал, мозги усыхают. Вот дождичек сейчас чуток намочил их – я и разбалакался. Говоришь, на Светлану позарился я, что молоденькая она?
Помолчал, зачем-то щурясь в землю. Сын не торопил его. Из тумана показались огромные чёрные глазницы электровоза; он взревел толстым протяжным гудком. Мокрые вагоны, со скрежетом отстукивая на стыках, подкатывались к вокзалу. Наконец-то! – Лев даже выпрямился. Вытянул из ворота куртки шею. И отец тотчас изменился – повеселел, взбодрился, вскидываясь сутулыми плечами.
– Что ж, может, ты и прав. Я когда встретил её, то моментально понял, что такую женщину и ждал всю свою жизнь. Подумал: вот такая чистая, непорочная, добрая мне и нужна жена. Девушка, дева! Одно слово – святая! Сердцем чистая до святости, до сияния, – приподнялся он, покачиваясь, на носочки. – Я её берегу, на руках, можно сказать, ношу. Помру – чтоб счастлива потом была. Ей жить, детей наших поднимать. Да, ты прав: где-то в чём-то и под себя воспитывал её. Ну а что такого? Ведь не для греховной и грязной жизни она мне нужна была. Она помогла мне выправить мою судьбу. Видишь рельсы? И судьба у меня теперь такая же ровная, правильная, крепкая. Рядышком с ней и я стал лучше, чище, здоровее физически и нравственно. Если же люди женятся и оба со временем становятся собаками друг для друга – к бесу такая жизнь.
Оба помолчали, жмурясь на размазанные дождевой пылью таёжные просторы, на разливающиеся вдали ручьями рельсы. Всё сказано. Невыносимая печаль. Нужен ли был такой разговор, нужно ли было встречаться? – оба, быть может, так спрашивали или могли спрашивать себя.
Хрипло и трубно загудел, одновременно пугая и радуя Льва и отца, электровоз. Пора прощаться. Свидятся ли ещё, захотят ли встречи? Отец, своим давним манером раскачивая сына за плечи, игриво-дружески оттолкнул его от себя:
– Ну, поезжай. Пусть и тебе повезёт. Главное, не трусь, не юли по жизни, загребай обеими руками. Не жди, когда рак на горе свистнет. Сам действуй, и тебе обязательно повезёт. Как и мне, – уточнил он.
И зачем-то снова подмигнул, вымученно улыбнувшись серыми губами.
Лев холодно подумал, что пасует старина перед ним, понимает свою вину. Он не желал, чтобы хотя бы одна искорка нежности и любви к отцу сейчас осветила его душу.
Отец отвернулся и стал громко сморкаться в платок. Поезд наконец-то тронулся.
– Повезёт, повезёт, – похлопал отца по плечу сын и заскочил на ступеньку поезда. – Бывай.
Отец не откликнулся и полвзглядом. Напоследок не пригласил заезжать, не попросил написать или позвонить. Лев мутными глазами провожал отца, горечь жгла и травила душу: родители жили не по любви, а виноваты их дети? И выходит, что на всю жизнь расползстись пятну, родимому пятну: он, Лев, и сестра его Агнесса – вроде как незаконнорожденные в этом мире.
Отец одиноко стоял на перроне в растрёпанной поднявшимися вихрями одежде, с лицом, которое он закрыл носовым платком чуть не в половину.
В голове Льва хлипко, влажно ворошились мысли о том, что он не должен судить отца, что нет и не может быть у него такого права. Понятно, что отец и мать за свою нелюбовь хлебнули через край, теперь, быть может, они квиты друг перед другом, а их детям, что бы то ни было, остаётся одно – жить, всё же жить. Надо жить, и выбора нет и не должно быть. Но как жить с этой чёрной тоской в сердце, с этим червем несогласия в голове? Однако, если хорошенько подумть, то что, собственно, такое эта тоска или этот докучливый приятель – червь? Они же не брёвна, не мешки с камнями на плечах! – подбодрился Лев. Но влага, отчего-то солоноватая, залепила, размазала его зрение почти на нет, и он, зачем-то высовывая голову в дверной проём, раньше потерял из виду отца, чем тот исчез вдали – в мешанине слоистого, землисто-серого тумана и дождя.
Больше отец и сын никогда не виделись.
3
Лев понял и уверовал тогда, что именно молодая женщина, девушка, дева составила его отцу, человеку в годах, человеку с колющим, неуживчивым характером, истинное счастье, принесла в его сердце успокоение и, возможно, блаженство.
И сыну казалось, что он, несмотря ни на что, не обиделся на отца за прохладный приём, за неласковые проводы, за нежелание поддерживать какие бы то ни было отношения. Вспоминая ту встречу, он стыдил себя, что лез к отцу с глупыми и наивными вопросами, а минутами так попросту глумился над ним. Называл себя мальчишкой, бестолочью. Он понимал, что отец всё же молодец: не фальшивил и не врал, хотя и грубоват, но откровенен и чист, как ребёнок.
И теперь Лев знал, что нужно делать, – найти свою любовь и сохранить её.
И стать счастливым. Просто счастливым.
Но только бы не ошибиться, не повториться, не родить несчастных детей, а после не мучиться всем! Отец смог начать заново, а Лев переживал – не придётся ли и ему после выправлять свою судьбу? И он зачем-то поигрывал словами: вытравлять, выправлять. Но тут же упрекал себя, что не боится ли он жизни, ещё и не начав по-настоящему жить. Надо понять, уверял он себя, что не спрячешься, подобно Премудрому пескарю из Салтыкова-Щедрина, и никто другой за тебя не проживёт твою жизнь. Надо жить, а не рассуждать о жизни. Надо любить себя и людей, а не подозревать всё и вся в какой-либо неполноценности, в отклонениях, в роковых ошибках.
Своим чередом Лев поступил в политехнический институт. Но уже когда сдал вступительные экзамены и был зачислен, спохватился, не спохватился, но тем не менее немало подивился своему поступку: как отец – будет строителем. Однако Льву представлялось, что отцу он не хотел подражать. Никак, никогда! И мать не нажимала, какую профессию ему выбрать, а рассудила просто, ласково:
– Сам, Лёвушка, решай. Ты у меня с пелёнок самостоятельный. Противленец, одним словом, – печально улыбнулась она.
– Хм, противленец! Любимое словечко моего досточтимого папаши, – рассердился Лев и с досадой подумал, что, наверное, как ни переубеждай себя, но засела-таки в нём обида на отца, если уж совсем ни в чём не желает на него походить, что-либо повторить из его судьбы.
Льву страстно, неотступно хотелось, чтобы его жизнь вызревалась по-другому, непременно по-другому, так, как он хочет, только как он хочет, чтобы никто и никогда не распоряжался его жизнью и стремлениями. Он, и только он, может быть распорядителем и властелином своей судьбы!
На втором курсе замыслил бросить политехнический, куда-нибудь перевестись, можно было в железнодорожный по соседству. Но на этот раз мать вступилась:
– Лучшей профессии, чем строительной, ты для себя, Лёвушка, не найдёшь. Поверь мне. Строители всегда и всюду нужны. И заработки у них приличные. – Она с острым, но улыбчивым прищуром посмотрела на грустного, недовольного сына: – Я ведь знаю, сынок, чего ты хочешь в жизни. Ты хочешь создавать что-нибудь новое, а не пользоваться чем-нибудь ветхим и старым. Ты хочешь по-другому прожить жизнь. Не так, как я или твой отец. А строишь, к примеру, дом – не созидаешь ли и себя и свою душу? Строитель чем занимается? А вот чем – заполняет пустоту. Пустоту жизни, пустоту мира, пустоту нашего быта. И люди радуются, если пустота заполнена чем-нибудь достойным и красивым. Ты меня понимаешь?
– Спасибо, мама, за блестящую лекцию, – был язвителен Лев. – Теперь я знаю, что без строителей жизнь на планете Земля невозможна в принципе.
Она тихонько примолвила:
– Это не мои мысли. Так высоко и с любовью говорил о строителях отец.
– Твой отец? – отчего-то резко спросил Лев, хорошо, однако, понимая, о чьём отце сказала мать.
– Твой отец. Твой.
– А-а.
– Ты поморщился?
– Так, зуб побаливает, – отвернулся сын, чувствуя, что щёки его зажгло. – Что ж, политех, так политех. Не звёзды же с неба ловить, чтобы чем-нибудь заполнить пустоту своей и общей жизни.
– Ты стал как-то странно относиться ко мне, Лёвушка.
Сын промолчал, неопределённо пожал плечами и ушёл в свою комнату, зачем-то закрылся на щеколду. Повалился на диван, уткнулся лицом в подушку. После той последней встречи с отцом что-то теперь мешало Льву быть с матерью душевным, открытым, лёгким, оставаться просто сыном, просто её ребёнком. Он, взрослея, начинал чувствовать её так же, как отца: что и она где-то далеко-далеко живёт. Рядом же с ним ненароком очутился другой человек, внешне похожий на мать, а потому что же с ним, неродным да влезшим в чужую жизнь, церемониться?
Мать постучалась, но сын не впустил её. Услышал – она вздохнула и отошла. А он, сжимая зубы, думал о том, что ему стало тяжело жить с матерью, что появится первая возможность – уйдёт из дома, заживёт самостоятельно, по-своему. Ему казалось, что мать придумала для себя счастье с его отцом, что за него она вышла не по любви, а чтобы комфортно и удобно жить. Теперь же придумывает счастье с этим странным, располневшим, послушным ей мужчиной, и этот её новый муж нужен ей тоже только для того, чтобы жить комфортно и удобно, как привыкла при отце, с его немалыми зарплатами. Новый муж тоже неплохо зарабатывает, и мать может привычно для себя домохозяйствовать, жить, полагал сын, в своё удовольствие.
Он неожиданно выжал сквозь сомкнутые зубы:
– И мать, и отец – оба мне противны!
Но его тут же изумило, что он мог подумать столь неуважительно, столь низко о родителях, тем более о родной матери.
4
Окончил институт и удачно, но по хлопотам матери распределился в конструкторское бюро крупного монтажно-строительного управления в родном Иркутске, а не куда-нибудь в захолустье, на таёжные стройки, как многие его однокурсники. Зажил степенно, размеренно и легко.
Однако хватило его на год или чуть больше: надоела сонноватая тишина кабинета и зевания коллег, надоели шепотки и сплетни, надоело притворяться, что усердно работаешь, когда появлялось высокое начальство, надоел даже скрип карандашей и шуршание ластика. И от запаха бумаги отчего-то подчас подташнивало.
Хотелось настоящей, а не придуманной жизни, хотелось больших дел.
Перебрался из бюро на стройплощадку, в прорабы, – бюро недоумевающе и насмешливо пошепталось вслед. Перебрался на стройплощадку с её прокуренными, пропотелыми бытовками, с матюгами и выпивками рабочих, с холодом и зноем, с распутицей и пылью, с грохотом металла и выплесками огня, с ужасными навалами стройматериалов и устрашающим скрежетом кранов, – со всем тем, что молодому, увлечённому Льву понравилось сразу, потому что жизнь вершилась непритворная, настоящая, хотя в чём-то невыносимо грубая и даже бестолковая. Он редко встречал среди строителей людей унылых, раздражительных, некомпанейских. И, бывало, ему не хотелось возвращаться домой, – заночёвывал в бытовке.
Мать огорчилась предпочтением сына, но не требовала вернуться в бюро, лишь неопределённо, на какой-то свой внутренний незатихающий с годами спор с бывшим супругом сказала сыну:
– Весь в отца: от добра добра ищешь.
– Называется, похвалила.
– Вот тебе ещё похвала: тихушник ты и противленец неисправимый. А это уже, можешь считать, что от отца.
– Спасибочки, дорогие родители.
– Не обижайся, Лёвушка. Я только добра тебе желаю. Будешь теперь мотаться по стройкам…
Она замолчала, прикусив губу.
– Что же не скажешь: как твой отец?
– И скажу: как твой отец, – принуждённо засмеялась мать.
Попыталась потрепать сына по волосам, но он увернулся.
– Я хочу жить своим умом.
– Какой же ты вредный вырос. Невыносимый ребёнок. – Помолчав, неожиданно осевшим голосом сказала: – Ты уже давным-давно не называешь меня мамой.
Лев не перенёс её взгляда, отвернулся. Он и не подозревал, что не называет её мамой, просто мамой, как и должно ребёнку. Мама – какое простое и красивое слово, но Лев действительно уже не мог произнести его вслух. Как же он к матери обращается? Кажется, никак. Или «ты», точно к мужикам на стройплощадках. И к отцу, вспомнилось ему, он тогда не обращался по-обычному «папа». Что же с ними произошло, почему они друг другу стали такими чужими или даже враждебными?
Лев робко, искоса посмотрел на мать, но промолчал: не шло ни одно слово, будто не было в языке таких слов и фраз, которые могли бы быть понятны матери, когда её сын стал бы объяснять ей, почему же он не называет её мамой.
– Я понимаю: ты вырос. Но я не стала для тебя кем-то чужим. Я всё то же для тебя, Лёвушка, – мама. Мама.
Что-то нужно сказать матери.
Но сын застывше молчал.
Мать не стала ждать ответа, сама сказала:
– Бог тебе, сынок, судья.
Сын не отозвался.
Льву бывало мучительно неуютно рядом с матерью. Но в то же время он понимал, что ничего плохого она для него не сделала и не сделает во всю свою жизнь, что, кроме всяческого добра и блага, ничего иного не желала и не могла желать ему, что роднее матери ничего нет и быть не может на земле, доколе живут на ней люди.
«Но если я усомнился в самом святом и непогрешимом для человека, в матери, – как же я буду жить, как же я буду ходить по этой земле, смотреть людям в глаза?»
Он старался реже бывать дома. На стройках, в бытовках, в бригадах мужиков монтажников и баб отделочниц, среди всего этого чужого ему, но вечно оживлённого, весёлого строительного народа он чувствовал себя легко и просто.
5
Пройдя несколько строек и сборочных цехов, Лев всё же стал уважительно и даже высоко думать и о своём выборе, и о своей профессии. Заполнять пустоту жизни, – вспоминались ему необычные слова отца, и он думал о них как о загадке, которую непременно нужно разгадать. Построишь здание и – радостно, особенно, когда узнаёшь, что люди довольны и твоя жизнь наверняка не впустую проходит, – верилось Льву.
Но одновременно от него не отступало предчувствие, что вовсе не профессия, не высоты мастерства и опыта, не прорабские, инженерные хлопоты дней и ночей будут узловыми в его жизни, предопределяющими его истинное счастье и благополучие. Он ожидал – что-то неминуемо заронится в его сердце, разовьётся в какое-то большое, сильное чувство, всецело захватит всего и, быть может, перевернёт его представления и желания. Он тревожно думал о своём будущем, о своём счастье: что раскрепостит его душу, что прояснит голову? Может быть, как строитель он мало-помалу построит и свою душу, сделает её крепкой, выносливой, но и податливой и как-нибудь по-другому начнёт жить, просто жить, любить и радоваться жизни.
Он встречался с девушками, он им нравился – красивый, высокий, интеллигентный, но любимой, единственной у него не появлялось. К каждой он присматривался подолгу, придирчиво, похоже, что оценивающе. И в конце концов говорил себе с досадой и тоской, что не та, снова, снова не та.
Одна девушка не выдержала и объяснилась ему в любви, а он рассудочно ответил ей, что не любит её. Она тайком сходила к его матери, поплакалась.
Полине Николаевне девушка понравилась очень: хорошенькая, скромная, работала учительницей, родители порядочные, обеспеченные люди, – чем не жена? Мать осторожно начала разговор с сыном, но он тихим твёрдым голосом оборвал:
– Я не люблю её. Понятно? Или ты желаешь мне судьбы моего отца?
Мать обмерла и стояла с крепко сомкнутыми побелевшими губами.
Он понимал, что произнёс страшные, если не убивающие, слова. Но не оправдывался, не извинялся и тоже, казалось, окаменел.
Мать и сын перестали разговаривать друг с другом. Лев дома появлялся урывками, в неделю раз-другой. Перемогался в бытовках или у приятелей.
Нужно было переменить жизнь, что-то решительное предпринять, окончательно, если не навсегда, уйти из родительского дома, но – что и куда?
6
Спасением для обоих – Льва призвали в армию. Призвали на полтора года как имеющего высшее образование, хотя была возможность не служить вообще: на него распространялась бронь, а в институте он прошёл через военную кафедру. Но он пошёл служить и достойно отслужил вдали от дома, вдали от матери, вдали от её и своего прошлого. Но однажды Лев спросил себя: неужели пошёл в армию ещё и потому, чтобы не походить судьбою на отца, который не служил? И ему впервые стало горько и обидно, что он так недоверчиво и надменно может относиться к отцу, что не желает и не жалеет своей матери.
Был прорабом; строил и ремонтировал жилые городки для офицеров. Служить нравилось, хотя понимал – что за служба в стройбате! Жизнь была вольной, неказарменной, со здоровыми зелёными жизнелюбцами. Лев был самым старшим среди солдат и виделся им настоящим мужиком, даже стариком. Они так и звали его – Старик. В бытовках и общежитиях не переводились женщины и вино. Но Лев не спился и не опустился. Напротив, он много читал и много думал, много настолько, насколько вообще возможна духовная, умственная жизнь в молодёжном человеческом муравейнике, в грязных, продымлённых бытовках и общагах.
Какие только женщины не встретились Льву – молодые и старые, счастливые и несчастные, замужние и одинокие, красивые и страшненькие, интеллигентные и неотёсанные, отчаянные и трусихи, полные и стройные, воровки и бессребреницы, даже офицерские жёны и девчонки-подростки прибегали к солдатам. Бывало, сегодня она спала с одним, а назавтра – могла уже с другим, третьим и дальше – по рукам. Отдавались и за деньги, и по любви, и за стакан водки, а то и сами платили солдатам и поили их, кормили, мыли полы и обстирывали. Но случались и серьёзные отношения, и даже намечались свадьбы.
Льву временами представлялось, что все женщины хотят интимной близости с мужчиной всегда. Всегда готовы лечь с любым, кто понравился им хотя бы немного. А боятся не нравственных страданий и раскаяний, а затяжелеть не от того и заразиться. И страх мучений физиологических – их неотступный страх по жизни. Но опытные, циничные или опустившиеся до края развращённости и этого страха лишены, и растворяют свою жизнь в наслаждениях, в неутомимых поисках новых, свежих услад.
В нём иногда взрывоопасно натромбовывалось презрение к женщинам: до чего же они низки, ничтожны, похотливы, непостоянны, капризны! И он, случалось, грубо гнал их от себя, надменно и зло насмехался над ними. Не встречался с женщинами неделю, другую, а то и месяц. Однако молодой здоровый организм не мог терпеть, томиться в воздержании – женщины снова попадали в его объятия, и он им лгал, что они прекрасны, неповторимы.
В постели он был ненасытен и изыскан. Женщины искали с ним встреч, а он страдал и минутами так ненавидел себя, что до оторопи представлялось ему, попади под руку оружие или отрава – или верёвка, наконец, – он что-нибудь сотворил бы с собой. Но чуть позже грустно и опустошённо понимал, что ничего над собой не сделает, потому что до азарта, до ненасытности любит и ценит жизнь, потому что отчаянно и нетерпеливо ждёт счастья, потому что всё ещё не увидел и не познал её – единственную, божественную деву свою.
Льва тревожило и минутами злило, что отсутствие в его жизни любви раззадоривало в нём охоту к наслаждениям. И ему тревожно думалось, что он износится, выдохнется, устанет. Когда же появится она – будет ли готово его сердце любить? Он вспоминал свои прежние любови, которые были у него на гражданке, и ему с досадой и раскаянием начинало казаться, что он когда-то наверняка проглядел настоящее чувство, что его страх – не та, не та, убивал и калечил в нём влюблённость, которая непременно поднялась бы до большой чистой любви. А теперь чего же может дождаться его издёрганное сердце? Разглядит ли он сердцем в тумане и смоге жизни деву свою?
Порой ему мерещилось, что сердце его стало липким и холодным, и он называл его «лягушкой», «жабой».
– Эй ты, земноводное, хорошо ли тебе там живётся? – обращался он к сердцу, постукивая по своей груди согнутым пальцем, как обычно стучатся в дверь. Прислушивался: – Затаилось, сволочь? Погоди, растормошу тебя, заставлю двигаться и жить во всю!
Льву нередко вспоминалась жена его отца – Светлана, и слова отца о ней: «Я когда встретил её, то моментально понял, что такую женщину и ждал всю свою жизнь. Подумал: вот такая чистая, непорочная, добрая мне и нужна жена. Девушка, дева! Одно слово – святая! Сердцем чистая до святости, до сияния».
– Святая, святая, – как бы отзывался сын, но насмешливо, ворчливо. – Где же они – чистые, непорочные, добрые да к тому же сияющие? Только до той поры они чистые, непорочные и добрые, пока остаются молоденькими, простушками неискушёнными? Так, что ли? И до какого же возраста они девы? Ну-ну, батя, отвечай! До скольки они ещё чистые и безгрешные создания, на которых можно молиться, которыми можно восхищаться, с которыми можно жить, не замарав своей души?
И Лев прислушивался, сощуривался – возможно, и вправду ожидал ответа. Ёжился:
– Идеалист ты, батя, и меня заразил, чего доброго, бациллами идеализма. А каким таким макаром мне потом обитать в этой всеобщей помойке под названием современная жизнь? Сейчас порок, всякий выверт вызывают у толпы восхищение и зависть: «Эх, и мне бы так же! Эх, и мне бы выбиться из общей массы!» Люди даже гордятся, что порочны и с вывихом в мозгах. Уж про их сердце молчу. Как жить, как жить? Кто ответит? Ведь ты мне, батя, не сможешь ответить – знаю! Но, может, я когда-нибудь отвечу тебе?
Лев не знал, с кем посоветоваться, перед кем распахнуться сердцем. Он был одинок, хотя вокруг него столько толклось всякого люда! И тот, кто открывал, что этот улыбчивый, внимательный молодой человек одинок, удивлялся – почему, зачем одинок?
«Ты красивый и здоровый, при деньгах, в старшинских погонах, нравишься женщинам – так чего же тебе не достаёт?» – зачастую прочитывал Лев в их глазах.
Были женщины, которые хотели не только встреч со Львом, этих дешёвых пошлых постельных любовей. Они страстно влюблялись в него, подкарауливали его, чтобы поговорить, передавали через солдат записки и даже целые любовные повествования. Случалось, первыми объяснялись в любви. Но его привередливое сердце не отвечало. В тайных глубинах сердца жил и креп какой-то ограничитель. Этот ограничитель, казалось, нашёптывал ему по-товарищески в ответственную минуту:
– Подожди, дружище, ещё немного, ещё чуть-чуть. Не время! Не та! Да ты и сам видишь.
Проходило время, и он понимал, что действительно – не та, ещё не та или совсем не та. Но что такое та – он всё более запутывался.
Некоторые женщины бывали чрезвычайно, до отчаяния настойчивы. Одну молодую особу, офицерскую жену, хорошенькую, миниатюрную, перекрашенную блондинку, которая намекнула ему, а потом и открыто предложила, что, может быть, будем жить вместе, он жестоко обидел. Он был дружен с её мужем, прекрасным офицером и инженером, семьянином, но скромным, робковатым человеком с тонкой шеей и ранней на полголовы пролысиной.
– Что же ты предаёшь своего мужика? – спросил Лев у фальшивой блондинки, выдыхая папиросный дым в её покрасневшее наморщенное личико. – Тебе хочется поудобнее устроить свою драгоценную жизнёшку? – с трудом, но жёстко-чётко выговорил он последнее, невозможное для русской речи слово. – Ведь я неутомимый любовник, заколачиваю деньгу и могу больше, если захочу, а то и в генералы выбьюсь. Не пьяница, молодой, симпатяга к тому же. Да, с таким тебе будет удобненько жить-поживать да добра наживать. А ты знаешь, что сначала надо полюбить человека? Так полюбить, чтобы от тоски и отчаяния захотелось бы умереть, отрезая от себя кусочки мяса? А-а, каково?
Она смотрела на него ошарашенно, еле вымолвила:
– Мне нужно умереть, чтобы ты что-нибудь понял?
– Умри.
Она вмиг преобразилась: глаза её, почудилось Льву, красно вскипели пылом мести и презрения:
– Пошёл ты!..
– Правильно. Я пошёл.
– У тебя не будет счастья! – крикнула она вдогонку.
– Возможно. Но без тебя, сучки продажной, уже счастье.
Но шёл и тут же ругал себя: зачем, зачем глумиться над этой несчастной куколкой, унижать, растаптывать её? Она живёт как может, у неё не хватит никаких сил, чтобы измениться хотя бы немножко. Да и какое ему дело до её мизерной морали, до её бессмысленной жизни?
– Сволочь, урод, мразь!
Она кинула камень.
Лев увернулся. Неторопливо уходил от неё, не оглядываясь и, быть может, не боясь, что другой камень может угодить в него. А она в истерике швыряла и швыряла в него. Потом опустилась на сырую весеннюю землю и зарыдала, стоя на коленях.
Он мучительно переживал свой дикий, беспощадный и омерзительный до гадливости поступок, но извиняться не пошёл.
Спрашивал себя: строит он свою душу или – разрушает? А может быть, он строитель химер? Химер пустоты? Где же оно, его счастье, почему оно обходит его, почему жизнь всюду столь ничтожна, неуклюжа, пуста?
Но в самой-самой потаённой глубине своего разума он берёг знание и веру, что жизнь не так уж плоха и ничтожна, как люди и он сам время от времени о ней думают. Что она разная, что она многосторонняя, что она необъятная в своих проявлениях и устремлениях, что она, наконец, живая, текучая, неповторимая. Что её, не надо бы забывать, освещает солнце! Только во что бы то ни стало необходимо не затеряться и не раствориться в ней в какую-нибудь безличность, в безликость, в никчемность – это самое страшное, что может быть уготовано, остро чувствовал он, живому человеку.
7
Лев демобилизовался, и можно было устремиться куда угодно – где строители не нужны? Но он поехал в Иркутск, потому что ему хотелось вернуться именно в этот город – в город его детства и юности, в город его мечтаний и надежд.
Он любил Иркутск, и, быть может, в этом городе его душа освежится, оживёт для счастья и веры. Лев любил его кривые улицы в старых высоких тополях, в деревянных почерневших домишках и в солидных купеческих усадьбах. Чем-то искренним, старчески-детским и нежным дышало на Льва от этих домов и деревьев. Любил Иркутск за красавицу Ангару, посерёдке облекшую город зелёным тугим поясом, а в этом чувствовалось что-то обещающее, молодое, надёжное. Любил город и за то, что недалеко лежал Байкал. Нравилось думать, что великое, славное озеро где-то поблизости. Сядь в автомобиль и через быстрый и нетерпеливый час – вот оно, прекрасное, большое, недоразгаданное. И раньше Лев часто к нему приезжал, подолгу стоял на берегу или с борта судна всматривался в бездну и чувствовал Байкал чем-то живым, таким живым, которое тебя выслушает, поймёт, а то и посодействует. И не нужно слов, всех этих банальных фраз о своих неудачах и треволнениях. Смотри на священное озеро, и тебе непременно станет легче, и в тебе непременно очнутся мечты, чтобы смочь жить разумно, красиво и – правильно. Конечно, правильно.
- Ручьём серебряным к Байкалу
- Лечу с вершин моих мечтаний.
Такие певучие, душевные, звонко-отчётливые, но всё же малопонятные слова услышал он однажды на берегу за своей спиной. Обернулся – но, однако, ни души рядом, и вдали никого не видно. Он, хотя и начитанный, не был поэтом, не писал стихов, но подумал, с улыбкой, что это так в сердце его само собой сказалось. И сказалось, радовало и веселило его, столь поэтически, столь загадочно. Наверное, не надо, размышлял он, обладать большими дарованиями, чтобы произнеслись когда-нибудь и как-нибудь по-особенному, высоко, слова любви и признательности.
Ехал Лев домой из армии с востока поездом. И когда за окном среди путаницы ветвей мелькнули первые просини и всполохи Байкала – уже не отходил от окна до самого Иркутска. Шесть-семь часов стоял в проходе у окна, высовывая голову наружу. Весело вдыхал майский таёжный воздух, вглядывался в туманные паруса холмов противоположной стороны. Льву представлялось, что это и впрямь ветрила-паруса, а не берега. Сорвётся ураган и унесётся Байкал в неведомые земли или к самому небу взмахнёт. Улетит к звёздам, к другим, более совершенным и достойным его красоты, мирам. Льву нравилось так по-детски, наивно бояться за озеро. И невольно начинало мыслиться о том, что теперь раздёрганная его жизнь поправится, потому что поблизости будет Байкал.
– Здравствуй, здравствуй, родной, – шептал он, когда из-за леса в который раз озеро распахивалось перед ним мощным, но ласковым свечением. – Ручьём серебряным когда-нибудь прилечу к тебе. И станем мы с тобой одним целым. Навеки. Хочешь?
Лев почувствовал себя свободно и радостно, и вытеснялась из его сердца накипь, сметалась напылённость последних лет.
Мать встретила сына сдержанно, насторожённо, но нежно. Коснулась губами его золотистого старшинского погона.
– Весь в отца – преуспевающий и блестящий.
Сын искренне соскучился по матери, ему стало жалко её: за полтора года она заметно состарилась, в глазах скопилась усталость одиночества. Стояла перед своим рослым красавцем сыном маленькая, пополневшая, рыхловатая. Сын прижимался к ней крепче, но бережно и недоумевал, как мог, как смел не любить её, не звать мамой.
Оба заплакали.
Отчим с год как умер; о нём они и словом не обмолвились, будто и не жил он с ними в одной квартире. И об отце вслух не вспоминали.
Сестра Агнесса ещё до службы Льва вышла замуж и жила особняком, в другом городе.
Брат Никита тоже обзавёлся семьёй, за все годы ни разу не приехал в Иркутск, хотя с матерью и братом переписывался.
Мать уже была пенсионеркой, жила одна и уже не хотела рядом кого бы то ни было из мужчин, кроме сына.
8
Лев попрорабствовал в Иркутске на мелких ремонтных объектах. Жизнь снова стала мниться обыденной, размеренной, точно бы ежедневно, методично заводимые часы. Его придавливала скука и – называл он в себе, вспоминая отца, – пустота. Люди кругом копили деньги, бесконечно и нудно толковали о вещах и машинах, жаловались на жизнь, – бессмертные пересуды и заботы, несть им числа. Но Лев с горечью и досадой понимал, что не жизнь вокруг него была совсем уж такой пустой и никчёмной, а сердце его не было зажжено и оплодотворено высокими чувствами любви и дружества.
Но девушки, интересные особы всё же случались рядом с ним – возмужалым, крепким мужчиной, изысканно одевающимся, начитанным, следящим за музыкой и театром, но несколько нелюдимым, задумчивым, с большими грустными глазами обидчивого мальчика. Девушки тянулись к нему: он виделся им, несомненно, блестящей партией. А грусть – что ж грусть: развеем, быть может, полагали они с девичьим легкомыслием и простосердечием молодости.
– Твои глаза – колодец без дна. Всматриваясь, прищуриваешься туда, но ничего не видно, – сказала ему одна влюблённая в него поэтическая девушка. – Что там, Лев?
– Там – я, – пошутил он.
– Но какой ты? Мы уже месяц знакомы, а я не пойму, что ты за человек. Чего-то думаешь да думаешь сутки и ночи напролёт. Грустишь. И молчун ты невыносимый!
– Это не я грущу, а тот, что сидит в колодце, – снова отшутился Лев.
Девушка потрясла плечами, будто замёрзла:
– Сидеть в колодце? Бр-р-р!
«Может, я в самом деле угодил в колодец и теперь сижу и мёрзну в этой холодной сырой яме? Выберусь ли?»
С этой девушкой он вскоре расстался навсегда, потому что молчать ему хотелось с любимым человеком, а к ней он не потянулся, хотя понимал и видел ясно – и умная, и порядочная, и приятная.
И с другими девушками он расставался. Одна курила, другая выпивала, третья была смела и ненасытна в утехах. Казалось, он искал в девушках не добродетели, не достоинства, а несовершенства, изъяны. Гнилой моралист, педант-чистюля, нравственно горбатый фарисей – и как только ещё ни ругал себя Лев в минуты отчаяния и озлобления на судьбу и людей. Жизнь, случалось, казалась ему невыносимой, и он серьёзно минутами полагал, что его самоедство становится отсроченным самоубийством.
Мать видела, что её сын одинок и несчастен.
– Женился бы ты скорее, Лёвушка, что ли. Уже немолоденький, – напоминала она вкрадчиво и ласково и принималась осторожно обсуждать подруг сына, которых ей удавалось увидеть. Всех хвалила: верила, что её сын с плохой не свяжется.
Он отмалчивался, но время от времени насмешливо ворчал:
– Все они хороши. Не на всех же мне жениться.
– Все ему хороши! Противишься судьбе ты, вот что я тебе скажу.
– Помню, знаю назубок, что я противленец. Не надо напоминать.
– Не обижайся. Я хочу тебе только счастья.
Однажды она охватила ладонями лицо сына и шепнула:
– Ты будешь, Лёвушка, счастливым! Ты не повторишь ни моей, ни отца судьбы.
Он закрыл и открыл веки, пытаясь признательно улыбнуться в её крепких, но подрагивающих руках.
– Ты ищешь, сынок, идеал?
– Не знаю. Может быть.
– Но женщина расцветает, когда оказывается рядом с любящим мужчиной. Вот тогда она и становится идеалом. Для него. Для единственного.
– Спасибо за лекцию, – морщился и, очевидно, страдал сын.
– Не за что, – грустно вздохнула мать и шутя потрепала его за ухо. – Лёвушка, а ты снова не называешь меня мамой.
– Прости… мама, – вымолвил он и покраснел.
Льву почему-то снова было трудно называть её мамой. И снова ему представлялось, что она далеко от него или даже они – не совсем родственники. Или совсем, совсем никакие не родственники.
9
Мать хотела внуков, невестку, новую родню, каких-нибудь радостных перемен и чаще, настойчивее напоминала Льву о женитьбе. Старшие дети, Агнесса и Никита, обосновавшись вдалеке, писали изредка: видимо, своё утягивало, что, разумеется, и должно быть. Матери же хотелось, чтобы пустошь вокруг неё обросла родными, дорогими ей людьми, домашним шумом, такими милыми семейными хлопотами и беседами. А так – лишь сын, малоразговорчивый, отстранённый, весь, похоже, в работе, в мыслях, в непонятных для неё переживаниях. Она – больная, пожилая, одинокая пенсионерка. Больная и пожилая – что ж, как-нибудь можно смириться. Но то, что одинокая, никакой покорности не может быть! Надо для чего-то жить, в чём-то находить утешение и подмогу.
Полина Николаевна не понимала сына: при его достоинствах, при его мужском блеске – стати, красоте, образовании, недюжинном здоровье, мастеровитости, высокой должности – он был начальником участка и уже вот-вот пойдёт на повышение – и достойных заработках да при таком сияющем хороводе великолепных дев, которые, точно бы самые яркие звёзды небосвода, появлялись в его жизни, до сей поры не выбрать лучшую, лучшую из лучших, и не жениться на ней? Это же что-то такое ненормальное, это же какой-то самый злобный, коварный рок, и она как мать должна, обязана ему помочь. И поможет!
Мать становилась настырной, чрезмерно ворчливой. Сын нервничал. Они бранились, и так дальше снова нестерпимо было жить.
Льву предложили с полгода поработать на строительстве северной гидростанции, и сын, как когда-то в армию, сбежал от матери.
Север восхитил, обнадёжил и встряхнул Льва. На обрывистых берегах бурной реки, среди промороженных во сто крат снегов, среди гористых чащобников беспредельного таёжного края, среди скал и ущелий, в морозы с обжигающим, мертвящим кожу хиусом, на самой что ни на есть вечной мерзлоте ударно, ежеминутно росла гидростанция – грандиозное, величественное сооружение. Лев, когда по работе взбирался к монтажникам на верхние отметки, восхищённо смотрел вокруг. Какие дали, какое могущество, какой размах, какая дерзость человеческого труда! Люди сверху смотрелись муравьями, и Льва поражало – они же и творят сие чудо! Он до того увлекался, до того задумывался, что забывал, зачем забрался на эту жуткую верхотуру, утробно звенящую под напором ветра металлом, ощетиненную арматурой. Всюду вспыхивали огни электрической сварки и кислородных резаков. Льва окликали, добродушно посмеивались над ним. Он стеснялся своих ребячьих восторгов, но не умел их надёжно скрыть.
На Севере хандра оставила, и ему хотелось только одного – участвовать в этом великом деле созидания. Такая жизнь освежала и бодрила его душу. Ему нравилось жить в тесной, но тёплой общаге в компании с сильными мужиками, от которых устойчиво пахло потом, спиртом и табаком. Они были веселы и легки. Если нужно – работали сутками и, представлялось, совсем не уставали. Не ныли, не печалились. Были нехитры и понятны. Лев надеялся и ждал, что здесь в его душу войдёт и закрепится что-то истинное, надёжное, долговечное. Что, может быть, завяжется в его жизни сердечная мужская дружба, такая, что можно будет открыться, и тебя не обманут, не посмеются над тобой. У него было много приятелей, его уважали, к нему тянулись. Его звали ко всем общежитевским застольям, и он вечерами и ночами просиживал с мужиками за столом, пил с ними спирт и водку, но не пьянел, потому что всегда знал и любил меру.
Льву радостно думалось о своей душе: что она тоже «строится», «поднимается». И жизнь потихоньку выправится, и он окончательно отделается, увернётся-таки от своей докучливой неуверенности, предубеждений, начнёт жить по тем отцовым напутственным словам – не труся, не юля по жизни.
Вернулся домой, но и месяца не выдержал: Иркутск томил, мать ворчала и наседала, а работа на участке и в управлении была сплошь рутинная, не захватывала. Запросился у начальства на Север, даже отказался от жданного и заслуженного повышения. Отпустили с великой неохотой только месяца через три: стоящие инженеры и здесь нужны. Уехал, чтобы спасаться от самого себя, чтобы загребать от жизни обеими руками.
Так и качало его: приезжал – уезжал, приезжал – уезжал. Возвращался на «материк» с большими деньгами, тратился щедро, бездумно, но всегда радостно и легко. Казалось, деньги ему нужны были единственно для того, чтобы изводить, разбрасывать их, точно новогоднее конфетти, теша себя и окружающих маленькими праздниками. Могло представиться, что он легкомысленный, несерьёзный человек. И, быть может, кроме матери, больше никто не догадывался, что он серьёзный настолько, насколько серьёзное отношение к жизни и людям может сделать человека несчастным.
10
Однажды там, на Севере, молодая женщина из конструкторского бюро сообщила Льву, что беременна от него. Он испугался – внутри вспыхнуло, обжигая. Тихо, шелестяще пробормотал в ответ что-то торопливое, путаное, невразумительное. Она подождала, не скажет ли он ещё что-нибудь, и с напускной бодростью заявила ему, что родит, будет ли он жить с ней или бросит; однако глазами впивалась в него.
Он – на колени перед ней:
– Умоляю… аборт… надо… пойми. Я не хочу. Не хочу…
Но он не смог произнести, чего же именно не хочет. Помолчав и поднявшись с колен, сказал чётче, яснее:
– Да, я насладился, удовлетворил свою животную страсть. Но неужели за минуты наслаждения мы должны с тобой расплачиваться всю оставшуюся жизнь?
– Ты думал, что я от болвана буду рожать? – озлобленно засмеялась она, но не выдержала – разревелась, заскулила.
Стала задыхаться, а он пытался помочь ей. Она отмахивалась и отталкивала его.
– Так ты не беременна? Не беременна? Скажи, скажи!
– Нет, нет, угомонись, мой пылкий ромео! Проверила тебя.
– И поняла, что я идиот?
– Идиот? Ты, гляжу, высокого мнения о своей драгоценной персоне! Да знаешь, кто ты? Ты… ты… мерзкий, ужасный. Ты – нелюдь! Наигрался? Доволен? Получил кусочек радости? А теперь убирайся, не могу тебя видеть.
Лев встретился с её страшными, испятнившимися яростью глазами. Остро понял, что ничтожен, слаб, жалок, низок. Что или кто ещё он!
Однако он не мог упрекнуть себя за то, что не полюбил эту женщину: она была разведена, на «материке» с бабушкой жил её пятилетний сын, а она здесь, среди холостяков, искала себе состоятельного мужа, это было несомненным для Льва, потому что таким образом поступали многие одинокие женщины, приезжавшие на северные стройки и прииски. Лев всякий раз спрашивал себя, приходя в её отдельную комнатку в женском общежитии: первый ли, единственный ли он, с кем она здесь наедине и в ком увидела своего будущего супруга?
Не рассчитавшись на работе, не оформив командирочное удостоверение, в мерзких чувствах Лев первым же рейсом улетел с Севера и не вернулся. Можно было ещё заработать денег, но к чему они ему – одному? Только что если потом – расшвыривать.
Впереди ему виделась потёмочная тусклота. Он не знал и не понимал, как жить, для чего, для кого жить? Перебираться из одного дня в другой – зачем? Ни север, ни юг, ни восток, ни запад, наверное, уже не могут ему посодействовать. Но он понимал, что причина его несчастий – внутри него самого, и она глубоко застряла, до того глубоко, что, грустно усмехался он, север не смог выморозить её своими ветрами и стужами, и юг не выжжет своим раскалённым солнцем. Что же говорить о востоке или западе!
Но этак дальше жить невозможно и даже глупо. Нужно что-то предпринять, что-то, возможно, перестроить в душе. Может быть, переселиться на другую планету, в другую галактику, – печально шутил в себе Лев. Но где взять корабль? Или по-страусиному запихнуть голову в землю? Но чем дышать?
11
Наконец ему встретилась-таки хорошая девушка. Та – почувствовал он.
Лариса не могла не понравиться Льву, потому что была красивой, умной, податливой, из приличной семьи. Она, несомненно, была прелесть. Льву захотелось по-настоящему полюбить эту славную девушку. Если же подкрадывалось сомнение, он торопливо возражал этому своему бдительному двойнику:
«А помнишь ли ты, что такое любовь? Ты столь часто и настырно изгонял её из своего сердца, что оно теперь может легко сбиться, запутаться, не распознать её. Не правда ли?»
И сам отвечал себе, но зачем-то с издёвкой, ёрничая:
«Правда, правда, Лев Павлович! Вы до такой степени мудры в этой области человеческих знаний, что хорошенько подумайте, не защитить ли вам диссертацию, да сразу докторскую? Вот будет славненько: профессор Ремезов. Но каких наук? Ну-с, к примеру, совершенно новой науки, изобретённой вами же, – брачной».
Познакомил Ларису с матерью. Полина Николаевна была счастлива: в кои-то веки сын пригласил в дом свою девушку! Девушка ей понравилась очень.
– Если уж ты и эту упустишь, – сказала она сыну с глазу на глаз, – ой, не знаю, что потом о тебе думать, противленец ты несчастный.
Лев поморщился, но промолчал.
– Что, снова зуб болит?
– Нет, сердце. По твоему давнему совету – всё же заболело моё сердце.
– Нравится тебе Лариса?
– Я же тебе говорю: моё сердце уже страдает.
– Не пойму: серьёзно ты говоришь или шутишь.
– Серьёзно шучу. Или шутливо серьёзничаю. Выбирай, что тебе нравится.
– Ай тебя!
Сделал Ларисе предложение. Поженились. Съездили к морю. Потом любовно и в согласии обставляли кооперативную двухкомнатную квартиру, которую Лев купил на свои сбережения. Приходила мать и умилённо прижимала руки к своей груди:
– Какие вы голубки!
– Не сглазь, – мрачно отшучивался сын.
– Ой, не пугал бы ты меня, Лёвушка.
Жена оказалась прекрасной хозяйкой, домоседкой, сговорчивой, ласковой, неглупой – и много чего ещё находил в ней Лев, чтобы действительно наконец-то стать счастливым, довольным жизнью и собой.
Лариса едва не каждый день что-нибудь покупала для дома из хозяйственного обихода и умела приобрести именно добрую, нужную вещь; а деньги были всегда – Лев умел и любил зарабатывать. Уже в первый год супружества квартира была заставлена мебелью, редкостно прекрасной, завешана коврами, картинами, часами, всевозможными милыми безделушками. Шкафы были наполнены отменной одеждой. Ванная комната – сияющая, оснащённая превосходной техникой. Чего только ни водилось в доме! И покушать всегда было готово, и вовремя было постирано, поглажено, всюду чисто, промыто, соринку не найти. Казалось бы, живи и радуйся.
Однако Лев становился угрюмым, закрытым, даже, случалось, бывал недобр с женой. Ему отчего-то было скучно и одиноко среди всех этих красивых, дорогостоящих и, несомненно, нужных вещей, в этой чистой, стерильной и удобной квартире, с этой умной хорошенькой молодой женщиной, которая равно сильно и преданно любила и эти свои вещи, и этого своего мужа. Ему вспоминалась жизнь отца и матери – многое, многое так же было. Почти так же. Лариса нигде не работает, оставила свою профессию воспитателя, – домохозяйствует, как и до выхода на пенсию и после домохозяйствовала мать. И это тоже отчего-то тяготило и раздражало.
Он снова спрашивал себя: любит ли он Ларису? И если сомневался, то, выходит, желал какой-то лучшей жены. Но в чём она должна быть лучше? Срывался: зачем спрашивать и пустословить! Любить надо её и жить с ней, коли она твоя жена!
Когда мебель уже некуда было ставить, негде было размещать одежду, супруги Ремезовы поменяли с доплатой свою двухкомнатную квартиру на трёхкомнатную, и снова Лариса прикупала с азартом, в упоении то, другое.
– Смотри, честной народ, как мы ловко овладеваем свободным пространством, заполняем пустоту! – с театральной патетичностью однажды пробурчал Лев.
– Что? – спросила Лариса, занятая глажением мужниных брюк.
– Так. О своём. Вспомнил отца. Он говорил: жить – значит, заполнять пустоту вокруг себя, бороться с ней, с пустотой то есть. Пустоту жизни, пустоту мира, пустоту нашего быта нужно нещадно заполнять, сворачивать ей шею, если таковая у неё имеется. А если серьёзно: пустота – главный враг человека. Люди радуются, если пустота заполнена чем-нибудь достойным и красивым. Впрочем, отец говорил, кажется, о строителях. Хотя какая разница, – отвернулся он от жены.
Помолчали. Лариса, влажно тяжелея глазами, спросила:
– Ты мною недоволен?
– Только собою, – мрачно шепнул он, не взглянув на жену.
– Ты таким бываешь странным. Скажи, чем ты недоволен. Я ведь хочу, чтобы нам обоим жилось хорошо.
– Я недоволен только собою. Успокойся.
– Знаешь, ты меня уже сто лет не называешь милой и любимой. Даже по имени не обращаешься ко мне.
– Да? Прости.
– Да! Не прощаю! Ты меня считаешь пустым человеком, недостойным тебя?
– Прекрати, – нехотя обернулся он к ней, но в глаза её не хотел смотреть.
«И её извожу. Зачем, за что?»
– Ты как-то назвал меня мещаночкой. Презираешь, что я мещанка?
– Красивое слово. Ласковое.
– Благодарствую за ласку.
– Уж если кого презираю, так самого себя, – апатично проговорил он. – Ты плачешь? Прекрати, – попросил, не меняя этого тусклого, рыхлого окраса голоса.
Она разрыдалась. Он не вынес её слёз, ушёл в ванную, открыл на полную воду, подставил под струю жестяной таз, чтобы грохотало, забивая звуки извне. Ему было горько и обидно осознавать, что у него к жене даже сочувствия нет, не то чтобы нежности любви.
12
Жизнь совместная у них не сплеталась во что-то единое, неразрывное, необходимое друг другу. Чувства затерялись где-то в первых месяцах их супружества. Лев не торопился домой с работы, а, напротив, набивался на сверхурочные задания, в командировки. Ему бывало уже мучительно скучно в семье.
Он, казалось, увлёкся тем, что отыскивал что-нибудь дурное в жене, и находил, непременно находил. Обижал её от случая к случаю, в порывах раздражения, но как будто неохотно. Она плакала, а он не сразу и пресно извинялся.
Но потом снова отыскивал в ней изъяны. Не сдерживался – и снова, снова был чёрств и беспощаден. Отчего-то называл её купчихой. Говорил ей, посмеиваясь, о её подбородке, который, как воображалось ему, наслаивался складками, о её действительно полнеющих ногах, о её дорогом, но «топорном» цветастом брючном костюме. Упрекал её: когда же она наконец прочитает вон ту книжку, которую он купил год назад. Выговаривал коротко, торопливо и скорее закрывался в ванной и открывал воду или же уходил в другую комнату и громко включал телевизор или музыкальный центр, потому что знал, что она опять плачет.
Жизнь становилась мерзкой, жизнь становилась невыносимой.
– У тебя, Лёвушка, появилась любовница? – как-то раз спросила Лариса.
Он, по обыкновению, не посмотрел в глаза жены, а уставился на её подбородок. «Она для меня уже никто», – равнодушно подумал он, а вслух ломко произнёс:
– Да, любовницу завёл. По имени скука.
– Тебе скучно со мной?
– Мне скучно с самим собой.
– Ты иногда чудаковато выражаешься – как блаженный. Не понять тебя. Ты несчастен со мной?
Лев промолчал. Жена привычно расплакалась, а он, тоже уже по привычке, не успокаивал её и сказал себе наконец, внятно и твёрдо, что эту женщину он не любит и с женитьбой, несомненно, поспешил.
– Ты не любишь меня.
Лев снова не отозвался.
– Да не молчи ты, идол окаянный!
Но он, несмотря ни на что, промолчал: если говорить, то снова обижать её. Сколько можно! Ему жалко Ларису. Разве повинна она, что он такой, что не может любить её, не может притворяться влюблённым?
Жена поначалу плакала тайком, пепеля свою душу отчаянием и ненавистью. Когда же поняла, что Лев не хочет её беременности, не желает ребёнка, стала жаловаться Полине Николаевне и своей матери. Вмешивались родственники, но вслед за тем супруги ещё более затяжнее и нещаднее скандалили.
Вскоре их совместная жизнь стала невозможной.
– Да скажи ты в конце концов, какая такая необыкновенная женщина тебе нужна?! – сорвалась Лариса после продолжительного, в неделю или больше, взаимного и, несомненно, враждебного молчания. – Святая, наверное? Ответь, не отмалчивайся! Найди в себе хотя бы чуточку смелости: честно скажи, со всей откровенностью. Ну же!
Не сразу и не поднимая глаз, Лев процеженно вымолвил:
– Любимая.
– Что, что, что?! Ты можешь любить? Ты, эгоист, себялюбец, способен любить? Не смеши людей! Ничтожество!
Лев стремительно вышел из квартиры, как-то удержавшись, чтобы не хватить со всей силы дверью.
– Ничтожество, тряпка! – вдогонку отчаянно выкрикивала Лариса. – Ты никогда не будешь счастливым, потому что любишь исключительно себя!
– Врёшь, – шептал и сдавливал кулаки Лев.
– Ничтожество! Ничтожество!.. – камнепадом раскатисто сыпалось за ним по железобетонным лестницам этажей.
Сызнова жизнь подвисла, обессиленно, без сопротивления комкалась в беспутье разума и чувств. Мотался по бытовкам, набивался во всякие нужные и ненужные командировки, месяцами не появлялся дома, не заходил и к матери.
Развёлся с женой, оставил ей квартиру и мебель и поселился в ведомственном гостиничного типа общежитии. Квартиру и мебель ему было жалко, и мать ругала, что себе ничего не оставил. Но Лев рассудил, что должен хотя бы чем-то оплатить несчастной Ларисе за её любовь и терпение. Он именно так и подумал – оплатить. Тут же поморщился, но другого слова не нашлось. Он понимал, что виноват перед Ларисой страшно, что только и было между ними – мучил её, нравственно истязал, а она терпела, терпела. Она, бесспорно, славная женщина, молодая, и ещё, конечно же, найдёт своё счастье, – немного успокаивало совесть Льва.
13
Он знал – его сердце ещё неизношено и тем более немертво, – и что-то да ещё случится в нём. Оно – ждёт, оно – верит.
И – случилось.
В общежитии он однажды увидел девушку Любу, Любовь; она недавно устроилась дежурным администратором. Люба ему сразу приглянулась. У неё, хорошенькой, с узенькой талией, с крылышком-чёлкой, с тоненькими капризными ручками, с трелью-голоском, всей такой очаровашки-блондинки, были прекрасные, редкостные, не соответствовавшие её легкомысленной внешности глаза. Лев смущённо, но и пытливо всматривался в их глубокую, «колодезную», поэтично назвал он в себе, черноту, и ему было приятно думать, что дна в них он не увидит. Эти её дивные глаза всегда просветлённо, восторженно поблёскивали, и Лев удовлетворённо и нежно думал о девушке, что она чистая, что она – дева. Наверное, дева; не может быть не девой.
Он радовался, он ликовал, что томление вкрадывалось в его погрубевшее, поостывшее сердце. Ему хотелось окаймить свою расшатанную судьбу, доказать самому себе, матери, бывшей жене, всему, возможно, белому свету, что он нормальный, вменяемый человек, способный любить и быть любимым.
Уже не первый день Люба выходила на дежурство, но Лев никак не мог сойтись с ней короче, поговорить, просто пошутить, что вольно и игриво позволяли себе другие обитатели гостиничных комнат. Он ощущал нараставшую, не свойственную ему, искушённому в общении с женщинами, застенчивость, когда заходил в администраторское помещение сдать ключ от своего номера или же, напротив, взять его. Мельком, но хватко взглядывал на Любу – она приветно улыбалась ему. Он вероломно пунцовел; если спрашивала его о чём-нибудь, – отвечал невнятно, а то и невпопад.
«Что со мной такое? Неужели сходу втюрился? Мальчишка!»
В груди Льва стало твориться нечто невероятное – жглось, искрилось, озарялось самыми радостными, ликующими красками и огнями. Минутами страшило, что потеряет Любу: уведут такую славную, смазливую барышню!
И неделя, и вторая, и третья позади, а Лев всё не сошёлся, не подружился с Любой. Однако ему было приятно это ощущение наивной детской робости и сумасшедшей влюблённости. Он тихо торжествовал, что сердце его может любить, может мучиться, обмирать, обдаваться жаром или, напротив, холодом. Он, ощущалось им, становился мальчишкой, подростком.
Вместе с тем, однако, стал подозревать за собой – а не боится ли он открыть для себя реальную, живую Любу-Любовь? Узнает её ближе, поймёт глубже – и рассыплется, улетучится его нежность, его благоговение. Зыбок и шаток мир вне его души!
Постояльцы судачили о Любе, и Лев ревниво, с затаённым раздражением выслушивал, другой раз выспрашивал и изводил себя тем же неотвязчивым, зловредным вопросом: та ли она? Один парень с развязностью заявил, что в общежитие она устроилась потому, что мужики ей нужны, что девка она блудливая, дрянная и, сообщил, похохатывая, не отказала ему, чуть только он «намекнул» ей.
Лев внезапно рассвирепел, мощным рывком схватил парня за рубаху под самый кадык:
– Врёшь, ничего у тебя, дохляка, не было с ней! Ну, соврал? Говори!
Парень, зеленея и синея, на полвздохе хрипнул:
– Соврал, соврал!
Лев не сразу ослабил руки – занемели. Парень повалился на колени, откашливался, испуганно, но озлобленно снизу моргая на окаменелого своего обидчика.
Лев знал, что молодые, тем более хорошенькие женщины в хвастливых суждениях всемирного мужичья непременно похотливы, только того и ждут, чтобы какой-нибудь смельчак побыстрее приласкал бы их да приголубил. Но ему, уставшему от этого своего затяжного волчьего одиночества, какого-то беспросветного невезения по жизни всей, хотелось верить и доверять только лишь своей душе – своему единственному другу и соратнику. Теперь ему хотелось верить и доверять ещё и глазам, прекрасным, чистым, фантастическим глазам этой очаровательной девушки, которую в мыслях он называл Любонькой, девой, точно бы отгораживаясь и этими словами от людской молвы и нечистости.
Раньше в администраторском помещении дежурили исключительно женщины в годах, старушки, и постояльцы не задерживались возле них: взял или отдал ключ и – ходу. Теперь же в смену Любы дежурка хохотала, басила, звенела, шуршала, повизгивала, глотала табачный дым, даже пахла винами и закусками. В дежурке околачивались и парни, и мужчины постарше. Обаятельная администраторша тоненько, кокетливо смеялась, легонько отбиваясь от наглецов. Лев, заслышав в коридоре или из своей комнаты её смех, злился, закуривал, некурящий, давил пальцы в кулаке.
Она на Льва поглядывала хотя и застенчиво, но откровенно: он был, несомненно, самый видный, самый интересный среди постояльцев – красавец, силач, какой-то, говорят, немаленький начальник, инженер, к тому же денежный и бережливый мужик. Он входил в дежурку – Люба приутихала, отодвигалась насколько могла от своих клейких донжуанов и, встречаясь с ним глазами, изумительно, необыкновенно, как-то даже редкостно краснела – молочковой, младенческой розоватостью обволакивало её щёки, стремительно стекало на ключицы, и она хорошела чертовски. Лев радовался: ещё одно подтверждение, что душа у Любы живая, нежная, совестливая.
Ему передали, что она о нём расспрашивала, назвала его гордецом и мачо.
«Мачо? Вот дура!» Но ему было приятно и лестно, что она думает о нём.
«Что ж, красавица, кажется, пора мне действовать, а то вся эта свора изнахратит тебя. Подползают к лакомому кусочку, напирают, наглеют, поганцы! В общаге живут, так им и мерещится, что весь мир – общага или псарня».
14
Лев действовал смело и роскошно: зашёл в дежурку в конце Любиной смены с огромным букетом горяще бордовых роз, вдался между Любой и каким-то мордастым парнем, плечом жёстко и наступательно оттеснил его за дверь. Вся общага знала, что Лев недюжинно силён и бывает беспощаден, и парень нешуточно струхнул и, хотя и огрызаясь, благоразумно убрёл в свою комнату.
Девушка занялась вся этим своим чарующим молочково-розовым свечением, а Лев ясно, красиво, не без щегольства молвил:
– Любовь, эти цветы вам.
Она оторопело улыбнулась, неуверенно, но уважительно приняла букет.
– Я вас приглашаю в ресторан. Если вы не против, вот прямо сейчас и пойдём. Согласны?
– Ага. – Но боязливо вытянула шею из бутонов, хотя можно было, напротив, опустить их. С детской робковатостью смотрела на Льва.
Он любовался её весёлыми чистыми глазами, младенческим румянцем щёк, на которые так великолепно легли розовые солнечные тени, её маленькой девичьей фигуркой.
«Она прекрасна!» – запьянел Лев.
– Где вы там спрятались за цветами? Покажитесь! Я хочу вами любоваться, а не цветами.
– Вы красиво говорите. Как в книжках.
– Только потому, что вы прекрасны.
– Я-а-а-а прекра-а-а-а-сна? Мне так ещё никто не говорил. Все эти постояльцы такие грубые и наглые. Слова ещё толком не скажет, придурок, а уже норовит облапать.
– Давайте-ка, Любонька, вашу руку. Какая она у вас маленькая и горячая.
И Лев, бережно взяв миниатюрную девичью руку, повёл Любу в самый дорогой ресторан, какой ему был известен.
– Может, на «ты»? – тихонько, с нечаянной хрипинкой предложила она, с жалкой смелостью улыбнувшись всем ртом.
– На «ты»? – зачем-то переспросил Лев, напрягаясь туловищем и темнея сердцем. – Да, да, разумеется, Любовь, на «ты».
Ему хотелось, чтобы потихоньку, вкрадчивее, может быть, даже таинственнее, вызревали и следом расцветали приметы и события любви, а потому он смутился, насторожился: столь скоро на «ты»? Не надо бы!
В дороге они никак не могли разговориться. Слово, два и – молчат, бесцельно и глупо озираются. Шли быстро, будто бы хотели поскорее избавиться от молчанки, влившись в жизнь ресторанного увеселения, где всегда люди и музыка. О чём бы ещё сказать или спросить? – маялся Лев.
– А вот и ресторан, прошу! – с приподнятой жизнерадостностью распахнул он перед своей очарованной и очаровательной дамой дверь, однако тоска и печаль уже наседали на его сердце.
Вошли в полуосвещённую просторную залу, и многие оглянулись на них: великолепная пара! Он – высокий, породистый молодой мужчина, красавец, светский лев, она – миленькая, кудрявая зверушка с чёрными сияющими глазками.
Лев заказал из меню исключительно дорогое, изысканное, и их стол был, наверное, самым великолепным и роскошным в этом ресторане для избранной, состоятельной публики. Живописно и лучисто поблёскивали на их столе блюда с чёрной и красной икрой, в томной бордовости горели бутылки с французскими коллекционными винами, возлежала гроздь чёрно-красного светящегося винограда в обрамлении яблок и груш. Во главе по центру стола – богатый, в каплях росы букет неестественно крупных, неземной красоты роз. Льву хотелось праздника, красоты, нови, он ярко и азартно ощущал чувство влюблённости и нежности.
Любовь подавленно молчала, потупившись, а Лев серьёзно и строго смотрел на неё, возможно, изучая, стремясь разгадать: та ли она? Если же ещё не совсем та, то что он может и должен совершить, чтобы она стала для него единственной, на всю оставшуюся жизнь? Именно так – на всю оставшуюся жизнь! Чтобы – начать жить «правильно», «выпрямлено», без оглядок на былое. Чтобы – раз и навсегда остановить этот роковой и беспощадный вал изломов и перепутий.
– А я впервые в ресторане, – промолвила Люба, скованно осмотриваясь.
Обнаружила, что одета скромно, даже серенько, – заметно пригнулась, должно быть, желая спрятаться, затаиться.
Пригубили вина. Разговорились, друг другу ласково, но пока недоверчиво улыбаясь. Ещё выпили, ещё, уже крупными, смелыми глотками. Вино было отменное, густое, с горчащей сластинкой и говорило им вкусом и цветом своими, что оно оттуда, где жизнь райская, напоённая солнцем и улыбками. Откуда-то из бархатисто-тенистого угла подкатывалась тихая сладкая музыка, ласковый полумрак окутывал обстановку, соседние столики. И Льву воображалось секундами, что он и она под какой-то оберегающей сферой и что они совершенно одни в этой большой зале, пропадающей по краям в беспредельности сумраков, ночи. Лев примечал, что на Любу смотрели, и он уже если не ревновал, то тревожился. Но и радовался одновременно, что сердце его – не мертво.
Стало таять и местами потухать электрическое освещение. Затепливались свечи тут и там. Золотисто и лилово набухали тени, стихали люди, ожидая чего-то необыкновенного, а может, и волшебного, сказочного. Высокий, но щупловатый официант в лёгком, но тугом наклоне тонкой бледной шеи с блестящей, как орден, «бабочкой» установил на стол Льва и Любы канделябр, в котором горели три крупные свечи. Вино в фужерах и бутылках внезапно вспыхнуло яростно и кроваво, точно бы вскипело, и во Льве невольно, странно и пронзающе обмерлось. Сердце его на долю секунды, на прочерк какого-то сверхмига почуяло в этой багровой вспышке угрозу, и он неожиданно дунул на свечи. Пламя не загасилось ни на одной, лишь вздрожало, принаклонившись и следом задымив. Официант и Люба с недоумением взглянули на Льва.
Официант с надменной вытянутостью постоял, очевидно, ожидая, не будут ли распоряжения или чего-нибудь ещё, и горделиво, отплывающе отошёл к соседнему столику. Установил на нём подсвечник. Его поблагодарили, что-то всунули в руку, и он зачем-то с преувеличенной строгостью и важностью оглянулся в направлении Льва.
Люба жалко улыбнулась, казалось, что поёжилась, а голосок её отчего-то расстроился до шепотка:
– Пусть горят. Ладно? Ведь уютно. Да?
– Конечно, конечно, – смущённо и виновато нахмурился Лев. – Сам не пойму, за каким чёртом хотел загасить. Чем-то, можно подумать, шваркнуло по темечку. Прости, Любонька, я чуть не испортил тебе вечер.
– Ну что вы… Что ты!
15
Люба очарованно озиралась – золотисто залитая зала была великолепна и загадочна; то, чего касались отсветы, новилось свежими красками, блистало, маня, тревожа. А Льву всё, что вне их стола, уже неинтересно, его душе чуждо. Он вспомнил, что такое же освещение видел в оперном театре; тогда актёры запели фальшивыми, патетичными голосами и зачем-то забегали по сцене. Ему и тогда, и теперь стало нестерпимо скучно. Он смотрел только на Любу. Любовался ею. Она уже заполыхала от вина, стала отчаянно соблазнительной, ангельски миловидной. Ему хотелось, чтобы ничто не нарушало его любования, его общения с Любой. И когда шелестящей походкой снова возникал из полумглы официант, официозно и равнодушно исполняя свои обязанности, Лев угрюмился и косился на белые, с рыжеватыми волосками руки этого в театральном одеянии человека с зачем-то прилепленной к горлу бабочкой-орденом. Но пожурить или одёрнуть официанта было не за что: его руки ловко и дельно разливали вино и заменяли блюда. Когда он отходил, Лев чувствовал – мгновенно приливало в груди покоя и нежности.
«Мне нужно влюбиться. Иначе… иначе – не жизнь!»
Люба, смакующе отпивая из фужера вина, рассказывала – хотя Лев не просил её об этом, – что была в ранней юности влюблена по-сумасшедшему, забеременила; парень ушёл в армию, а потом куда-то подевался. Она теперь с малолетним сыном обуза своим родителям; что все они ютятся в двухкомнатной квартирке с проходными комнатами; что отец – инвалид и выпивает, а мать больна и несчастна; что ей, Любе, хочется изменить свою жизнь и пожить наконец красиво, с размахом. И ещё что-то говорила она, то замолкая, то возбуждаясь, то зачем-то смеясь, то вдруг всхлипывая.
– Ты будешь счастливой, – прервал её Лев. – Ты мне веришь… Любовь?
– Я буду счастливой? – поморщилась она пламенеющей улыбкой.
Он хотел повторить и хотел сказать что-нибудь ещё приятное, быть может, произнёс бы бесповоротное для себя и, видимо, для неё – «Стань моей женой».
Но неожиданно и вероломно загремело, заскрипело, запищало ужасное электронное разноголосье. Танцевальную музыку потребовал какой-то перебравший мужчина в пышном искристом костюме. Он заплатил скучавшему в своём углу худосочному, с узким морщинистым лобиком диджею в красной, неопрятной, явно умышленно мятой, толстовке до колен с аршинной надписью «Fuck you».
Огни свеч перепуганно заметались, а люди-тени сбились в ватагу и стали содрогаться. Лев не смотрел на них: он знал, как они могут и хотят танцевать, выворачивая себя. Но полувзглядом выхватил-таки из толпы затасканное личико этого мальчиковатого старичка диджея, зажигавшего публику взмахами рук и шевелением челюсти, и богатырскую девицу с огромным барашковым навёртом чернильно-фиолетовых волос на голове, с колыхающимся под блузкой студенисто-головастым бюстом. Люба тоже увидела её и засмеялась в ладошку. Однако натолкнулась на низовой подвзгляд Льва, и смотрел он уже в противоположную от толпы сторону, неудобно для себя повернув голову.
– Почему ты такой надутый? – уже смело, без запинки говорила она «ты», хмельная и от вина, и от музыки, и, видимо, от своих необоримых желаний. – Пойдём потанцуем! Так хочется праздника! Вот жизнь – я понимаю!
– Красивая?
– Красивая! Супер! Да не куксись ты! Танцуем, что ли? Вперёд!
Лев разглядел – в её глазах занялся «нехороший» – он хотел гадкого слова, но сдержался, – азарт. Отказом бодающе мотнул головой, но следом постарался улыбнуться – не получилось. А она громко и с щёлком пальцев попросила сигарет у официанта, который шествовал мимо с подносом. Умело прикурила, отказавшись от услуги официанта, глубоко затянулась и стала, шаля, пускать дым хвостиками и колечками, а руку с сигаретой держала высоко, на отлёте, задиристо отставляя мизинчик.
Лев попросил:
– Ты можешь не курить?
Она повела плечиком. Жёстким «завинчиванием» загасила в пепельнице сигарету. Налила себе вина в фужер, вытянула до донышка без отрыва.
– У-у-ух! – выдохнула она. – Сидим истуканами. Ай, не хочешь – не надо. Я одна подалась плясать.
И, в дразнящей медлительности приподнимаясь и кошкой прогибаясь ко Льву, коротко взглянула на него дерзкими, но по-прежнему влекущими сладкими глазами.
«Неужели теряю?» – подумал он, чего-то пугаясь.
Сдавливая зубы, Лев смотрел на толпу, но отчётливо видел только Любу. Она огоньковым весёлым миганием белой сквозистой блузки пробивалась среди метавшихся тел; даже видел её обтянутые чёрными чулками ноги – великолепные, тоненькие, стройные ножки. Стройнее ножек нет здесь ни у кого, и в целом свете нет! Его девушка прекрасна, он обожает её. Но зачем она в этой безобразной толпе? Выдернуть бы её оттуда. Она может замараться, её могут покалечить.
Он страдал, что Люба танцует некрасиво, распущенно, так, как все. Бесстыже шевелит, подкидывает бёдрами, потряхивает плечами, с которых сползли лямочки блузки, приподымает, хотя и мимолётно, но заметно, подол коротенькой юбки. К ней – и уже леденело и мертвело во Льве – подкручивались мужчины, фамильярными движениями бёдер и рук подманивали её к себе. А один белоголовый, по-бычьи напыженный парень – качок – что-то сказал в её ухо и победно ухмыльнулся. Она засмеялась, легонечко откинулась от него, кокетливо забрасывая назад со лба кудряшки.
Неожиданно Лев наткнулся на её показавшийся ему строгим и вопрошающим взгляд; но она сразу унырнула за спины.
Льва уже сотрясала злость, если не злоба, но он давил её, пока ещё были силы разума. Перед ним и вокруг него горели свечи, но способен ли он был задуматься, зачем они здесь, сопутчики безмятежья и мира.
Теряет, теряет? А может, уже потерял? А может, не находил, а потому и терять пока нечего?
16
За столом Люба с притворной беспечностью отдышалась, обмахиваясь салфеткой. Большими глотками выпила из фужера вина, закусила виноградом, оторвав ягодину зубами с грозди, а держала её на весу над запрокинутой назад головой.
– Здесь клёво, правда? – осторожно улыбнулась Льву.
– Клюют, говоришь? – казалось, с трудом разжал он зубы.
– Чё?
Он не отозвался, поморщившись на это невозможное для него «чё».
Люба, не дожидаясь официанта, наливала себе и ему, набулькивая из высоко задранной донышком бутылки. Лев был мрачен, сер, закрыт, но тоже пил, хмелея и вином, и своими забродившими мрачными чувствами.
Люба снова и снова выходила на танцпол и задорно отплясывала со всеми. Три раза её пригласили на медленный танец, и она висла на партнёрах, улыбалась им. Партнёры, танцуя, пытались увести её дальше, в затенённую колоннами и пальмами зальцу. Но Люба подтягивала их поближе к столу, за которым горбился и пил в озлобленном одиночестве Лев. Один партнёр был солидный, малоподвижный дядька с липкими глазками кролика. Другой – очень молодой, суетливый; он трусовато опускал руки по спине Любы. А третий вообще не впечатлил Льва – коротышка; он непрестанно подтягивался перед Любой на носочках и поминутно что-то нашёптывал ей. Однако все были учтивы, просили разрешения у Льва, и он апатично кивал им в ответ. Эти люди были неинтересны ему, потому что соперничать с ним, понял он, не могли никак. Однако они посягали на его счастье, хотели его Любовь, выискивали к ней подходы.
Но чего она хотела – злить ли своего мрачного ухажёра, мстить ли ему за эту его необъяснимую перемену настроения, за его заносчивость и очевидную гордыню? В чём она может быть виновата перед ним? Девушка, кажется, совершенно не понимала Льва.
Он так ни разу и не вышел на танцпол, не пригласил Любу на танец. Решил – надо уходить: что ещё ему здесь нужно? Он, не посоветовавшись с Любой, подозвал официанта, попросил счёт. Получил. Не дал чаевых, а, напротив, скрипящим, ржавым голосом заставил пересчитать, потом ещё раз, сумрачно всматриваясь в прыгающие по калькулятору худые пальцы позеленевшего официанта.
Официант не тотчас принёс сдачу. Выпрямленно, ни на миллиметр не пригнувшись, вывалил на стол горсть монет, хотя можно было сдать бумажными деньгами. Лев не взглянул ни на деньги, ни на торжествующего официанта. Хотел было уже предложить Любе вместе покинуть ресторан, а остаться захочет – на тебе денег, и эту горсть, и ещё можно дать.
Не успел предложить – к их столику подошёл, колыша тяжёлыми женскими бёдрами, тот белоголовый красавец качок и с напыженным взглядом в сторону Льва без спроса пригласил Любовь на медленный танец. Он протянул ладонь столь низко к её талии и коленкам, будто ему отнюдь не рука её нужна была.
Лев закостенел, но почувствовал, как разом обдало его и полымем, и хладом. Он понял, что теперь уже не просто посягают на его Любовь, а открыто, нахрапом отнимают и уводят её, которая могла стать его судьбой, его воздухом и светом. Потом сердцу опять быть пустынным, опустошённым, бесполезным, подобно культе. Потом снова чем попадя придётся набивать, будто безразмерный мешок, эту проклятую пустоту в сердце, и никакие его строительные специальности и дела, никакие деньги и богатства мира не помогут так, как следовало бы.
И зачем он привёл её сюда, в эту тошнотворную человечью клоаку? Глупец, простак!
А она, очаровательная дурочка, даже коротеньким взглядом не пожаловала Льва. Вспорхнула со стула и – пропала в темноте. Или в глазах Льва потемнело? Но он успел увидеть – качок на танцполе по-хозяйски притянул к себе его Любовь, набросил свою пухлую барскую руку не на талию её, а ниже, даже пониже взъёмчика.
И Лев опять оборвался и покатился во тьму, но чуть погодя осознал, что, собственно, не в зале сделалось темно, свечи всё так же бархатно и участливо сияли, а он снова сомкнул веки, зажмурился, крепко-накрепко запершись ото всего белого света. На что ещё смотреть, да и зачем? Взглянешь, всмотришься – ещё хуже, ещё дряннее может стать. Лучше – не видеть. Никого и ничего.
Лев понял, что этот смазливый, балованный молодой наглец не искал, по сравнению с другими, подходы к его Любови, а уже брал её. Брал налётом, дерзко, хозяином жизни – жизни вообще и его, Льва, жизни и судьбы. Каким он мог быть человеком – везучим бизнесменом, владельцем этого и других ресторанов, настоящим спортсменом или охотником покачаться в тренажёрном зале на досуге, любимцем судьбы с богатым папенькой, хорошим, примерным сыном, братом, другом или женихом – кем ещё? Он, разумеется, мог быть кем и чем угодно. Но для Льва он был только врагом, который замахнулся на него. Замахнулся мечом ли, не мечом, чем-то иным – неважно, но, ясно Льву, чтобы отсечь и изувечить его мечты.
И Лев ярко и яростно ощутил – армада всяческого зла в этом раздутом, мускулистом парне, и чтобы жить дальше, чтобы крепко полюбить и стать наконец счастливым, нужно, быть может, уничтожить, задавить явившееся на пути зло. Зло одной кучкой сосредоточилось в одном человеке. И в одну руку поймать бы его, чтобы не марать другую!
Поймать, не упустить – хорошо, но что с этим злом нужно и можно сделать затем?
Лев, натянутый, насторожённый, как зверь, учуял вздрог воздуха вблизи и расслышал шелесток одежды. Понял, что Любовь садится на своё место.
– Смотри, детка, не забудь мой номерок, – не прижимая своего голоса, нисколько не таясь, произнёс «качок». – Жду звонка.
– У-гу, – торопливо отозвалась она, но тихо и сдавленно. Быть может, уже увидела своего окаменелого, подобного Сфинксу Льва, осознала и испугалась: что же натворила, что же будет!
17
А Лев внезапно, рывком встал и стремительно надвинулся на качка.
Люба пискнула, взмахнув руками, инстинктивно закрыла ладошками лицо.
Качок дёрнулся, чуть отшатнулся, но тут же спохватился – усмехнулся, однако перекошенно. Льву же представилось, что сморщился качок, постарел вмиг или, вернее, сдулся, как пузырь.
Молчком намертво взял «качка» за шиворот шелковистого пиджака вместе с воротом рубашки и галстуком и ткнул его раз, ткнул два, ткнул три раза лицом в тарелку с овощным салатом.
И – так удерживал одной рукой.
Давил, бугрясь мускулами, стискивая челюсть, наполняясь чёрной и, быть может, бурлящей кровью.
Качок, вымазанный сметаной, помидорами, огурцами, укропчиком и зелёным лучком (вся зелень была молоденькая, нежная, меленько порезанная), очухался – затрепыхался, заскулил, грабасто сметая всё со стола.
Народ повскакивал с мест, загомонил, захохотал, засвистел, завопил, завизжал – кому как нравилось.
– Охрана!
– Дави его! Молоток!
– Во два идиота!
– Силён мужик: такого бугая завалил и жмёт одной левой!
– Отпусти, придурок лагерный!..
Но Лев не выпускал, никак не отзывался, не озирался даже, напротив – насиливался и отвердевал всем своим выкованным мощным остовом, крупной смуглой рукой. Лицо его было испятнено брезгливостью, отчаянием и, кажется, кажется, – радостью.
Возможно, неспроста кто-то призвал:
– Да остановите вы, в конце-то концов, этого сумасшедшего! Посмотрите: он же зверь какой-то, а не человек!
Но народец, пока не подбежали мосластые бритые охранники, толокся вокруг, не отваживался напасть, отбить жертву. Все славно покушали, выпили, потанцевали, при свечах посидели, о приятном поговорили, всем хотелось в приятности же и довершить вечер, а тут этакое недоразумение, несообразность, дикость невозможная, недочеловеческая. И не драка даже – а чёрт знает что такое.
Качок бессильно сник плечами, положил руки на стол. Попытался, вывернув голову, взглянуть на Льва, быть может, обратиться к нему. Не получилось ни вывернуть голову, ни слова вымолвить.
– А, да ты, вижу, слабачок, а никакой не качок! – с торжеством, но в перхающем хрипе выдыхал Лев, туго дрожа вроде как улыбающимися губами. – Культуристик, да? Накачался анаболиками и ходишь тут выкаблучиваешься? Давай, давай, вырвись! Что, не выходит? Силёнок негусто? Сочувствую, братишка. А ты попробуй-ка лучше, пока даю и пока добрый я, свеженького салатика: наберёшься, глядишь, силёнок. Ты же, вижу, большой охотник до всего свеженького и молоденького. Не стесняйся, кушай!
И ткнул его. Ещё, ещё раз.
Несчастный качок отчаянно рванулся, подламывая ножки стола и роняя стулья. Но и таким манером не вышло. Попробовал выкрутиться, однако, похоже было, теперь уже со всем ужасом и страхом понял, что вырваться из этой железной звериной лапы невозможно. Попритих, булькающе замычал. В неимоверных усилиях вывернул-таки, хрустящим скользом, голову набок, чтобы хотя бы полно вобрать воздуха. Носом – кровь; сам – безобразный, страшный, лица не распознать – оно в жутком месиве.
Но сколько можно держать его и зачем? Как ещё нужно и можно наказать этого жалкого человека? – вопросы, но мог ли Лев ответить на них?
На него запрыгнул охранник, подсунул под скулу кулак – стал заламывать шею. Однако рука, несмотря ни на что, удерживала качка в салате; да и не салат это уже был, а кроваво-зелёная каша.
Сейчас Льва скрутят. Что будет потом?
Быть может, через минуту-другую его изувечат или даже убьют, но пока он заправляет и распоряжается, пока он хозяин, хозяин положения, хозяин своей жизни, хозяин этого наглеца, уткнутого мордой в салат. А если так, нужно успеть сказать самое главное, то, что наболевшей коростой застряло в горле. Сказать так, как хочется и нужно сказать.
Но что может быть самым главным? Главным для него лично, для «качка», для этой толпы? Для кого?
Думать надо скорее. Но можно ли, возможно ли думать?
Уже двое, трое охранников, здоровенных, во всём чёрном, как смерть, скручивают Льва, уже этот обиженный, что не дали чаевых и заставили пересчитать, доской вытянутый официант злобно, но бабьими шлепками хлещет его по щекам, уже качок очищает платком и обмахивает ладонями красно-зелёную, страшную и в то же время глупую физиономию от салата и крови, и – тоже будет бить.
– Отведал мою Любовь? – спросил согнутый, с заломленным за спину руками Лев, отыскав глазами «качка». – Не подавился? Понравилось?
Неужели вот это и есть то главное, наросшее коростой, что хотел сказать, швырнуть в качка и толпу Лев? Может быть, и вовсе не надо было ничего говорить – кому слушать, кому понять, что его любовь – жизнь и смерть его одновременно?
– Чаво, чаво? – зачем-то коверкал качок слово, злорадно и брезгливо осклабляясь, но голос его растекался кисельными слезами. – Твою – чаво? Твою, вякнул ты, любовь? Какую ещё, мать твою, любовь? Отвечай! Ты что, слащавая гнида, пускаешь слюни вон по той мозглявой девке? Да она шалава копеечная, а ты мне загнул – «любовь»! Ты что, вот из-за неё меня изнахратил? Из-за неё?! Отвечай, падла! Молчишь? Что ж, теперь твой черёд отведать мою любовь. Любовь, мать её, морковь! Сразу подвалю тебе по пуду, а то и по два. Мне не жалко, я щедрый, в отличие от тебя. Получай, получай!
И он исподнизу саданул Льва по лицу, следом – коленом в скулу, кулаком по затылку; лютуя, – сызнова коленом, кулаком.
Выволокли Льва из ресторана. Выпотрошили карманы, содрали пиджак, туфли; брюки оставили – на коленке уже лохматилось тряпьё. Затащили за угол и ещё били. Он попытался бежать, но запнулся. Настигали – колотили куда приходилось. Люба отчаянно наскакивала, цеплялась, голосила. Отшвырнули на колючие ветки кустов; застряла там, заскулила. Качок сгрёб Льва за волосы, нещадно заломил шею набок назад:
– Ну, скажешь, за что ты меня едва не замочил? Отвечай, падла! За девку? Да? Да?! Она, разуй шары, дешёвка, а ты вякаешь – «любовь»? Если так – баран ты, а не мужик!
Лев уже не мог ответить, валился на спину, но, кажется, усмехался окровенённым, с затёкшими глазами лицом. А качок сатанел, кулаком лупцевал по голове – выглядело, что в такт своим словам:
– Неужели за бабу? Неужели? Никогда, никогда не поверю! Они все продажные. У меня таких до зарезу!
Снова скопом – кулаками, пинками, подскакивая, резвясь. Всё: Лев упал, скорчился, угас.
– Будя, мужики! Мочить не надо, – важно распорядился качок, обтирая платком своё расквашенное, потное, в петрушке и укропчике лицо. – Деньги забрали? Часы – сдёрнуть.
Ещё по разу-другому пнули и ушли восвояси. Из кустов подползла на четвереньках Любовь:
– Живой?
– Живы будем – не помрём, – хрипнул Лев.
– Ой, ну, ты шалый и дурной! Не встречала я ещё таких.
Затянула его на лавку. Он помогал и усмехался.
– Над кем смеёшься?
– Над собой.
– Правильно.
Спросил неожиданно и чётко:
– Ты где живёшь? Пошли – провожу.
– Да тебя самого надо провожать. А лучше – на носилках тащить. Провожальщик выискался! Ты чё, приревновал меня? – смущённо улыбнулась она, пытливо заглядывая снизу в его глаза.
– Хуже, – с неясной насмешливостью ответил он и не стал объясняться.
– Я же просто злила тебя. Не понимаешь, дурачок?
– Понимаю, понимаю, – насупился он и, вставая, сдавленно застонал.
Она торопливо, но ловко подсунулась ему под мышку. Он слегка и снисходительно поопёрся на неё, маленькую, такую всю тростинку. Потихоньку пошли в общежитие; хорошо, недалеко было. Кажется, кости целы, но ушибы, ссадины ужасные, глаза раздирать надо пальцами, чтобы разглядеть дорогу. Солоно-сладко кровянилось во рту; зуб выплюнул, а может, и два. Ничего, жить можно.
– Больно? – участливо спросила Люба, а у самой ладони содраны, колено разбито.
– Полетели, пташка моя девонька, – погладил он её по голове, как ребёнка.
– Полете-е-ели, – угодливо засмеялась она.
Любе хотелось нравиться Льву, но он такой непонятный, странный, своевольный, даже дикий, опасный, даже очень опасный. И в ней пошатывалось – сможет ли она быть с ним нежной? Научится ли понимать его? Любит ли его? А он – он любит ли её? Или любит то, что вообразил себе? Хотя качку что-то сказал о своей любви к ней. Непривычно, непонятно, чудно!
18
С неделю отлёживался, в бинтах, в примочках. С работы отпросился по телефону – скопились отгулы. Жутко ломило всего, но особенно досталось голове: шишка на шишке, развалом рассечена бровь, оба глаза заплыли сине-фиолетово, будто солнцезащитные очки надел. Люба самоотверженно ухаживала за ним, из ложечки кормила, в аптеку бегала.
Поправляться стал довольно быстро, на второй день: никогда ничем не болел, крепкий, непьющий, молодой мужчина, – иначе, уверен, и не должно быть. Не умел и не хотел разлёживаться, стройка ждала, дела, люди в бригадах и в конторе. Уважал он своё строительное ремесло, прикипелся к нему, да и мысль отца помнилась: строишь – строишь и свою душу. Пусть немного сойдут синяки с лица: неудобно перед подчинёнными появиться побитым, жалким, смешным.
Люба прижималась ко Льву, ластилась кошечкой, но он был сух и даже строг с ней. Она думала: не отзывается, что болен, что изломан. Или же потому, что ревность до сих пор мутит его ранимую душу.
Вскоре Лев чувствовал себя уже вполне бодро, улыбался Любе, подшучивал над ней. Она прильнёт к нему, однако он не отзывается на её позывы. Она не понимала его, минутами ей хотелось разреветься, разозлиться, каблучком пристукнуть по полу. Тайком до боли прикусывала губу и не упрекала, помалкивала, зная, что повинна. Он очень нравился ей, может, она уже полюбила его. Красивый, сильный, отчаянный, никого не боится, на десятерых полезет в драку за неё – вот с кем счастье свивать, вот кто станет добрым отцом для её маленького непослушливого Витьки. Закроется Люба в дежурке – всплакнёт: какой же вредный её возлюбленный, зла на него не хватает.
– Почему ты такой сухарь? – отважилась спросить его, и получилось взыскательно, насупленно.
Но тут же не выдержала – прижалась к его плечу, желая поцелуя. Однако он хотя и легонько, но решительно отстранил её, странно и резко сказал:
– Не спеши, девонька моя. Кто и что о тебе ни говорил бы, но для меня ты всё одно чистая и святая. Чистая и святая дева – такой ты мне и нужна. Не спеши, прошу.
– Чё? Чистая и святая? Де-е-е-ева?
– Не «чё», а что.
Она притворно захохотала, дерзко-кокетливо откинулась кудряшками на подушку, на единственную подушку, на которой и он лежал.
– «Что»? О-о-о, «что»! Теперь правильно, мой учитель? Ещё повторить?
Дерзостна, а слёзы обиды сдержать уже нет сил. Он промолчал, покосился на её высоко открывшиеся из-под края подола точёные ножки, заброшенные на одеяло. Перевалился лицом к стенке.
– Ты думаешь, что я какая-то особенная, не такая, как все? Что я, сказал ты, дева? – по-особенному – с ласковой язвительностью – произнесла она «дева», морщась от досады на недогадливость кавалера. – Да ты что: я баба бабой! Забыл, бедненький? Уж и родила! Мозги тебе зашибли, что ли? – хотя и на вызове, но придавленно засмеялась она.
– Ты станешь девой. Если захочешь.
– Стану девой?! Если захочу?! – на полдыхании переспросила она и порывисто заглянула в его лицо: подтрунивает, издевается? Что за человек такой! Вроде бы не дурак, при деньгах, разодет весь, начальник большой.
– А к чёрту мне девой становиться, объясни-кась, Лёвушка? Да к тому же какой-то там чистой да святой. Мне и просто бабой, рожавшей бабой, бабой-дурой, нехило живётся.
Он молчал. Ей надоело ждать – снова к нему прильнула, но он опять никак не откликнулся. Лежал с закрытыми глазами и, слышала она, дышал в стенку.
– Сопишь, барсук?
Она встала:
– Дурак ты, вижу. И бесчувственный. Чурбан чурбаном!
Хлопнула его по спине и в плаче выбежала, хлобыстнув дверью.
Она не знала, не понимала, что он страдал. Он страдал, потому что не мог, потому что наверняка знал – не сможет, не сумеет как-нибудь доходчиво, начистоту, как самому близкому, родному человеку, объяснить Любе, почему ему сейчас не хочется затягивать её в извечное, тривиальное действо, неминучим водоворотом затеивающееся между мужчиной и женщиной. Всё это было, было у него, и сколько раз. Но никогда ещё не занималось, огнём ли, сиянием ли, высокое, но живое, настоящее чувство, не вмещающееся ни в его сердце, ни в его разум. Как ей, молодой женщине, ждущей от жизни немудрёных, без всевозможных замысловатостей тропок к личному счастью и благополучию, сказать, чего он хочет на самом деле? Не мог и не хотел Лев сказать вот так сразу, с ходу, что хочется, что надо бы продлить, растянуть это сосущее, горько-сладкое состояние неопределённости, неотгаданности – неотгаданности её, этой самой Любы, его Любви желанной. Как ей сказать о выстраданном, чтобы не обидеть её, чтобы было красиво и свято для обоих? И чтобы она не засмеялась, не усомнилась, не сникла в сомнении, недоверии, а то и отчаянии.
Вечером Люба всё же пришла к нему. Она была отходчивой девушкой и хотела счастья. Глаза красные и тусклые, – ему понятно: переживала. Благодарный и повинный, легонечко прижал её к себе, долго гладил по маленькой тёплой голове и тоненькой, с хрупкими косточками шее, вдыхал запах её вьющихся волос. «Ладно, попробуем: пусть будет моей женой. Если, конечно, захочет». Он знал, что так, именно так надо было подумать и сделать, чтобы жить стало хотя бы немного легче, чтобы путь мало-помалу выпрямился и разъяснился.
Вся привилась к нему и целовала «искусно», «опытно». «Такая же, как все», – становилось невыносимо одиноко и печально Льву.
– Не любишь целоваться? – маленькими шаловливыми пальчиками пробегала она по его мускулистой руке. – Или ещё больно губы?
– Больно, – с очевидным неудовольствием едва слышно произнёс он и всмотрелся в её задорно засверкавшие, замечательные своей чёрной глубокостью глаза.
Но впервые разглядел в них какие-то рябинки, да в желтоватой ржавчинке. «Нечистая глубина».
Разозлился на себя:
– И чего надо человеку по имени Лев?
– Что?
– Правильно – «что»! – заставил он себя улыбнуться.
19
Пересиливая великие сомнения, через месяц Лев сделал предложение, и Люба сразу согласилась.
Это случилось светлым и свежим, как утро, вечером конца августа. Они прогуливались по бульвару набережной Ангары. Было ни жарко, ни прохладно – благостно. Уравновешенно и тихо было и на земле, и в небе. С реки заботливо надувало влажно и пресно. На днях установилось ясное тёплое предосенье, довершающее недолгое сибирское лето, а потом всевозможная непогодь покатится по земле, с дождями, с заморозками, с непременным густым тяжёлым снегом кануна октября. Сегодня же – и роскошное сияние Ангары, и проглаженное, искрасна высветленное зашедшим солнцем высокое небо, и бодрый речной воздух, и шелест увядающих трав и листвы располагали к здоровому лёгкому дыханию, к течению и освежению чувств, к ожиданиям приятных волнений, к началу какой-то хорошей, правильной в долгости своей жизни. Река течёт, и жизнь течёт. Нужна ли остановка, возможна ли? – чувствовал выводами и вопросами Лев всем своим напряжённым и ждущим существом. И ему показалось – окружающее подталкивало, подзывало его, такого неустойчивого, осмотрительного, сказать то главное, над чем он тревожно и пугливо думал последнее время, как познакомился с Любой.
Нужно, наконец, что-то менять в своей жизни, не вечно сычом и неврастеником жить. И он торопливо перебирал в руке маленькие влажноватые пальчики своей нежданной Любови.
Они медленно и молчаливо шли вдоль длинного, замысловато изгибистого парапета, с преувеличенным интересом заглядывали через него на реку, на курлыкающих ненасытных чаек, на оборвавшиеся с деревьев сверкающие паутины. И снова, как когда-то в ресторане, оба примечали, что прохожие заглядываются в их сторону: интересной, наверное, находят парой.
Лев украдкой любовался Любой. А она тайком, с терпеливым поджиданием поглядывала на него, зачем-то мурлыча песенку.
Лев, представлялось ему, уже и кожей чувствовал, что она ждёт. Зачем-то покашливал в кулак. Что ж, пора бы и сказать, кажется.
Не сказал.
Да, пора! – через десять – пятнадцать шагов взбодрился он и даже зачем-то поправил галстук.
Но смолчал. Вздохнул.
– Что, опять болит, Лёвушка? – спросила Люба, дотронувшись до его непроходящего правого бока.
– А? Что? Да, да.
Лев не сразу понял её вопрос. Усмехнулся, в сморщенности поведя щекой:
– Болит, болит. Сил нету терпеть.
Она что-то хотела сказать. Быть может, посочувствовать. Не успела.
Лев развернулся и резко остановился перед ней, положил руки на её низкие, чуть не по пояс ему приходившиеся, плечи и сказал насиленно просто, буднично, сверху глядя на темечко с завитком, стоявшим гребешком, а не в глаза её:
– Выходи-ка за меня замуж, Любовь ты моя маленькая, дева ты моя чистая и святая.
Она улыбчиво сморщила нос, мотнула головой, неловко, кутёнком, ткнулась лицом в его грудь. Он обнял её и с нежной покровительственностью погладил по спине. Ему стало легко и просветлённо, но печально. Просторнее сделалось в груди, точно бы махом отсёк разросшуюся опухоль или нарыв. Ему даже почудилось, что снова взошло и прыснулось калёно-бело, по-дневному, солнце. Прижмурился на небо: жить так жить! Он такой же человек, как все. Не правда ли? – спросила его душа у кого-то неведомого и невидимого, но, быть может, подслушивающего и подглядывающего.
– Маленькая? – спросила Люба, уже со строгой улыбкой взглянув на него и зачем-то приподнявшись на носочках. – Кто маленькая? Твоя любовь?
– Ты, ты маленькая, – понял он свою обмолвку, и ему стало досадно, что так получилось в такие минуты.
– А-а-а.
– А ты что подумала?
– Ты мужик – ты и думай, – скороговоркой ответила она, но крепче привилась рукой к его руке, чуть не повиснув на ней. – А за чистую и святую – на этот раз спасибочки. Только в девы меня не записывай: кто услышит из моих знакомых – обхохочется.
«Вот и всё, что надо человеку, – подумалось или почувствовалось механически, – но о ком: о себе, о ней или вообще?»
Познакомил с матерью. Полине Николаевне Люба, кажется, понравилась. По крайней мере мать была любезна и учтива с девушкой. Только погодя наедине сказала сыну:
– Дюймовочка, куколка. Таких только на руках и носить… в прямом смысле. Но-о-о, Лёвушка, родненький, как же без образования она? Прямо чудно в наше-то время. Пристроим в лицей, а потом – не поздно и в институт поступить. На заочное. Правильно?
Сын нахмурился, сдавленно закипел:
– Мне её образованность не нужна. Мне она нужна, – диктующе и строго произнёс он, но тут же осознал и смутился, что снова почему-то не называет мать мамой.
– Ты со мной странно разговариваешь, – повлажнело в глазах Полины Николаевны.
– М… м-мама… прости.
– Ты действительно любишь её?
– Любишь, не любишь – слова, слова!..
Оборвался, замолчал, не свил мысль, то ли не зная, то ли не желая уточнений. Смотрел в окно, густо-чёрное, заполночное, забрызганное дождём и затянутое туманистой пеленой. Ничего не разглядишь, только чахло, жёлтенько дрогнут в глуби города огни.
– Я хочу, Лёвушка, чтобы ты был счастливым.
Помолчав, мать прибавила, но ни вопросом, ни утверждением прозвучало:
– Может быть, слюбитесь.
Лев не отозвался, стоял, сутулясь, покусывая губу, и она прибавила ещё, невольно сорвавшись голосом:
– Стерпитесь.
Он повернулся к матери, взглянул в её глаза, забитые этой отражённой осенней сырой заоконной тьмой с бьющимися за жизнь огнями, и понял, что она ничуть не верит в его любовь, но страстно и необоримо верит во что-то другое в нём.
И они разобрали друг у друга в глазах:
– А он стерпелся когда-то с тобой?
– Ты меня не укоряй, сынок: я-то любила, и как! А ты? Ты не её любишь, а свою мечту о ней или о какой-то другой женщине. О принцессе, видимо.
– Но разве мечта – это хуже, чем человек? Ведь и ты теперь зачастую живёшь мыслями о том, что могло бы быть у тебя с отцом или с другим хорошим, любимым человеком. И эта мечта ведёт тебя и поддерживает. Может быть, и мне подсобит когда-нибудь и как-нибудь.
– Мечта, не спорю, бывает лучше человека, но человеку всё-таки нужен реальный, а не выдуманный человек, чтобы расти, а не опускаться ниже и ниже в своём самообмане, что, грезя, летаешь и возносишься. Падаешь, только падаешь, поверь!
– Но чтобы падать, нужно уже находиться где-то высоко.
– Подожди, сынок: мы этак запутаемся во всей нашей софистике.
– Понимаю: боишься, что снова заговорим об отце?
– Нет. О твоём отце я люблю и думать, и говорить, в том числе и с тобой. Разве не замечал? А боюсь вот чего: что не смогу в какой-то тяжёлый для тебя час помочь тебе, притянуть тебя поближе к земле. Оторвёшься – улетишь. И высоко, и далеко. Не дотянусь, не докричусь. Страшно. Пойми меня – мать.
– Улечу – так, возможно, быстрее найду то, что ищу и жду?
– Ты сердцем на земле найдёшь то, что ищешь и ждёшь. Обязательно найдёшь, потому что у тебя здоровое, умное, чуткое сердце. Оно твой проводник и помощник. Плохо, что ты иногда мешаешь своему сердцу: подсказываешь ему, не слушаешься его, своевольничаешь, как мальчишка. Но я верю, что ты, сынок, научишься жить сердцем и найдёшь, отыщешь, несмотря ни на что, свою настоящую, самую что ни на есть настоящую большую любовь.
Мать слабо улыбнулась сыну, утомлённо призакрывая веки и покачивая головой. Он разглядел, до чего тонка и «изношена» кожа её век, окологлазья, всего лица и в особенности шеи: дрябла, сера, паутиниста.
– Прости, что напомнил тебе об отце, что упрекнул…
Но не досказалось: тепла сердца не достало.
Первым отвернул глаза. Разговор душ оборвался.
Было жалко мать, стареющую, одинокую, в сущности, несчастную, «непонадобившуюся единственному её мужчине». Но не умел утешить мать, поблагодарить, быть может.
Он снова почувствовал, что они друг другу не совсем родные. Стало обидно и одиноко.
А вслух они сказали просто, безлично, так, как удобнее, чтобы дальше жить каждому своей жизнью:
– Уже поздно. Пора спать. Спокойной ночи.
Сын понял, что мать очень недовольна его Любовью; раздражало и сердило, что она не отговаривала. И он словно бы надломил свои недавние, вздрогнувшие нежностью к матери чувства, как порой надламывают мешающие при движении ветки. Ему стало представляться – мать потому не отговаривает, что желает своему сыну судьбы его отца – как, возможно, отмщение бывшему мужу и как неоспоримое, веское доказательство, что она права была, когда упрекала того. Спать надо, уже ночь глухая, рано на стройку, но назойливо переливалась, казалось ему, из пустоты в пустоту, мысль, что женщины, мол, слепы и глухи и в ненависти, и в любви своей.
– Да спи ты наконец-то, душевед и мыслитель великий!
Вскоре познакомился с родителями Любы – людьми простыми, неприметными. Они растерялись, занемели перед солидным, начальнического обличья Львом. Квартирка хрущёвская тесная, потолок давил. Подержал на руках её сынишку, глазастого, баловного, но окоченело оторопевшего, не привычного к мужской участливости и силе рук. Льву стало всех их жалко. А почему жалко – не мог разобраться. И не смолчал его внутренний голос: а может быть, если приглядеться попристальнее, не их, а себя более всего жалел, что не по любви – по уму, по надумке какой-то брал Любу в жёны?
Поторапливаясь и отчего-то краснея, сговорился о свадьбе и ушёл. Но может, это было бегство? Но от кого, от чего – от себя, от судьбы?
Деньги водились, а потому решили с Любой: если гулять – так с размахом. Народу пусть будет много. Всего пусть будет много, в избытке, в щедротах. Лев нагнетал в свою душу жизнерадостность и бодрость. А если во что-то ещё не влюбился в невесте, недопонял её в чём-то и сам чем-то не глянулся ей, что ж – жизнь впереди. Разве не так?
Лев знал, что внешне он породистый, умный, сильный, успешный. Но хорошо знал и другое – внутри он часто рассыпан, неустойчив, зол и, наверное, слаб и квёл, как старик. И ему страстно хотелось, чтобы его внутреннее и внешнее в конце концов срослось, спаялось, сроднилось навек, подпитывая и развивая друг друга. Рядом с любимой женщиной так и должно выйти. А как иначе? А иначе ему и не надо было.
Льву хотелось шумной свадьбы ещё и потому, а возможно, прежде всего, чтобы Любе было приятно. Чтобы её любовь к нему разгорелась, засияла, вызрела до всех яркостей и размахов душевных. Чтобы она была царицей среди приглашённого народа. Чтобы она была лучшей невестой города, лучшей невестой страны, мира всего! Лучшей, потому что она его невеста – его, Льва. И Льва не только по имени, но и по сущности своей.
20
Деньги были прикоплены даже на то, чтобы безотлагательно, в самые непродолжительные сроки отстроить в пригороде дом. Уже и земля года два-три назад была куплена – пятьдесят соток, не иначе для поместья. Это много и никчемно, если ты не садовод-огородник, а Льву нужны были не столько сады и грядки; ему нужна была земля – своя земля, как твердь наинадёжная. И он непременно станет таким человеком, который вполне и полностью доволен собой и теми, кто рядом с ним. Возможно, со временем заделается крепким домоседствующим хозяином. Почему бы и нет?
Кое-что из материалов уже было завезено, сарай и баня срублены, для возведения гаража с большим подвальным помещением даже залит фундамент. Строил и сам, и людей нанимал, но не спешил, удерживался и замедлялся как мог. Пока один – торопиться, ясно, особо некуда и незачем, не обустраивался как должно бы, лишь изредка, урывками наезжал на участок. Женится – вмиг, конечно же, появиться и дому.
Чаще нагрянет один, на своём великолепном джипе; плохие, дешёвые, к слову, автомобили не любил: он же Лев! Не спеша выберется из салона, постоит, помнётся на кромке перед ещё неогороженным участком, посмотрит туда-сюда, вверх-вниз, побродит по голой бурьянистой земле и уедет, поглядывая в зеркала заднего вида на удалявшуюся землю, которая мнилась ему сиротливой, одинокой, просящей его защиты. Не сразу понял, зачем наезживал: место ему крепко и душевно полюбилось. А название-то какое – Чинновидово! Где ещё такое найдёшь во всём свете?
Начинается здесь предтаёжье, предбайкалье. Скрытно-диковатые, поистине чинные виды. В немереных далях – тайга, тайга. Малохоженные мелкосопочники горбатыми заросшими спинами неведомых животных уползают в глухомань, в дебри, будто прячутся, порой пугая человека неожиданно являющимися содранными боками – буро-серыми скальниками. А там где-то, но недалеко отсюда, и великий Байкал живёт, как сосед, – хороший, надёжный сосед. Лев любит не столько бывать на Байкале, сколько просто думать о нём, для него важно, что озеро где-то неподалёку. В Иркутске – рядом, а тут, в Чинновидове, на три-четыре километра ближе. Ближе, какая подмога и опора!
И, бывает, зачем-то вспомянутся нечаянные и ничейные слова, рождённые, возможно, из воздуха и брызг прибоя:
- Ручьём серебряным к Байкалу
- Лечу с вершин моих мечтаний.
Несомненно, славно чинновидовское место, и оно, убеждён и верит Лев, только для настоящей жизни. Иркутск поблизости, отменная шоссейная дорога на Байкал всего-то в полукилометре. А какие вокруг сосновые рощи: деревья с кронами-облаками, стволы мощные, великаньи. По опушкам лесов молодняковые заросли сосёнок и берёз. Воздух чистый, лесной. Всё устойное, всё живёт, всё тянется к выси. Лесов много, но и полей, еланей в избытке. Раскатываются они зыбями на все четыре стороны света, вливаются в леса, в тенистые, болотистые дрёмы. Одно перетекает в другое. А три ближайшие запруды среди полей – драгоценные камни: блещут, голубятся, когда смотришь на них в тёплое время года с высокого холма за Чинновидовым.
Лев уже всю округу исходил. Сначала искал родники, питавшие запруды, ему сказали, что вода в них с серебром, целебная, что бабушки даже из города едут за ней на Пасху. Отыскал с полсотни и каждому радовался по-ребячьи. Воду всплёскивал кверху, чтобы радуги заблестели, пил и омывал лицо, в ладонях разглядывал студёную чистейшую воду. Серебра вживе не обнаружил, но уже был уверен – благодатная водица, чистейшая, может быть, и святая. Бродил и радовался, что красиво, тихо, просторно повсюду. Мечтал о хорошей, устойчивой жизни на этой земле.
Под боком этих недавно размеченных, мало застроенных участков ещё и деревня жительствовала. Она с мычащими коровами и крикливыми петухами, с мужиками в кирзовых сапогах и бабами в широких платках. Трактора по утрам «чихают» во дворах: какая-то сельхозартель объединяет местных жителей. Уже прикидывал: дети пойдут – вот им и воздух смолистый, здоровый, труд на земле, свежее молоко и много чего ещё для них. Да, хочется пожить неподдельно, вовсю грудь.
Для него, для строителя, возвести настоящий дом – месяц-два работы. Было бы для кого и во имя чего.
– Пусть и тебе повезёт. Главное, не трусь, не юли по жизни, загребай обеими руками. Не жди, когда рак на горе свистнет, – сам действуй, и тебе обязательно повезёт… как и мне, – вспоминалось ему и слышалось сердцем давнее отцово напутствие.
На отца он уже не злился, но и не узнавал, как он теперь и что с ним. Так, видимо, удобнее для обоих.
К ноябрю – стоять фундаменту под дом. За зиму подвезти стройматериалов, подыскать толковых работников, а весной уже быть и дому. Летом – отделка, разное обустройство. Пока же можно прибиться с Любой к матери или перетерпеться на съёмной квартире. Лучше, конечно же, на съёмной, чтобы уже сразу по-своему, особо.
21
Но не вышло.
«Жизнь переворотило, беспардонно, даже чудовищно и дико. Так переворотило, перелицевало, – после думал Лев, – как если бы шёл ты по улице, а у тебя вдруг отхватили пилой-невидимкой ноги. Боли не успел почувствовать, крови ещё нет, а сам ещё смотришь вперёд и рукой взмахиваешь, точно при ходьбе. А потом только и остаётся думать, если выживешь: может, не туда шёл? А куда оно – туда? И кто постановляет: туда тебе надо было идти или не туда?»
Льва на неделю отправили в командировку, близко, в соседний район, – заурядное, обыкновенное дело. Его стройфирма размахнулась на всю область, возводила дома и котельные, школы и больницы – многое, что подворачивалось, срасталось и поднималось в деловой жизни. Попутно приторговывала материалами, пиловочником, инструментами и оборудованием. Для всех сотрудников, от рабочего и до самого генерального, привычно командировочное покочевье. Заработки и дела дожидались повсюду. Непозволительно упускать, когда от неспешной плановой экономики Россия ринулась в затуманенное нечто, которое и пугало, но и раззуживало людей. Лев ездил с удовольствием, даже с азартом. Любил новые земли, новые лица, любил глухоманьи деревни и тайгу. Где-то можно было на досуге поохотиться, порыбачить, в баньке попариться, с мужиками у костра посидеть, послушать байки, потягивая здешнюю брагу или настойку. Иногда возвращаться в Иркутск не хотелось, как бы ни любил он свой славный город. А иной раз так глянется сторона, что подумает: «Эх, не зацепиться ли здесь, да навсегда?»
Но теперь – Люба у него появилась, Любовь его нежданная. Кажется, есть куда и к кому тянуться.
Отбыл он в командировку, но не выдержал – приехал через три дня на побывку: переночевать, посмотреть в её недоразгаданные – «глубокие, не глубокие, не совсем глубокие, совсем неглубокие?», но «чарующе чёрные, отчаянно ночные» глаза, ещё раз сказать себе, что – та, не сомневайся, та она. А потом с полегчавшим сердцем – назад, в любимые дела с головой. Он уже тянулся к Любе, хотелось оберегать её, такую беззащитно маленькую, трогательно миниатюрную, но порой неосторожно своевольную, «брыкливую» «мою» «женщинку». Что-то, однако, в ней было, без чего ему дальше жилось бы, видимо, хуже, скучно или однообразно. Порой раздумается о ней, растревожится весь, и захочется ещё раз поспорить с матерью, что любит он Любу, свою Любовь, а не только лишь свою мечту о ней, свою грёзу о чём-то несбыточном, не совсем взаправдашнем. Как, однако, матери бывают неправы! И женщины все или многие всё же – слепы и глухи и в ненависти, и в любви своей!
Ранним утром, с пассажирского поезда, разгоревшийся от скорой ходьбы, щедро опахнутый октябрьской волглой моросью, свежий, бодрый, вошёл, вернее, ворвался в дежурку.
И – как взрыв. Как обвал. Как чей-то разбойный наскок.
Он застал её с парнем, уже с другим парнем, не с тем, у которого когда-то отбил её. Парень бережно держал её маленькую, кукольную ручку в своей, а она в благосклонной, сладкой улыбчивости смотрела на него. Два красивых, молодых и, возможно, влюблённых друг в друга человека сидят рядышком – ничего, конечно же, предосудительного, обычная и вполне приличная история, если бы она была не его Любовью.
Лев пошатнулся. Что за анекдот, вечный и тупой, с уехавшим в командировку мужем? Что за такие тайные силы ловко и глумливо обошлись со Львом? Чтобы только посмеяться над ним или ещё и остеречь, отвести от опасной черты?
Лев почти что осязаемо почувствовал, что вмиг почернел, но не внешне – внутри, кровью, воздухом вдохнутым и застрявшим. На мгновение ему почудилось, что и глаза залепило чем-то чёрным – не проморгаться.
Если не осознал, то ощутил – жизнь сорвалась. И яма ли, могила ли, хлябь ли перед ним услужливо распахнулась? Или пока только в нём самом? Неужели жизнь снова обманула, вывернулась самой дурной стороной?
Парень бочком, без дыхания, даже не смаргивая, выскользнул за дверь, трусцой чуть не на цыпочках убежал по тёмному сонному коридору.
Любовь шатко привстала, утянула шею глубоко, цыплячьими крылышками встопорщились её плечики. Ужатая, наморщенная, стала к тому же какой-то серовато-желтоватой, и можно было подумать, притворилась, что старая, что никому ненужная, кто на неё посмотрит? Лепетала; даже шепелявить стала, по-старушечьи. Она ли та самая перед ним? Или уже так много лет минуло, что она постарела? Не понимал её лопотания и не вслушивался. Кажется, уже и не видел её вовсе, не осознавал рядом с собой. В его глазах нагущивалась, натвердевалась слой за слоем тьма. Но глаза были открыты. Стало быть, что-то другое оказалось тьмой и беспросветом.
Он чуть шагнул – не совсем к ней, как-то наискось, но не совсем к выходу. Зачем, куда, к чему, к кому? Или искал выход, ход, пролаз какой-нибудь. Или же искал настоящую свою Любовь, отчаянно, безумно уповая, что не так вышло только что, а остаётся всё по-прежнему, только бы вот отвязаться от этого гнусного наваждения, от этой пошлой бредятины жизни. Но, быть может, он и впрямь ослеп – ослеп глазами, душой, памятью, и теперь остаётся тыкаться, обжигаясь, укалываясь и всегда страдая.
Ещё переместил ноги, но опять – зачем, куда, к кому? Ответил бы, спроси его кто-нибудь? Он и она уже стояли вплоть. Но он – окаменело безразличный, безжизненный или отживший своё, а она – вся живая, вся в жизни, вся – обычный человек: подгибается, трепещет, ладошкой заслоняется. Шевельнись он ещё хотя бы чуть-чуть – и, точно, умерла бы от страха. Но надо жить – кому это может быть непонятно! И, не дожидаясь, когда он ещё раз шевельнётся, чтобы, конечно же, размозжить кулачищем-молотом её маленькую голову, она безысходно, на самых высоких чувствах заголосила:
– Мамочка! Ты меня убьёшь? Не убивай! Не убивай, пожалуйста, Лёвочка! Я же просто баба, баба-дура! Понимаешь?
Лев не двигался, но из него наконец вытолкнулось, хрустом камушков, скрипом:
– Люба.
И ему почудилось, что гортань его разодрало, что она клочками и сгустками застряла. Слова не сказать ещё, а надо бы. Выдрать бы пальцами, но руки занемели, не шевелятся. А может, им и не надо сейчас двигаться – ведь такое махонькое беззащитное создание перед ним: смахнёт шутя, раздавит случайно.
Лев, преодолевая, казалось, сплотнившийся стеной, воздух, вязко шагнул ещё раз, но теперь уже определённее – к выходу, к воле, на воздух, к сосновому духу.
Любовь хотя и крепилась, но не совладала с собой: вдруг юркнула под стол, затаилась, прижимаясь к стене. Она помнила, что Лев может быть ураганом, грозой, зверем. В случае чего отсюда легко можно будет шмыгнуть за диван; а если он будет тащить, так снова можно забиться под стол.
Он постоял – нет никого перед ним. А может, и не было никого. Была Любовь и – нет как нет её. А может, он ослеп как-нибудь по-особенному: способен отныне видеть только лишь то, что надо и позволительно ему видеть. Но, может быть, какие-нибудь высшие силы позаботились, чтобы он ничего этого мерзкого не видел и не понимал по-настоящему, а иначе натворит чего-нибудь ужасного, окончательного, гибельного для себя и для неё.
Любовь потихоньку сидела под столом, вдыхая пыль, глотая слёзы. Он же просто стоял – ни ураган, ни гроза, ни зверь. Кто же он теперь? Зачем он в этой казённой дежурке со спёртым шоколадным воздухом, когда на улице столько свежести, смолистого духа сосен, самого утра, раздолья, высокого неба, любимого им города – всего-всего, чтобы жить и легко дышать?
Он услышал чих под столом, очнулся, вошёл в жизнь. Его душу завертело нехорошее, удушливое чувство. Казалось, что-то невидимое, но жёсткое ломая и раздвигая перед собой, порывом вышел на улицу, с минуту постоял на крыльце, вбирая свежего морозящего воздуха. Сбежал по ступенькам и стремительно пошёл, ускоряясь, но и нажимая на подошвы, будто побаивался, что ноги сами собой повернут назад, вспять. Небо застыло над городом обвислым прогибом и было забито по всему окоёму корковатыми, выжатыми, бесплодными облаками, и нынешний день задавался давящим и бесцветным. Лев изредка вскидывал глаза к небу и чувствовал себя погребённым заживо. Но перед ним был его любимый город, и не надо, наверное, смотреть в небо, когда оно не готово поддержать тебя.
Перед ним его Иркутск – ветхий, с изломистыми улицами деревянных малоэтажек, а то и обычных деревенских усадеб, пришедших в наше время из каких-то веков со своими избами, банями, сараюшками, с покосившимися, вычерненными заплотами, с огородами, с необузданными кущами тополей и сосен. Иркутск всегда представлялся Льву старозаветным, нескладным, и он как строитель и инженер не считал его ни городом, ни деревней, но преданно любил и ценил – такого бесхитростного, некичливого, в чём-то наивного сибирского старичину. Он видел, что город одновременно и курьёзен и торжественен, и велик и жалок – чудная мешанина, в которой Лев угадывал что-то сродственное себе.
Шёл сначала прямо, потом свернул направо, потом – налево, потом ещё как-то, но куда шёл, зачем – понимал ли отчётливо. Быть может, неосознанно запутывал следы, запутывал самого себя, чтобы не вернуться, не повторить.
Теперь остаётся просто жить, просто жить, просто жить, прислушивался он к звучавшим в нём словам, которые показались ему новыми и в чём-то необычными.
А почему просто? Если же не просто – то как? – пробивались и другие слова.
22
В своё гостиничное общежитие он больше не вернулся, даже не забрал вещей; ему потом вместе с документами передали их на работе. И в общежитиях, даже будучи в командировках, он больше никогда не жил, обходил их. Если, случалось, ругал жизнь, то зачастую у него выскакивало, что не жизнь кругом, а «общага тотальная».
Какое-то время пожил прямо на стройке – в бригадном вагончике.
Однажды вечером, уже зимой, к нему пришла Любовь. Она, выхуданная, цыплячьи-жёлтая, заплакала тоненько, по-детски шморгая зарумянившимся носом. Припала завитой головкой к его плечу и говорила, что любит, что хочет с ним жить и верной быть ему, и детей ему родить, и что-то ещё обещала. Он выслушал, ни словом не отозвался, не посмотрел в её глаза, а когда она замолчала и только всхлипывала, легонечко взял её за локоток, вывел за дверь вагончика, подвёл к воротам стройки.
– Ты ни в чём не виновата: живёшь как можешь. Именно живёшь. Так, наверное, и надо. Вот и живи. А виноват только я: виноват, что потянул и тебя, и себя…
Не договорил, наверное, усомнившись, то ли нужно сказать. Зачем-то мотнул головой вниз-вверх, сморщился:
– Прощай, Любовь. Не поминай лихом. Ты ещё найдёшь, что ищешь.
Распахнул ржавую, утробно гудящую под напором ветра калитку, сваренную из труб.
Люба ушла в сумерки зимы, оглядываясь, но он не смотрел ей вслед. И больше он Любу не видел и ничего о ней не слышал и не узнавал. Но вспоминал. Ласково, благодарно вспоминал. И грустил. Всё же грустил. Он не мог от себя скрыть, что она была первой в его жизни девушкой, которую он хотел и должен был любить по-настоящему – на всю жизнь и больше.
23
Потом поселился у матери. Она настояла:
– Да ты что же, сынок, как бич, при живой-то матери мотаешься то по общагам, то по каким-то прокуренным конурам?!
Она и не спросила его ни тогда, ни после, отчего с ним теперь нет рядом Любы. Оба, казалось, притворились, что и не было никакой Любови, не было никаких разговоров о свадьбе. Видимо, матери знают, как никакой другой человек в целом мире, какая жена нужна их сыновьям.
Но с матерью ему не хотелось жить: она по-прежнему ждала невестку, ждала внуков, ждала, когда же её такой замечательный сын станет просто счастливым человеком.
Жилось Льву плохо: одиноко, неприютно. Только и хорошо было, что умел деньги зарабатывать, и зарабатывал столько сколько хотел. Но и деньги не радовали. Радовало и тянуло дальше идти по жизни, что работы было по маковку: втянешься – и потянул воз, некогда унывать и умствовать. Но чуть какое затишье в его жизни – чуял порой, что сердце начинало тяжелеть и нахолаживаться, «льдилось». Подолгу лежало опущенно, не на своём месте. Как приподнять его, вернуть в грудь, согреть?
Напросился на северную стройку: ярко и томяще помнил, что Север когда-то живил и бодрил его душу, что нравилась ему муравейная, согласная жизнь сорванных со всей страны молодых и молодцеватых строителей, что немедля и радостно втягиваешься в общие дела и забываешь о своих нудящих и горчащих, хотя бы до ночи. Возводился горно-обогатительный комбинат – гора и бездна металла, железобетона и алюминиевых панелей взгромоздившаяся и вбурившаяся в землю здесь, в жуткой лесотундре, в необжитых, диких краях, в которых лишь только несколько недель в году тепло и зелено, а остальное время – беспросвет морозов и снегов. Ещё кровли не было, всё в кранах, лесах, опутано кабелями и шлангами. Ночь озаряется беспрерывными всполохами электрической сварки. Ни днём, ни ночью тишины – рёв автотехники и сирен. Люди обретались в вагончиках и работали трёхсменно: вздремнул в бытовке, протёр глаза, перекусил и тут же выходишь на смену. Все жили работой, стройкой, заработками. Гитары и магнитофоны, вино и спирт, карты и шашки, драки и бурные замирения, бравые пачки денег и похмельное безденежье, хрипатый мужичий гогот и кокетливый женский писк, пропахшие потом и табаком бытовки, спальные аскетичные балки и шикарное убранство целых трёх (на крохотный посёлок) ресторанов – необыкновенная обыкновенная жизнь алмазного Севера, северянина-перекати-поле. Но такая жизнь очаровывала людей, надолго забирала из семей, из безветрия и скуки большой земли – материка, и кому-то позднее приносила счастливое обеспеченное бытьё, а кому-то – развалины, болезни, пустоту.
Раньше, в молодости, Север восхищал и дивил Льва, тянул к себе нежно и романтично. Но теперь что-то странное, неподвластное Льву творилось в его сердце, что-то сломалось внутри. Ему стало казаться, что жизнь вокруг противоестественная, ненормальная, чуждая ему. «Что я здесь делаю, зачем?»
Полгода пожил на Севере; ещё месяц-другой минул. Не выдержал. Чуть не с первого дня мутило его от ненавистной ему общежитской жизни, хотя как инженер, начальник участка размещался он в отдельном балке и в компаниях почти что не бывал. Раздражала его людская запанибратская перемешанность, «театральная», как он теперь считал, приподнятость в людях. Хотелось простого – тепла и немудрёности в отношениях, хотелось рядом родной, родственной души. Не радовало его и то, что он причастен к столь грандиозному строительству, созвавшему к себе тысячи сильных, несомненно, замечательных людей. Не утешали и зарплаты, выше в пять-шесть раз материковских.
«Зачем мне этот размах, этот героизм, если истинное счастье способно уместиться только лишь в сердце?»
Даже лесотундра становилась ненавистной и чувствовалась им какой-то никчемной на этой планете, бесполезной со своими лютыми морозами, не менее лютым гнусом, чахлыми деревцами, вечно серым, прогнутым, омертвелым небом.
«Старею, что ли? Сердце стягивается книзу и, чую, разбухает, не может удержаться на своём месте. Что со мной, что со мной? – И сам же отвечал порой: – Да та же волынка, братишка!»
Не втянулся, как ни старался, в коллективную, «муравейную» жизнь и уже не верил, что, как полагал, уезжая из Иркутска, Север «выморозит» в нём хандру, обвеет, освежит всего, направит к чему-то новому, созидающему.
Неожиданно, можно сказать, бегством, в спешке передав дела изумлённому помощнику, ночным рейсом улетел в Иркутск, сам не зная хорошенько, зачем. И уже не вернулся.
«Не от себя ли снова бегу?»
Ощущал и размышлял, что судьба, подобно слепой и глухой лошади, тянет его за собой в какой-то скрипучей повозке. Он же только лишь может лежать на её жёстком днище, обездвиженный, безвольный и даже равнодушный. И единственно что видит – сменяющееся, но однообразное небо да свисающие кусты знакомых или неведомых деревьев, которые так и норовят царапнуть по лицу.
24
Снова стал жить в Иркутске и долго никуда не выезжал.
Город, его таёжные окрестности, Чинновидово, Ангара и Байкал по-настоящему притягивали Льва, особенно после квёлости лесотундры, технологически и прагматически до последнего гвоздика устроенных северных рабочих посёлков. Может, и вернулся к тому, что роднее, родственнее, нужнее сейчас. В припылённых, скособоченных, прошлого века домах Иркутска, в его облике, который изрезан морщинами заулков и улочек, в его живых или разваленных церквях, в его зеленовато-бирюзовом ожерелье – Ангаре, в его новостройках и воссозданных купеческих усадьбах, – во всём этом по преимуществу старом, неухоженном, но тянущемся к нови и красоте городе он так же, как раньше и как всегда, находил успокоение. Иркутск ему виделся живым, естественным, природным: одно в нём отмирает – другое начинает жизнь, одно прекрасно – другое уродливо, одно пора снести, спрятать с глаз – другое восстановить и лелеять, потому что оно прекрасно, потому что оно нужно людям, только, видимо, не все это понимают пока что.
Любил иркутян и всегда угадывал точно, что перед ним именно коренной житель Иркутска. Особенным в иркутянах ему представлялось то, что они похожи на деревенских жителей: угадывались в них остатки старой неторопливой сибирской жизни. И себя Лев, со странной горделивостью, не считал городским. Представлялось ему, что он старомодный с головы до пят, и хотелось считать себя деревенским человеком. Его всегда тянуло к природе и жить естественным, извечным её ходом; чувства и помыслы звали к иным формам жизнеустройства и жизнестроительства.
Приезжал в Чинновидово, на свой забурьяневший, одичалый участок. А кругом уже поднимались дома, исключительно роскошные усадьбы состоятельных людей. Лев сиживал на почерневших, когда-то ошкуренных и приготовленных для беседки, брёвнах, рассеянно смотрел своими большими грустными глазами по сторонам, дышал сосновым воздухом, слушал тишину леса и поля. Строиться не начинал, но чувствовал, что не выдержит – возьмётся. И возьмётся по-настоящему, потому что как можно строить дом, а значит, и свою душу по-другому, иначе? Временами бывало немножко завидно, что люди вокруг застраиваются, обустраиваются, оседают со степенностью; сосед иногда уже ночует в своём недостроенном доме.
Но не приступал, тянул, раскачивался. Зачем-то купил крупногабаритную пятикомнатную квартиру, хотя и двух комнат одному хватило бы. Теперь особняком зажил. Избегал матери, уставал от её стареющих, но ждущих глаз и ласкового до заискивания ворчания. И, кажется, снова забывал называть её мамой. Жил один, одиноко и уныло, но не позволял себе ни лишней рюмки спиртного, ни, тем более, какого бы то ни было разгула и безалаберщины. Женщины, правда, появлялись в квартире, но только тогда, когда одиночество совсем уже становилось невыносимым, давящим. Лишь на работе, в делах, в суете людской и спасался.
Не выдержал – взялся строиться в Чинновидове. Какое-никакое, но дело, к тому же «пользительное» развеяние нелёгких чувств и мыслей. Однако не понимал ясно, зачем ему одному огромная квартира и выходивший шестикомнатным и двухэтажным да с цоколем и с надворными постройками загородный дом.
Однажды Лев задумался, и ему неожиданно и обидно открылось: всё, что он строил, дома, цеха, гаражи, ещё ничего ни разу не достроил до конца, не загнал, как говорят строители, под кровлю. Всегда куда-то срывался, находил что-то интереснее, денежнее, а то и бестолково метался, откровенно чудачествовал. Выходит, что другие заполняли за него пустоту мира, а он, точно бы с торбой, носился по свету со своей «калекой-душой», искал для неё прибежище. И она, был уверен, потому, может, и оказалась недостроенной, даже в чём-то, можно предположить, неполноценной, что сам он не привнёс в этот мир ничего завершённого, настоящего.
Строил дом неутомимо, отчаянно, будто бы убегал от кого-то или отчего-то. День ото дня быстрее, все выходные и отпуска, и больше сам, один. А умел многое что: и проект разработать со всеми технологическими привязками, и сотку, гвоздь, двумя ударами молотка вогнать в брус, и малярной кистью заправски орудовал. Лишь на тяжёлые, неподъёмные работы нанимал из местных мужиков да столярку заказал у доброго мастера. А так – одиночкой, в размышлениях о том, как из лучшего лучшее применить.
Вспоминалась, случалось, Любовь, та Любовь его нежданная. До сей поры не смог вытравить и выскоблить её из памяти. Сердило: любил Любу, да ничего путного не вышло. Представится её маленькая, кокетливая фигурка, её сверкающие детскостью, но глубоко чёрные глаза, её задорный голосок прилежной ученицы, вся увидится ему этакой внешне уютной, райской птичкой, усмехнётся:
– Чего уж теперь!.. Одно слово: дура-баба.
Себя вообразит: стоит одеревеневший бугай перед трепещущей птахой, бывало, даже захохочет.
25
Так несколько лет и протянул – тихо, придавленно, отгороженно. И от матери отъединился – молчанием и преувеличенной вежливостью, когда раз-два в месяц наведывался к ней из смутного чувства сыновнего долга. Ото всех как-то отходил, заслонялся. Душой убредал в какие-то свои дали и земли. Даже собственных мыслей и чувств не любил: отодвигал их, сминал, запрятывал, но в себя же, в самую тёмную, в самую холодную глубь. Надо, чтобы молчало внутри, не разжигалось, не точило. Говорил себе: чтобы огонь не расходился, надо его от кислорода беречь. Друзей и раньше не было настоящих, а теперь, после тридцати, разве можно найти друга по сердцу? Партнёров, компаньонов всевозможных водилось в избытке. И возле Льва, уже владельца торгово-посреднической и проектно-строительной фирм, акционера нескольких предприятий, партнёрский деловой люд мушиным роем вился, точно возле чего-то сладкого и сытного. Лев умел и любил править делами, он был успешен и ярок, нежаден, рассудочен, а к таким липнут, едва учуют их вблизи себя. Появлялись и женщины, красивые и разные, но не приглянулась, не полюбилась ни одна. Две-три встречи – и полно. Душой с ними отягчался, скучал.
Жизнь, и вместе с ним, и рядом с ним, и по планете целой, понемногу перекатывалась куда-то и зачем-то, потому что нужно же куда-то и зачем-то двигаться. Но его дни, представлялось ему, в этом движении скрипели ржавью, застарелостью, однообразием: работа – дом, дом – работа. А если не работа и не дом, то какие-то сумерки, неопределённость, даже никчемность норовили возобладать вовне и внутри.
Порой Льву представлялось, что живёт он за высоким прозрачным, но передвигающимся вместе с ним ограждением, за которым много людей. И он с ними общается, решает что-то деловое, живое, но истинно слышит и чувствует не людей, а только лишь своё одиночество, свою невнятную тоску. И говорит с ними не потому, что хочется ему, а чтобы размягчить в себе вредный комок настылости. С людьми, уверен был, потому получаются дела, что автоматом поступал, по какой-то схеме, по какому-то всемирному всеядному софту.
А может, и не он живёт на свете, а какая-то очень умная программа вместо него? – тревожился Лев. Кто ответит ему?
Люди тяготили его, в квартире и в доме у него редко кто бывал. Он, можно было подумать, перестал доверять жизни и людям.
«Я живу неправильно, те, те, те тоже живут неправильно, но что же тогда в этом мире правильность, правда, истина? Почему я не понимаю и не надеюсь, что жизнь может быть ещё и просто прекрасной – прекрасной духом и разумом, прекрасной людьми и отношениями? Запутался я, бедолага, вконец одеревенел мозгами и сердцем!»
Однажды, достраивая гараж в Чинновидове, Лев понял, что вместо традиционного подвала для хранения овощей, банок и скарба у него стала получаться комната – довольно просторная жилая комната. Это обстоятельство озадачило и насторожило Льва. Но он не остановился: не стал оборудовать помещение под обычное хранилище, а всячески улучшал и украшал его. Подвёл к комнате водопровод, вырыл яму для канализационных стоков, установил насос, ванну, душ, унитаз. Усложнил в гараже электрическую часть – поставил в комнате холодильник, телевизор, компьютер, подключил обогреватели и даже электробойлер. Лаз зачем-то замаскировал, тщательно, с выдумкой, – даже присмотревшись, не обнаружишь. Потом выполнил отделку, любовно, умело, даже качественнее, чем в самом доме. Все наилучшие материалы, какие знал и нашёл, использовал, особенно утеплители. Денег не жалел. Тайком, украдкой, только что не ночами корпел.
Вышла роскошная комната, нашпигованная технологиями и удобствами. Но зачем она Льву, при его-то доме и квартире, – не мог внятно объяснить он даже себе. Нервно и мрачно посмеивался, что не бомбоубежище ли приготовил. И сам гараж располагался как-то противоестественно: далеко за домом, в глубине участка, хотя разумнее было бы построить рядом с домом, с выгодным подъездом от дороги. При такой планировке получилось, что добрых пять-шесть соток земли отчуждалось, потому что нужен был этот длинный, с коленцем проезд для машины.
Недоумевал, искренно, но напряжённо: зачем ему подвал в гараже, когда на участке избыточно земельных наделов под застройку хозяйственными помещениями? Но погодя осознал отчётливо: заехал в гараж, закрыл двери и сразу – в комнату свою потайную можно нырнуть. Однако зачем, в чём резон? Непонятно! Какой-то бред подсознания! Что с ним происходит? Где логика в его поступках и действиях?
Раз переночевал в комнате, другой раз – понравилось. Неделю, две, три прожил, порой и в дом не заходил совсем. Загнав в гараж машину, спускался в комнату, задраивал люк.
Что же понравилось ему в этих ночёвках – не мог разгадать сразу.
Наконец, понял явственно – тихо здесь, очень тихо, людей нет, не видно и не слышно никого. Ничего постороннего и раздражающего. Но одновременно Льву стало тревожно и даже страшно: а вдруг сойдёт с ума или, может быть, уже! Станет никчемным человеком, в лучшем случае – чудаком, сумасбродом.
И неспроста подкрался однажды вопрос: не пора ли провериться у психиатра?
Оборвал поночёвья в этой комнате. Обходил гараж, даже старался не смотреть в его сторону. Машину оставлял во дворе. Случалось, что неделями не приезжал в Чинновидово.
Яснее, высветленнее становилось осознание – как ни затыкай щели от жизни, ни перехитряй её, ни отгораживайся или ни хоронись в подвалы и ямы, ни закрывайся стенами и заборами, ни убеждай себя и других людей, что многое, многое оборачивается когда-нибудь мерзостью, разложением, прахом, жизнь всюду просочится, потому что она – сущее мира сего. Жизнь – и движение движений, и механизм механизмов, и мысль мыслей, и бог богов. И если человек по сию пору ещё живёт, то живёт единственно для того, чтобы стать лучше, стать нужнее людям. Но не все об этом вовремя и правильно узнают. Когда же открывается для них суть – бывает, что уже поздно.
Вторая часть
Дом
26
Как-то раз Лев случайно повстречался на улице Иркутска со своим приятелем однокурсником – Павлом Родимцевым, Пашкой-Рубашкой с ласковой насмешливостью величали его в той, студенческой, молодости. Он, симпатичный, рослый, здравый, был успешен у девушек, лёгок с ними в обращении, и тяжёлый в завязывании знакомств Лев слегка тогда завидовал ему. Кто-кто, а Родимцев всегда будет доволен жизнью, полагал в те годы Лев.
Наступили после дождливого, но тёплого бабьего лета заморозковые, льдистые дни сентября. Лев остановил свой джип и вышел из салона, поражённый внезапно и жутко открывшимся перед ним из-за поворота закатом: западное полотнище неба красно-яростно, с нарастающим раскалом пылало. Рдяные набухшие лучи, точно капли, стекали в жухлую, но сырую листву, расползались по застывшим лужам и, представлялось, обагряли окрестность.
Закат и восхитил, и насторожил Льва. Пытливо всматривался он в горящее небо, однако не понимал, что же нужно ему увидеть ещё, разглядеть глубже, до каких таких подробностей, а может, и смыслов.
Задумался настолько, что не услышал и не заметил – невдалеке с хрустом и взвизгом затормозил заезженный, вылинялый жигулёнок. Из него вылез молодой, но до неопрятности располневший мужчина и, устало покачиваясь, ссутуленно направился к подъезду жилого дома – неказистой малиново-серой (и не малиновой, и не серой, а показавшейся Льву грязноватой, запылённой) железобетонной хрущёвки, иссечённой щелями на блочных стыках, с оборванными водосточными трубами, а потому в уродливых, заплесневелых подтёках.
– Лёва, ты ли?!
Слова прозвучали для Льва странно и вроде бы как издали и из глубины. Издали и из глубины какой-то другой жизни, несоизмеримой с величием и трагедийностью небесного зрелища. Душа Льва полыхала вместе с этим закатом и ему трудно было отвернуться от неба: оно стремительно багровело, наливалось, и мнилось, что свет кроваво липок и густ.
«К чему бы всё это?»
Лев слабо, но не растерянно улыбнулся Павлу.
– Здорово, здорово, дружище, – с невольной и перехватывающей голос хрипотцой произнёс он.
Пожали друг другу руки, слегка приобнялись, можно было подумать, что с недоверием, даже с опаской. Они отличались друг от друга разительно. Лев – сбит, прям, свеж; был одет неброско, но добротно, влито. Павел – сжатый, пригнутый, серый; скорее, подсгорбленный, чем сутулый, к тому же плешивый и седой. На нём, точно бы на подростке, мешком висла линялая синтетическая куртка. «Уже старик», – подумалось Льву.
Павел не сразу догадался, чей стоит рядом с ними этот роскошный, вальяжно густо-синий, но тоже багрово отливающий джип. А когда понял, то изменился вмиг: Льву показалось, что он пониже склонил голову, приосел весь, сконфузился.
– Наслышан: размахнулся ты, Лё… Лев. Не думал, что до такой степени. Твой «коняга»? – с нарочитой небрежностью махнул он головой на автомобиль.
Лев не ответил, прикусил губу. Спросил, неохотно отводя свои глаза от страшного закатного солнца:
– Как ты живёшь, Паша?
– Да так. Живу, хлеб жую. Как все. А ты, вижу, – ого-го: на таких-то тачках разъезживаешь…
Но Лев, поморщившись, с досадой прервал его:
– Давай, Паша, посидим в том баре. Вспомним молодость, что ли.
Ему хотелось поговорить с Павлом: узнать, или, наверное, скорее всего, выведать, как он, что он. Они одногодки, даже почти что, кажется, день в день родились, один и тот же вуз закончили, выходит, должно быть что-то похожее, однолинейное в их судьбах. Может, и Павел тоже какой-нибудь несчастливый, вывернутый человек. Если же доволен вполне жизнью и судьбой – что сделал, важно понять Льву, так, как надо было.
Лев по сотовому позвонил в офис – отменил встречу; в трубке стали возмущённо урчать, но он, не дослушав, отключил телефон вовсе.
– Я, Лев, вот в этом домке живу – айда лучше ко мне, – скованно мотнул Павел головой на эту непрезентабельную, если не сказать, что безобразную, пятиэтажку.
– Неудобно, Паша. Ввалимся – твоих семейных потревожим. Пойдём в бар, а к тебе я как-нибудь зайду. Честное пионерское, – зачем-то пошутил Лев, ощущая прилив к сердцу каких-то молодых, уже забываемых им чувств. – Пойдём. Чего задумался? Вспомни: ты же всегда, что бы ни случалось, оставался весёлым и лёгким на подъём. Нашим заводилой был!
– Понимаешь, деньжат я с собой не захватил. А дома и выпить чего-нибудь найдём, и закуска имеется.
Павел покраснел и, показалось Льву, что самолюбиво, нахохлился, по крайней мере, вскинулся плечами, распрямился насколько мог.
– Сразу видно: каким был ты славным человеком, таким и остался. Как мальчик зарумянился, – улыбнулся Лев, с непривычной для себя торопливостью закрывая и ставя на сигнализацию джип. – Пойдём, пойдём! – нетерпеливо потянул он за собой Павла. – О деньгах не думай: я плачу.
Они прекрасно посидели, о многом поговорили. Но больше Павел рассказывал, а Лев радостно и печально слушал. Павел рассказывал о своём житье-бытье, честил и местные, и высшие власти: мол, не дают, сволочи, нормальному человеку нормально жить. Лев понял, что Павел был из тех, кто всё ещё не мог влиться во всеобщий поток этой новой, совершенно уже другой и уже давно другой русской жизни.
Пили великолепное, невообразимо дорогое для простого человека вино. Оно было бархатисто лёгким на вкус, однако, на удивление, быстро и надолго пьянило. Лев всматривался в посоловелые голубовато-дымные глаза Павла, радуясь, что можно смотреть в эти глаза, напоминающие молодость и юные задиристые и легковесные мечтания. Молча покачивал головой и чуть улыбался: пусть выговорится человек.
Небо за окном уже стало обыденно фиолетовым, не пугало, по нему своим привычным и неизменным порядком рассыпались звёзды. Город ласково и приютно засиял домашними огнями окон. «А может, что бы ни случилось, – оно к лучшему в этом мире?» – зачем-то подумалось Льву. Он давно не был так свободен и лёгок внутри, столь приятен самому себе и дружелюбен. Будто судьба что-то обещала ему сейчас, куда-то подзывала, подманивала.
Павел был, помнил Лев, человеком на первый взгляд несложным, зачастую отчего-то весёлым, суетливо-оживлённым, хотя не сказать, что простаком. Затеять вечеринку, разыграть вредных преподавателей, горячо выступить на собрании, ввернуть в разговоре свеженький анекдот, подтрунить над зубрилой-сокурсником – Павел всегда и всюду закопёрщик. Выглядело, ему хотелось, чтобы всем вокруг жилось хорошо, славно, по крайней мере – не скучно и не серо. Однако жизнь, понял Лев, здорово прошлась по Павлу каким-то утрамбовывающим катком. Закосев от двух-трёх бокалов, в хмельной навязчивой откровенности, с досадой, но неозлобленно Павел признался Льву, что хотя семья у него всего-то жена да дочка, а прокормить её тяжело.
– Обидно мне, Лёва. Я – здоровый, неглупый мужик, а живу – калека калекой. Безобразно! Немощный я перед нынешней жизнью! – ссаживая голос, выдохнул он и стиснул кулак. – Все только и думают о деньгах. А моя душа там, в нашей молодости. Помнишь, как мы куролесили в стройотрядах? Ух, была житуха! Та жизнь видится понятной, чистой и весёлой. А теперь попробуй-ка разберись: где хорошо, а где погано, где негодяй, а где друг, когда смеяться, а когда рыдать? Эх, чего уж! Гиблый, наверное, я человек.
– Ну уж – гиблый! – натянуто усмехнулся Лев и потрепал Павла за плечо.
Льву хотелось сказать Павлу, что, оказывается, оба они неисправимые идеалисты и мечтатели: чего-то ждут от жизни, а она в своих лучших проявлениях мимо них катится; и хотелось сказать не о всякой жизни, а о настоящей, большой, как судьба. Но промолчал, потому что совестно и обидно было бы признаться, что тоже слаб, и не так, или совсем не так, удачен, как хотелось бы.
И женился, признался Павел, вроде как ненормально. Был видным парнем, девушки вились возле него, и сам влюблялся, однако унимал и гасил в себе чувства, женился поздно, уже когда под тридцать было. И причину не скрыл от Льва: потому что мучительно долго не было своего угла, квартиры, достатка. Стыдливо ютился у престарелых родителей. Держался за инженерную должность: думал, в рост пойдёт, зарплату набавят. Жить семьёй абы как и абы где – гордость противилась, зазорно было бы. Копил деньги на жильё, да никак не мог накопить со своей прорабской зарплатой в жилищно-эксплуатационном тресте. Родители умерли, и теперь он с семьёй живёт в их квартире. Но жилище тесное, две комнатки с низкими потолками, с прогнившей сантехникой. Своё прорабское, инженерное дело оставил: зарплату месяцами не выплачивали, повышения в должности не обещали. Подался в торговлю, мотался с баулами из Китая и Турции. Обычная история миллионов и миллионов.
Лев уже затомился и заскучал, слушая Павла, да тот, мрачно помолчав и выпив залпом полный бокал, неожиданно улыбнулся, помотал головой и заговорил о своих близких: о жене Елене – что красавица, умница, хозяюшка, какую поискать, о дочке Машеньке – что ангелочек, что гордость и надежда его, единственное богатство. И Лев понял и порадовался, что у Павла, несмотря ни на что, есть какой-то просвет в душе, что жена и дочка – его плотики и зацепочки в этом мутном и беспощадном половодье современной русской жизни.
27
В ближайшую субботу Лев пришёл к Родимцевым. Ему хотелось увидеть счастливую семью, удачливых в браке людей и, погревшись возле чужого костерка, возможно, самому начать наконец-то жить правильно, как-то, может быть, ровно, с лёгким дыханием и ощущением высоты неба.
Познакомился с Еленой. Она несколько лет назад родила Машеньку и теперь сидела с ней. Елена была действительно недурна собой, если не сказать, что красавица: девчоночьи тонка, изящно бела, с высоким открытым лбом. Глаза у неё большие, яркие, но представились Льву странными, диковинными и даже диковатыми: смотрит она несколько вразлёт; можно подумать, что хочет увидеть в человеке сразу и то, и другое и что-то невидимое покамест для неё. Глаза беспокойные, ненасытные, вероятно, не способные насмотреться и напитаться. Яркие они не цветом, а насыщенностью и закипанием чувств каких-то, догадывался Лев, придавленных переживаний, неизведанных, но желанных эмоций. Щёки Елены откровенно запылали, когда она увидела вошедшего в квартиру сановитого, облачённого изысканно, с иголочки Льва. И она в присутствии мужа вглядывалась, точно бы въедалась глазами в этого постороннего мужчину. Лев не выдержал – первым отвёл взгляд: он был раздосадован и даже сердит.
«Ух, рыскает глазищами!» – был он в себе немилосерден и беспощаден.
Посидели за столом в крохотной, но чистой кухонке, выпили, поговорили о разном, но незначащем, необязательном, и через полчаса-час Лев уже отчётливо понял, что его Паша несчастен в этом доме, с этой женщиной. А потому – делать Льву здесь совершенно нечего, надо поскорее убираться восвояси. Направился к двери, однако хозяева не отпустили: позволительно ли – не посмотрел на их доченьку. Что ж, почему бы и не посмотреть; но более он в этом доме никогда не появится.
На цыпочках вошли в полуосвещённую, загромождённую, показалось Льву, тенями комнату. Маша спала или дремала. Лев заглянул, слегка склонившись, в опрятную, украшенную кружевами кроватку, но тут же отвернулся: а что, собственно, было смотреть? Просто спит ребёнок, не по возрасту маленький, худенький, бледненький. На стене тускло розовел пушистый коврик с зайцами, на полу и диване разбросаны игрушки, у стены кособочится старый платьевой шкаф; ещё – пожжёная гладильная доска и изрядно подержанные столик со стульчиком да горшок, чуть задвинутый под кровать. Комната с низкими хрущёвскими потолками, не комната – железобетонная коробка, наполненная призраками. Всё тут, как у многих, ничего примечательного, интересного, особенного, подчёркивающего изюминку в хозяевах. Однако только Лев отодвинулся от кроватки и хотел было направиться к двери, чтобы, несомненно, навсегда покинуть этот неприятный и не уютный для него дом, эту несчастливую семью, как неожиданно увидел – девочка открыла глаза и открыла каким-то внезапным распахом, широко, совсем несонно, и смотрела на гостя совершенно бодро, свежо и лукавенько.
«Славная, однако, девчонка», – тотчас подумал он. Похоже, она всё же не спала, а притворялась, может быть, сквозь ресницы наблюдая за вошедшими и склонившимися над ней родителями и гостем. Что бы там ни было, но Льву представилось – в комнате стало светлее, просторнее, уютнее, и он, сам не зная отчего, даже улыбнулся, сбрасывая свою сумрачную раздражительность, раздвигаясь сердцем. Пристально, заинтересовано всмотрелся в девочку: приятно, что глаза у Маши отцовы – дымчато-расплывчатые, мечтательные, однако уже немало в них какой-то недетской зоркости и даже строгости. «Здравствуйте, – разобрал Лев в её чутком, умном взгляде. – Кто вы? Я Маша. Почему вы хмуритесь и морщитесь? Или, не пойму, – усмехаетесь? Вам скучно со мной? Я вам смешна? Что ж, я повернусь на другой бок, а вы поступайте, как хотите». И она, дивя и обескураживая гостя, в самом деле повернулась на другой бок, лицом к стене, к резвившимся на поляне зайцам. «Какие мы, смотрите-ка, важные и самолюбивые!» – веселел Лев, и веселел, по-видимому, оттого, что втягивался в какую-то игру, детскую, но, возможно, непростую.
– Здравствуй, Маша.
Девочка, притворяясь занятой, касалась пальчиками зайцев и не отзывалась на приветствие гостя. Однако Лев приметил, что она краем глаза следила за ним и родителями, была напряжённо затаена, чего-то, возможно, ожидая или вызнавая. Он взглянул на Павла и Елену: очевидно за поддержкой.
– Она у нас с характером барышня, – предельно приятно улыбалась Елена, при том с отчаянной нежностью всматриваясь в глаза Льва.
«Да какого чёрта, в конце концов, она пялится на меня?!» – закипел Лев и, удручённый, злящийся, отвернулся и от Маши, и от её матери, и от Павла, который упоённо улыбался то товарищу своей молодости, то любимице-дочери.
– Моя наследница, – зачем-то приподнявшись на носочках, пояснил сияющий отец. – Ангелочек. Ради неё и стоит жить-быть.
Елена тоже отвернулась ото Льва, зачем-то опёрлась рукой о плечо мужа и стала смотреть, едва улыбаясь, только на дочь. А Лев неподдельно порадовался, что Елена и Павел, хотя бы рядом с дочерью, способны быть душевно едины.
Он протянул к девочке руки, не ясно осознавая, для чего: погладить ли её, взять ли на руки или просто хотя бы так выразить ей своё расположение. Она, неожиданно тотчас, потянулась к нему – словно бы к очень близкому человеку. А он вдруг смутился, даже растерялся, потому что никогда раньше не держал на руках столь маленького ребёнка. Неловким ёрзающим движением, но предельно легонько, просунул под её спинку ладони и потянул к себе. Она была до того легка и тонка, что Льву представилось – в его загрубелых руках, привычных к металлу, железобетону, громоздким монтажным инструментам, мужскому пожатию, очутился тончайший, воздушно-хрустальный сосуд, который может выскользнуть из таких малочутких ладоней, а то и лопнуть, чуть нажми, чуть не так шевельни пальцами.
– Вы её что, ребята, не кормите? – спросил он ворчливо и буднично, однако переживал невероятные чувства тихого тайного восторга и одновременно разраставшегося страха: только бы не нанести девочке никакого урона, не испугать её, только бы она осталась довольной им!
– Ага, эту принцессу заставишь кушать! – расслышал он Елену, но как будто издали. – Можно подумать, диету соблюдает. Боится потолстеть, что ли.
– Будущая фотомодель или балерина, знай наших, Лев! – горделиво молвил отец.
От девочки непривычно, но приятно пахло, и Льву вообразилось, что навеивалось от её порозовевших щёк. Конечно же, не щёками пахло, а, подумал он, детством, её детством. Детством, в котором сейчас пребывают и её чистая новорожденная душа, и её воздушные, безоблачные мысли, и её желание игр и веселья. А может быть, всего-то пахло молоком, манной кашей, яблочным пюре, конфетами, игрушками, накинутым на спинку кровати платьем, ещё чем-нибудь домашним, младенческим, детским. Но Лев не догадывался об этом, потому что мало знал жизнь маленьких детей и тех семей, в которых есть такие дети. Ему хотелось, чтобы запах был запахом её щёк, её детства и даже её души. Она тихо и степенно сидела на его руке, не вертелась, не разглядывала незнакомого человека, – казалось, уже наверняка поняла, что его не надо бояться, что он добрый, отзывчивый дяденька.
Принимая дочку из рук Льва, Елена настолько низко склонила голову к его лицу, что он почувствовал покалывание от её волос. Холодно попрощался.
28
Горемыке Павлу он позвонил через какое-то непродолжительное время и, хотя тот ни разу ни о чём не просил его, предложил ему приличную инженерную работу в своей компании. Лев понял, что не сможет навсегда, как поначалу намеревался, оборвать отношения с Родимцевыми: ему было жалко добряка и простофилю Павла, ему было жалко его дочь Машу – гордость и надежду его, единственное богатство, которым он, растерявшийся перед жизнью, не принявший ни сердцем, ни умом нынешнюю вздыбленную Россию, обладал. Иногда, как об очень близком, дорогом человеке, Лев отчего-то задумывался о Маше: как же она, такое болезненное и беззащитное создание, будет жить в этом мире, в котором столько повсюду расставлено и временами каверзно замаскировано ловушек, столько поджидает человека невзгод, изломов, потрясений; и, важно для Льва, сможет ли Павел вытянуть дочь, не сорвётся ли в какой-нибудь очередной провал судьбы, увлекая и дочь за собой. Мать у девочки, надо прямо сказать, скверная женщина, чего от этакой мамаши с рысьими глазищами ждать! Чуть что-нибудь блеснёт приманчиво впереди – бросит, уверен многоопытный и застарело недоверчивый Лев, незадачливого, простоватого Павла, а то и дочь заодно, побежит, красотка писаная, туда, где легче, сытнее, слаще. Неизменно подумается вслед и о том, что засиделся он в бобылях и ворчунах, что и ему уже пора бы иметь своих детей, стать отцом, если столь чутко и отзывчиво его сердце, если столь сильны и желанны позывы к тому, чтобы отдавать свою явно перезревающую нежность другому человеку, живя в радости и печали забот не только о себе, любимом. Воистину, надо, наконец-то, чтобы жила-была рядом родная душа, росли детишки, наследники. Что ни думай и как ни ряди, а дети – это прекрасно, это единственное, что навсегда поселяется в твою душу; а душа, говорят сведущие люди, бессмертна.
Однако погодя, по неизбывной привычке, всё же усмехнётся:
– Какими же мы сентиментальными стали: вот-вот слюни распустим до колен и ниже.
Но душа его, не взирая ни на какие его собственные или вычитанные, позаимствованные мысли, жила по-своему – прихотливо и взыскующе, но нежно и ранимо.
Павла определил прорабом на более денежные загородные объекты, обустроил ему офис; мужик он толковый, не забыл инженерного ремесла, работяги к нему потянулись – дело, может быть, не немедля, не с ходу, но пойдёт, потянется в горку. Зарплата у Павла теперь солидная, в своей профессии наконец-то вращается он, а не всякой бестолковщиной занимается, чтобы свести концы с концами. И Павел захотел отблагодарить Льва, чтоб щедро, но и с душевностью получилось, – пригласил к себе домой на ужин. Закатим, мол, пирушку, студенчество наше бесшабашное вспомним и всё такое прочее; а то и, выбирай, в ресторан можно или на природу. Передал, весь сияя и маслясь, что и Елена ждёт его, и Машенька, конечно же, будет рада. Однако Лев хотя и предельно деликатно, но решительно отказался: понимал – Елена будет добиваться его, а он, хорошо знал за собой, может, не совладав с напором черчатьих чувств, нагрубить, потом будет мучительно жалко её и до омерзения противно за себя. Ему хотелось, чтобы в доме Родимцевых прижилась душевность, добропорядочность, доверие, а может, и любовь, и, конечно же, хочется, чтобы Маша выросла хорошим человеком. Он обязательно когда-нибудь, через годы, узнает, что с ней, и если обнаружится, что нужна какая-нибудь помощь, содействие, – поддержит чем сможет.
Никаких встреч с отблагодарениями не состоялось и не могло даже намечаться, и скромный, настрадавшийся Павел более ничего не предлагал, не навязывался к Ремезову Льву Павловичу – генеральному директору, к хозяину и голове всех многочисленных направлений и проектов компании. Он был удовлетворён, даже вполне отныне счастлив, и то, что товарищ молодости, очевидно, сторонится, чуждается его, простого человека, – не беда, случается и чего похуже. А Лев, от времени до времени проводя совещания с инженерно-техническим персоналом, примечал, что мало-помалу спадала с Павла припылённость и мятость, – ясно и отрадно: расправляется человек, начинает дышать полной грудью, даже голосом покрепчал. Пусть он будет утешен в своём маленьком мирке, единится в любви и дружестве со своей женой и дочкой. Мавр, в несомненной радости сердца, сделал своё дело, мавр, простите, удалился. Ничего не поделаешь: у каждого, братья-люди, своя стёжка-дорожка, у каждого какая ни на есть, но своя жизнь.
Тем временем потихоньку достроился дом в Чинновидове, и Лев вселился в него незамедлительно, с охотой великой и подстёгивающей: нравилось ему любое освежение жизни; и стойче начинал он верить, что непременно что-нибудь да ещё доброе произойдёт. Новоселье растянул едва не на полгода: обустроит, обставит очередную комнату – везёт в Чинновидово братию знакомых и родственников. Гулянка им самая развесёлая, баня с бассейном, прогулки по лесу и даже охота и рыбалка. Не хотел он завершать этот праздник обновления и упования.
И по негласному порядку гости, не без подковырки, всенепременно осведомлялись у Льва:
– А где же, дорогой хозяин, твоя жена? В таком домине, дружище, и двух не грех бы иметь!
Знали, что нет у него жены, но зудилось у людей на языке. Льва порой хотя и обжигало внутри притиворечивое, нехорошее чувство, но внешне он оставался холоден, молчком усмехался или притворялся, что не расслышал.
Почти что забросил городскую квартиру. Можно было, конечно, продать её, но не продавал. Держал про запас с явной задумкой: а вдруг той, которая придёт в его жизнь, в его дом, понадобится ещё и жилплощадь квартиры? Ведь женщинам, в сравнении с мужчинами, полушутливо-полусерьёзно полагал он, отчего-то так много всего нужно по житейству. Ей-богу, тряпошные души они!
А дом удался великолепным, но без видимых, явных изысков. Великолепным и одновременно простым в нём было то, что внутри и снаружи он создался совершенно белым. Однако то, что дом вышел белым весь, Лев осознал полно и целиком лишь тогда, когда строительные и отделочные работы уже были докончены подчистую. Странно, но результат озадачил и, похоже, насторожил Льва, – его самого, проектировавшего и отчасти строившего, можно сказать, созидавшего дом. Что же такое белое? – нешуточно задумался он. Почему не розовое или какое-нибудь голубенькое? Или почему было не насытить облик дома разноцветием красок, тонов, полутонов? Но во время строительства, вспоминалось Льву, он даже и не попытался внести какого-нибудь хотя бы простого, тривиального разнообразия. Теперь ходил вокруг или стоял в сторонке – всё приглядывался к дому: и что же за такая за белая серость, белоснежно сияющая маловыразительность? Чудачество на уровне подсознания, Фрейд попутал?
Посмеивался, но невесело, в тяжёлой, погружённой задумчивости:
– Не иначе обеляю свою паршивую душу.
Раз за разом, точно бы заворожённый, обходил дом снаружи, строго, придирчиво разглядывал его издали с разных точек на общей серой волне старого посёлка и утверждался во мнении, что его дом, при внешней схожести с привычными или слегка отклонившимися от чего-то среднего, типового домами, у которых имеются обязательные фундамент, стены, окна и крыша, разительно отличается ото всех окружающих домов и от тех сельских жилых строений, какие он видел где-нибудь или строил сам. Что-то противоестественное ему виделось в своём доме, помимо того, что он сверкающе, торжествующе, быть может, нескромно белоснежный. Дом, думалось многим, и слухи о таких разговорах доходили до Льва, царил над округой. Он не походил ни на одно строение окрест.
– Я дом строил или какое-то святилище? – морщился Лев.
И он вправе был задать себе такой вопрос, потому что второй этаж получился несоразмерно вытянутым, зауженным и венчался овально-округлой, по верхушке опять-таки несоразмерно узкой черепичной кровлей, которая издали напоминала куполок.
Что он, горе-инженер, такое построил? Как этакое недоразумение могло получиться? Он же всего-то хотел иметь обычный дом, чтобы в годах жизни наполнить его душевностью и разумностью. Но выходит, что он, маэстро, белым цветом нарисовал-намалевал свою мечту. Похвально, конечно же, похвально! Однако теперь не помешало бы ответить самому себе: он собирается жить в своём доме, просто жить, как все люди, или молиться, выпрашивая и выцыганивая удачную судьбу? Запутался, что именно ему надо: просто жить или – святость?
– Что ж, буду заполнять святостью пустоту моей души. По крайней мере есть чем заняться в свободное от работы время.
Внутри дом тоже получился, по определению Льва, не совсем нормальным: все шесть спальных комнат первого этажа выходили в одну большую овальную залу с огромными окнами на три стороны света. С утра и допоздна зала всегда ясна и озарена естественным светом, а в погожие дни она до краёв залита и потоплена солнцем. И солнце, думалось Льву, тоже жилец его дома. Разве в таком месте кто-то может быть несчастным? И ему порой представлялось, как его близкие, родные люди выходят по утрам из своих искусственно освещённых комнат и, желая того или нет, – ныряют в море солнечного сияния.
– Не утонули бы, – тут же пытался он иронизировать, в уже становившимся привычным ворчливом тоне, но образы тем не менее были радостью и утешением для него.
29
Казалось бы, жизнь Льва должна теперь уложиться. Дом, квартира, деньги, самостоятелен до мозга костей, не болен, не урод, силён, умён – что, спрашивается, ещё надо человеку.
Но прожил он в доме год, минул и второй, набегал однозвучной волной уже третий – ничего не переменилось. Годы ощущались тишиной и сумерками. Он был по-старому одинок и душевно пуст. У него были компаньоны, родственники, соседи, какие-то женщины появлялись для необязательных и скучных романов, в нём также в избытке и крепе властвовало здоровье и не сдавалась чарующая женщин красота лица и тела, но ни в нём, ни рядом где-то не засияла любовь – его любовь, для него любовь, та любовь, единственная, к единственной и во имя единственной. Сердце – камнем – безмолвствовало. «Хотя бы в рай попади, а и он, наверное, омерзеет, если нет в сердце ничего», – тягуче и нудно думалось Льву его долгими одинокими вечерами вне сутолоки строительных площадок и офисов. И он уже был уверен, что всё же построил не дом, чтобы жить в нём и радоваться, «а храм, чтобы, – ёрничал он над собой, – христарадничать и выпрашивать у Бога милостыню – простое земное человеческое чувство».
Жительствовать одному в столь большом доме было невозможно, нравственно тяжело, можно, чуял Лев, помешаться, и он сначала поселил у себя мать, а потом разошедшуюся с мужем сестру Агнессу.
Мать поселил, потому что она попросилась сама. Полина Николаевна уже сделалась жалкой, больной и отчего-то быстро, с тревожным равнодушием замечал Лев, изредка навещая мать, старилась, дряхлела, грузнея, скрючиваясь, сморщиваясь. Встречаясь с сыном, она по-старушечьи оглохло-однообразно ворчала, кляня весь белый свет и за то, и за другое. Раньше она была сдержанной, холодноватой, ласково-строгой, соседки за глаза величали её Снежной королевой. Теперь что-то в ней растаивалось, расползалось. От её некогда гордой осанки ничего не осталось: спину сгибал недуг, а ноги безобразно налились венами, раздулись. Было трудно поверить, что когда-то Полина Николаевна была красавицей, блестящей домохозяйкой с медицинским образованием. Похоже, она невозвратимо невзлюбила жизнь и людей: все и всё было для неё скверным, неинтересным и даже отвратительным. И она, полагал Лев, не притворялась: видимо, и впрямь ей прискучила жизнь, в которой она не смогла и не сумела стать счастливой и как-то умиротвориться. Быть может, теперь высветилось нечто такое истинное её. Старость и болезни сдирают с человека, как кожу, фальшь и со всей жестокостью изобличают его перед всеми, холодно итожилось в нудных размышлениях Львом. Одиночеством и злостью на мужа, который лишил её удовольствия жить в благе супружества, семьи, отнял будущность довольной, дарящей радость своим близким домохозяйки, она расстроила свою душу и теперь чахнет и тлеет. И сможет ли она внятно ответить, если кто у неё спросит, зачем жила? – по-прежнему был неумолим в себе её вгрызающийся в смыслы сын.
«Так и я закончу?» – «Ну уж нет!» – «А почему нет? Очень даже да».
Но Лев понимал, что выше матери нет и не может быть ничего в целом свете, что мать надо, прежде всего, пожалеть, чем-то и как-то вдохнуть в её жизнь кислорода любви и сердечности. И потому он выделил ей лучшую комнату, обставил превосходной мебелью, завешал и устелил дорогими коврами, намонтировал разных электронных приспособлений. В её комнате был и биотуалет, и холодильник, и телевизор с дивным размером экрана, и ещё компьютер с выходом в паутину Интернета – и многое что ещё, лучшее, под боком, не надо никуда ходить, если что. Радуйся, казалось бы, коротая старость. Но сын всё также не называл маму мамой, а когда спохватывался, то стыда и жалости в себе уже не находил. Она же не напоминала ему, не обижалась, быть может, уже забывая, кто она для него. Лев понимал: этим нагромождением великолепных вещей в её комнате, этой лавиной нужных и ненужных удобств он отъединился от матери как никогда ещё или даже откупился от неё. «А надо просто-напросто пожалеть, сказать человечье ласковое слово», – урезонивал и упрекал он себя, но сердце его молчало и для матери. Они уже ни о чём друг с другом не спорили, не вспоминали отца, она не настаивала на женитьбе. Каждый жил как моглось, по-своему, отъединённо нравственно на большое расстояние друг от друга.
Если не попросилась бы – поселил бы он мать родную у себя? – спрашивала Льва его «подруга-тоска». Однако ответить прямо и открыто ему было противно: он чувствовал к себе напухающее и вроде бы чем-то садящее омерзение и гадливость. Но обманывать себя он не хотел – ответил: не предложил бы. Нет её рядом – пусто, но рядом она – всё одно пусто. Выходит, что он не может, не способен пожалеть даже родную мать.
– Эгоист. Конченый эгоист. Потому и сердце моё неживое, омертвилось раньше моей собственной смерти.
30
Агнесса однажды приехала в гости и как-то незаметно осталась жить в этом, как она выразилась, «суперном» доме брата, хотя у неё была в большом городе другой области приличная двухкомнатная квартира. Лев хотя и недолюбливал сестру, однако не возразил.
Агнесса была, на взгляд брата, странной, однако спокойной, уравновешенной, вполне благоразумной женщиной. Они были внешне схожи: та же породистость, телесная красота в ней наличествовали, что и в брате, выпуклыми, приманчивыми для сторонних глаз. Только она походила на отца, а он – на мать. Агнесса была помладше Льва, но выглядела старше, скорее утомлённо и придавленно. Она под влиянием матери закончила медицинский институт, но своей профессии терапевта, как, кажется, и мать, не полюбила: её тяготили люди со своими дурацкими болезнями, вечным нытьём. Уже на второй год работы в поликлинике она «умаялась сочувствовать им». Агнессе временами начинало чудиться – что ни больной, то притворщик, хитрец. Ушла в другую профессию, потом – в третью, в четвёртую, ещё во что-то. Домохозяйкой, о чём мечталось, побыть не довелось: мужья зарабатывали мало.
Когда Агнесса работала в поликлинике, Льву приходилось по сердцу, что его сестра медик, врач, доктор, ему даже сами слова эти нравились. Он ощущал и убеждал себя, что медицинский работник не только лечит людей, но и помогает исправиться человеку, вылечиться для новой, несомненно, более правильной, разумной, но и душевной жизни. А лечить, врачевать нужно всех, полагал он, с годами утверждаясь в этом суждении. Когда же сестру «закорёжило», он ни разу ни у кого не поинтересовался, где и кем она работает. Теперь Агнесса, кажется, и вовсе нигде не числилась, в город из Чинновидова выезжала редко и неохотно, и Лев понимал, что она, видимо, вывела для себя: к чему работать, если дом брата полон всего, чего душа пожелает. И, быть может, полагала: почему бы ей не пристроиться здесь в домохозяйки.
Замужем она побывала три раза и теперь любила поплакаться знакомым и матери, что бывшие её мужья – люди бестолковые, бессердечные, «да что там – скоты». Но брат однажды пресёк её:
– Скажи-ка, сестрица, а любила ли ты своих мужей? Молчишь, нечего сказать? Вот и молчи! И не ври ты, пожалуйста, – они все стоящие мужики! Сколько горбатился на тебя Пётр, твой второй? А ты ему поминутно талдычила – денег, денег, денег давай! Сбежал мужик, даже личных своих вещичек не взял. Ты любила и любишь только себя и выскакивала замуж единственно, чтобы брать, а не давать.
– Не правда! Не правда! Не смей! Молчи! – Агнесса с неестественной надрывностью зарыдала и убежала в свою комнату.
Мать, не шелохнувшись в кресле и вдавившись в него вся, молча смотрела мимо своих детей, но смотрела не в окно, которое находилось напротив неё и за которым торжественно и тихо сияло небо, а в угол комнаты, в пустой, набитый густой тенью.
Брат более никогда не встревал в жизнь сестры.
Жила Агнесса и в самом деле странно: могла сутками ненасытно читать и перечитывать на который раз модные журналы со всевозможными и всеядными рецептами – рецептами обольщения мужчин, приготовления блюд, кройки-шитья, зарабатывания какими-нибудь чудодейственными манипуляциями денег и рецептами всего другого, украшающего, полагала она, эту унылую, осточертелую, неудачливую жизнь. Но сама она варить не любила, не шила, не вязала, денег не зарабатывала. Умела ли обольщать мужчин, набравшись всяческой журнальной мудрости? Конечно, у неё, привлекательной, неглупой, случались встречи с кавалерами, с которыми она знакомилась по газетным объявлениям, по эсэмэскам, по переписке «мылом», но отчего-то давно уже у неё не получалось познакомиться вживую – случайно, нечаянно, невзначай, посмотрев в глаза друг другу. Почему-то не подходили к ней мужчины, не приставали на улице, не гнались за ней. И чем становилась она старше, тем короче и преснее бывали её любови. Четвёртым мужем, усмехался в себе Лев, уже и не брезжило.
Как околдованная, Агнесса могла сутками просиживать возле телевизора в своей комнате, отслеживая с десяток сериалов по разным каналам. Ей были интересны чужие, поднятые над её обыденной жизнью людские судьбы, невероятные повороты сюжетов. Она, вонзаясь в экран глазами, что-нибудь фантазировала на свой счёт: вот бы и у неё чего-нибудь красиво да гладко пошло бы, появился бы он, красавец, богач, как-нибудь безумно влюблённый в неё – его, несомненно, богиню. Однако что-то сделать самой, чтобы жизнь её изменилась, она, может статься, уже совсем разучилась. Её с годами меньше и меньше интересовала жизнь вокруг, жизнь будней, труда, волнений.
С ней жил ребёнок – изнеженный и, ворчал Лев, не растущий ни так ни сяк Миша. Он, разумеется, рос, но могло показаться, что на самом деле совсем не подрастал с годами, потому что был малоподвижным, диким, нелюбознательным, сутулым, полноватым подростком. На улицу почти что не ходил, жалуясь, что пацаны обижают, со Львом мужской работой по хозяйству не хотел заниматься, сетуя, что устаёт сразу или, мол, заболел, а чуть дядя заругается – хнычет, и погромче, чтобы, видимо, мать услышала. И она защищала его, жалела без меры и нужды. Мог Миша, подобно матери своей, на долгие часы упереться взглядом в телевизор; мультиками не мог насытиться. Или сгорбленно, сосредоточенно-мрачно трещал за компьютером «стрелялками» и «гонялками», мало-мало оживая и переваливаясь деревенеющим туловищем, когда попадал или обгонял.
– Ма, я опять замочил, – вяло сообщал он матери.
– Ма, смотри, я их всех облапошил, – иной раз прожимал он сквозь зубы «всех».
Лев редко слышал, чтобы мать и сын о чём-нибудь друг с другом говорили, словно бы живая жизнь была им взаимно обоим неинтересна, тосклива или даже непонятна.
31
Однажды Лев в одиночестве сидел в зале – как он любил считать – незаходящего солнца. Через боковое юго-восточное окно потоками лилось на него лазоревым светом небо воскресного утра, хотя само солнце ещё не добралось до оконного проёма и, похоже, не выбилось по-над сосновым бором. Небо блистало этим божественным цветом и точно бы полыхало. Он обожал и сами слова – лазоревый, лазурный, лазурь. Ему казалось, что небо сейчас греет его, приласкиваясь к левой щеке; не надо и солнца. А может, и малюет по его лицу лазурью. Губы Льва невольно растягивались улыбкой, и что-то детское рождалось в его душе: он мазнул пальцем по щеке и посмотрел на него – нет, не окрашен! Засмеялся, с притворной укоризной покачивая головой. Подумал: прекрасно, что зал получился, как и замышлялось в проекте, вместилищем – ему нравилось и это слово! – вместилищем света, радости, жизни, вообще чего-то естественного, природного. А ещё чего-то такого, что открывается сразу к небу, устремляется к высям.
Внезапно солнце вероломно и мощно прыснуло лучами – Лев вынужден был призакрыть веки. И уже сквозь волоски ресниц как бы подглядывал за солнцем. Оно властно затопило в золоте света разнеженную, беспечную лазурь. Лев был потрясён и вместе с тем очарован. Перед его глазами и душой, подумалось ему, родилась новая Вселенная, и он попал в свежий, очаровательный мир. Но чирикающие за окнами в палисаднике воробьи, начищавшие пёрышки на ветвях огрузневшей роскошным цветом персидской сирени, напоминали ему, что он на земле, что по-прежнему на той же планете.
В нём засияло ощущение – непременно и немедленно нужно рассказать кому-нибудь о какой-то своей личной большой радости. Но что за такая за радость, в чём её суть? А может, достаточно кому-нибудь улыбнуться? Но кому?
Из своей комнаты вышла заспанная, в тяжёлом, сходном с шубой, густо-лиловом, как чернила, халате Агнесса. Толкнулась, позёвывая, в дверь сына:
– Мультики проспишь.
Миша вышел и тоже зевнул:
– Фу, опять это чёртово солнце. Ма, глаза заболели.
– Не смотри на него, – ладонью поспешно прикрыла мать его глаза.
Вышла на голоса и Полина Николаевна, поморщилась, точно бы от кислого, но уже привычно промолчала.
Лев напряжённо смотрел на своих домочадцев: вышли они из своих тёмных, дремучих комнат в приветно, торжественно освещённый зал, однако все втроём отчего-то оставались темны, оставались тенями. Казалось, что лучи не дотягивались только лишь до них. Может, у Льва в глазах потемнело от яркой вспышки? Однако, как ни всматривался он в родственников, они не становились для него светлее и чётче. Возможно, легче жить, укутавшись сумерками.
Полина Николаевна скрылась в своей комнате, и Лев понял: чтобы солнце переждать. Пусть поднимется оно выше окон, уймётся. Миша шмыгнул в ванную: там наверняка нет солнца. Агнесса, прикрывая глаза и ладонью, и высоко поднятым воротником халата, прошоркала тапочками на кухню.
– Никому не нужно моё солнце.
– Что? Лёва, ты что-то сказал? – спросила сестра, с прищуренными глазами высовываясь в зал.
– Нет, – не сразу отозвался он, потому что чувствовал – даже его голосу не надо бы сейчас звучать.
Но ощущение восторга и света, недавно озарявшие и поднимавшие душу, уже перебилось, скомкалось, рассеялось куда-то вниз, и ничем не удержать, не восстановить его. Мысли задвигались привычными для Льва тоскующего серыми мутными роями. В который раз явственно осознал, что его самые близкие, родные люди ещё более одиноки и несчастны, чем он сам. Сызнова оказался он один на один со своей болеющей душой. Почти физически ощутил – уныние и отчаяние железобетонными плитами притиснули его. Инстинктивно, будто группируясь, чтобы не покалечило и не задавило насмерть, ужался в кресле и просидел в таком положении долго, не откликаясь на призыв сестры завтракать. Потом поднял голову, но не увидел солнца. Неожиданно чего-то испугался – рванулся с кресла. Нет: солнце на месте, горит и плещет светом призыва и жизни, – оно уже давно поднялось выше оконного проёма. Его солнце с ним, – утешился по-детски; и не отводил глаз от светила, хотя оно уже прижигало.
Лев стал всё реже находиться в своём доме: он страдал и злился, что здесь, в красивых, любовно обставленных комнатах, среди его родных людей, и в нём самом пригрелась и блаженствует пустота, и непонятно, как одолеть её, уже прогрессирующую, раздающуюся; она действует точно бы запущенный до последней стадии рак. Сердце своё он чувствовал холодным, омертвелым, называл куском изжёванной автомобильной резины, которая зачем-то валяется в сарае. Нередко вечерами, приезжая в Чинновидово, он спускался в комнату под гаражом и там, на диво, начинал чувствовать себя спокойно, легко, даже сердце оживлялось. Здесь, на глубине, он вроде как защищён. Спалось чудесно, по утрам выходил на воздух бодрым. Но иной раз подумает, что, наверное, и в могиле, должно быть, тоже хорошо: тихо и – людей нет. «Так вот почему нужно когда-нибудь умереть и оказаться в яме!» – по привычке подтрунивал над собой Лев.
Однако со временем и в своём тайном прибежище ему стало отвратительно оставаться: боялся помешательства, боялся незаметно и невозвратимо переродиться, выродиться. А может, думалось Льву, он уже выродок, нравственный мутант. Неужели жизни его так и иссякнуть в этой разрастающейся, высасывающей силы пустоте, закончиться ничем, неотвратимой, как смерть, никчемностью?
32
Прежде, пока строил дом, Лев мало куда выезжал дальше Иркутска и Чинновидова, теперь же зачастил в командировки, в разъезды, много путешествовал. Запечатлелось в нём, точно бы оттиснулось раскалённым тавром, чувство – только бы не оставаться дома надолго, только бы не тянуло в яму, от людей, от жизни действительной и живой. Ехал и по большому делу, и без особой надобности, а то и праздно, в сумрачном рассеянии. Его холдинг разрастался, помножались заказы от состоятельного люда на всевозможные изыски в проектировании и обустройстве особняков и офисов – первостатейно нужны были отличные импортные материалы, и он, ещё раньше изъездив Сибирь, без малого всю Россию, стал теперь наведываться в зарубежье. В дороге ему жилось куда легче и проще, из души на время мало-мало выветривало угар хандры, страхов, озлобления. Новые люди, новые земли и небеса, другие порядки и правила жизни – впечатления сбивали и спутывали стародавние чувства и мысли Льва.
Он побывал в Европе и Азии, в Америках и Австралии, заглянул и в Африку, и до архипелагов Океании зачем-то добрался, и даже занесло его на ледоколе с гуртом богатых зевак в Арктику. Но преимущественно посещал зажиточные страны с налаженным, или, принято говорить, цивилизованным, бизнесом, с мощной, технологически давно переступившей двадцатый век строительной индустрией. Дивился, учился, сам пробовал. Сносно владея английским, всегда безукоризненно одетый, печально-строгий красавец, без труда столковывался о выгодных поставках отделочных и монтажных материалов, строительных инструментов и машин.
Лев видел, что за границей, на её благополучных, благоухающих островах бытия и даже на целых его, бытия, материках, люди умеют строить великолепные дома и дороги, превосходно одеваются и питаются, запоем, настырно занимаются спортом, азартно, с не меньшей настырностью путешествуют. Умеют жить люди-человеки, – нехотя и осторожно восхищался Лев, приглядываясь и осматриваясь. И поначалу ему мнилось, что жизнь здесь всюду разумна, легка и даже – узловое для него – душевна. Всё-то народ улыбается, всё-то один другому приятен, любезен, а то и уступчив. Жизнь – замечательна, best, fantastic, super. И не подумаешь, что люди в чём-то существенно нуждаются, чем-то драматически, беспросветно отягощены, терзаются. Куда ни посмотри – легкокрылая, обласкивающая жизнь сравнительно обеспеченных, ожидающих ещё и ещё отрад детей солнца.
Пообвык в этих иных землях, поприсматривался там к жизни вокруг и – заскучал, как-то исподволь сник, «закис». Хотя внешне он лицезрел всё ту же ненавязчивость и лёгкость бытия, стандартные улыбки, тёплой ароматичной водицей разлитую всюду ласковость и завлекательность, однако зорко разглядел и многажды уверился, что всюду человек изловчается в праздности и лености, всюду изводят людское племя скрытые и явные пороки. И оказывается, был убеждён Лев, жизнь везде одинаковая, одноликая, подчас чудовищно и несправедливо бессодержательная, везде – и в покамест бедной, поджарой его России, и в нищенских экзотических закутках планеты, и в этом тучном, лоснящемся, так называемом, цивилизованном мире. Можно подумать, что живёт-может человечество в одном-единственном на планете царстве-государстве. Лев утвердился в мысли, что увлекательно и значимо для человека только лишь то, что нежит его самолюбие и тщеславие, доставляет ему удовольствие. Белый человек или чёрный, азиат или европеец, малограмотный лапоть или просвещённый до мозга костей сноб, в шубе или в накидке – каким бы наружно ни был человек, как бы ни прикрывал и ни маскировал себя, его внутреннее естество Лев увидел однотонным, штампованным, вышедшим с конвейера какой-то невидимой, но всеохватной фабрики. А потому мир людей, начинало болеть во Льве ощущение, – одна безграничная однообразность, если не сказать – пустота; или «недопустота», потому что заполнена тем не менее чем-то – домами, дорогами, автомобилями, всем тем, что создано человеком. Но глубинная цель, был уверен Лев, увязывающая жизнь и смерть, текущее время и вечность, духовное и материальное, глубинная цель появления и бытования этих предметов неясна самому человеку – их творцу. И вроде как сами предметы получаются в жизни человека случайными: могли бы и не появиться вовсе или появилось бы на их месте что-нибудь другое. Ни вещный мир, ни внутренний мир человека пока что не объединены, не спаяны крепкой налаженностью, высоким и одновременно глубоким смыслом и значением. Лев себя спрашивал, зачем эти дивные, гениальные дома, зачем эти роскошные огни этих поистине чудесных, удобных городов со множеством разнообразных, великолепных предметов, зачем вся эта обустроенность и выхоленность жизни, если люди не живут, а тычутся, как свойственно новорожденным млекопитающим в поисках материнской груди. Тычутся настойчиво, самозабвенно, но не находят, чего искали, потому что мать, быть может, бросила их. Нет, нет, – говорил себе мыслящий и часом взбудораженный Лев, – не бросила, ещё не бросила, жалея и даже любя. Находят-таки желанный сосок, однако проходит время – и они с огорчением и досадой, а то и со злостью выясняют, что это не то удовольствие, а что уже, и поскорее бы, нужно нечто другое. Но что другое? Для чего другое? Почему другое? Во имя чего другое? До каких пор и пределов это самое другое? Ответов тоскующий Лев не находил.
В конце концов он перестал мотаться по свету, снова осел в Чинновидове, томился, изъедался изнутри. Жил то в доме, то в гараже; родные по-прежнему ничего не знали о его потаённой комнате, а думали, что он, опять за что-нибудь злой на них, ночует в своём комфортабельном автомобиле.
Спасала и вела, как всегда, работа.
Страна, понемногу выправляясь после тряски и ломки 90-х пореформенных лет, по-русски копотливо, но по-русски же и твёрдо созидалась домами, дорогами, заводами, трубопроводами, – многое что вершилось и намечалось на родной земле. Внешняя жизнь всегда пристойнее и ровнее, по крайней мере, не сильно пугает людей, как их внутренние штормы и катаклизмы; она всегда – маска. И в этой внешней своей и общей жизни Лев был как все – просто человек, к тому же человек дела: он нужен был и как инженер, и как менеджер, и безропотно и привычно носил общеприятную маску благополучия и нужности. Проектировал и строил дома, торговал, затевал производство стройматериалов. Колесил по разбросанным повсюду объектам, часто одиночкой, в своём отличном американском доме-джипе.
Уезжал нередко на несколько дней и, бывало, заночёвывал в автомобиле где-нибудь в степи или на таёжной прогалине в стороне от большой дороги. Он обожал одинокое поночёвье в природе, в глухомани, когда светят тебе только костерок и небо. В особенности любил высокое, золотисто озарённое небо ближе к вечеру или кипящее звёздами, когда уже за полночь, а сторонней жизни вокруг почти что не слышно и не видно. Тихо и торжественно окрест. И неплохо, если ещё лёгкий морозец, дышится глубоко и плотно, будто родниковую воду потягиваешь. Подолгу смотрел в небо – ощущалось оно каким-то великаньим оком Вселенной, которая, размышлял, непременно должна таить в себе что-нибудь куда более стоящее, чем то, что по произволу тысячи тысяч законов человеческой необходимости и целесообразности утвердилось ныне на Земле.
Из поездок с такими ночёвками и раздумьями он возвращался посвежевшим и приветливым, охотно первые дни общался с родственниками, и пронзительнее и чище в нём раздавалась совесть: с ними, особенно с матерью, надо бы ему быть ласковее, снисходительнее, терпимее, проще говоря – человеком надо быть.
33
Однажды, с такой полегчевшей и разъяснённой душой, он возвращался из поездки, и уже на подступах к Иркутску ему махнула рукой тоненькая молоденькая девушка. Он остановился, недоумевая, но распахнул дверку приветливо:
– Что, воробышек, подвезти? Вижу, вымерзла до костей.
Стояла перед ним рахитичная замухрышка с отёчным лицом то ли младенца, то ли старушки. Октябрьское мозглое предзимье, сизо парящие поля и щетинки далёких лесов пятнисто завеяны снегом, напирает ветер вдоль дороги, точно бы по трубе, с утробным подвывом, мимо проносятся автомобили, обдавая гарью и стужей, а на девушке – чёрные синтетические чулки, коротенькая, неоново светящаяся юбка. Вычурно-серебристая, но сально заношенная куртка браво распахнута, под ней угадывается вконец отощалое тельце. Под синё покрасневшим носом течёт; и вся она – «недомороженный цыплёнок».
– Обслужить? – едва-едва смогла она разжать мертвенно-синюшные губы, но улыбнулась, да с подобострастной приятностью.
– Что-что?
Лев не расслышал её заледенённого, шамкающего голоса и не тотчас догадался, о чём она сказала. Душу и разум ещё не отпустила нега, помнилось царственное ночное небо, в чеканной изысканной разрисовке Млечный Путь.
– Обслужить, говоришь? – прищурился Лев, ощущая внезапно подкатившее к горлу чувство гадливости, но и жалости.
Он прихлопнул свою дверку и, ощущая внезапное головокружение и слепящий огонь в глазах, несоразмерным рывком распахнул противоположную:
– Залезай-ка, подружка, погрейся. Для начала.
– У-у, клёво! – завалилась она в кабину и сразу разбросалась по-свойски на сиденье. – Дай закурить.
Он молчал, уткнувшись лбом в руль. В сердце его закипало. Она заметила под его побледневшими щёками дрожащую косточку скулы, и что-то такое заставило её незамедлительно распрямиться, усесться ровно. Притихла, старательно и напряжённо выказывая приличие, возможно, скромность, грелась, протягивая цыплячьи лапки-ладошки к калориферу.
Сидели и молчали. Два нечаянных друг для друга человека, но как-то по-особенному, возможно, глубоко и доверительно, молчали.
Вскоре девушка стала обмякать, следом запоклёвывала и – уснула. Её тельце приняло естественное для её юного возраста положение – безмятежности и полного доверия к миру и людям. Лев не будил её. И она блаженно, но в тяжёлом дыхании проспала часа три. Сам тоже – в дрёме, будто бы в дыму. Смотрел на чёрное поле, показавшееся ему перепачканным, безобразно заляпанным снегом. И чёрная земля для него – нечто чистое, а белое, этот молодой влажный снег, – что-то, напротив, грязное, некрасивое, даже никчемное. Холмы полей своей испачканностью, неприглядностью укатывались далеко-далеко, удавливая горизонт, грязня львиный кусок неба, перегораживая подступ к Ангаре. Над самой рекой торчали залысины холмов, а над ними свинцово-синими, старческими брюшинами провисали облака. Зачем-то ловил глазами чадные вихри, поднимаемые машинами. Да и куда бы ни посмотрел – дурно, плохо и некрасивость до безобразности. А ведь несколько часов назад радовался восходу, который вылил на землю малиновые и облепиховые соки: пейте, люди, радуйтесь. Невольно подумалось – заплевали землю с неба, а за что?
Снова и снова утыкался лбом в баранку. Чутко слушал простуженное дыхание девушки, не шевелился – не разбудить бы.
– Ой! – очнулась она.
– Как тебя зовут?
– Маша.
– Мария, – зачем-то уточнил он. – Тебе, Мария, нужны деньги?
– Угу.
– Я тебе дам. Много. Честное слово. Но ты расскажи мне начистоту: почему ты на дороге, кто тебя сюда посылает?
Молчала, угрюмилась, ужималась.
– Рассказывай. – Он подал ей крупную сумму. Она неуверенно протянула руку, но схватила цепким рывком.
– А ещё дашь?
– Конечно. На, возьми, – потрошил он карманы. – Довольно? Рассказывай.
Рассказала о том, что когда-то её семья жила хорошо: отец трудился на заводе, мать домохозяйствовала, потому что детей четверо: она, Мария, старшая, и братишки с сестрёнкой, совсем малышата. Но стряслась беда, выворотившая жизнь семьи наизнанку: завод почему-то закрыли, работников уволили. Отец не смог найти постоянную работу, а редкая подёнщина бренчала в кармане копейками, – вскоре запил горько, беспробудно и однажды замёрз в снегу. Мать два-три года отчаянно билась, однако не вынесла гнёта судьбы и сорвалась в беспросветную, как пропасть, разгульную жизнь. Дети не обуты, не одеты и даже случалось, что поесть дома нечего было. Раньше приходили в квартиру всякие разные мужчины, с недавних же пор обитает в ней на правах полновластного хозяина только «дядя Коля», «урод и извращенец», «уголовный тип». Он надругался над Марией. А как-то раз привёл её к ближайшей трассе и сказал: «Зарабатывай, Машка, нечего болтаться без дела». Она и сама понимала, что надо содержать братишек и сестрёнку, как-то матери помогать. Перестала в школу ходить – есть работа. Теперь дядя Коля и мать в хмельном угаре сидят дома и поджидают Марию, «нашу кормилицу», говорит, но тут же подвывает мать.
Лев слушал и как бы вглядывался в уже давно им обдуманное и понятое: в России неустрой государственный бывает пострашнее войны внешней. И нередко негласным, но непреложным законом выходит, что беда в стране – беда в семье. Может быть, верны эти слова не для всего света белого, однако в матушке-России являющееся отчего-то непременно обвалом, стихией, беспощадностью общегосударственное неблагополучие извека зацепляет, точно бы крюками, многих и многих и затягивает за собой в хляби разорения, ожесточения, порочности. И кто умудряется выжить да удержаться на ногах и не утерять душу, потом потихоньку, шаг за шагом выкарабкивается наверх к какой-то новой, верится, что правильной и справедливой жизни. Нынешнее время, время начала нового века и даже тысячелетия, – время очевидного для Льва разворота, возвращения к разумной, а то и добросердечной жизни, однако все ли смогут выкарабкаться, все ли, прежде всего и главное, здоровы душой?
Лев подъехал к ближайшему кафе. Выспросил Марию, где она живёт: пообещал, что прямо сейчас поможет деньгами и её матери.
– А ты, Мария, пока наешься-ка от души. И знаешь что ещё? Постарайся стать хорошим человеком. Договорились?
– Ага, – ответила она не сразу и усмехнулась. Видимо, нескоро ей поверить, что люди могут быть, и должны быть, просто добры друг к другу и даже великодушны.
Когда взбирался на пятый этаж, даже не знал, не понимал внятно, что скажет, как поступит. Дверь открыло заспанное, заросшее, горбато-сутулое, длиннорукое существо, более похожее на шимпанзе, чем на человека. Оно, – прозвучало во Льве.
– Ты, что ли, дядя Коля?
– Чиво? – заробело оно перед крепким, солидным незнакомцем.
Лев вошёл в тёмную, сырую и по-нориному дурно пахнущую прихожку, туда же наступательно грудью уткнул окоченевшее, но ощерившееся оно.
Первое, что Лев рассмотрел во мраке, – настенное зеркало. И что-то мгновенно и ярко, как ярость, в нём решилось, а в груди загорелось и заклокотало бешено.
– Посмотри, дядя Коля, в зеркало.
– Чиво?
– В зеркало посмотри, сказал.
Оно в зверовато учуянной опасливости глянуло искоса.
– Запомнил свою морду?
– Чиво-о-о?!
– Больше ни ты себя, ни кто другой тебя таким красавчиком не увидит.
И только оно хотело шмыгнуть в ванную комнату, чтобы там, видимо, запереться и взывать о помощи, как Лев молниеносно сгрёб его за шерстисто-грубый, свалявшийся загривок и впечатал физиономией в зеркало. Ещё, ещё раз. Не жестоко, не злобно, но – бесчувственно и даже без чувств, как механизм, автомат с когда-то и кем-то введённой программой к действию.
– Бог, говорят, любит Троицу, – сквозь зубы, но потерянным голосом подытожил Лев, с трудом разжимая окостенело побелевший кулак.
Оно рухнуло на пол. Лев, страшный, сгорбленный, с крепко зажмуренными глазами, обморочно покачивался над жертвой. Вчуже, отдалённо, словно бы даже со стороны почувствовал себя кем-то или даже чем-то, другим, быть может, не совсем человеком. Возможно, когда он увидел в дверях это самое оно, в нём мгновенно проснулось глубоко укрытое природой и всей человеческой эволюцией чутьё дикого создания, быть может, вовсе не человека, а животного, которое способно уничтожить в одночасье, без колебаний то, что угрожает его жизни и выживанию. Минута, две ли прошли, и Лев почувствовал – в груди что-то стало перетекать, переделываться: догадался – перерождалось нечто звериное, стихийное или механизированное в человеческое, ограниченное рамками рассудка и морали. Сдвинулись мысли – следовательно, человеческое одолевало, устанавливаясь на своё привычное место.
Склонился к своей жертве – жива, сопит.
Из смежной комнаты, видимо, на шум, выбрела босая, заспанная до жуткой опухлости женщина. Хотела, но не смогла вскрикнуть, оглушённая страхом.
– Жить будет, – сказал ей Лев. – А радоваться жизни – уже вряд ли. По чертам лица вижу, что вы мать Марии, и я, собственно, пришёл к вам: возьмите, пожалуйста, деньги. Не бойтесь – берите, берите смело! Ничего взамен не требую, просто по русскому обычаю подсобляю. Почти как погорельцам. Всякий человек может попасть в беду. Марию, прошу, верните в школу, маленьких своих детишек обуйте, оденьте. Жить по-человечьи наконец-то начните. Советую: вот этого обезьяноподобного фрукта, немного когда поправится, в шею прогоните. Если будет упираться, припугните: скажите, что я ещё разок приду потолковать с ним. А узнаю, что разгульно живёте и Марию снова отправляете на трассу – убью. Понятно?
– Понятно, понятно! Ай, грешница я окаянная, ай, совсем обезумела баба – этакое сотворила с Машенькой, с доченькой моей ненаглядной, с умницей, с такой прилежной девочкой! Нет и не будет мне прощения! А денег-то ско-о-о-лько! Низкий вам поклон, добрый человек. Уверена, супруг мой Петя смотрит сейчас на нас с небес и тоже кланяется и молится за вас. Дайте я вашу руку поцелую, благодетель, ангел хранитель вы наш!
Лев отмахнулся и, наморщенный досадливо, до брезгливости, со сжатой челюстью, стремительно вышел.
Вспоминая об этом происшествии, он поражался: как мог он до такой степени легко, даже буднично, произнести невозможное и чудовищное для себя – убью. Самое же важное, но при этом маловразумительное для него, ведь и в самом деле чуть было не убил человека. Каким бы ничтожным, мерзким и даже преступным этот дядя Коля ни был, но он – человек. Человек. Да, без сомнения: человек. И страдающий совестью и мнительностью Лев глубоко и печально задумывался: неужели его неприятие современной жизни, да что там жизни! – мира целого, мира беспутного, людской породы всей, породы извращённой, гадкой, уже мутирует в озлобление, в зверство, в патологию, а может быть, даже в необратимый недуг – в безумство, в сумасшествие? Похоже, что неспроста время от времени тянет его в яму – в своё укромное, почти звериное подземное убежище под гаражом, где находишься подальше от людей.




















