Читать онлайн Открытие Франции. Увлекательное путешествие длиной 20 000 километров по сокровенным уголкам самой интересной страны мира бесплатно
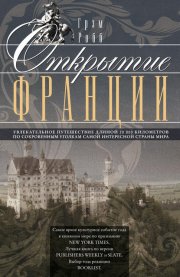
ЭТА КНИГА БУДЕТ ИНТЕРЕСНА ФРАНКОФИЛАМ СО СТАЖЕМ И ТЕМ, КТО РАНЬШЕ НИЧЕГО НЕ ЗНАЛ О ФРАНЦИИ.
Amazon.сот
АВТОР РАЗРУШАЕТ СТЕРЕОТИПЫ, ГЛАВНЫЙ ИЗ КОТОРЫХ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО ФРАНЦИЯ И ВСЕ ФРАНЦУЗСКОЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ПАРИЖЕМ. ВМЕСТЕ С ГРЭМОМ РОББОМ ЧИТАТЕЛЬ ПУТЕШЕСТВУЕТ ЧЕРЕЗ ВСЮ СТРАНУ, ДЕЛАЯ ПОРАЗИТЕЛЬНЫЕ ОТКРЫТИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ, КУЛЬТУРЕ И ИСТОРИИ ЭТОЙ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ.
The New York Times Book Review
КАК ЗАРОДИЛОСЬ ФРАНЦУЗСКОЕ ГОСУДАРСТВО? О КАКИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ФРАНЦУЗОВ СТОИТ ЗНАТЬ ПУТЕШЕСТВЕННИКАМ? ЭТО ПОЛНОЕ ИСЧЕРПЫВАЮЩЕЕ ИССЛЕДОВАНИЕ О ФРАНЦИИ ВСТАНЕТ В ОДИН РЯД С ВАШИМИ ЛЮБИМЫМИ МИШЛЕНОВСКИМИ ПУТЕВОДИТЕЛЯМИ.
Publishers Weekly
ФРАНЦИЯ, КАК ОКАЗАЛОСЬ, СТРАНА КОНТРАСТОВ И ЗАГАДОК. ЭТО ТАИНСТВЕННЫЙ МАТЕРИК С ДО СИХ ПОР НЕИЗВЕСТНОЙ ИСТОРИЕЙ, КУЛЬТУРОЙ И ГЕОГРАФИЕЙ, И ГРЭМ РОББ – ЕДИНСТВЕННЫЙ ГИД, КОТОРОМУ МЫ МОЖЕМ ДОВЕРИТЬСЯ В ПУТЕШЕСТВИИ ПО НЕМУ.
Library Journal
ГРЭМ РОББ В ЭЛЕГАНТНОЙ И ЖИВОЙ МАНЕРЕ УБЕЖДАЕТ НАС В ТОМ, ЧТО ИСТИННОЕ ВЕЛИЧИЕ ФРАНЦИИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ОГРОМНОМ МНОГООБРАЗИИ И САМОЦЕННОСТИ КУЛЬТУР, ТРАДИЦИЙ И ЭТНОСОВ, ЕЕ СОСТАВЛЯЮЩИХ, КОТОРЫЕ ЛИБО НАХОДЯТСЯ В ГАРМОНИИ, ЛИБО КОНФЛИКТУЮТ.
The Observer
Охраняется законодательством РФ о защите интеллектуальных прав. Воспроизведение всей книги или любой ее части воспрещается без письменного разрешения издателя. Любые попытки нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке.
Описание маршрута
Десять лет назад я начал исследовать страну, экспертом по которой меня считали. Но уже задолго до этого я хорошо понимал, что та Франция, литературу и историю которой я изучал, – всего лишь частица большой страны, которую я видел во время праздников, исследовательских поездок и приключений. Мои профессиональные знания о Франции отражали столичный взгляд на страну – точку зрения писателей вроде Бальзака и Бодлера, для которых цивилизованный мир кончался за внешними бульварами Парижа. Мои случайно добытые знания были немногим шире. Я жил в маленьком городке в Провансе и на хуторе в Бретани, где у моих соседей родным языком был не французский, а провансальский в первом случае и бретонский во втором, а сам я на разговорном французском начал говорить более или менее свободно, когда работал в гараже в пригороде Парижа, и помог мне в этом бербер из Алжира, с гор Кабилии. Без него диалект парижских рабочих был бы для меня совершенно непонятен.
В те эпохи, которые я познавал умом, эта пропасть между знанием и опытом была еще шире. Знакомая нам Франция тогда существовала то как монархическое, то как республиканское государство, сложенное, будто из кусков, из средневековых провинций. Это государство было перестроено революцией и Наполеоном, а потом его модернизировали железные дороги, современная промышленность и война. Но до этого всего была еще и другая Франция, где чуть больше ста лет назад французский язык был чужим для большинства населения. И до сих пор ее еще никто не нанес на карту полностью и точно. В серьезных отчетах описана страна с древним делением на племена, доисторической сетью путей сообщения и дохристианскими верованиями. Историки и антропологи без всякой иронии называли ее «Галлией» и цитировали сочинения Юлия Цезаря как полезный источник сведений о жителях этой не нанесенной на карты страны.
Я впервые стал догадываться о существовании другой Франции, когда открыл для себя чудесную машину под названием велосипед, благодаря ей эта страна в конце XIX века стала доступна миллионам людей. Раз или два в год я путешествовал по Франции на велосипеде со скоростью почтовых карет XIX века – вместе с той, кому посвящена эта книга. Езда на нем не только позволяет очень подробно ознакомиться с продукцией местного сельского хозяйства, но и рождает огромную жажду информации. Иногда сочетание полей, дороги, погоды и запаха с необъяснимой четкостью отпечатывается в уме, когда мысли кружатся вместе с колесами велосипеда. Эти воспоминания порой могут вернуться через много лет и задать разуму неясный вопрос. На велосипеде человек может видеть страну со всех сторон, вокруг себя и замечать по переменам в напряжении мышц все изменения скорости. Поэтому от внимания велосипедиста вряд ли ускользнет хоть один дюйм земли от пригородов Парижа, где рвутся шины, до продуваемых мистралем равнин Прованса. Маршрут велосипедиста, словно по воле случая, возрождает прошлое. Он совпадает с гораздо более древними дорогами – тропами, по которым пастухи перегоняют стада в горы на летние пастбища, галло-римскими торговыми дорогами, путями паломников, остановками в местах слияния рек, которые исчезли на промышленных пустошах. Он проходит через долины и горные хребты по дорогам, где когда-то шли странствующие торговцы и мигранты. Кроме того, тот, кто едет на велосипеде, неизбежно и легко вступает в разговоры с детьми, кочевниками, заблудившимися людьми, местными историками-любителями и, конечно, с собаками, характерные особенности поведения которых говорят об отношении к жизни в некоторых областях страны так же много, как раньше – поведение людей.
Каждое путешествие становилось сложной головоломкой – мозаикой из четырехмерных частей. Я хотел знать то, что я не застал, но мог бы увидеть сто или двести лет назад. Сначала я думал, что узнаю это, если буду возить с собой мини-библиотеку из книг по современной истории, старых путеводителей и записок путешественников, отпечатанных в крошечном формате на тонкой бумаге. Например, полное собрание отчетов тех префектов, которых Наполеон послал после революции, чтобы нанести на карту и описать неизвестные провинции Франции, можно было сделать таким, что оно весило бы меньше, чем запасная камера шины.
Но скоро мне стало ясно, что неизведанная земля гораздо обширнее, чем я предполагал. Я понял, что мне придется заняться более утомительными исследованиями за столом и потратить на них гораздо больше времени.
Эта книга – результат 14 тысяч миль в седле и четырех лет в библиотеке. В ней описана жизнь людей, населяющих Францию, – на основе их собственных свидетельств, а также записей исследований их страны чужеземцами и местными жителями с конца XVII века до начала XIX – от конца царствования Людовика XIV до начала Первой мировой войны. Повествование приблизительно следует за хронологией, иногда сворачивая в доримскую Галлию или в сегодняшнюю Францию.
В части первой описаны различные группы населения Франции, их языки, верования и повседневная жизнь и другие существа, которые живут вместе с ними на земле этой страны. В части второй эта страна нанесена на карту, освоена правителями и туристами, переделана в политическом и физическом отношении и превращена в современное государство. Если говорить упрощенно, то разница между двумя частями – это разница между этнологией и историей, между миром, который всегда одинаков, и миром, который меняется постоянно. Я попытался превратить механизм, где много шаров одновременно вращаются независимо друг от друга по своей траектории, в модель системы планет, где движение этих же шаров имеет смысл, и показать читателям страну, по которой одновременно двигались караваны мулов и железнодорожные поезда, в которой ведьмы и исследователи неизученных земель еще находили себе работу и хорошо зарабатывали в те дни, когда Гюстав Эйфель изменял силуэт Парижа. Читатели, хорошо знакомые с прямым путем политической истории, могут при желании ориентироваться по списку событий, который находится в конце книги.
Я рассчитывал, что эта книга станет таким путеводителем по истории, какой мне хотелось бы прочесть, когда я начал открывать Францию, – справочником, где люди не оторваны от земли, на которой живут, и не являются только статистическими единицами, где слова «Франция» и «французский» означают что-то большее, чем Париж и нескольких могущественных людей, и где прошлое существует не как укрытие от настоящего, а как возможность наслаждаться им. Эту книгу можно читать как сочинение по социальной и географической истории, как собрание рассказов и литературных зарисовок или как дополнение к путеводителю. Ее содержание – примерный маршрут, а не полный отчет. Каждая глава легко могла бы перерасти в отдельный том, но книга и так уже слишком велика для сумки велосипедиста. Писать ее было для меня приключением, и я надеюсь, что она показывает, как много еще осталось неоткрытым.
Часть первая
1. Неизведанный континент
Однажды летом, в начале 1740-х годов, в последний день своей жизни молодой парижанин стал первым современным картографом, который увидел гору под названием Жербье-де-Жонк, что значит «Скирда камыша». Этот странный и загадочный, словно из потустороннего мира, вулканический конус возвышается над пастбищами и оврагами в центре голой равнины, которую продувает холодный северный ветер, по-местному «бюрль». Он стоит на расстоянии 350 миль от Парижа, в точке, которая на карте диаметрально противоположна столице, на водоразделе, служащем границей между бассейнами Атлантического океана и Средиземного моря. С западного склона этой горы, из-под деревянной колоды – из нее когда-то пили животные – начинает свой путь длиной 640 миль река Луара. Она течет на север, потом описывает широкую дугу и поворачивает на запад. Пройдя по побережью Турени, там, где в прилив оно бывает залито морем, эта река добирается до границ Бретани и впадает в Атлантический океан. На расстоянии 30 миль к востоку другая река, хлопотливая Рона, несла пассажиров и грузы к средиземноморским портам; но парижанину пришлось бы идти к ней больше трех дней через почти безлюдные места, сквозь путаницу древних лавовых потоков и узких ущелий.
Порода, из которой состоит гора, называется звучащей, потому что, когда кто-нибудь поднимается по склону, камни, скользящие вниз из-под ног, создают звук, похожий на звук ксилофона. Если бы парижский путешественник поднялся на этот пик из звучащего камня, перед ним открылся бы великолепный вид. На востоке, словно длинный белый занавес, виднелись бы Альпы – от массивного Монблана до грузной округлой громады Монвенту, которая возвышается над равнинами Прованса. На севере – покрытые лесом гряды гор Форез и туман, который спускается с гор Юры на равнины за Лионом. На западе – дикие Севеннские горы, плато Канталь и вся цепь вулканических гор Верхней Оверни. Почти тринадцатая часть французской земли лежала бы перед ним как карта.
С этой вершины парижанин мог бы окинуть одним взглядом сразу несколько маленьких областей, жители каждой из которых почти ничего не знали о жителях других. В каком бы направлении он ни пошел оттуда, через день пути люди перестали бы его понимать, потому что хребет Мезенк, к которому принадлежала эта гора, был водоразделом и между диалектами. Люди, которые видели, как солнце садится за «Скирдой камыша», говорили на диалектах одной группы, а те, что жили на той стороне, куда солнце опускалось по вечерам, – на другой группе диалектов. На расстоянии 40 миль к северу виноградари и ткачи шелка в области Лиона говорили на третьем наречии, совершенно ином, которое ученые тогда еще не выделили в отдельный язык и не дали ему названия. В том краю, который путешественник покинул накануне, люди говорили на еще одном, четвертом языке; и хотя его родной язык, французский, был одним из диалектов этого языка, парижанину было бы трудно понять крестьян, мимо которых он проходил.
Этот путешественник (его имя не сохранилось) был участником экспедиции, которая должна была заложить основу для создания первой полной и надежной карты Франции. Астроном Жак Кассини набрал команду молодых геометров, обучил их новой тогда науке – картографии и снабдил специально изготовленными переносными инструментами. Отец Кассини изучил кольца Сатурна и вычислил размер Солнечной системы. Его карта Луны была точнее, чем многие карты Франции, где несколько областей тогда вообще не были нанесены на карту. Теперь, надеялся он, Франция впервые станет видна людям во всех подробностях, словно с большой высоты.
Один из отрядов этой экспедиции прошел вдоль Луары настолько далеко, насколько смог. Главные дороги и менее важные тропы появлялись и исчезали с наступлением того или иного времени года и часто про ходили через леса, где невозможно было определить направление по приборам. Поэтому река оставалась единственным надежным указателем на пути внутрь страны. Но южнее города Роанна Луара стала свирепым потоком, несущимся по глубоким ущельям. В некоторых местах было почти невозможно идти вдоль нее, не говоря уже о том, чтобы перевозить по ней грузы. Обширное плато Центральный массив – это та крепость, в которой когда-то племена арвернов[1] сопротивлялись римлянам. Реки здесь не годились для судоходства, и этот край почти не имел связи с остальной Францией. Почтовые кареты из Парижа доезжали только до Клермона. Местная почтовая служба с трудом добиралась до Ле-Пюи, что находился на расстоянии двух дней пути к юго-востоку. После Ле-Пюи были только тропы для мулов и открытая местность. Спрашивать у кого-либо дорогу было бесполезно: даже сто лет спустя очень немногие могли бы уйти далеко от мест, где родились, и не заблудиться при этом.
К тому времени, когда геометр дошел до подножия гор Мезенк, от ближайшей большой дороги его отделяли два дня пути. Единственным жильем на много миль вокруг была деревня, то есть кучка лачуг из черного камня – остывшей лавы. Она называлась Лез-Эстабль и, согласно одной из карт, должна была находиться на несколько миль дальше к юго-западу. На самом же деле она стояла у тропы, которая вела на вершину Мезенкских гор. Маленькая башня, считал геометр, облегчит наблюдения, если погода останется хорошей, а в деревне, возможно, есть говорящий по-французски священник, который укажет ему дальние хутора и скажет названия лесов и рек. В любом случае заночевать больше негде.
Появление чужака в этих местах было заметным событием. С точки зрения жителей глухой деревни от человека в иностранной одежде, который нацеливает непонятные устройства на голые скалы, нельзя было ждать ничего хорошего. После появления в этих местах одного из таких колдунов крестьянам показалось, что их жизнь стала тяжелее. Хлеба засыхали на корню; скотина начинала хромать или умирала от неведомых болезней, на склонах холмов находили овец, разорванных на части каким-то существом, более свирепым, чем волк; и по неизвестным причинам увеличивались налоги.
Даже сто лет спустя эта часть Франции оставалась удаленной и опасной. Географ, живший в XIX веке, советовал взглянуть на область Мезенк с воздушного шара, но «только если воздухоплаватель сможет оставаться недосягаемым для выстрелов». В 1854 году «Путеводитель для путешествующих по Франции» Мюррея предупреждал туристов и геологов-любителей, которые выходили из почтовой кареты в Праделе и продолжали путь пешком, отыскивая «необычные дикие пейзажи», чтобы они не рассчитывали на ласковый прием. «На этой дороге нет почти никакого жилья, а пройти ее за один день едва ли возможно. А люди там грубы и вызывают отвращение». В путеводителе, может быть специально, ничего не сказано о деревне Лез-Эстабль, которая стояла на этой дороге, и о том единственном случае, из-за которого она упомянута в истории, – о летнем дне в начале 1740-х годов, когда местные жители до смерти забили мотыгами молодого геометра экспедиции Кассини.
Насколько нам известно, жители деревни Лез-Эстабль не понесли никакого наказания за убийство геометра. Судя по похожим случаям в других местах Франции, его смерть стала результатом коллективного решения людей, которые жили по собственным неписаным законам. Любое вмешательство в их жизнь со стороны казалось им вторжением злой силы. Во многих частях Франции даже в начале XX века местные жители, молясь, обычно просили Бога избавить их от Сатаны, колдунов, бешеных собак и «правосудия».
Люди из Мезенка, так же как жители многих других городов и деревень Франции, ни в коей мере не считали себя «французами». Мало кто из них мог бы сказать точно, что значит это слово. Они знали лишь то, что им было нужно, чтобы прожить от одного времени года до другого. Некоторые из них вместе со своими соседями отправлялись на юг в поисках работы, а свою землю сдавали пастухам, которые летом приводили пастись на их пастбища огромные, длиной 3 мили, стада овец. Но эти передвижения регулировались традициями и проходили только по древним путям – маршрут никогда не менялся. Когда писательница Жорж Санд в 1859 году осмелилась заехать в эту область, она с изумлением обнаружила, что «местные жители знают этот край не лучше, чем чужие». Ее проводник, местный человек, не смог сказать ей, как называется гора, «которая была у него перед глазами со дня его рождения» (гора называлась Мезенк).
Перед революцией 1789 года и вскоре после нее представители французской элиты – крошечная кучка образованных людей – очень любили долго и с наслаждением говорить о невежестве крестьян. Сообщения о диких полулюдях и о пещерных жителях, которые ползут прижимаясь к земле и прячутся в чащах и ямах, позволяло цивилизованному меньшинству чувствовать себя очень современными и передовыми людьми. Но невежество в этом случае было взаимным. Через сорок лет после смерти молодого геометра те – таких было мало, – кто мог приобрести карты Кассини или видели их в чьей-то частной коллекции, могли думать, будто горы и ущелья области Мезенк уже перестали быть неизвестной землей. Они могли найти на карте деревню Лез-Эстабль – возле юго-восточного края этого древнего плато, где зарождается большинство крупнейших речных систем Франции, на прямой, которая идет от Бордо на западе до подножия Альп, названных на этих картах Недоступные горы. На карте было точно указано человеческое жилье в виде маленьких хижин и башенок. Но эта точность была обманчивой: многих из этих людей составители карт видели лишь мельком с высоты деревьев или башен.
Современный историк, если бы он вышел за пределы тихих городов и почти пустых дорог Франции XVIII и XIX веков, больше смог бы узнать от неграмотного проводника Жорж Санд, чем от самой знаменитой туристки. Во многих отношениях чем выше точность карты, тем менее верно впечатление, которое она создает. Большинство официальных политических определений страны совершенно не дают представления о мире населяющих ее жителей. Для того, кто отправляется в путешествие по стране, они могут служить лишь приблизительными указателями и вызывать у него утешительную иллюзию, будто он знает, куда ведет дорога.
Условно дореволюционную Францию можно описать как страну, состоявшую из нескольких феодальных провинций, которые назывались généralités. Некоторые из этих провинций назывались pays d’état, имели свои региональные парламенты и сами вводили на своей территории налоги. Другие назывались pays d’élection, их облагало налогом непосредственно государство. Многие из этих земель были частью Франции менее четырехсот лет. Историкам, которые пытаются описывать все королевство в целом, в запутанной головоломке из таможенных барьеров и различий в законодательстве между этими провинциями видны и следы беспорядка, созданного разделением империи Карла Великого в 843 году, и следы различий между племенами, о которых писал Юлий Цезарь.
Однако эта путаница старых феодальных владений находилась под управлением честолюбивой королевской власти, которая становилась все сильнее. Римская Галлия смотрела в сторону Средиземного моря, позднее экономическая и политическая власть прочно укрепилась на севере. В 1682 году Людовик XIV переселил свой двор на 12 миль к юго-западу от Парижа, на границу охотничьего леса. Широкие улицы Версаля и парижские бульвары постепенно удлинялись, вытягиваясь через всю страну. Образованным людям королевство Франция казалось созданием Божьего промысла. Почти все границы Франции были естественными: на западе – Атлантический океан, на юге – Пиренеи и Средиземное море, на востоке – Альпы, Юра и Рейн, на севере – Ла-Манш. Только на северо-востоке граница шла по ровной открытой местности, но здесь она была укреплена завоеванными Артуа и Фландрией. Позже аннексия Лотарингии придала королевству удачную и благоприятную форму. Путеводитель для путешественников, иностранцев и соотечественников, изданный в 1687 году, рисовал перед читателем знакомую нам успокоительную картину – страну, «все части и провинции которой соединены в одно целое», «расположенную в центре Европы», «почти круглую и подобную овалу».
Дальше этот путеводитель XVII века описывал Францию как густонаселенную страну, где вряд ли найдется хотя бы акр невозделанной земли, имеется быстрый транспорт и большая сеть удобных и дешевых гостиниц. Это была прекрасная иллюзия, что-то вроде миража, который мог бы появиться в летнем небе над ухоженным Версальским лесом. Мы расстаемся с ней и теперь долго не увидим упорядоченную и понятную страну.
Сто пятьдесят лет прошло с тех пор, как Кольбер, первый министр Людовика XIV, мечтал о системе дорог, которая объединила бы страну и придала королевству новые силы. Но в июне 1837 года Анри Бейль, позже известный как писатель Стендаль, выйдя размять ноги на крошечной почтовой станции Русселан в 13 милях от города Бурже, почувствовал себя «оторванным от всего мира». (А этот человек в свое время брел с отступающей армией Наполеона через бесконечные русские степи.) Кроме дома, где находилась сама станция, и башен Буржского собора на краю покрытой лесом равнины, вокруг не было никаких признаков человека. Через несколько часов, по другую сторону полосы заболоченных полей, где росла капуста, в самом Бурже, единственными человеческими лицами, которые он увидел, были лица нескольких стоявших кучкой солдат и сонного гостиничного слуги.
Этот город, стоявший в географическом центре Франции, казался мертвым. А в городке Ла-Шарите-сюр-Луар, откуда Стендаль выехал в то утро, движения на улицах было так мало, что он еще не успел ни с кем поговорить, а все уже знали, куда он едет и почему был вынужден остановиться в их городе (сломалась ось). Бейля ожидала восьмичасовая поездка в ночном дилижансе до города Шатору, который находился в 40 милях к западу. Путешественник выехал из Бурже в девять часов вечера. В полночь он был в Иссудене, гордо дремавшем городе, который завоевал в борьбе свое право на застой в экономике и общественной жизни: его жители добились того, что дорога, соединившая Париж с Тулузой, была построена на 12 миль дальше к западу. Наполеон оказал Иссудену честь, использовав его как место ссылки. В пять часов утра карета Стендаля, грохоча, въехала в Шатору, главный город департамента Эндр и самый большой город бывшей провинции Берри.
Одиночество, о котором писал Стендаль, не было чем-то необычным. Для путешественников, ошеломленных долгими часами однообразной и безлюдной дороги, провинциальный город вроде Шатору был оазисом шума, пестроты и беспокойства. Туристы более поздних времен – искатели живописных видов и уединения – были бы очень удивлены тем, как шумно было тогда в маленьких городках. Эти крошечные человеческие поселения словно отгораживались крепостной стеной из звуков от окружающей их тишины. При любом удобном случае раздавался звон колоколов, скрипели несмазанные ручки насосов, а обычный разговор был таким громким, что, услышав его сейчас, мы бы решили, будто собеседники сердито кричат друг на друга.
У ворот Шатору начинался край болот и пустошей, который назывался Бранд. Некоторые из молодых жителей этого края никогда за свою жизнь не видели мощеной дороги и тем более никогда не видели кареты на четырех колесах, которая мчится через поля, как заколдованный дом. Во время Французской революции не присягнувшие новой власти священники, которые пытались укрыться в Бранде, добровольно сдавались через несколько дней.
По ту сторону площадей, памятников и государственных кабинетов, которые служат декорациями для большинства эпизодов французской истории, лежал целый мир древних племен и огромных пустых пространств. Каждый, кто держал путь на север по дороге Париж – Тулуза, должен был не менее одиннадцати часов двигаться через заразный, нуждавшийся в осушении край стоячих прудов и чахлого мелколесья, который назывался Солонь – «пустынная местность вдоль трудной и безлюдной песчаной дороги. Даже вдали нет ни одного замка, фермы или деревни, лишь несколько одиноких жалких лачуг». А главная дорога восточного направления – от Парижа до Страсбурга и Германии – проходила через равнины Шампани, где не было почти никаких примет, жилье было редкостью, и потому кусты боярышника оберегали там как драгоценные дорожные указатели.
Когда поэт-романтик Альфред де Виньи высказал совсем не романтическое пожелание: «Никогда не оставляйте меня наедине с Природой», он писал как человек, который много путешествовал по Франции. Слова «Солонь», «Шампань», «Домб», «Дубль», «Бренн» и «Ланды» вызывали у путешественников такой же ужас, как самые дикие перевалы Альп и Пиренеев. Даже самые словоохотливые писатели с трудом находили что сказать об этих глухих местах. «Ничего достойного упоминания», – обычно писали о них в путеводителях и руководствах для путешественников.
От рыжих каменистых просторов Эстереля на юго-востоке Прованса до моря утесника, ракитника и вереска, которое покрывало значительную часть Бретани, Франция была страной пустынных земель. Самой большой из этих пустынь были Ланды (это название означает «местность, поросшая вереском» или «пустые земли»). На юго-западе Франции низкие кустарники, посаженные сосновые леса и черный песок занимали треугольник площадью 3 тысячи квадратных миль, границами которого служили река Гаронна, предгорья Пиренеев и гигантские пожирающие землю песчаные дюны – «ходячие горы» – Мимизана и Аркашона. К югу от Бордо начиналась область тишины, где никогда не слышалась песня птицы, и эта область тянулась на протяжении двух дней пути, пока оседающая песчаная насыпь, которая числилась дорогой, не достигала границ Байонны. Иногда путешественники сообщали, что видели на горизонте очертания чего-то высокого, похожего на пауков, несколько старых печей для обжига черепицы, несколько ветхих деревянных хижин и больше почти ничего.
Даже в 1867 году, после более чем ста лет усовершенствований в сельском хозяйстве, национальная перепись показала: 43 процента тех земель, которые могли бы обрабатываться, «находятся во власти сил природы», то есть заняты лугами, лесами и вересковыми пустошами. В нескольких центральных областях Франции, в том числе в департаменте Дордонь, волки были угрозой для людей еще в конце XIX века. В 1789 году, когда в революционном парламенте обсуждался закон о делении прежних провинций на департаменты и коммуны, были опасения, что депутаты парламента создают округа-призраки, где несуществующий мэр будет управлять населением, которое то ли существует, то ли нет.
Этот пугающе огромный мир, обитатели которого начнут появляться перед нами в следующей главе, почти невозможно представить себе без коренного пересмотра шкалы плотности населения и удаленности. К 2 тысячам квадратных миль самой большой страны в Европе за Средние века добавились еще земли. Накануне своей революции Франция тянулась на три недели пути в длину (от Дюнкерка до Перпиньяна) и на три недели в ширину (от Страсбурга до Бреста). Время путешествия почти не изменилось с эпохи римлян, когда торговцы вином могли добраться до Ла-Манша из средиземноморских портов меньше чем за месяц. В конце XVIII века скорости увеличились, но лишь для горстки богатых людей, и многое при этом продолжало зависеть от случая. В Марсель можно было попасть из Парижа меньше чем за две недели, но только при определенных условиях: если погода была идеальной, дорога недавно отремонтирована, карета была новейшего тогда типа – полноподвесочная, лошади здоровые, а кучер быстрым, но осмотрительным, никогда не тянулся к выпивке и ни разу не попал в несчастный случай. Кроме того, названные сроки относятся лишь к перевозке людей. Перевозка грузов была еще более медленной и еще менее предсказуемой. В 1811 году товар, произведенный за морем и ввезенный во Францию через порт Нанта, в Париже ожидали не раньше чем через три недели. А купец из Лиона удивился бы, получив этот товар раньше чем через месяц.
Франция была, по сути дела, обширным, еще не полностью колонизированным континентом. Каждый, кто проходил через эту страну по неглавным дорогам, потом легко верил, что Юлий Цезарь мог незаметно для врага в течение нескольких дней вести свою армию по Галлии. Беглецы совершали такие путешествия, которые сейчас кажутся невероятными. В 1755 году, во время официального преследования протестантов в Лангедоке, пастор Поль Рабо, один из самых разыскиваемых тогда во Франции людей, пришел из Нима в Париж, а потом добрался до Лиль-Адана, чтобы тайно побеседовать с принцем де Конти. Он вернулся на юг – его не поймали и не увидели. Во время устроенных роялистами репрессий, которые известны под названием «белый террор», адвокат-республиканец, бежавший, чтобы спастись от смерти, свернул с Парижско-Лионской дороги и пошел через холмы и леса на запад от Роны. Оттуда он благополучно вернулся в Париж по главной дороге, которая шла из Оверни. На своем пути он прошел через лес Бозон, который, собственно говоря, был отдельным княжеством: этим лесом уже несколько столетий управляли сменявшие один другого предводители разбойников, которые носили титул «капитаны Бозона».
Ужасающее одиночество, в котором ухитрялись существовать некоторые одичавшие люди, дает представление о том, насколько оторванной от остального мира могла быть труднодоступная область Франции. В области Аверон, на поросших лесом холмах, где присутствие человека можно заметить лишь случайно по струе дыма, был мальчик, позднее известный под именем Виктор из Аверона. Он несколько лет жил один, пока в 1799 году его не поймали крестьяне, которые выставили его напоказ как странную игру природы. «Дикая девочка из леса Иссо» к югу от Молеона в Стране Басков играла с подругами и заблудилась. Она бродила в полумраке по зеленой пустыне восемь лет, пока в 1730 году ее не нашли пастухи. Девочка была жива, но не умела говорить. Дальше к западу, на границе леса Ирати, в 1774 году видели голого волосатого человека, который мог бегать со скоростью оленя; позже его считали последним из неандертальцев. У этого человека была любимая забава – он пугал овец, заставляя стадо разбегаться во все стороны. Как-то раз пастухи попытались поймать его, но он, смеясь, убежал прочь, и больше его никогда не видели.
Даже в цивилизованных на первый взгляд частях Франции можно было пройти большое расстояние и не быть никем замеченным. В середине XVIII века бандит Луи Мандрен и его отряд из трехсот контрабандистов бродили по пятой части Франции, от Оверни до Франш-Конте, нападали на крупные города и в течение полутора лет успешно уходили от встречи с тремя армейскими полками. В конце концов Мандрен был пойман, но лишь потому, что его выдала любовница. Много лет после Французской революции бандитизм оставался проблемой в департаменте Сомма. До 1830-х годов даже северные департаменты с достаточно развитой промышленностью были раем для воров.
Рассказы об оторванности от мира и невежестве обычно связаны с впечатляющими, исключительными случаями, происходящими в областях, которые находились за пределами той части страны, которую некоторые французские историки называли «Парижская котловина и ее окрестности», – огромный параллелограмм, углами которого служат Лилль, Клермон-Ферран, Лион и Ле-Ман. На этой территории «люди, идеи и товары» – все несло на себе признаки французского происхождения и старалось выглядеть французским. Вероятно, это французское начало стало вырываться оттуда, как струя воды под давлением, и пробивать себе путь через старую систему еще при «старом», то есть дореволюционном, режиме. Если принять эту точку зрения, получается, что современная Франция виртуально существовала уже давно как огромный пригород Парижа и просто ждала появления велосипеда, парового двигателя и автомобиля, которые помогли ей родиться на свет.
Если бы шаловливая муза истории перенесла группу таких историков в какой-нибудь момент между 1851 и 1891 годами и опустила их на обочину национальной дороги, они в среднем увидели бы за час меньше десяти транспортных средств и эти средства двигались бы со скоростью от 3 до 13 миль в час. В еще более ранние времена влияние тех городов, которые эти историки считают источниками света, должно быть, почти не ощущалось. Точных данных о движении транспорта для более ранних периодов времени нет. Но в конце XVIII века по системе национальных дорог двигались всего несколько сотен личных транспортных средств, так что и раньше на этих дорогах вряд ли часто возникали пробки.
В 1787 и 1788 годах английский фермер Артур Янг с изумлением видел «пустой и безлюдный простор, заросли низкого кустарника, вереск, дрок, ракитник и болота», которые тянулись «на протяжении 300 миль» и закончились «в 3 милях от большого торгового города Нанта!». Окрестности Тулузы были такими же пустынными: «Не больше людей, чем если бы отсюда до любого города было 100 миль». Янг подумал, что столица, «где сходится столько больших дорог», конечно, докажет ему, что в вялом теле, по крайней мере, бьется сердце. Однако в одно майское утро на первых десяти милях большой дороги, которая вела на юг к Орлеану, он насчитал всего два почтовых дилижанса и «очень мало» портшезов. А приближаясь к Парижу по северной дороге со стороны Шантильи, он «внимательно искал взглядом такое же скопление карет, как то, которое мешает путешественнику двигаться возле Лондона, но искал напрасно: дорога до самых городских ворот – настоящая пустыня по сравнению с лондонской».
Возникает вопрос, который кажется смешным: где было население самой многолюдной страны в Европе?
Большинство людей во Франции жили не в городах, хотя у многих путешественников складывалось другое мнение. Во время Французской революции почти четыре пятых населения занималось сельским хозяйством. Через полвека с лишним после революции более трех четвертей по-прежнему жило в коммунах с населением менее 2 тысяч человек (таким было определение понятия «сельская коммуна» в 1846 году). Но жители одной коммуны не всегда знали о существовании друг друга: коммуна – это не деревня или город, а территория, которой управляют мэр и совет[2]. Некоторые из этих территорий, например коммуна Арль на равнине Камарг, занимали большую площадь с редким населением. Другие, например Вердело в 40 милях к востоку от Парижа, в провинции Бри, охватывали десятки крошечных поселений, ни одно из которых нельзя назвать не только городом, но даже большой деревней.
После революции почти треть населения Франции жила в отдельно стоящих крестьянских домах или фермах или же на хуторах, где было меньше тридцати пяти жителей, а часто не набиралось и восьми. Крестьянская девушка, которая пришла работать в Париж, могла, посмотрев на улицу из окна комнаты, где мыла посуду, одним взглядом увидеть больше людей, чем знала за всю свою предыдущую жизнь. В 1830 году многие рекруты из департамента Дордонь не могли назвать свои фамилии сержанту, который зачислял их на службу, потому что им никогда не приходилось пользоваться фамилией. До изобретения дешевых велосипедов для многих людей известный им мир имел диаметр меньше 10 миль, и все население его легко бы уместилось в маленьком амбаре.
Разграничение между «сельскими» и «городскими» позволяет предположить, что некоторые граждане в какой-то мере были связаны с остальным миром. Но в действительности большинство городов наполовину растворялось в окружавшей их сельской местности. Пока ворота не запирались на ночь, люди и животные ходили с полей на улицы и обратно. Мокрая земля покрывала булыжники мостовых и образовывала целую миниатюрную страну из холмов и оврагов. Внутри города присутствовало сельское хозяйство – в виде виноградников, огородов, свинарников, загонов для скота и навозных куч.
В сознании многих людей самое четкое разграничение жителей Франции приходило не по линии «городские» и «деревенские», а «парижане» и «провинциалы». Подполковник Найниан Пинкни из отрядов североамериканских местных рейнджеров, который в 1807 году путешествовал по Франции «по маршруту, которым раньше никто не проходил», как только выехал из Парижа, почувствовал себя так, словно вернулся к себе на американскую границу («в таком же уединении, как в самом дальнем углу Англии»), а затем обнаружил, что «во Франции нет городов внутри страны – таких, как Норвич, Манчестер и Бирмингем». Рост французских городов был скован их таможенными границами, в которые они были затянуты, как в корсет, и потому городское население почти не увеличивалось с начала XIX века до периода после Первой мировой войны.
Похоже, Париж высасывал все соки из Франции еще до того, как стал магнитом, притягивающим большое число внутренних мигрантов. В 1801 году в Париже жили чуть меньше 550 тысяч человек – больше, чем в пяти следующих по размеру городах вместе (Марселе, Лионе, Бордо, Руане и Лилле). В 1856 году Париж мог бы поглотить восемь следующих по размеру городов, а в 1886-м – шестнадцать. Однако до 1852 года в Париже жило меньше 3 процентов населения Франции, и до 1860 года он занимал площадь всего 3402 гектара (13 квадратных миль), а это меньше, чем два современных парка Евродисней.
Совершенно ясно, что население Франции нельзя было увидеть, просто взглянув из окна кареты. Сборщики налогов, миссионеры и первые этнологи должны были сворачивать с дорог на такие тропы, по которым ни за что бы не проехала ни одна карета. И даже в этом случае можно было заметить мало признаков жизни, если не обладаешь панорамным по ширине и проникающим вглубь, как рентгеновские лучи, взглядом статистика или поэта. Описание запада Франции у Виктора Гюго может показаться антропологической научной фантастикой, хотя Гюго прошел по Франции пешком больше, чем любой французский историк, и поэтому умел читать пейзаж.
«Трудно описать, какими были бретонские леса в действительности. Они были городами. Ничто не может быть более таинственным, тихим и диким, чем эта путаница колючих кустов и ветвей, переплетенных так, что их невозможно разорвать. Эти обширные чащи – звериные логовища тишины и покоя. Ни одна пустыня никогда не выглядела более похожей на смерть и более мрачной. Но если бы один молниеносный удар мог свалить все эти деревья сразу, стало бы видно множество людей, которые скрывались в их тени.
Некоторые любопытные статистические данные позволяют нам понять, каким мощным было это великое крестьянское восстание. В департаменте Иль-и-Вилен в лесу Ле-Пертр не было заметно никаких признаков человека, а там скрывались шесть тысяч людей под предводительством Фокара. В департаменте Морбиан в лесу Молак не было видно ни души, а там были восемь тысяч человек. И эти два леса не самые большие в Бретани».
Существование фантастической густонаселенной пустыни, которую нарисовал Гюго, подтверждает карта плотности населения. Естественно, оно было наиболее плотным вдоль основных торговых путей – в долине Роны, в Рейнланде, во Фландрии и на побережье Ла-Манша. Но отмечена и на удивление высокая концентрация людей в нескольких областях, которые многим путешественникам казались почти необитаемыми.
Через некоторые густонаселенные местности путешественник проходил иногда на таком близком расстоянии от жилья, что мог почувствовать запах свиней, но не увидеть ни одного человека. Жак Камбри, который исследовал Бретань в 1794 – 1795 годах («потому что, как я полагаю, никто еще не приезжал в Бретань с целью изучить ее или удовлетворить свое любопытство»), заявил: лишь немногие охотники когда-либо видели «эти дома, которые скрыты за оврагами, в путанице деревьев и кустов и всегда в самых низменных местах, чтобы рядом скапливалась вода и помогала гноить солому, мелкие ветки и стебли утесника, которые используются как удобрение».
Грязь и колючки могут отгораживать селения от мира так же надежно, как каньоны и обрывы.
К югу от Луары, в Вандее, не отмеченные на картах тропы длиной в сотни миль шли через глубокие туннели из растительности. С большой высоты наблюдатель увидел бы обычный пейзаж – поля, разделенные полосами деревьев или кустов, но на поверхности земли этот пейзаж был лабиринтом из грязи среди бескрайнего леса. В солнечный день путешественник мог много часов подряд идти через эти поля и выйти из леса бледным, как привидение. Проходы в зеленых изгородях закрывались переносными дверями, сплетенными из такой же растительности, как та, которая образовывала ограду. Крестьянин мог проскользнуть на свое поле, закрыть за собой дверь из листьев и не оставить после себя никаких следов.
В Вандее 170 тысяч людей жили группами по пятнадцать человек в среднем. В департаменте Иль-и-Вилен было 20 тысяч крошечных населенных пунктов, столько же в Сарте и 25 тысяч в Финистере. В Севеннских горах в некоторых приходах было больше ста хуторов. Это позволяет понять, почему в конце XVII века для истребления протестантов в Севеннах понадобилась большая армия и самая большая со времен римского завоевания программа строительства дорог. И позволяет также понять, как мятежники-роялисты в Вандее могли так долго противостоять войскам республики, присланным «очистить» запад Франции. Пока не был построен мрачный, весь состоящий из прямых линий город Наполеон-Вандея – форпост империи, только один город в этом департаменте насчитывал больше 5 тысяч жителей.
Безликие миллионы, которые жили в этой просторной и почти неисследованной стране, находились на более ранней стадии цивилизации, чем примерно триста человек, из которых обычно состоит список действующих лиц французской истории XVIII и XIX веков. Их способ селиться обусловливал их невежество и неграмотность, потому что просветить такой разбросанный по своей земле народ так же трудно, как и завоевать. Но все-таки они были жителями Франции.
Даже сегодня чернорабочие, владеющие землей крестьяне, ремесленники и не относящиеся ни к одной категории женщины и дети, из которых состоят «сельские» три четверти населения Франции, часто бывают удостоены лишь групповых описаний, словно они какие-то предфранцузы, – существа со слишком неясными очертаниями, которые из-за своей удаленности и туманности не могут ощутить притяжение централизации. Они заслуживали внимания как субъекты истории, а не как предмет изучения антропологии, лишь тогда, когда слышали о Париже и желали его увидеть или когда начинали чувствовать себя уроженцами своего региона и испытывать сепаратистские желания, тем самым признавая главенство над собой парижской Франции. Одна из цитат, которую чаще всего используют, чтобы вызвать перед глазами образ этой массы населения, – описание, составленное Жаном де Лабрюйером в 1688 году. Он говорит о «диких животных, которых можно увидеть в сельской местности» – почерневших от солнца зверях мужского и женского пола, «привязанных к земле, которую они упрямо копают». «Они издают звуки, похожие на человеческую речь, и, когда они поднимаются на две ноги, становится видно, что у них человеческие лица… На ночь они уползают в свои логовища, где живут, питаясь черным хлебом, водой и корнями».
Можно найти сотни похожих описаний низких родом и душой дикарей современной Галлии. Некоторые из этих красноречивых оскорблений известны лучше, чем большинство основных фактов повседневной жизни людей XVIII и XIX веков. Они – часть истории того разрушительного «внутреннего» расизма, который и теперь играет видную роль во французском обществе. Эти неудобные для администрации миллионы людей принадлежат французской истории настолько же, насколько индейцы принадлежат истории Америки. Не все они были в грязи и гнули спину на полях. Среди них были провинциальные аристократы и вожди племен, мэры и советники, странствующие рабочие, торговцы, колдуны, отшельники и даже местные историки.
Убивая молодого геометра из экспедиции Кассини, жители деревни Лез-Эстабль поступили как невежды, но достаточно разумно. Против них вели войну, и они защищались от атаки противника. Если бы какой-нибудь местный колдун показал этим людям на поверхности пруда или в огне костра их родные места в XXI веке, – второразрядный северный лыжный курорт «на границе трех привлекательных регионов», «в 20 милях от ближайшей больницы», «который ждет вас, чтобы очаровать своим гостеприимством и своими обычаями», – они бы очень удивились тому, какие загадочные формы приняло их наказание.
2. Племена Франции – 1
В южном конце одной из очаровательных плоских долин, которые расходятся от Пиренеев как лучи от солнца, можно увидеть – если облака не нависают слишком низко – маленькое селение Гу на плоском выступе скалы, на расстоянии полутора тысяч футов над прохладным курортом, который называется О-Шод – «Горячие воды». До начала XX века это селение считалось автономной рес публикой. Это самое маленькое непровозглашенное государство в Европе состояло из двенадцати гранитных домов и примерно семидесяти людей, которыми управлял совет стариков. В ней не было нищих, не было слуг и, к зависти и восхищению путешественников, открывавших для себя эту спартанскую Шангри-Ла[3], никто не платил налоги.
Селение-государство Гу было известно окружающему миру по меньшей мере с XV века, но его жителей оставляли жить своей жизнью и называли их «совершенно изолированным от остального мира племенем, которое сохранило свои простые примитивные обычаи». Пугающе крутая, вымощенная булыжником дорога, которая ведет в селение, была построена менее сорока лет назад. В 2005 году Натали Бару, правнучка одной из женщин, сфотографированных на снимке 1889 года, показала мне сохранившуюся со Средневековья перемычку двери, на которой написано первоначальное родовое имя ее семьи – Барон. Известно, что в XVI веке жил барон де Гу. Возможно, один из его предков, обеднев в результате Крестовых походов, продал эту землю своим крепостным, а они никогда не видели необходимости вступить в одну из тех конфедераций, которые позже образовали провинцию Беарн, а со временем стали частью Франции.
Жители Гу не имели ни церкви, ни кладбища. Когда кто-то умирал, гроб на канатах спускали вниз, в долину. В хорошую погоду живые обитатели селения спускались вниз по горе, чтобы продать молоко и овощи, окрестить своих детей или посмотреть на дам, приезжавших лечиться на воды в О-Шод. После того как в 1850 году с помощью динамита была проложена дорога через ущелье под селением и непрочный деревянный Адский мост был заменен каменным, Гу стало живописным местом экскурсий для нескольких скучающих инвалидов и авторов путевых записок. Без них это селение, вероятно, было бы забыто, как сотни других «автономных республик», которые когда-то существовали на территории Франции.
Гу стало исключением в первую очередь потому, что было достаточно известно. Кроме того, непреодолимые географические обстоятельства сохраняли в нем патриархальные порядки до середины эпохи пара. Однако по сравнению с другими отрезанными от мира маленькими поселениями оно было хорошо связано с внешним миром. Его семьдесят жителей – а некоторые из них, как говорили, отпраздновали свой сотый день рождения – не могли бы сохранить такое крепкое здоровье, будь они полностью отрезаны от мира. В их общем хранилище были шерсть из Барежа и ленты из Испании. Их гены, должно быть, тоже хранили память о путешествиях за пределы селения. Даже последний путь мертвецов из Гу был не таким уж плохим. В высокогорных альпийских деревнях, если человек отдавал богу душу в те шесть или семь месяцев, когда деревня была отрезана от внешнего мира, семья хранила его тело на крыше своего дома под снежным покрывалом, пока весна не отогревала землю. Лишь когда земля оттаивала, тело можно было опустить в могилу, а священник мог добраться до деревни.
Такие впечатляющие места, как Гу, сыграли важную роль в формировании французской нации. Для покупающих открытки туристов с обратным билетом в цивилизованный мир племена были чем-то из далекого прошлого. Чем дальше от города, тем дальше в прошлое. Деревни, стоявшие на окружающей Францию кайме из горных цепей, – такие, как Гу в Пиренеях или Сен-Веран в Альпах, – были национальными парками и резервациями для воображения образованных людей. Их история быстро была забыта, когда дешевизна поездок и национальные газеты уменьшили страну и стерли старые различия между племенами. Во Франции XVIII и начала XIX века селение Гу было во многих отношениях обычной коммуной. В 1837 году экономист Мишель Шевалье после поездки в Восточные Пиренеи и Андорру рассказывал читателям одного парижского журнала: «Каждая долина до сих пор представляет собой отдельный маленький мир, который отличается от соседнего мира настолько же, насколько Меркурий от Урана. Каждая деревня – это клан, своего рода государство со своим патриотизмом. С каждым шагом меняются типы и характеры, мнения, предрассудки и обычаи».
Если бы Шевалье от самого Парижа шел пешком, а не проехал эту часть пути с высокой скоростью в дилижансе по новейшей для того времени дороге, он обнаружил бы, что большая часть страны подходит под его описание.
Чтобы побывать в этих кланах и крошечных государствах, нужно было проделать долгий путь по неизвестной Франции – от городов и поселков до маленьких деревушек и других населенных пунктов, которые трудно отнести к какой-либо категории. Сама Франция покажется куском, почти произвольно выкроенным из Западной Европы. Позже возникли системы и принципы, общие для всей страны, и у ее жителей появилось что-то общее кроме соседства по месту проживания. Но если бы мы в этом пути с начала до конца пользовались указателями, которые поставили на дороге позднейшие поколения, большая часть страны и большинство ее жителей остались бы для нас так же неизвестны, как обстоятельства, при которых возникло селение Гу.
До того как железные дороги отняли у пейзажа четкость, а тех, кто живет среди этого пейзажа, сжали до лиц на платформе и фигур в поле, путешественников часто поражали внезапные перемены в облике местных жителей. Переехав через реку или свернув в сторону на перекрестке, те, кто ехал в карете, могли оказаться среди людей, которые выглядели совершенно иначе, чем прежние, – одевались по-другому, строили дома по-другому, говорили на другом языке и имели другое, свое собственное, представление о гостеприимстве. Цвет глаз и волос, форма голов и лиц и даже то, как местные жители вели себя, наблюдая за проезжающей каретой, могли измениться внезапнее и резче, чем растительность.
Быстрота движения усиливала и подчеркивала эти различия, и тогда границы между племенами часто становились видны с поразительной четкостью. Есть свидетельства, что на левом берегу реки Адур в области Шалос к востоку от Байонны местные жители были рослыми, сильными, сытыми и приветливыми, а на правом берегу той же реки жили тощие, нищие и недоверчивые люди. Климат, вода и пища, давние и новые переселения, соперничество между кланами и необъяснимые различия в обычаях и традициях могли превратить даже крошечный край в лабиринт с нигде не отмеченными границами. Даже цивилизованные, как считалось, части страны были изрезаны этими границами так же сильно, словно провинции какой-нибудь империи после ее падения. По словам Ретифа де ля Бретонна, в Бургундии две соседние деревни, Нитри и Саси, так отличались одна от другой (в Нитри жители были вежливыми, в Саси грубыми), что некий граф де С. «выбрал их специально для того, чтобы иметь возможность видеть значительную часть страны, не уезжая очень далеко (расстояние между деревнями было около 3 миль), и таким образом составить сокращенное описание сельской жизни во всем королевстве». Мать самого Ретифа всегда считалась в Нитри чужой, потому что была родом из деревни, которая находилась на другом берегу реки Кюр, в 10 милях к западу. «Согласно обычаю, ее зятья и снохи не любили ее, и никто в деревне не вставал на ее сторону, потому что она была чужеземкой».
Легко представить себе изумление и растерянность богатых горожан, которые отправлялись в путешествие, чтобы узнать свою страну, а в результате обнаруживали только способную свести с ума человеческую мозаику из племен и кланов. Даже короткое путешествие по северу Франции не позволяло человеку составить ясное представление о том, что значит слово «французский». В Дьепе жили «поллете» или «полтезы» – народ рыбаков, говоривший на языке, в котором с трудом можно было узнать разновидность французского. Туристы из-за Ла-Манша, которые покупали их резные изделия из слоновой кости и глазели на их женщин в сборчатых нижних юбках и верхних юбках до колена, задавали себе вопрос: почему эти люди так не похожи на остальное население? (Ответ неизвестен до сих пор.) Дальше на побережье, в городе Булонь-сюр-Мер, был пригород Ле-Портель, где жила особая группа населения числом около 4 тысяч человек, которые отличались высоким ростом, красотой и силой. В 1866 году один антрополог предположил, что жители Ле-Портеля имеют андалузское происхождение, но его исследование голов, ладоней, ступней и грудей женской части населения пригорода (мужчины были в море) оказалось неубедительным. Далее на расстоянии 30 миль в глубь страны, к востоку от города Сент-Омера, сельским хозяйством на «плавучих островах» занималось особое сообщество, которое имело свои собственные законы, обычаи и язык. Эти люди жили в низких домах возле каналов в пригородах Опон и Лизель, которые и сейчас выглядят как фламандский анклав во французском городе.
Многим путешественникам казалось, что многочисленные и разнообразные группы населения Франции имели между собой мало общего, кроме своей принадлежности к человеческому роду. Но даже в этой принадлежности были сомнения. Так, в конце XIX века появились сообщения об отличающихся от своих соседей автономных племенах на границах Бретани и Нормандии. На Лазурном Берегу, в горной местности за Каннами и Сен-Тропезом, рассказывали, что на рынки местных городов приходят с гор дикари, одетые в козьи шкуры и говорящие на своем собственном, непонятном для других языке. В 1880 году в лесах вокруг города Вилле-Котре (родина Александра Дюма, в 45 милях к северо-востоку от Парижа) один антрополог обнаружил «несколько стоящих в стороне от дорог деревень, жители которых принадлежат к совсем иному типу, чем жители соседних деревень, и, кажется, имеют признаки особой расы, существовавшей до тех киммерийских вторжений, с которых начинается наша историческая эпоха».
Теперь, когда прошло еще сто лет и лес Вилле-Котре – широко разрекламированное место экскурсий для парижан, куда можно доехать поездом за сорок пять минут с Северного вокзала, его «доисторическое» население навсегда останется загадкой. Для французской антропологии ее доисторический период закончился лишь в годы революции. До этого государство не интересовалось культурными и этническими различиями среди народных масс. Статистических данных этого рода о времени до правления Наполеона мало, и даже данные эпохи Наполеона ненадежны. Науки, позволяющие анализировать физические и культурные особенности населения Франции, возникли лишь тогда, когда племена, которые они собирались изучать, начали превращаться в современных граждан Франции. Но любознательные путешественники все же задавали тревожный вопрос: кто такие жители Франции?
С политической точки зрения ответ кажется очень простым. Жители Дьепа, Булони, Гу и Сен-Верана – все принадлежали к одной и той же нации. Они все несли ответственность перед местными парламентами и, в конечном счете, перед королем. Большинство из них платили налоги деньгами, трудом (поддерживая в порядке дороги и мосты), а с конца XVIII века, когда была создана система регулярного призыва юношей в армию, стали платить еще и человеческими жизнями. У них были чиновники, назначенные местными властями: инспектор, собиравший налоги, и полицейский, чтобы следить за порядком в общине. Но на законы, особенно на те, которые касались наследования, часто не обращали внимания, и непосредственных контактов с центральной властью было крайне мало. Государство эти люди воспринимали как нечто опасное и вредное для них: его посланцами были солдаты, которых они должны были кормить и брать на постой, судебные приставы, которые конфисковывали их имущество, и адвокаты, которые решали имущественные споры и забирали себе большую часть денег, доставшихся победившей стороне. Принадлежность к числу французов не была предметом гордости и даже не объединяла людей. До середины XIX ве ка мало кто из жителей Франции хотя бы раз видел ее карту и мало кто из них слышал что-нибудь про Карла Великого и Жанну д’Арк. Франция, по сути дела, была страной, где все жители – иностранцы. По словам одного писателя-романиста, по происхождению крестьянина из провинции Бурбоне, в 1840-х годах это было так же верно, как до революции.
«Мы не имели ни малейшего представления о внешнем мире. За границей нашего кантона и за известными нам дальними местами лежали таинственные земли, которые, как мы думали, были опасны и населены варварами».
Может показаться, что великие соборы Франции и бесчисленное множество их прихожан – признаки существования прочной объединяющей связи. Действительно, почти 98 процентов населения Франции были католиками. Но на самом деле между разными частями страны была большая разница в религиозных обрядах (это стало очевидно позже). Обитатели небес так же, как их земные почитатели, не были космополитами. Вырезанный в камне святой или Богородица, стоявшая в какой-нибудь деревне, и тот же святой или Богородица, стоявшая чуть дальше у дороги, считались разными святыми. Верования и обряды, связанные с доисторическими камнями и волшебными колодцами, имели очень мало сходства с христианской религией. Местный священник мог быть полезен как грамотный и ученый человек, но свой авторитет в делах веры он должен был доказать в борьбе с целителями, предсказателями будущего, специалистами по изгнанию бесов из людей и людьми, которые, как считалось, умели изменять погоду и воскрешать мертвых детей. Нравственность и религиозное чувство не зависели от церковных догм. То, что церковь до самой революции имела право устанавливать налоги, для большинства жителей страны значило гораздо больше, чем ее безрезультатные попытки запретить контроль над рождаемостью.
Если разделить королевство на части, карта его окажется такой же ненадежной. Долго считалось, что понятие «провинция» – ключевое для понимания национального характера жителей Франции. Предполагали, что с каждой провинцией – исторически и политически обособленной частью страны – связаны определенные черты характера ее жителей, как для френолога с каждым участком головы связаны определенные черты характера человека.
Несколько хороших примеров этого «географического» подхода к изучению людей можно найти в путевых заметках Франсуа Марлена, купца из Шербура, который использовал свое занятие – поставку продовольствия для флота как возможность исследовать свою родную страну и с 1775 по 1807 год проехал по ней больше 20 тысяч миль. Вот что он писал:
«Жители Перигора быстры, проворны и благоразумны. Жители Лимузена более медлительны, их движения скованны».
В городе Ош ехавшие по торговым делам коммерсанты ужинали в трактире. Марлен легко отличал их одного от другого по их провинциальным признакам, как собак по породе.
«Лионец держится надменно, говорит четко и звучно, он умен, но высокомерен, в его речи много бесстыдных непристойностей. Лангедокец учтив и вежлив, у него открытое выражение лица. Нормандец больше слушает, чем говорит. Он не доверяет другим, отчего они тоже не доверяют ему»[4].
Однако Марлен обнаружил, что большинство людей отказывались отождествлять себя с большими областями, даже если предположение было лестным. Они были частью города, пригорода, деревни или семьи, но не государства и не провинции. Общие черты в культурном наследстве некоторых регионов были яснее видны приезжим из других мест, чем самим местным жителям. Бретань пришлось бы разделить на несколько мелких частей, чтобы найти область, которую ее жители считали бы родной. Жители восточной части Бретани говорили на диалекте французского языка, который назывался «галло» (пишется Gallo или Gallot), а жители ее западной части говорили на различных разновидностях бретонского языка. Смешанных браков между этими двумя группами населения почти не было. А на западе жители Армора – «Страны у моря» имели мало общего с жителями Аргоата – «Страны лесов». И даже внутри Армора разные группы населения так отличались одна от другой и так враждовали одна с другой, что многие писатели искали им предков далеко от гранитных скал их побережья – среди семитских племен, в Древней Греции или Финикии, в Персии, Монголии, Китае или Тибете.
Поскольку в результате договоров и завоеваний Франция была составлена из многих частей и две трети ее территории находилось в составе Французского государства почти триста пятьдесят лет, неудивительно, что у ее жителей не было глубоко укоренившегося чувства принадлежности к единому народу. Перед революцией словом «Франция» часто называли маленькую, похожую на карте на гриб провинцию, главным городом которой был Париж. В Гаскони и Провансе любого человека с севера страны называли «франшиман» (Franchiman) или «франсио» (Franciot). Ни одно из этих двух слов не вошло в официальный словарь Французской академии. Но и чувства принадлежности к своему региону у тогдашних жителей Франции почти не было. Бретонцы, каталонцы, фламандцы и провансальцы, живущие во Франции, стали смотреть на себя как на отдельный субъект политики лишь намного позже, и это было реакцией на то, что их насильно заставляли считать себя французами.
Кажется, только баски объединялись против внешнего мира, но на своих публичных маскарадах они изображали ненавистными врагами не французов и не испанцев, а цыган, лудильщиков, врачей и адвокатов. Состязания между командами игроков в пелоту из разных областей волновали басков больше, чем победы и поражения армий Наполеона.
Со времени революции широко пропагандировалось единство французской нации, поэтому наблюдатель не сразу обращает внимание на то, что границы между племенами Франции почти никогда не совпадают с административными границами. Не видно никаких причин, по которым эти люди могли бы объединиться в одну нацию. Как Эрве Ле Бра и Эммануэль Тодд написали в 1981 году по поводу огромного разнообразия структур семьи во Франции, «с антропологической точки зрения Франция не должна была бы существовать». С этнической точки зрения ее существование так же невероятно. Кельтские и германские племена, которые вторглись в Древнюю Галлию, и племена франков, напавшие на провинцию ослабшей Римской империи, были по происхождению почти такими же разными, как население современной Франции. С точки зрения истории существует только одна однородная и коренная группа населения страны, которую могла бы представлять, не греша против здравого смысла, партия с названием Национальный фронт. Это самая первая группа кочующих человекообразных приматов, которая поселилась в этой части западноевропейского перешейка.
Шербурский купец Франсуа Марлен позже обнаружил, что на вопрос «Кто такие жители Франции?» лучшим ответом будет отсутствие ответа. Он хотел, чтобы его путевые записки стали противоядием против всех бесполезных путеводителей, авторы которых путешествовали по стране в портшезах, а потом переписывали в свою книгу чужой текст и издавали под своим именем. Поэтому он старался просто наблюдать и отмечать перемены во внешности людей как отражения изменений пейзажа. Объединив его наблюдения с наблюдениями других путешественников, можно было бы создать карту Франции, которая делилась бы на области с безобразным и красивым населением, но эту карту невозможно было бы опубликовать. Баскские женщины были «все чистоплотны и красивы». «В Орлеане, кажется, собрали и заперли всех калек, одноглазых людей и горбунов». «Красивые женщины – редкость во Франции и особенно здесь, в Оверни; но здесь можно увидеть много крепких телом женщин». «В Бресте можно найти самые красивые в провинциях глаза. Но рты не так привлекательны: морской воздух и очень небрежное отношение к зубам быстро заставляют потускнеть зубную эмаль».
Эти сведения вряд ли удовлетворили бы специалиста по исторической антропологии, и они дают лишь очень приблизительное представление о социальной географии Франции. Никто не может сказать, были эти физические различия унаследованы от древних предков или определялись занятиями, которыми люди зарабатывали себе на жизнь, и пищей, которую они ели. Но Марлен хотя бы видел своими глазами население страны (или ту часть населения, которая жила возле дорог). Он писал: «Мне очень нравится то, как женщины и дети бегут посмотреть на проезжающего мимо путешественника. Это позволяет любопытному путешественнику увидеть всех местных красавиц, и я могу точно сказать вам, сколько красивых женщин живет в Кувене».
По мнению Марлена, его записки, как свидетельства очевидца, человек мог с пользой для себя хранить в одном из кожаных карманов дилижанса. Остальные путеводители, наполненные мнимой ученостью, можно положить на крышу кареты под раздувающийся на ветру кусок холста, и пусть их мочит дождь и уносит ветер.
Путешествие в племенную Францию можно было бы начать почти в любой точке страны и почти в любое время. Начнем, например, с вершины холма в Авероне – в той местности, где известняковые плато Кос превращаются в лабиринт скал и ущелий, похожий на смятую карту. Время – 1884 год. Священник из города Монклар нашел себе прекрасное развлечение среди однообразной жизни маленького городка: навел свой телескоп на долину внизу и смотрит на сражение, которое там разворачивается. Армия мужчин, женщин и детей, размахивая дубинами и волоча за собой корзины с камнями, наступает на деревню Роксезьер. Но их заметили высланные жителями деревни разведчики, и из Роксезьера уже вышла другая армия, чтобы защищать свою территорию.
На голой скале, которая возвышается над деревней, стоит, спиной к сражению, гигантская чугунная статуя Богоматери. Деньги на отливку этой статуи были собраны по подписке – своего рода чудо в этом обедневшем краю, и недавно она была установлена на этой скале в память об одном успешно выполненном поручении.
Нападающие были в бешенстве оттого, что священная статуя стоит задом к их деревне, и пришли повернуть ее лицом к своим домам. Яростное сражение продолжалось много часов. Несколько человек серьезно пострадали. В конце концов ряды роксезьерцев были прорваны, и статуя была повернута лицом к другой деревне. Чтобы эта стычка не переросла в большую войну, церковные власти приняли компромиссное решение. Пресвятую Деву повернули на девяносто градусов – с таким расчетом, чтобы каждая деревня видела половину ее лица. Но теперь она смотрит на востоко-северо-восток, в сторону Сен-Крепена, жители которого оплатили больше половины стоимости статуи, и по-прежнему отворачивается от маленькой кучки домов, стоящих у ее подножия.
Сражение при Роксезьере, как и тысячи других мелких стычек, не упомянуто в истории Франции. Войны между деревнями не оказывали заметного влияния на безопасность страны, а их причины часто уходили корнями в глубокую древность и были непонятны. Однако они были частью обычной жизни многих людей XIX века, и не только его начала. В архиве департамента Ло хранится «очень толстая папка» с описаниями ссор между деревнями за время с 1816 по 1847 год: «кровопролития, сражения, беспорядки, серьезные раны, мирные договоры и слухи о войне». Деревенские жители решали свои споры в ожесточенных боях, поскольку не желали тратить время и деньги в суде. Полузабытые оскорбления и споры из-за земель приводили к налету на соседние деревни, нападавшие крали зерно или уносили церковные колокола. Иногда стороны назначали бойцов, каждая для защиты своего дела, и бой между этими защитниками становился местной легендой. Обычно одного сражения оказывалось мало. В провинции Лимузен деревни Лавиньяк, Флавиньяк и Тексон воевали между собой больше сорока лет. В 1806 году Тексон перестал числиться коммуной, но эта бюрократическая тонкость не мешала этой деревне вести себя как независимое государство.
Знаменитое утверждение Цезаря, что «Галлия делится на три части», должно было поразить многих путешественников своей необоснованностью: до чего же он упростил положение дел! Но дальше Цезарь отметил, что Галлия также подразделяется на бесчисленное количество маленьких областей. «Не только каждое племя, округ и часть округа, но почти каждая семья делится на соперничающие партии». Главной единицей территории был «пагус» – область, находившаяся под властью племени. Через 2 тысячи лет после завоевания Галлии эта единица территории все еще была в ходу: ее можно было узнать под названием «пеи» (pays). Слово pays обычно переводят как «страна», но оно означало не абстрактное государство, а родную землю, которую можно ощутить, – конкретную родину предков, край, который люди считали своим домом. «Пеи» – это край, где все было знакомо и привычно: звук человеческих голосов, оркестр птиц и насекомых, танец ветров и таинственные очертания деревьев, скал и волшебных колодцев.
Для того, кто мало знал о мире, этот родной край мог измеряться полями и бороздами; для человека, который был далеко от дома, родным краем могла быть целая провинция.
С тех пор это слово приобрело более точное и красивое значение. Его возродили в 1960-х годах те, кто рекламировал местные достижения и туризм. «Pays de la Loire», «Pays de Caux», «Pays de Bray» – «Земля Луары», «Земля Ко», «Земля Брэ» и т. д. Эти географические области представляют собой более крупный вариант «малых сельскохозяйственных областей», список которых был выпущен в 1956 году в качестве основы для сельскохозяйственной статистики. Национальный институт статистики насчитывает 712 таких областей. Например, провинция Бри делится на «лесную», «центральную», «шампанскую» (три зоны, которые отличаются одна от другой почтовыми кодами), «восточную», «французскую» (две зоны) и «сырую». Часть Шампани, которая в прошлом называлась «pouilleuse» («блошиная» или «убогая»), официально уже не существует. Кстати, это слово имеет также значение «бесплодная.
Именно об этой мозаике из микропровинций думал генерал де Голль, когда спросил: «Как по-вашему, человек может управлять страной, в которой есть двести сорок шесть разных сортов сыра?» Эта знаменитая фраза, число сыров в которой теперь обычно увеличивают до «одного сорта сыра на каждый день года», стала частью неофициального катехизиса национальной гордости. Ее часто пересказывают иностранцам даже в тех регионах Франции, где главенствует один сорт сыра, который экономически выгодно производить. Но эту головоломку легко мог бы решить любой сегодняшний администратор из отдела маркетинга. В более ранние времена никто не мог составить перечень французских «пеи». Даже в 1937 году Арнольд ван Геннеп, известный французский фольклорист и этнограф, опубликовав очень длинный список «пеи» в своем девятитомном «Руководстве по современному французскому фольклору», предупредил читателей, что этот список неполон, потому что «некоторые «пеи» до сих пор неизвестны». В течение всего XIX века французские чиновники всех уровней без всякой иронии жаловались, что территория страны расколота на части. Не государство, а «пеи» была родиной невежественного крестьянина.
Тайные армейские донесения, относящиеся к 1860-м и 1870-м годам, показывают, что «патриотизм» на уровне государства значил очень мало для детей земель-«пеи». В большей части Оверни армии удавалось получить помощь только «путем платежа, реквизиций или угроз» (1873). В одном городе возле Анжера мужчины заявили, что станут сражаться только поблизости от своих родных мест, мотивируя это тем, что «они до сих пор анжуйцы, а не французы» (1859). «Крестьяне из Бри робкие, и хитрости у них мало. Любое их сопротивление может быть легко подавлено» (1860). Разведчики, которые возвращались в лагерь Цезаря на берегах Соны в 58 году, должно быть, докладывали что-то очень похожее.
Имея различные карты и средства обнаружения, до сих пор можно исследовать этот лабиринт крошечных регионов, не боясь заблудиться в нем. В некоторые часы дня, даже если границы «пеи» невидимы, пешеход или велосипедист может приблизительно их определить. Та территория, на которой колокол определенной церкви слышен лучше, чем колокола церквей других деревень, вероятнее всего – край, жители которого имеют одни и те же обычаи и язык, одни и те же воспоминания и страхи и одного и того же местного святого.
Колокола отмечали границы земли племени и давали ей голос. Когда странствующий литейщик изготавливал колокол, жители деревни бросали в расплавленный металл семейные ценности – старые блюда, монеты, подсвечники – и превращали колокол в любимое воплощение души своей деревни. Он отсчитывал время и объявлял о ежегодных событиях – начале и конце сбора урожая, уходе стад на летние пастбища. Он предупреждал о вторжениях чужаков и о других угрозах. В 1790-х годах сержанты, набиравшие солдат в армию, шли по Солони среди пересекающихся кругов колокольного звона и, приходя в каждую деревню, обнаруживали, что все молодые мужчины исчезли. Считалось, что колокола останавливают грозу и град, который уничтожает урожай. Именно поэтому так много людей были убиты электрическим разрядом, когда держались за веревку колокола. Колокола прогоняли прочь ведьм, которые управляли грозовыми облаками. Они созывали ангелов, поэтому молитвы, произнесенные, когда звучал колокол – как на картине Милле «Ангелус», – действовали сильнее, чем сказанные в другое время. Во время тумана звон колокола указывал дорогу тем, кто мог заблудиться.
Число колоколов и размер колокольни часто позволяют довольно точно определить плотность населения. Вряд ли кто-то когда-нибудь жаловался на слишком громкий звон, но было несчетное множество жалоб на то, что колокола звучат слишком тихо и их не слышно с полей, которые находятся за городом. Когда мигранты, грустя по дому, с тоской говорили о колокольне своей далекой родины, они имели в виду не только ее шпиль как часть пейзажа, но и ее звуковую территорию.
Карта этих определяемых на слух сфер влияния точнее показала бы крошечные размеры племенных территорий, чем карта коммун. Изучение коммун XIX века в Морбиане (юг Бретани) на первый взгляд показало, что местные жители имели большую склонность к авантюрам. В Сен-Андре к 1876 году более половины состоявших в браке жителей родились в других коммунах. Но почти в каждом случае это была соседняя коммуна. Как сказано в этом исследовании, «сентиментальные причины» (любовь) могли играть роль в выборе мужа или жены, но большинство людей вступали в брак для того, чтобы упрочить свои наследственные права на землю, даже если для этого двоюродный брат должен был жениться на двоюродной сестре. Выбор супругов и супруг им диктовала древняя система границ между хуторами. Указатели, отмечавшие эти границы – земляные насыпи, рвы и ручьи, либо исчезли, либо их стало невозможно рассмотреть. Официальные же границы значили для этих людей не намного больше, чем заборы между садами для птиц, когда те определяют свои территории.
Та же самая боязнь простора при заселении открытых пространств наблюдалась по всей Франции. В сравнительно недавнее время, в 1886 году, более четырех пятых ее жителей обозначено как «почти статичные» (то есть живущие в тех же департаментах, где родились). Более трех пятых населения составляли люди, оставшиеся в своей родной коммуне. Но даже те, кто переселился в другой департамент, не обязательно покинули родную группу хуторов: просто соседний хутор мог находиться по другую сторону административной границы, в соседнем департаменте.
Некоторые общины из-за малочисленности или местной вражды были вынуждены искать женихов и невест дальше от своих домов, но вряд ли они отправлялись для этого слишком далеко. В романе Жорж Санд «Чертова лужа» овдовевший пахарь приходит в ужас при мысли о том, чтобы найти себе новую жену за 3 лиги (8 миль) от своего дома, «в новом краю (pays)». В крайнем случае кто-то из преследуемого народа каго, который жил в разбросанных далеко одна от другой маленьких деревушках, мог найти себе мужа или жену на расстоянии дня ходьбы от своего дома, но это случалось очень редко. Данные о 679 парах супругов-каго за период с 1700 по 1759 год показывают, что почти в двух третях случаев невеста до свадьбы жила на расстоянии выстрела от дома своего жениха. Остальные жили так близко, что расстояние не создало больших неудобств для свадебных гостей. В Сен-Жан-Пье-де-Пор из 57 женщин почти все, выйдя замуж, удалились от своего родного дома меньше чем на 5 миль (исключений было лишь четыре). Только две из упомянутых раньше 679 названы «иностранками». Это значило не «из другой страны», а лишь «не из этого региона».
Даже если имеешь в своем распоряжении статистику и верное чувство масштаба, исследование страны тысячи «земель» приводит в замешательство. Здесь почти не встречаются более крупные модели устройства общества, которые появятся потом. Но здесь нет и той анархии, которую ты ожидал встретить. Выясняется, что многие города и селения имеют полноценно функционирующую систему правосудия со своими парламентами и неписаными конституциями.
Почти каждая деревня имела свой официальный орган управления – ту или иную разновидность собрания; в первую очередь это относилось к pays d’état, где влияние королевской власти всегда было слабым, – например, в Бургундии, Бретани и Провансе. На юге, где налоги рассчитывались по площади земли, необходимость измерять земельные участки и составлять их реестры привела к возникновению достаточно сложных деревенских учреждений, которые не только регулировали использование общей земли, но также управляли денежными средствами и составляли бюджет. Посланцы революции, которые ехали в провинцию, чтобы вдохнуть жизнь в умирающие, как они предполагали, города и деревни, с удивлением обнаруживали, что тело Франции здорово.
В некоторых из этих городов и деревень демократия процветала еще в то время, когда Франция была абсолютной монархией. Франсуа Марлен случайно попал в одно такое селение, когда путешествовал по Пикардии в 1789 году. Эта деревня называлась Саланси и выделялась чистотой и опрятностью. Он узнал, что деревней управлял старый священник. Ее жители никогда не отправляли своих детей прочь из дома работать слугами и запрещали им вступать в брак с женихами или невестами не из их прихода. В деревне жили 600 человек, и на всех было только три фамилии. Все они считались равными, и все возделывали землю, пользуясь вместо плугов мотыгами. Благодаря этому урожаи у них были большие; их дети, даже девочки, учились читать и писать у нанятого за плату учителя и его жены; все в деревне были здоровыми, мирными и внешне привлекательными. «Они не знали даже самого понятия «преступление»… Рассказ о девушке, которая согрешила против целомудрия, показался бы им выдумкой лгуна».
Этот отчет достаточно типичен для рассказов о самоуправляемых деревнях. Главой деревни часто был, как в Саланси, священник, который действовал как администратор, а не как служитель католической церкви. В Бретани на островах Оэдик и Уат один и тот же человек выполнял обязанности священника, мэра, судьи, таможенника, начальника почты, сборщика десятины, учителя, врача и акушера. Приезд в 1880-х годах двух заместителей мэра, по одному на каждый остров, ничего не изменил. Некоторыми городами и селениями управляли советы, которые были точными уменьшенными копиями государственной администрации. Городок Ла-Брес в долине на западе Вогезов до самой революции имел собственное законодательство и собственную судебную власть. Один географ писал в 1832 году: «Судьи этого города оказались очень здравомыслящими людьми, несмотря на свою грубую простонародную внешность». Когда один адвокат, на время заехавший в этот город, процитировал что-то на латыни во время своей защитительной речи, суд оштрафовал его за то, что ему «пришло в голову обращаться к нам на неизвестном языке», и велел ему в течение двух недель изучить законодательство Ла-Бреса.
Некоторые деревни-государства имели площадь во много квадратных миль. Клан Пинью жил в нескольких деревнях возле Тьера на севере Оверни. У этого клана даже был собственный маленький город, очевидно со всеми удобствами современной цивилизации. Главу клана выбирали все мужчины старше 20 лет. Его именовали «мэтр Пинью». А всех остальных называли по именам. Если мэтр Пинью оказывался неумелым, его заменяли. У этого клана не было частной собственности, а всех детей растила одна из женщин, которую называли Молочница, потому что она также управляла молочной фермой общины. Девочки никогда не работали в поле, их обучали в женском монастыре за общий счет. Те члены клана, которые вступали в брак с человеком не из клана, изгонялись из общины навсегда, хотя все они через какое-то время просили принять их обратно.
Во время революции так много маленьких городов и селений объявили себя независимыми именно потому, что они уже были частично независимы. У этих людей не было цели развивать местную экономику и стать частью более крупного общества. Как правило, перемены любого рода становились для них бедствием или грозили им голодной смертью. Мечтой большинства таких общин было разорвать связи с остальным миром, изолировать свой город или деревню. Это одна из причин, почему одна и та же единица измерения в разных деревнях имела разные размеры: стандартизация облегчила бы чужакам конкуренцию с местными производителями[5]. Они хотели облагородить и очистить свою группу. Во Франции так же часто хвалились, что никто из племени никогда не вступал в брак с иноплеменником, как хвалятся этим в большинстве племенных обществ. Местные легенды часто упоминают об особом разрешении на браки между близкими родственниками, которое было получено от папы (или, что более вероятно, от местного епископа). Благоразумное управление ресурсами деревни могло избавить ее жителей от необходимости покидать их крошечную родину.
Иногда детям – и сыновьям и дочерям – платили за то, чтобы они оставались дома. Племя шизеро, которое жило на берегах Соны в Бургундии, имело общую казну, из которой бедным девушкам давали приданое, чтобы им не пришлось искать себе мужей в других местах.
Самоуправление не было пустой мечтой, оно было неизбежной и повседневной действительностью. Люди, которые редко видели судью или полицейского, имели серьезные причины для того, чтобы создать собственную систему правосудия. А губернаторы провинций, у которых и без того было достаточно трудностей, имели столь же серьезные причины смотреть на это сквозь пальцы. В большинстве случаев местное правосудие было эффективной смесью психологической манипуляции и силы. В пиренейских деревнях от Атлантики до Средиземного моря поданная жалоба рассматривалась судом в течение трех заседаний, во время первого из которых истец и ответчик должны были молчать. Редко бывало, чтобы дело доходило до третьего заседания. В городе Мандёр, возле швейцарской границы, если случалась кража, созывали собрание на главной площади. Два мэра, которые управляли городом, брали в руки палку, каждый за один из концов, и все жители, которых было несколько сотен, должны были пройти под ней, чтобы доказать свою невиновность. Ни разу ни один вор не осмелился пройти под этой палкой. «Если бы он так поступил, а потом его бы уличили… от него бы шарахались, как от дикого зверя, и его семья была бы опозорена».
Существованием этих местных систем правосудия объясняются странные на первый взгляд результаты, которые показали в XIX веке некоторые статистические отчеты по поводу преступности. Согласно этим отчетам, почти все население Франции было тогда законопослушным, а в некоторых департаментах преступность, похоже, совсем исчезла. Иногда случались «пустые сессии», когда суды собирались на заседания, но не рассматривалось ни одного дела. В 1865 году в департаменте Аверон, где произошла битва при деревне Роксезьер, было вынесено восемь обвинительных приговоров за преступления против личности и тринадцать за преступления против собственности. В департаменте Шер (население 336 613 человек) соответствующие цифры были три и ноль. Цифры за 1865 год показывают, что во Франции, без учета Парижа, один преступник приходился на 18 тысяч человек.
Даже не будучи циником, можно предположить, что большинство описаний деревень-республик не вполне соответствовало действительности. Воры, убийцы и насильники, конечно, существовали. Франсуа Марлен проехал на своем пути через столько заваленных навозом и покинутых священником деревень, что Саланси, разумеется, произвела на него большое впечатление – иначе и быть не могло. Но чистота и отсутствие преступников в этой деревне были лицевой стороной несомненно деспотического управления. Жители Саланси, которые сами провозгласили себя добродетельными, должно быть, искалечили своей добродетелью жизнь многих людей: «иностранцев», гомосексуалистов, «ведьм», а также незамужних матерей, которые, возможно, пострадали больше, чем остальные разряды «нежеланных» людей. В Париже рождалось примерно в десять раз больше незаконных детей, чем где-либо еще во Франции, но не потому, что парижане были более развратны, а потому, что девушки, «согрешившие против целомудрия», часто бывали вынуждены покинуть свой родной край.
Деревенское правосудие не всегда бывало добрым или справедливым. За небольшие отклонения от нормы – если мужчина женился на женщине моложе себя или женщина выходила за мужчину моложе, чем она; если кто-то вступал в брак во второй раз, если муж бил свою жену или позволял, чтобы жена била его, – наказанием в большинстве случаев была «шаривари» – шумная унизительная песня или процессия, которая иногда сопровождалась кровопролитием. По сообщению одного антрополога, в Бретани прелюбодеев «в знак оскорбления забрасывали овощами». Жертву возили в телеге по всем соседним деревням, чтобы виновный стал предметом насмешек во всем известном мире. Плохие дороги мешали вывозить из регионов местную продукцию, но они же не давали страху и зависти выплеснуться в большой мир.
Для образованного меньшинства, по сути дела, не было разницы между деревенским правосудием и властью черни. Когда в 1835 году в Бомон-ан-Камбрези, в промышленном департаменте Нор, сожгли «ведьму» при тайном согласии местных властей, могло показаться, что Средние века еще не закончились. Но для людей, которые прожили всю жизнь в маленьком городке или в деревне, правосудие императорской Франции могло казаться таким же возмутительным и нелепым, как для жителей центральноафриканских колоний Франции.
3. Племена Франции – 2
Чувство принадлежности к народам этих маленьких «земель»-«пеи» было сильнее, чем любое существовавшее позже чувство принадлежности к французскому народу. У крестьян (а по-французски крестьянин называется paysan – «пейзан», от слова «пеи») не было ни флагов, ни письменной истории. Но они проявляли свой местный патриотизм почти так же, как проявляется патриотизм национальный, то есть порочили соседей и восхваляли свое благородство.
Большой набор вульгарных прозвищ, данных деревням, – самое лучшее сохранившееся доказательство существования этой гордости своей «маленькой нацией». Несколько лестных прозвищ были признаны официально, например Коломбе-ле-Белль. Сейчас говорят, что слово «Белль» – «красавицы» относится к местным женщинам, хотя, возможно, первоначально речь шла о коровах. Но будь приняты все прозвища, карта Франции сейчас пестрела бы непристойностями и непонятными шутками. На одном маленьком участке территории Лотарингии жили «волки» из Люкура, небесным покровителем которых был святой Лу, чье имя похоже на слово «волк»; «зеленые куртки» из Ремеревиля, где портной однажды сшил партию курток из зеленого сукна, которые никак не изнашивались; и «большие карманы» из Сен-Ремимона: у местного портного куртки получались намного длиннее, чем у всех других мастеров. Были также «зады в дерьме» (culs crottés) из Монселя-на-Сене, где была необычно липкая грязь, «зазнайки» (дословно haut-la-queue – «задери-хвост») из Ара-на-Мёрте, жившие возле большого города Нанси, и «сони» из Бюиссонкура-ан-Франс, которые выкопали вокруг своей деревни огромный ров, перекинули через него подъемный мост и жили в счастливом уединении.
В некоторых случаях прозвище связано со знаменательным событием в истории получившей его деревни. Жителей деревни Людр прозвали «rôtisseurs» – «торговцы жареным мясом» за то, что когда-то все ее население пришло смотреть, как их священника сжигают на костре за прелюбодеяние. А жителей деревни Виньоль прозвали «poussais» – «гони-врага» за то, что они однажды взяли вилы и обратили в бегство своих соседей из Барбонвиля, которые хотели украсть у них чудотворную статую Богоматери. Большинство прозвищ специально рассчитаны на то, чтобы обидеть. Жители Розьер-о-Салин были названы «уа-уа» из-за дефекта речи, связанного с деформацией щитовидной железы, вызванной местными природными условиями. Этот недостаток казался смешным. Некоторые прозвища дожили до XX века. Самые оскорбительные, вероятно, никогда не были записаны – разве что на стенах, когда образование добралось до деревень. На павильоне автобусной остановки в Лаутенбахе, у подножия горы Гран-Баллон в Эльзасе, в 2004 году было написано: «Лаутенбахцы – дерьмоеды».
В мире, где мусор лежал близко от дома и невозможно было даже представить себе нынешние подземные пути человеческих отбросов, тема любви людей к собственным экскрементам была очень популярна. Жители Сен-Никола-де-Пор были известны как «горлопаны». Их соседи из Варанжевиля, который находится напротив на другом берегу реки Мёрты, любили собираться на берегу и дразнить их, крича хором на местном лотарингском диалекте:
- Booyaî d’Senn’Colais,
- Tend tet ghieule quand je…[6]
Внешняя политика деревень велась на языке оскорблений, а внутренняя пропаганда превозносила незапятнанную честь деревенского племени. Многие сообщества заявляли, что имеют престижную родословную. Могущественный клан Пинью из Тьера возводил свой род к одному предку, который в 1100 году установил все правила, по которым продолжает жить клан (подлинная дата, вероятно, 1730). В Мандёре, который может похвалиться римским амфитеатром, большинство жителей верили, что происходят от римского полководца. У этих людей были доказательства – надписи, вырезанные на дверных косяках, и мозаики. Чужаков, которые пытались поселиться на их территории, они считали варварами и изгоняли. О своем древнем и благородном происхождении также заявляла часть населения Иссудена, которая внешне явно отличалась от остальных его жителей. Бальзак в романе «Два брата» (1841) объяснил это так:
«Этот пригород называется Римское Предместье. Его жители, которые действительно отличаются от прочих расовыми признаками, кровью и внешним видом, называют себя потомками римлян. Почти все они виноградари и отличаются очень строгой нравственностью, несомненно из-за своего происхождения, а также из-за победы над коттеро и рутьерами[7], которых они истребили на равнине Шаро в XII веке».
Некоторые из этих претензий на происхождение от другого народа были основаны на исторической правде. Форатены – группа населения в провинции Берри – были потомками наемников-шотландцев, которым Карл VII в XV веке выделил для поселения лесной край между Муленом и Буржем. (Некоторые люди, побывавшие там в XIX веке, уверяли, что заметили у местных жителей легкий акцент.) Там и теперь еще существуют маленькая деревня, замок и расчищенная от леса поляна, которые называются Лез-Экоссе, что значит «Шотландцы». В городе Обиньи-сюр-Нер ежегодно в день взятия Бастилии происходит франко-шотландский фестиваль. В Жиронде, к востоку от Бордо, была отдельная группа населения – гаваши, иначе маротены; в конце 1880-х годов их насчитывалось около 8 тысяч. Их предков в XVI веке привезли из Пуату и Анжу, чтобы заселить заново область, опустошенную эпидемией, и потомки сохранили свои особые черты до XX века.
Но большинство таких претензий, особенно на происхождение от римлян, были чистейшими фантазиями. Кровь римлян не могла оставаться чистой в течение пятидесяти поколений. «Римляне» в обыденном сознании были аристократами, теми правителями, которые, конечно, были гораздо лучше, чем местный сеньор. Некоторыми из мостов, построенных в те времена, люди пользовались до нашего времени, постройки римлян часто были самыми внушительными в городе. На юге Франции многие деревни, подражая римлянам, называли своих должностных лиц консулами. Отчасти именно благодаря этому генеалогическому тщеславию остатки римских зданий в Оранже, Ниме и Арле уцелели в те годы, когда памятники прошлого считались источником материала для нового строительства.
История в обычном смысле этого слова имела к этому слабое отношение. В департаменте Тарн «римлян» часто путали с «англичанами», а в некоторых частях Оверни люди говорили о «добром Цезаре», не зная, что этот «добрый старый Цезарь» пытал и резал их галльских предков. Другие группы населения – жители Санса, обитатели болот в провинции Пуату и семействосавойских монархов – пошли еще дальше: они возвели свою родословную к галльским племенам, которые так и не сдались римлянам.
Маловероятно, что такие устные предания были очень древними. Местные рассказы редко уходят в прошлое дальше чем на два или три поколения. Городские и деревенские легенды грубы, как изделия домашней работы, и совершенно не похожи на те яркие и насыщенные убедительными деталями рассказы о прошлом, которые ученые позже преподнесли провинциалам Франции и объявили наследием предков. Большинство сведений, которые современные туристические бюро сообщают своим клиентам о той или иной местности, в XVIII веке были неизвестны ее жителям. Один фольклорист провел четыре года в Бретани и, вернувшись в Париж в 1881 году, сообщил – несомненно, разочаровав этим романтичных поклонников туманного полуострова Арморика, – что ни один бретонский крестьянин никогда не слышал о бардах и друидах.
Эти местные легенды начали исчезать именно в то время, когда, вероятнее всего, их бы записали. В те местности, куда могли попасть туристы и этнологи, добирались также образование и газеты, они создавали одинаковое ощущение прошлого у большинства людей. Старые местные рассказы теперь звучали смешно и провинциально. Вот почему голос племенной истории сейчас слышен только в сравнительно далеких от крупных центров местностях, где люди по традиции враждебно относятся к правительству и дружелюбно – к иноземцам.
Длинная полоса Атлантического побережья Франции, которая проходит через бывшие провинции Онис, Сентонж и Пуату, до сих пор представляет собой полные комаров и мошек пустынные, лишь частично осушенные болота. Двести лет назад эту местность называли болота Пуату, и остальной мир считал ее краем мрачных заводей, населенным преступниками, неудачниками и дезертирами, бежавшими из армий Наполеона. Они бежали в западном направлении, скрылись в камышах и не вернулись в цивилизованный мир. Поэтому те немногие приезжие, кто, не боясь болотных лихорадок, заглядывал в этот край, очень удивлялись, увидев там признаки живого и хорошо организованного общества. У ровного горизонта виднелись мирно плывущие стада скота. Семьи направлялись в церковь на плоскодонных лодках, таких легких, что их можно было нести под мышкой. Приезжие видели детей в кроватях на длинных ножках, которые во время прилива окружала вода. Эти дети учились управлять лодкой едва ли не раньше, чем говорить. А самым удивительным было то, что эти люди, которые называли себя «коллиберы», кажется, были счастливы в своих водяных домах и отказались переезжать, когда строители каналов предлагали им дома «на равнине».
У коллиберов было еще одно, презрительное название – «ютье» (huttiers), то есть «лачужники», оттого что они жили в лачугах, вернее, землянках, которые казались наполовину погруженными в воду островками среди трясины. Мускусный запах высушенного на солнце навоза просачивался через тростниковую крышу. Столы и стулья были сделаны из связок тростниковых стеблей и камыша. Сеть каналов связывала эти болота с сушей и с открытым морем. Многие коллиберы зарабатывали себе на жизнь, продавая рыбу в Сабль-д’Оллоне. Этих людей было больше, чем кто-либо предполагал. В начале XX века болотный флот Пуату все еще насчитывал почти 10 тысяч лодок.
К сожалению, сохранилось мало подробных описаний повседневной жизни коллиберов, но мы все же знаем, что у них была своя история и традиции. Образованный коллибер по имени Пьер в 1820-х годах рассказал одному приезжему историю своего племени. Пьер или тот, кто его расспрашивал, могли добавить в нее несколько романтических оссиановских штрихов, но основные элементы настолько типичны, что убеждают нас в ее подлинности:
«Я родился коллибером. Так называют класс людей, которые рождаются, живут и умирают в своих лодках.
Мы – отдельная раса и ведем свое происхождение от первых дней существования мира. Когда Юлий Цезарь появился на берегах рек Див и Севр, наши предки, агезинаты-камболектры, которые были союзниками племени пиктавов, жили на тех землях, которые позже стали частью Нижнего Пуату и теперь известны всем под названием Вандея.
Римский завоеватель не осмелился вступить в наши леса, решил, что мы побеждены, и прошел мимо своим путем.
Согласно коллиберскому фольклору, готы и скифы, сражавшиеся в римских войсках, женились на самых цивилизованных из агезинатских женщин, и эти женщины начали возделывать эти земли.
Чтобы избавиться от прежних жителей, которые продолжали вести кочевую жизнь и бродили среди них, эти люди прогнали их из бокажа[8] обратно в болота вдоль океана, зажав их между сушей и бурным морем…
Нас назвали коллиберами, что значит «свободные головы». Отняв у нас наши леса, завоеватели оставили нам нашу свободу… И все же, бродя по берегам и болотам, наши отцы постоянно видели перед глазами страну, которую они потеряли. Это печальное зрелище наполняло печальных коллиберов неугасимой ненавистью к человеческому роду…
Таков народ, среди которого я родился. Наши обычаи не изменились с первых дней нашего изгнания. Какими они были в IV веке, такими остались и теперь, а браки между близкими родственниками позволили нам сохранить почти полную чистоту крови среди несчастных остатков древнего народа агезинатов-камболектров».
Потеря родной земли и изгнание, резкое отличие от мира, который лежит за пределами родины, гордость старинными обычаями, древностью и чистотой крови своего народа – все это типично для племенного фольклора. Происхождение племени всегда относили к начальным временам, а иногда относят и сейчас[9]. Эти легенды обычно сложены из старых рассказов и обрывков исторических сведений, найденных в альманахах или услышанных от путешественников. Рассказ об агезинатах взят у Плиния Старшего, а не из коллективной памяти. На самом деле коллиберы, вероятно, были освобожденными крепостными, которые возделывали землю на первых осушенных болотах Пуату в XIII веке.




















