Читать онлайн Всё летит к чертям. Автобиография. Part 2 бесплатно
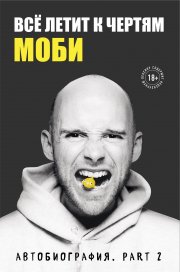
Предисловие
В 2016 году вышли в свет мои первые мемуары «Porcelain», описывающие странную жизнь их автора в Нью-Йорке с 1989 по 1999 год. Когда я завершил работу, вместо того, чтобы вернуться к прежним делам, продолжил писать. Создаваемый текст был логическим продолжением первой книги. Повествование начиналось с того места, где оно в ней закончилось. Но одновременно я накидывал и традиционную автобиографию. Это была история моей жизни со дня рождения и примерно до того момента, с описания которого стартовали «Porcelain».
В начале 2017 года в Нью-Йорке мне пришла в голову мысль объединить в одну книгу все, что написано после первых мемуаров. Именно это я и попытался сделать в «А потом все рассыпалось». Смею надеяться, что мое неблагополучное детство поможет читателю понять нарастающий из года в год ужас моей взрослой жизни. На прыжки во времени, которые я позволил себе делать в изложении хода событий, меня вдохновила «Бойня номер пять»[1]. Получилось вроде неплохо, только вот жаль, что я лишен гениальности Курта Воннегута.
Как и в «Porcelain», я изменил в этой книге некоторые имена и подробности, но все, описанное в ней, произошло на самом деле.
С благодарностью,
Моби
Пролог
Нью-Йорк, 2008
Я хотел умереть. Но как?
Во мне было пятнадцать порций алкоголя, доза наркотика на 200 долларов и горсть обезболивающего. Я ввалился домой в четыре утра, одинокий и подавленный, и шарахался из комнаты в комнату, всхлипывая и повторяя: «Мне просто хочется сдохнуть!»
Через час удалось сосредоточиться и прикинуть варианты.
Я все еще оставался белым американским протестантом из Коннектикута, который обязан думать о других, даже собираясь умереть. Поэтому, прежде чем убить себя, мне следовало не забыть отпереть входную дверь и прикрепить к дверной ручке записку о собственном самоубийстве. Чтобы те, кто захочет войти в мою квартиру, смогли прочесть ее и узнать, чего ожидать. Тогда они были бы не слишком шокированы, обнаружив мой труп.
В последние несколько лет депрессия у меня усилилась, и подобные ночи становились нормой.
Я был одиноким алкоголиком и отчаянно хотел любить кого-то. И чтобы меня любили в ответ. Но каждая попытка сближения с другим человеческим существом приводила к паническим атакам, которые оставляли меня одиноким и изолированным.
Несколько лет я успешно сочинял музыку и продал десятки миллионов записей. Но сейчас моя карьера трещала по швам.
Я не мог обрести ни любви, ни славы и поэтому пытался купить счастье. Тремя годами раньше моим достоянием стала роскошная квартира в пентхаусе в Верхнем Вест-Сайде Манхэттена – за шесть миллионов долларов наличными. Это был дом моей мечты: апартаменты на пяти этажах в верхней части знаменитого высотного здания с видом на Центральный парк. В детстве я жил на продуктовые талоны и социальное пособие. Поэтому мне казалось, что переезд в замок на небесах принесет долгожданное счастье. Но стоило мне перебраться в пентхаус в Верхнем Вест-Сайде, и меня охватили те же печаль и тревога, как и в маленьком лофте на Мотт-стрит[2].
Я продал «небесный замок», вернулся в даунтаун и снова окунулся в разгул. Заклеил окна фольгой и по выходным устраивал оргии, на которых правили бал спиртное и наркотики. Но чем глубже было мое падение, тем сильнее становились ненависть к себе и чувство одиночества.
Мне оказался недоступен мир славы и успеха. Но именно в нем моя жизнь имела значение и смысл. И единственной передышкой от тревоги и депрессии были ежевечерние час или два, когда я, набравшись водки и наркотика, искал человека, который был бы достаточно одинок и полон отчаяния, чтобы пойти со мной.
Незадолго до того я решил купить бар и превратить его подвал в светонепроницаемую квартиру. Мне казалось, что счастье придет, если жить по ночам. Я собирался спать в подвале бара, просыпаться в шесть вечера, ужинать, а затем ближе к ночи начинать пить и принимать наркотик. Я гулял бы до восьми утра, потом принимал бы горсть сновторного и обезболивающего, и спал бы до назначенных 18.00. Так, подобно тревожному, сломленному носферату[3], я мог бы провести остаток своих дней или лет, пока мне не пришел бы милосердный конец.
Десятилетиями я находил счастье в алкоголе и наркотиках. Но спиртного и наркотика требовалось все больше и больше, а похмелье могло мучить меня по несколько дней. Я стал испытывать его почти непрерывно и в таком состоянии не мог связно говорить или даже вспомнить самые простые слова.
У меня возникали смутные мысли о том, чтобы протрезветь, но они пропадали через пару дней воздержания. Я ходил на несколько встреч «Анонимных алкоголиков». Мне нравилось смотреть на покрытых татуировками красивых женщин-алкоголичек, но в конце концов это удовольствие перестало меня тешить: я пришел к выводу, что такая вот сознательная трезвость не для меня. И снова начал пить. Продолжал покупать наркотик, продолжал глушить похмелье горстями таблеток. И продолжал желать смерти и ждать ее.
Каждый день повторялся один и тот же сценарий: выбравшись из постели ближе к концу дня, я плелся в ванную, вставал под душ и снова и снова повторял одно слово – «черт».
Например: «Черт, опять похмелье». Или: «Черт, меня тошнит». Или: «Черт, я такой идиот». Или: «Черт, я ненавижу себя».
У меня возникали смутные мысли о том, чтобы протрезветь, но они пропадали через пару дней воздержания.
Меня согревала одна надежда: может быть, завтра «черт» не прозвучит после моего пробуждения – потому что, может быть, завтра я, наконец, буду мертв.
Итак, той ночью, о которой идет речь, я снова вернулся к вопросу: как свести счеты с жизнью. Повеситься или вскрыть вены – это казалось мне слишком жестоким. Также мне было известно, что таблетки не всегда срабатывают: иногда человек просто выблевывает их и остается жив, но получает серьезные повреждения печени и мозга.
Я пошел на кухню, встал на колени и нашел под раковиной коробку с черными мусорными мешками. Взял в руки один из них и огляделся. Когда я покупал эту квартиру в 1995 году, она была пустым складским помещением в здании XIX века. Но спустя год работы с местным архитектором я обрел первый настоящий дом. Он был красивым, с мансардными окнами и высокими потолками, с белыми кирпичными стенами и шкафчиками из кленового дерева в кухне.
Здесь я записал большую часть альбомов, от проданного десятимиллионным тиражом Play до последней записи, «Last Night», которая разошлась тиражом всего лишь сто тысяч экземпляров.
Здесь я влюблялся и терял любовь. Здесь я ужинал с матерью и бабушкой – теперь они обе мертвы. Я показывал эту свою студию Лу Риду[4]. Я сидел в гостиной на модерновом датском диване из тикового дерева с темно-зеленой обивкой стоимостью 8000 долларов и играл на акустической гитаре «Heroes»[5] вместе с Дэвидом Боуи[6].
В детстве я думал, что если смогу выпустить хотя бы одну запись и выступить перед сотней людей, то буду счастлив. Сейчас длинная высокая стена от входной двери до кухни была покрыта десятками моих золотых и платиновых пластинок, а я был несчастен. Спустя целую жизнь, полную непонятной печали, мне приходилось признавать свое поражение.
Я построил этот дом. Здесь я и умру.
Я взял черный мешок и лег, откинув голову на подушку. Прошептал: «Господи, прости меня!» – и закрыл глаза.
Часть первая
Странные места, о которых я не знал
Нью-Йорк
(1999)
Play вышел неделю назад и находился на грани провала.
Было начало мая. Я шел вверх по Четвертой авеню от моего лофта на Мотт-стрит к Юнион-сквер – мимо строений, которые полтора века назад считались самыми красивыми зданиями Нью-Йорка. Слева от меня стояла колоннада. В XIX веке это был ряд домов, стилизованных под греческий акрополь, а сейчас от них осталось только несколько колонн из известняка, за полтора столетия покрывшихся черно-серыми пятнами от фабричного смога и выхлопных газов.
Я был одет в свою обычную униформу: старые джинсы и черные кроссовки. Мои руки прятались в карманах армейской куртки из комиссионного магазина. Свет послеполуденного солнца растекался по длинным городским кварталам, лаская стены старых каменных зданий.
Я работал над Play предыдущие два года, и казалось, что это будет мой последний альбом – ущербная и плохо сведенная лебединая песня. Сам его выпуск уже был чудом. Год назад я потерял контракт со знаменитым лейблом – крупной звукозаписывающей компанией «Elektra». Еще до выпуска Play большая часть людей из музыкального бизнеса потихоньку решила, что я вышел в тираж. И отправила меня на свалку.
Потере контракта я не удивился и не расстроился из-за этого. Дело в том, что мой предыдущий альбом, Animal Rights, провалился почти во всем, в чем только можно было провалиться. Он плохо продавался, он получил ужасные отзывы. «Elektra» служила домом Metallica и другим суперпопулярным музыкальным группам, продававшим миллионы пластинок. Если смотреть объективно, решение избавиться от меня было оправданно, поскольку все указывало на то, что мои лучшие годы уже позади. В начале 1990-х я казался техно-вундеркиндом, но десятилетие спустя так и не оправдал ожиданий, которые позволили мне сотрудничать с флагманом американской звукозаписи.
Моя мать умерла, я почти постоянно боролся с паническими атаками, пил по 10–15 стаканов спиртного за вечер, и у меня кончались деньги. Но сегодня я был счастлив, потому что мне позволили выпустить еще один, последний, альбом.
У меня все еще был контракт с «Mute Records» в Англии, но они никогда не отказывали в своих услугах мало-мальски известным артистам. Поэтому мне казалось, что решение нью-йоркского лейбла «V2» выпустить Play было продиктовано либо милосердием, либо заблуждением.
Я прошел мимо бывшего здания отеля «Ritz» на 11-й улице. Здесь в 1982 году, когда мне было 15 лет, состоялось первое выступление Depeche Mode в Соединенных Штатах. Увидев музыкантов с синтезаторами и стрижками «новой волны», я обрел мечту: когда-нибудь сыграть собственный сольный концерт в «Ritz» перед несколькими тысячами человек. И вот мне 33 года, дни моей славы остались позади, а сегодня вечером мне предстояло выступать в подвале магазина грампластинок для полусотни человек. Я пригнул голову, защищаясь от холодного ветра, и побрел дальше – вверх по Четвертой авеню.
Я работал над Play последние два года, сочиняя и записывая музыку на старом оборудовании в маленькой домашней студии в квартире на Мотт-стрит. Сейчас, когда альбом вышел, стало понятно, что в нем нет ничего, что могло бы обеспечить ему успех. Он был плохо сведен, и, помимо моего собственного слабенького голоса, в нем звучали записанные 40–50 лет назад голоса давно умерших певцов, например Бесси Джонс[7] и Билла Лэндфорда[8]. Мне казалось, что Play скоро забудут, ведь 1999 год принадлежал Бритни Спирс, Eminem и Limp Bizkit – популярным исполнителям, которые записывали альбомы в дорогих студиях и умели создавать песни, хорошо звучащие на радио.
В последние несколько лет со мной не происходило ничего особо хорошего. Моя мать умерла, я почти постоянно боролся с паническими атаками, пил по 10–15 стаканов спиртного за вечер, и у меня кончались деньги. Но сегодня я был счастлив, потому что мне позволили выпустить еще один, последний, альбом.
После сегодняшнего концерта в подвале магазина «Virgin» на Юнион-сквер у меня и моей группы был запланирован двухнедельный тур по небольшим площадкам в Северной Америке, а затем – две недели выступлений на небольших площадках в Европе. Идея играть маленькие концерты, а по утрам просыпаться на парковках, страдая от похмелья, не нравилась никому. Но я был рад провести месяц на гастролях в последний раз… После этого моя карьера профессионального музыканта закончится, думал я, и потом мне удастся разобраться, чем еще можно занять остаток жизни.
Для этого короткого тура я собрал небольшую группу[9]: Скотт, темноволосый красивый барабанщик, с которым я работал с 1995 года; Грета, высокая, покрытая татуировками бас-гитаристка с торчащими во все стороны выбеленными волосами; на клавишных и вертушках – Спинбад, диджей-комедиант с бритой головой и ухоженной бородкой. Я собирался спеть несколько песен. При этом большая часть сэмплов[10] с женским вокалом шла в записи, потому что у меня не хватало денег, чтобы нанять настоящую певицу.
Я свернул на Четырнадцатую улицу и вошел в магазин пластинок, держа в руке запотевшую бутылку воды «Poland Spring», купленную с лотка у продавца кренделей. Спустился на эскалаторе в подвал: там мои музыканты и техники готовили оборудование к концерту. У меня все еще работали три менеджера; одна из них, Марси, стояла возле сцены и ругалась с управляющим магазином. У Марси были буйные рыжие кудри, и сама она была невысокой, яростной и верной. Управляющий порывался от нее сбежать.
– О, Мо! Как ты?
– Похмелье, – ответил я. – Когда начинаем?
– Должны в семнадцать тридцать, но я полагаю, что можно передвинуть начало на шесть, – сказала она, агрессивно улыбаясь управляющему. Он должен был соглашаться с любыми ее планами.
– Хорошо, – со скукой на лице сказал он. Перед настойчивостью Марси в конце концов сдавались все. – Но вам нужно закончить в восемнадцать тридцать.
– Пойдет, Моби? – спросила Марси.
– Да, наверное. – Я пожал плечами и пошел к группе и техникам.
– Привет, Мо! – сказал Дэн, постановщик света. – Как ты?
– Похмелье.
Дэн был британцем и имел высокую зеленую прическу «ирокез». Вообще-то для этого выступления под флуоресцентными лампами в подвале магазина постановщик света нам был не нужен. Но Дэн все-таки пришел – потаскать оборудование и оказать моим ребятам посильную помощь. Сейчас он крутился в компании Стива, пугающе высокого и привлекательного техника по звуку, и Джея Пи, неизменно дружелюбного звукорежиссера из Манчестера, он когда-то работал с Happy Mondays.
Подошел мой новый тур-менеджер, Sandy, и спросил:
– Все в порядке, Моби?
Ростом чуть выше меня, он был красив – я завидовал его густым светлым волосам. Раньше он работал с успешными британскими рок-группами, и я удивлялся его желанию сопровождать меня в маленьких непримечательных гастролях.
Взял номер американского еженедельника «Melody Maker» и начал искать в нем рецензию на Play. Она там была. Альбом получил две звезды из десяти, и по большей части рецензия состояла из несправедливых оскорблений.
– Все хорошо, Sandy, а ты как? – вежливо спросил я. Ему, рок-н-ролльному тур-менеджеру от Бога, гастрольные автобусы были как дом родной. Он был профессионалом своего дела, и я относился к нему с большим уважением.
Помимо моих ребят в подвале было совсем немного людей – несколько покупателей. Кто-то из них бродил вдоль магазинных полок, кто-то смотрел, как мы разбираем оборудование. Я вышел на маленькую сцену, взял в руки гитару и начал играть «Лестницу в небо» Led Zeppelin. Управляющий магазина возмущенно зашипел:
– До начала концерта вам нужно соблюдать тишину!
– И то верно, – смущенно сказал я и отключил гитару. Оглядел зал и подумал: «К концу моего тура с Animal Rights на концерты приходило всего около 25 человек. Если сегодня придут полсотни, будет рост посещаемости на 100 процентов».
Отложив гитару, я начал бродить по магазину, разглядывая стеллажи с дисками и кассетами, музыкальными журналами и книгами. Взял номер американского еженедельника «Melody Maker» и начал искать в нем рецензию на Play. Она там была. Альбом получил две звезды из десяти, и по большей части рецензия состояла из несправедливых оскорблений. У меня упало сердце.
Ко мне подошла Марси.
– Что читаешь, Мо?
– Рецензию в «Melody Maker».
– И как она?
Я пожал плечами и отдал ей журнал. Марси прочитала текст и потрясла головой.
– Ну, зато рецензия в «Spin» была золотой! – сказала она с неуместной сияющей улыбкой.
Я собрал всю группу, снова поднялся на сцену и взял в руки гитару. Постучал по микрофону и оглядел помещение. Когда-то мне мечталось, чтобы на мое первое выступление пришло 50 человек. Сейчас в ярко освещенном подвале магазина я видел, что на нас смотрит всего около 30 человек.
Но, когда песня закончилась, несколько человек вяло похлопали, а остальные удалились: вернулись к своим делам.
– Привет, – сказал я. – Я Моби, а это «Natural Blues»[11].
И мы начали первый концерт тура Play. Я надеялся, что зрители увлекутся нашим исполнением, будут смотреть, как мы играем, и, возможно, не заметят, что женский вокал идет в записи и певицы на сцене нет. Но, когда песня закончилась, несколько человек вяло похлопали, а остальные удалились: вернулись к своим делам.
Мы сыграли «Porcelain»[12] и «South Side», «Why Does My Heart Feel So Bad?» и «Go»[13], «Bodyrock»[14], а закончили на «Feeling So Real»[15]. «Go» и «Feeling So Real» стали хитами в Европе, не раз я стоял на сцене на рэйвах[16] и играл их перед десятками тысяч людей. Но сейчас я исполнял эти песни в подвале для трех десятков человек, которые нехотя аплодировали, а в это время компания молодых парней шумно искала на магазинных полках диски Hootie & the Blowfish.
Когда выступление закончилось и слушатели разошлись, мы с группой и техниками начали отключать микрофоны, разбирать барабаны и укладывать гитары в кейсы. Я улыбался. Весь следующий месяц моя жизнь будет именно такой, как сегодня, и мне этого было вполне достаточно.
Нью-Йорк
(1965–1968)
Мой отец въехал в стену и убил себя.
Они с мамой жили в подвальной квартире в Гарлеме вместе с собакой Джейми, кошкой Шарлоттой, тремя лабораторными крысами и со мной. Однажды вечером, сильно поругавшись с мамой, папа напился и въехал в опору моста на Нью-Джерси Тернпайк на скорости сто миль в час.
Он вырос в Нью-Джерси и после школы пошел в армию стрелком. Затем уволился из армии, переехал в Нью-Йорк, отрастил усы, длинные волосы и стал битником. В 1962 году папа познакомился с мамой в Колумбийском университете. Там он получал степень магистра по химии, а она работала администратором.
Мама была невысокой светловолосой американской протестанткой из Коннектикута. Они с отцом пили вино, курили, слушали пластинки Орнетт Колман, шатались по Нью-Йорку и в конце концов влюбились друг в друга. Тогда казалось, что грядет революция – художники, интеллектуалы и радикалы заново изобретают мир.
Они поженились в Нью-Джерси, и много лет спустя мама сказала, что я был зачат в подвальной квартире в Гарлеме под песню «A Love Supreme» Джона Колтрейна.
Поначалу в их мире царила идиллия, но затем вмешались банальности: аренда жилья, покупки, животные, которых нужно было водить к ветеринару. После того как 11 сентября 1965 года на свет появился я, мелодии с джазовых пластинок заглушились плачем младенца в колыбели. За стенами нашего дома во всю ширь разворачивалась «революция», а мои родители сидели возле меня в подвальной квартире в Гарлеме, нервно курили сигареты и меняли мне подгузники.
Начались ссоры. Отец, который тогда уже много пил, стал пить еще больше. Он начал исчезать на несколько дней, и тогда мама оставалась одна в холодной квартире наедине с плачущим грудным ребенком. Однажды вечером она пригрозила папе разводом, взяла меня на руки и ушла. Той ночью он въехал в опору моста и погиб.
После похорон мама отправилась на своем «Плимуте» 1964 года в Коннектикут вместе с собакой Джейми, кошкой Шарлоттой, лабораторными крысами и со мной. Мы поселились в Данбери, в маленькой квартирке, что располагалась в старом сером викторианском здании, стоящем по соседству с тюрьмой. У нас была маленькая кухня с круглой флуоресцентной лампой, гостиная-столовая с диваном из комиссионного магазина и старым черным столом, одна спальня, в которой спала мама, и маленький чулан, в котором спал я.
Однажды вечером она пригрозила папе разводом, взяла меня на руки и ушла. Той ночью он въехал в опору моста и погиб.
В сентябре 1968 года, когда мы прожили в Данбери год, мама спросила, какой подарок я желаю получить в свой третий день рождения. Я заказал хлопья «Kaboom». Мне так сильно хотелось наесться ими, что перед этим даже меркло желание получить какую-нибудь игрушку. Я любил эти жутко сладкие хрустящие штучки, и в мой день рождения мама разрешила мне съесть аж две тарелки хлопьев. Покончив со второй тарелкой, я попросил третью, но мама мне отказала. Я умолял – она была непреклонна. И напомнила, как однажды меня рвало ими на ободранный линолеум на полу кухни. Стало понятно, что вожделенных «Kaboom» мне не видать. Я убежал в свой чулан и там, свернувшись клубком на раскладушке с металлической рамой, ревел в бледно-зеленое одеяло.
Чуть раньше в этот день мама подарила мне пластмассовый казу[17]. Я успокоился, и теперь, после пиршества с «Kaboom», мне казалось, что это лучшая вещь на свете. Весь день я носил его с собой, даже взял в ванну – проверить, будет ли он звучать под водой. Не звучал, как выяснилось. И я решил узнать, что получится, если в него закричать. Я громко закричал, казу издал жужжащий звук, и мама открыла дверь – посмотреть, что происходит. Поняла, в чем дело, и рассмеялась. Я все еще был немного расстроен из-за того, что не получил третью тарелку хлопьев, но тоже начал смеяться.
Потом я забрался в постель, чтобы поиграть в любимую игру «Ком в кровати». Я ползал под несколькими одеялами, а мама говорила: «В кровати какой-то странный ком!» Затем она пыталась меня (то есть «ком») легонько придавить. Она спрашивала: «Странный ком тут?», и я из-под кучи одеял говорил в казу: «Я не ком, а казу!»
Мы весело поиграли, и я высунул голову из-под одеяла. У мамы выступили слезы от смеха, и она сняла очки, чтобы вытереть глаза. «Почему ты плачешь?» – спросил я в казу.
Моя мама была красивой. Ее удивительные светлые волосы, отрастая, причудливо завивались. Ей нравились битники[18]. Она хотела остаться в Нью-Йорке, стать художницей и общаться с богемой в Гринвич-Виллидж. Но со мной она стала матерью-одиночкой, училась в местном колледже и жила по соседству с тюрьмой.
Я спросил в казу: «Почему ты плачешь?»
* * *
Несколько месяцев спустя мама окончила колледж и получила степень по английской литературе. Она не желала жить в Коннектикуте. Тогда битники массово переезжали в Сан-Франциско и становились хиппи. Она стремилась туда. Восточное побережье для нее было землей мертвого мужа, консервативных родителей и домов, что стояли рядом с тюрьмой. Калифорния же представлялась страной Джима Моррисона[19] и Jefferson Airplane. Она мечтала быть вместе с толпами молодых людей, которые перебирались на запад, чтобы обрести новую счастливую жизнь рядом с бескрайним Тихим океаном.
В честь окончания колледжа родители подарили ей два билета до Сан-Франциско: один для нее, другой для меня. Когда мы стояли у выхода к самолету в аэропорту Джона Кеннеди, сотрудница «United Airlines» спросила меня, летал ли я на самолете раньше.
Она мечтала быть вместе с толпами молодых людей, которые перебирались на запад, чтобы обрести новую счастливую жизнь рядом с бескрайним Тихим океаном.
– Нет, – с грустью ответил я.
– Вот, это для тех, кто летит первый раз! – улыбаясь, сказала она и вручила мне большой желтый значок с изображением мультяшного аэробуса. Мы взошли на борт, и я сел на оранжево-коричневое сиденье, сжимая в руке нежданный подарок. Собственных вещей у меня было не так уж много: казу, несколько мягких игрушек, несколько книг про слоненка Бабара. Но теперь я стал владельцем большого желтого значка, и он являлся неопровержимым доказательством того, что я летал на самолете!
После взлета бесплатно давали имбирный эль, и я его пил без меры. Когда же в третий раз за 90 минут сказал маме, что хочу писать, она рассердилась.
– Писай на сиденье, если так невтерпеж! – отрезала она.
Я понял, что у меня две мамы. Одна была веселая и спокойная, она смеялась, когда я кричал в казу. Другая мама была зла на весь мир и на меня. Я никогда не летал на самолете и не знал, что и как полагается делать. Поэтому написал на сиденье и тут же начал плакать.
– Что опять?! – мама повернулась ко мне. – Почему ты ревешь?!
– Я написал на сиденье, и оно мокрое…
Она вздохнула и схватила меня в охапку. В туалете, во время процедуры мытья и смены одежды, она кричала:
– Я тебя не просила ссать на сиденье!
– Но ты так сказала…
– Это была ирония! – резко сказала она, забыв, что мне всего три года и я попросту не знаю, что такое ирония.
Я понял, что у меня две мамы. Одна была веселая и спокойная, она смеялась, когда я кричал в казу. Другая мама была зла на весь мир и на меня.
Вернувшись к нашим местам, она посадила меня на сложенное вчетверо одеяло. Спросила:
– Так хорошо?
Я боялся, что расплачусь, если заговорю, и поэтому молча кивнул.
Подошла стюардесса и ласково предложила мне пойти осмотреть верхнюю палубу. Я так удивился, что тут же забыл о мокром сиденье:
– А разве тут можно подняться наверх?!
Она взяла меня за руку, и мы пошли к металлической винтовой лестнице, ведущей на верхнюю палубу. Там несколько бизнесменов стояли у бара, курили сигареты и пили какой-то коричневый алкоголь.
– Этот парень никогда не летал на самолете! – с улыбкой обратилась к ним стюардесса, указывая на меня.
– Я никогда не летал на самолете! – сказал я бизнесменам, чтобы они точно об этом знали.
– Ну, возьми арахис! – сказал один из них и вручил мне пакетик арахиса. Пакетик был серебристо-голубой и выглядел так, словно он доставлен с другой планеты.
– Можно, я заберу его себе?
– Ха! Он ваш, сэр! – ответил бизнесмен, пожимая мою ладошку.
Стюардесса отвела меня вниз, к моему месту.
– Мама, – сказал я, – там дядя дал мне арахис! – И показал ей сверкающий пакетик.
– Здорово, – ответила она и снова уткнулась в журнал, что ей дали для чтения в полете.
Я откинул складной столик и начал играть с желтым значком и пакетиком арахиса с другой планеты.
Лондон, Англия
(1999)
Я вряд ли стал искать веганские продукты[20] в районе Кингс-Кросс, потому что он представлялся мне мерзкой ямой, полной грязи и порока. Но я закончил саундчек[21] и проголодался. На мне была обычная гастрольная униформа: джинсы, черная футболка, старая армейская куртка и черная бейсболка с логотипом нью-йоркской бейсбольной команды «Yankees», купленная в аэропорту Кеннеди перед вылетом в Великобританию. На дворе стоял июнь, но который день шел непрекращающийся холодный дождь. Мои кроссовки промокли.
Проститутки и торговцы наркотиками прятались под навесами автобусных остановок, торчали в дверных проемах, курили сигареты и уныло глядели на мокрые улицы. Сырое запустение Кингс-Кросс напоминало мне Таймс-сквер в 1970-е.
В нескольких кварталах от Scala – площадки, где мне предстояло выступать через несколько часов, – я нашел вегетарианский индийский ресторан. Многое в моей жизни в 90-е годы отошло на второй план: христианство, трезвость, популярность. Но с тех пор, как в 1987 году я стал веганом[22], мои убеждения ни разу не пошатнулись. Я мог бы упиться вусмерть или даже погубить свою бессмертную душу, но никогда не сделал бы ничего, что заставило бы страдать животных.
Я заказал рис и чечевицу с жареной картошкой и устроился на барном стуле. Окно ресторана изнутри запотело, а снаружи было исчерчено потеками дождя. Сквозь испарину на стекле и дождь я видел неясные очертания и размытые цвета Кингс-Кросс; пробегавшие за окнами прохожие были похожи на флаги, которые сносило ветром.
Проститутки и торговцы наркотиками прятались под навесами автобусных остановок, торчали в дверных проемах, курили сигареты и уныло глядели на мокрые улицы.
Четырехнедельный тур Play подходил к концу. Он оказался более успешным, чем тур Animal Rights несколько лет назад. Почти все площадки, на которых мы играли, заполнялись наполовину – и это был прогресс. Я с нетерпением ждал сегодняшнего концерта, потому что Mute, мой европейский лейбл, организовал для меня после концерта вечеринку в баре над клубом.
С самого начала тура я пил почти каждый вечер, но не знакомился с женщинами. Каждый раз я надеялся, что встречу прекрасную даму, которая подарит мне любовь и окажет поддержку. Но за все время этого короткого тура алкоголь не давал мне ничего, кроме опьянения.
Я знал, что должен с кем-нибудь познакомиться. Как вообще настоящий музыкант может отыграть концерт в Лондоне, а потом пойти на вечеринку, организованную для него рекорд-лейблом, и не найти ту, кого можно хотя бы поцеловать?
Пустой лоток с остатками моей еды, все еще блестящий от жирной картошки, отправился в переполненную урну, стоящую у дверей ресторана. Когда я вышел на улицу, дождь усилился, так что пришлось натянуть на голову капюшон куртки и поспешить к Scala.
В десять вечера мы начали 75-минутный сет для двухсот человек – публика заполнила зал наполовину. Во время «Next Is the E» я забрался на одну из концертных колонок на сцене, пытаясь прикинуться рок-звездой, но мои кроссовки еще не успели просохнуть, и я поскользнулся. К счастью, никто, похоже, не заметил во вспышках стробоскопов моего падения. Аудитория вежливо аплодировала между песнями, и несколько человек даже сдержанно танцевали под некоторые старые композиции типа «Go».
После концерта мы с моими ребятами стянули потные концертные черные футболки и надели такие же, но свежие. На вечеринке несколько поклонников подошли ко мне, когда я заказывал водку, и сказали, что им понравился концерт. И альбом Play тоже. Я удивился: мне казалось, его никто и слушать не станет. Мы играли несколько песен из альбома, но они были медленнее и спокойнее, чем старые рэйв-композиции, и их принимали не слишком хорошо. Пришлось убрать из сет-листа «Porcelain» – песня была такой тихой, что иногда во время ее исполнения я слышал чужие разговоры.
Я пил бесплатную водку и разговаривал с сотрудниками звукозаписывающей компании, но к часу ночи, абсолютно пьяный, остался в баре почти в одиночестве, в обществе бармена и уборщика. Бармен выключил магнитофон с кассетой Blur и врубил жесткий верхний свет.
– Извини, приятель, – в голосе его слышалось искреннее сочувствие, – вечеринка окончена.
Натянув армейскую куртку[23], я поплелся вниз по лестнице, на улицу, под дождь.
Меня переполняла жалость к себе. Я брел по мокрому тротуару, глядя на закрытые витрины магазинов, и думал: какой из меня музыкант, если мне не удалось ни с кем познакомиться на своей собственной послеконцертной вечеринке!
Стоя на пешеходном переходе, я заметил симпатичную светловолосую проститутку, которая пряталась от дождя под крышей автобусной остановки. Она курила и с прищуром оглядывала улицу. У нее были длинные и тонкие, алебастрово-белые ноги. Синий дождевик частично скрывал короткую юбку и желтый топик. Мне понравились ее осветленные коротко стриженные волосы и маленький курносый нос.
В последние несколько лет я часто встречался с разнообразными секс-работницами и никогда не платил за секс. Но сейчас, стоя под дождем на Кингс-Кросс в час ночи, понял, что мог бы заплатить этой женщине – за то, чтобы она пошла со мной в номер гостиницы. Мне очень нужен был кто-то рядом. Хорошо, если бы эта проститутка желала меня, но я уже настолько отчаялся получить признание, что согласился бы стать просто ее клиентом.
Как вообще настоящий музыкант может отыграть концерт в Лондоне, а потом пойти на вечеринку, организованную для него рекорд-лейблом, и не найти ту, кого можно хотя бы поцеловать?
Я хотел заговорить с ней, но не знал, что сказать. Мне казалось, что после вопроса «Сколько ты стоишь?» она посмотрит на меня с подозрением. Правда, увидев мою уязвимость, успокоится и даже, может быть, улыбнется. Мы пойдем в гостиницу, будем сидеть на кровати и разговаривать. Мы разделим друг с другом одиночество и, поскольку оба сломлены, полюбим друг друга. Да, она увидит мои пороки и недостатки и будет любить меня, не обращая на них внимания. Я обниму ее на продавленной гостиничной кровати, и мы забудем о наших бедах, зная, что спасаем друг друга. И наконец на рассвете мы заснем, заключив друг друга в объятия.
Несколько минут я стоял в телефонной будке, наслаждаясь своей фантазией и пытаясь собраться с духом и подойти к женщине. Меня терзал страх оттого, что она может отказать. Умом я понимал, что проститутки не отказывают тем, кто платит. Но мне казалось, что она посмотрит на меня и увидит подростка из отбросов общества, да еще с проблемами болезненной привязанности.
Кто-то рядом назвал меня по имени.
– Моби! Что вы здесь делаете?
Я очнулся. Рядом стояли несколько сотрудников Mute. Я быстро ответил, даже слишком быстро:
– Возвращаюсь в гостиницу!
Они были в замешательстве: ведь я никуда не шел. Я прятался в укромном местечке на Кингс-Кросс в час ночи, разглядывая проститутку.
Они сделали вид, что все в порядке, что нормальным людям свойственно тупо стоять во мраке в телефонной будке под дождем.
– У нас встреча кое с кем в баре в вашей гостинице, – сказал один из них. – Хотите с нами?
– Конечно, – ответил я и бросил последний взгляд на красивую проститутку. Она склонилась к машине, что остановилась рядом с ней.
Сан-Франциско, Калифорния
(1969)
Я поймал голубя.
Мама и ее друзья из Сан-Франциско накурились и отправились в парк Золотые Ворота устраивать пикник. Они пили вино, курили сигареты, сидя на разноцветном одеяле, а я бегал вокруг стаи сидящих на траве голубей, размахивая руками и пытаясь заставить этих ленивых птиц взлететь. Потом устал, запыхался и упал на одеяло.
– Эй, Мобс, поймай нам голубя, – сказал мамин друг Джейсон. Он, как и все мамины друзья из Сан-Франциско, в начале 60-х был опрятным подростком из Коннектикута. Сейчас же стал хиппи, жил рядом с Хейт-Эшбери, носил жидкую темную бородку и волосы до плеч.
– Ладно, – сказал я и пошел обратно к стае. Теперь я не махал руками, а просто подошел к толстому серому голубю и схватил его. Вернувшись к Джейсону, я протянул ему птицу. Голубь тихо курлыкал.
– Вот, – сказал я.
– Мобс, отпусти его, – тихо попросила мама.
Я ничего не понимал. Джейсон попросил меня поймать голубя. И я поймал. А теперь мама просит его отпустить. Взрослые – странные!
– Ладно, – сказал я и опустил голубя на землю. – Пока, друг!
Голубь наклонил голову, посмотрел на меня и пошел обратно к стае.
– Как ты это сделал? – спросил Джейсон.
– Просто взял его, – ответил я, удивляясь, что такую простую вещь нужно объяснять.
– Бетси, я думаю, он волшебник! – выдохнула Пайпер, одна из девушек-хиппи.
Мама улыбнулась.
– Наверное, ты права.
Мне не нравились ни Сан-Франциско, ни все эти странные хиппи. Но мне нравилось стоять на солнышке, нравилось, что мама улыбается и называет меня волшебником.
– Можно поймать еще одного голубя? – спросил я.
* * *
Из парка Золотые Ворота мы пошли на фестиваль искусств и ремесел. Куда бы мы ни отправлялись, сценарий у мамы и ее друзей был один и тот же: загрузиться в «Фольксваген», поехать куда-нибудь в Сан-Франциско, покурить наркотик, потусоваться с другими хиппи, снова покурить. Никто из маминых друзей, похоже, не работал, и время от времени они жаловались, что родители, оставшиеся в Коннектикуте, присылают им слишком мало денег.
Ярмарка искусств и ремесел проходила на городской площади, окруженной тощими деревцами. Там было полно хиппи, которые рисовали на асфальте, играли на гитарах, танцевали под барабаны. Мне все это казалось настоящим хаосом, поэтому я боязливо цеплялся за мамину кожаную сумочку с бахромой.
В Коннектикуте мама была коротко стриженной опрятной девушкой из Дариена, которая курила и слушала Jefferson Airplane. Но сразу после нашего прибытия в Сан-Франциско она делала все, чтобы забыть Коннектикут и вписаться в общество хиппи. Она отрастила длинные буйные светлые кудри. Стала носить развевающиеся оранжевые расписные платья и полинявшие джинсовые юбки. И хотя курение травки было запрещено законом, она с друзьями курила ее так же открыто, как мои бабушка с дедушкой и их друзья пили джин с тоником.
– Держи, Мобс, – сказала мама, улыбаясь. Наклонившись, она приколола на мой комбинезон маленький серебряный значок. На нем был изображен пацифик – символ мира.
– Что это? – спросил я.
– Это знак мира, – сказала Пайпер. – Тебе нравится мир?
Я не очень-то понимал, что такое мир, но был рад еще одному значку. Теперь у меня их было два, считая тот, что с мультяшным самолетом.
* * *
На следующий день мама и ее друзья решили поехать на пляж и принять там наркотик. Они нашли недалеко от нашего жилья дешевый детский сад, которым управляли хиппи, и на время своего отсутствия решили отвезти меня туда. «Я вернусь вечером», – сказала мама, передавая меня на руки воспитателям. Я смотрел, как она с друзьями садится в «Фольксваген» и уезжает.
Детский сад располагался в старом викторианском доме, перед которым располагалась грязная площадка для игр. Вокруг меня бегали и возились в сером песке дети, но никто из них не был мне знаком. Я нашел грузовик «Тонка» с тремя колесами и катал его по песку, собирая в кузов камешки и мусор. И ждал, надеясь, что мама скоро вернется. Мне было три года, я был напуган и не понимал, почему она оставила меня одного.
Через несколько часов я завел пару друзей в песочнице, но все еще испытывал сильную тревогу. Работники детсада были недобрыми. Они курили сигареты, и от них пахло вином. Они угрюмо наблюдали за детьми и молчали.
Когда пришло время сна, мы вошли в здание, нам дали матрасы, и мы улеглись. Я заснул с надеждой на то, что мама вернется и разбудит меня.
Вскоре меня действительно разбудили, но не мама, а один из работников детсада, неопрятный парень с мутными глазами. Он был похож на других хиппи: полинявшие джинсы, футболка с непонятным рисунком, длинные черные волосы, густая борода. Он прижал палец к губам, взял меня за руку и отвел в туалет в задней части дома. Потом запер дверь изнутри и снова прижал палец к губам: «Ш-ш-ш! Тихо!»
Парень спустил штаны и сел на крышку унитаза.
– Вот, – сказал он, показывая на свой пенис, – можешь его потрогать.
Я не понимал, чего он хочет.
– Все хорошо, – сказал парень. – У тебя тоже такой есть. Его можно трогать.
Он положил мою маленькую руку на свой эрегированный член.
– Потри его, – сказал он и откинулся на бачок унитаза, пока я пытался делать то, что он говорил.
– А еще его можно взять в рот, – добавил он.
Потом обхватил руками мою голову и посмотрел мне в глаза:
– Ты молодец. Но никому не рассказывай. Понял? – Он крепче сжал мою голову. – Никогда.
Он отвел меня назад к матрасу, и я лег – без сна, без движения…
* * *
Мама и ее друзья забрали меня вечером.
– Привет, Мобс, извини, что задержались, – сказала мама, поднимаясь на крыльцо.
Я не знал, что сказать, поэтому смотрел вниз.
– Мобс! – озадачилась она. – Все хорошо?
– Он просто устал, – сказал один из ее друзей. – Уже поздно. Верно, дружок?
У меня было тяжело на душе, мне казалось, что я сейчас начну плакать и никогда больше не перестану.
Меня посадили на заднее сиденье «Фольксвагена», и мы поехали к дому.
– Весело было с новыми друзьями? – спросил Джейсон.
Я не мог ничего сказать.
Джейсон улыбнулся.
– Не волнуйся, завтра мы опять поедем на пляж, и ты снова с ними встретишься.
Нью-Йорк
(1999)
Неожиданно и самым удивительным образом провальный альбом оказался не провальным.
Четырехнедельный тур был закончен, и я вернулся домой в Нью-Йорк. В городе что-то происходило. Что-то странное – продажи Play росли с каждой неделей, хотя альбом вышел уже месяц назад. Когда в 1995 и 1996 годах я выпустил Everything Is Wrong и Animal Rights, успешнее всего они продавались в первую неделю после выхода, а потом быстро канули в безвестность.
Но сейчас все было не так: Play не исчезал из вида. И, соответственно, из вида не исчезал и его автор. Я смотрел на самого себя с рекламного щита высотой 50 футов на углу Бродвея и Хаустон-стрит[24].
После выхода Play со мной связались представители компании «Calvin Klein». Они предложили мне участвовать в кампании продвижения их продукции. Никто прежде не предлагал мне рекламировать одежду – и я согласился.
Фотосессия проходила в лофте площадью 5000 квадратных футов в Челси. В огромном зале было полно еды, работников «Calvin Klein», вешалок с одеждой и прожекторов размером с бочку. Для съемок с моим участием в углу огромной студии построили декорацию пустыни. Меня одели в темные джинсы и темную джинсовую куртку, в которых я стал похож на мужчину-проститутку из окрестностей Эль Пасо.
Через несколько недель после фотосессии я снова оказался в Нью-Йорке и решил навестить своего друга Дэмиена. Солнце уже село, и небо имело тот темно-синий цвет, который бывает перед наступлением настоящей черной ночи. Воздух был таким же теплым, как моя кожа. Магазины распродаж и салоны маникюра уже закрылись на ночь, я шел через Сохо вниз по Грин-стрит.
Когда я переехал в Нью-Йорк в 1989 году, Сохо представлял собой дикую пустошь без уличного освещения. В нем располагались галереи и студии художников, но по большей части в районе было пусто, как на картинах Эдварда Хоппера[25]. Сейчас же галереи сменились шикарными бутиками, и я даже слышал, что Шанель и Прада собираются открыть здесь свои магазины.
Двигаясь на запад, я прошел по Гранд-стрит, мимо «Lucky Strike» – ресторана, в котором в 1990 году мне довелось работать диджеем. За работу мне платили едой – спагетти и салатом.
Я пересек Канал-стрит, миновал пустынный микрорайон Трайбека и прошел несколько кварталов до студии Дэмиена. Этот парень был одним из самых близких моих друзей с 80-х годов, мы делили с ним жилье десять лет назад. Невероятно одаренный художник, он мог писать картины, только если снимет рубашку. Мир искусства относился к нему с опаской. Дэмиен страдал социофобией и был человеком со странностями.
Добравшись до студии, я обнаружил своего друга стоящим перед огромной картиной, изображавшей бассейн. Само собой, Дэмиен был обнажен по пояс. Завидев меня, он радостно засмеялся, натянул футболку-поло, выключил громыхающую музыку – диск Nine Inch Nails – и запер студию.
Когда мы вышли на улицу, в нос ударил запах мочи, мимо прогромыхал самосвал, и в узком ущелье, которое образовали высотки, грохот усилился. Не то чтобы мне нравился запах мочи или грохот самосвалов, но они были частью Нью-Йорка, а я любил его безусловно. Здесь я родился, он казался мне безопасным, словно средневековый город с крепостными стенами.
Мы встретили ночь на крыше высокого здания в Челси. Я быстро опрокинул три порции спиртного и, чувствуя, как водка растекается по венам, разглядывал Эмпайр-стейт-билдинг. И размышлял о том, что Нью-Йорк – это парадокс. Снаружи он казался суровым, но его сердце – мягкое и заботливое. Оно нашептывало мне: «Я никогда тебя не разочарую!»
Когда я переехал в Нью-Йорк в 1989 году, Сохо представлял собой дикую пустошь без уличного освещения.
Я стоял на краю крыши. Дэмиен подошел и спросил:
– Что делаешь?
– Персонифицирую Нью-Йорк.
– Пойдем отсюда?
Я прикончил четвертый стакан.
– Пойдем.
Мы отправились в новый клуб на Бликер-стрит, где я выпил еще. К часу ночи стало понятно, что, похоже, никто не собирается с нами знакомиться. И поэтому мы побрели дальше на юг. В баре на Брум-стрит натолкнулись на нашего друга Фэнси.
– Отлично выглядишь, – сказал я ему. Фэнси был одет в черный костюм-тройку, а в руках держал маленький чемоданчик. Как потом выяснилось, в нем лежали игральные карты, темно-синие вискозные носки и бутылка виски.
– А ты выглядишь уныло, – ответил он, прижав ладонь к моему лбу, проверяя, не болен ли я. – Ты в порядке?
Много лет мы с ним ходили по барам пять раз в неделю, носили одежду из комиссионки и компульсивно пили.
В два часа ночи Дэмиен отправился домой. Мы с Фэнси выпили еще по несколько порций и пошли в Sway. Мы всегда старались закончить вечер именно там: бар очень поздно закрывался и был полон таких же, как мы, испорченных пьяниц. Мы заказали пиво. Это было безопасно. Крепких напитков мы перебрали. А пиво никогда не считали настоящим алкоголем, оно было для нас этакой «ночной газировкой».
Я знал, что слава погубила и уничтожила множество людей. Но был уверен, что смогу пройти путь к успеху, который они пройти не смогли.
Диджей поставил старую запись Smith, и я танцевал под нее с красивой женщиной из Норвегии, с которой меня познакомил Фэнси. Я взял нам по пиву, и мы нашли кабинку в уголке танцпола.
– Хочешь еще выпить? – спросил я, когда мы сели.
– Нет, – ответила она, глядя на свой нетронутый стакан с пивом. – Еще это не допила.
– Ладно! – Я добрел до бара и взял еще два пива, просто чтобы ко времени закрытия бара иметь какой-то запас спиртного.
Мы говорили о Норвегии, где мне приходилось бывать несколько раз, а затем я потянулся поцеловать ее.
– Извини, у меня есть парень, – сказала она.
– О! – Из меня словно выпустили воздух. – Хорошо…
Музыка смолкла, зажегся свет. Бар мгновенно превратился из загадочной игровой площадки в неказистое помещение, полное слепо моргающих алкоголиков и наркоманов.
– Мне нужно найти друзей, – сказала моя новая подруга. И оставила меня в кабинке одного.
Я оглядел бар в поисках других женщин, к которым можно было бы подкатить. Но все, похоже, уже нашли себе пару или уходили. Я допил пиво и пожелал Фэнси доброй ночи. Во мне плескалось 12, а может, и все 15 порций спиртного. Я был сильно пьян.
На углу Бродвея и Хаустон-стрит мое собственное рекламное изображение высотой в пять этажей сделало мне ручкой. Я терпеть не мог ночи, когда не удавалось с кем-то пофлиртовать или быть узнанным. Но мое фото высотой в 50 футов улучшило мне настроение.
В уме всплыла цитата из Библии: «Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Вредить своей душе я не хотел, но мне нравилось, что Play продается лучше, чем другие мои альбомы. Скорее всего, долго так продолжаться не может, решил я, и «приобрести весь мир» – это мне не грозит.
С Богом у меня складывались сложные отношения. В старшей школе я был панк-рокером-атеистом, а позже, в 80-е, стал очень серьезным христианином. К середине 90-х оставил формальную приверженность церкви, но все еще молился в одиночестве и считал себя хорошим, духовным человеком. При этом я цеплялся за все выгоды, которые давала моя скромная слава. Но мне по-прежнему нравилось считать себя истинным адептом учения Христа: мне казалось, что материализм и мирская суета не входят в мою систему ценностей.
Я хотел жить правильно. Но был подавлен и одинок. Меня не оставляла убежденность, что известность может это исправить. Возможно, люди увидят меня на плакате и решат, что я что-то значу, думалось мне. Или какая-нибудь женщина прочитает обо мне в журнале, а потом, если мы встретимся, она меня полюбит.
Я знал, что слава погубила и уничтожила множество людей. Но был уверен, что смогу пройти путь к успеху, который они пройти не смогли. Смогу приобрести весь мир и при этом сохранить свою жалкую душу.
Остин, Техас
(1999)
– Где Натали Портман?
– У двери на сцену.
Только что закончился концерт в Остине – мы играли для 450 человек на площадке вместимостью в пять сотен. Я подошел к двери, уверенный, что это недоразумение или шутка, но там была Натали Портман – стояла и спокойно ждала. Она посмотрела на меня – у нее были чудесные черные глаза – и сказала:
– Привет.
– Привет, – просто ответил я. Как будто это обычное дело. Как будто мы знакомы. Как будто кинозвезды постоянно приходят ко мне после концертов.
Я провел Натали в гримерную и добыл ей бутылку воды: она хотела пить. Моя группа и техники стояли рядом с нами. Мои ребята молчали и явно чувствовали себя неловко. К нам никогда не приходили кинозвезды, и никто из нас не знал, что говорить и что делать.
– Так вам понравился концерт? – спросил я у Натали.
– Очень! – ответила она. На ней были джинсы и белая футболка; ее темные волосы стягивала в хвост разноцветная резинка. Мне нравилась ее простая прическа. – Песни из Play отличные.
Натали села на черный кожаный диван и улыбнулась. Мое сердце остановилось и забилось вновь спустя вечность.
Я занервничал и стал болтать всякую чушь.
– Через несколько дней мы будем в Нью-Йорке, – сказал я. – На Video Music Awards.
Она снова улыбнулась и посмотрела прямо мне в глаза.
– Я тоже буду в Нью-Йорке. Мы можем встретиться?
Мне стало неловко. Я был лысым запойным алкоголиком, жил в квартире, в которой пахло плесенью и старыми кирпичами. А Натали Портман была прекрасной кинозвездой. Но она сидела в моей гримерной и заигрывала со мной.
– Да, давайте встретимся в Нью-Йорке, – сказал я, пытаясь изобразить такую степень уверенности, какой на самом деле никогда в жизни не ощущал.
– Ладно, мне пора, – сказала она. – Не проводите до машины?
* * *
Неделей позже я стоял в мезонине Линкольн-центра и ставил пластинки во время рекламных перерывов трансляции MTV Video Music Awards. Несколько тысяч человек в театре наблюдали, как Бритни Спирс и Eminem выступают и получают награды. А я пребывал в одиночестве в огромном холле с двумя вертушками и несколькими пластинками, которые принес с собой.
В тот вечер в звукозаписывающей компании меня спросили: есть ли в моем гардеробе одежда, в которой можно появиться перед камерой. Лучшим, что я смог найти, был золотой костюм Элвиса, который я купил в магазине Армии Спасения[26] несколько лет назад. Он был слишком велик для меня, его ни разу не стирали, но, надев его, я сиял, как радиоактивный клоун.
После шоу передо мной предстала Натали. На ней было прекрасно скроенное бежевое платье, и она выглядела удивительно похожей на Одри Хепберн.
– Как тебе мой костюм? – спросил я, нервно улыбаясь.
– Интересный, – ответила она. – Что будешь делать дальше?
– Играю на ночном концерте у Донателлы Версаче, – сказал я. – Хочешь пойти?
– Выступаешь диджеем?
– Нет, играю живьем.
– Хорошо, – сказала она, положила руку на мой сияющий золотой рукав и повлекла меня прочь из Линкольн-центра. Мне было 33, а ей всего 20[27], но я не удивлялся ее уверенности. Она вела меня по своему миру. Я хорошо знал бары, стрип-клубы и веганские рестораны, но ничего – о церемониях награждения и красных дорожках. Натали ждал лимузин с водителем и телохранителем. Мы решили, что, прежде чем отправиться на ночное шоу, заглянем на вечеринку в отеле «Гудзон».
В лимузине мы обсуждали наши любимые вегетарианские рестораны, а ее шестифутовый телохранитель старался делать вид, что ни в чем меня не подозревает. Возле отеля мы вышли из лимузина навстречу сплошной стене фотовспышек. Раздавались крики:
– Натали! Там Натали!
– Натали и Моби! Сюда!
Папарацци называли меня по имени! Они никогда не снимали меня. Никто прежде не выкрикивал «Моби!», если только не был на меня зол. Я был в восторге. Я хотел стоять и купаться в ослепительных вспышках еще и еще, но Натали взяла меня за руку и увела в отель.
Я пошел к бару и заказал две водки с содовой для нас обоих.
– О, я не пью! – сказала она, оглядывая зал. Люди вокруг смотрели на нас.
– Ничего, если я выпью?
– Хорошо.
В нескольких футах от нас я увидел Джо Перри и Стивена Тайлера из Aerosmith. У обоих были прекрасно уложенные длинные волосы и сшитые на заказ кожаные костюмы рок-звезд. Джо Перри поймал мой взгляд.
Я хотел стоять и купаться в ослепительных вспышках еще и еще, но Натали взяла меня за руку и увела в отель.
– Хей, ты же Моби? – спросил он.
– Да, а вы Джо Перри.
– Чувак, я хочу сказать, что мне очень понравился твой альбом.
– Правда?
В последнее время мне часто говорили такое про Play, и это уже не удивляло, но все еще смущало.
Я уже захмелел, поэтому стал рассказывать Джо и Стивену, как первый раз целовался в 11 лет. Мне тогда нравилась Лиззи Гордон, и в конце учебного года я как-то убедил ее послушать музыку у меня дома. Я хотел выглядеть опытным мужчиной, поэтому сделал нам по джину с тоником. То и другое пришлось стянуть из дедушкиного шкафчика с алкоголем. У меня было всего три пластинки, и сначала я поставил альбом Aerosmith. Когда началась «Dream On», я потянулся к Лиззи и поцеловал ее. К несчастью, мне еще никогда не приходилось целоваться по-настоящему. Я не знал, как это делается. Мои губы были сомкнуты, и я поцеловал ее так же, как целуют родных на Рождество. На следующий день она начала встречаться с моим лучшим другом Марком Дротманом, потому что он был симпатичнее и умел целоваться.
Я думал, что Джо и Стивену понравится эта история, но они равнодушно смотрели на меня, а Тайлер спросил:
– Ты с Натали Портман?
– Думаю, да, – ответил я.
– Она горячая штучка, – сказал он. И отошел.
Я допил оба коктейля. Мы с Натали направились на вечеринку Версаче, там я должен был выступить в полночь. Когда мы уходили, папарацци снова принялись кричать: «Натали! Моби! Натали!»
– Они такие назойливые, – сказала Натали, когда мы сели в ее лимузин.
– Ох, покоя от них нет! – сыграл я утомленную славой звезду.
Мне папарацци понравились: они знали, как меня зовут.
Мое обычное существование было плоским, наполненным сомнениями, а эта новая жизнь оказалась волшебной.
На вечеринке Донателлы Версаче папарацци было еще больше, чем на официальной церемонии VMA. И мое имя выкрикивали так же часто, как имя Натали. Я выпил всего два коктейля, но находился в таком состоянии, словно проглотил винокурню, полную хмельного восторга. Я держал за руку Натали Портман; я говорил с Aerosmith; папарацци кричали «Моби!».
В юности я был левым панк-рокером и презирал всю эту звездную тусовку. Я предпочитал людей вроде Йена Маккея и группы типа Minor Threat и Fugazi: они сознательно избегали славы. Но сейчас ко мне пришло осознание того, что моя зарождающаяся известность похожа на теплый янтарь: она наполняла меня ощущением ценности, которого я никогда не знал. Считается, что крутым звездам следует быть уверенными и не беспокоиться о своей славе, но каждая капля внимания, которую я получал, походила на каплю живительной влаги, падающей на высушенную губку. Мое обычное существование было плоским, наполненным сомнениями, а эта новая жизнь оказалась волшебной. И она началась с Play, странного маленького альбома, который должен был провалиться!
Перед выступлением моя группа собралась в одном из офисов, который ребята быстро превратили в гримерную. Мы переоделись в джинсы и футболки и вышли на сцену перед Донателлой Версаче и полутора тысячами ее лучших друзей. Исполнив несколько песен, мы заиграли «Honey»[28], и я нашел взглядом Натали. Она танцевала вместе с Мадонной и Гвинет Пэлтроу. Женщины, смеясь, в унисон вскинули руки, приветствуя меня.
Неожиданно у меня возникло жгучее желание остановить концерт и объяснить всем этим звездам, что они ошибаются. Они приветствовали меня, а я был никем. Я был мальчишкой из Коннектикута, одетым в штаны и рубашку из секонд-хенда. Я сидел на переднем сиденье потасканного автомобиля рядом с матерью, а она плакала и пыталась придумать, где достать денег на продукты… Я был депрессивным подростком, и моя первая группа выступала во дворе перед аудиторией, состоявшей из одной собаки. Мой единственный миг славы в рэйве пришелся на начало 90-х. Теперь был 1999 год, и я чувствовал себя увядающим комнатным растением…
Мы продолжали играть, и звезды танцевали и веселились.
Каким-то образом для меня открылась дверь в этот сияющий золотой мир. И Натали, и Гвинет, и Мадонна, и Дэвид Леттерман, и Элтон Джон не давали ей закрыться. Они улыбались и говорили, что любят меня.
Если бы девятнадцатилетний Моби, яростный адепт панк-рока, увидел происходящее, то презрительно спросил бы меня:
– Ты купился на эту звездную чушь? Ты же знаешь, что все это – лживое торжество коммерции и лицемерия!
А я бы ответил:
– Смотри, это Натали Портман, и она хорошо ко мне относится!
Олд-Сэйбрук, Коннектикут
(1971)
Мама медленно вела наш автомобиль в плотном потоке машин на дороге И-95 и курила одну сигарету за другой. Мы выехали из Дариена 45 минут назад, и первые полчаса я провел, попеременно слушая по радио все FМ-станции. Мамин «Плимут» находился в ремонте, и она позаимствовала у друга «Фиат». В нем были FМ-радио и кондиционер, а я никогда не ездил в столь шикарно оснащенных автомобилях.
– Можно включить кондиционер? – спросил я.
– Нет, он тратит бензин, – ответила мама, выдохнув сигаретный дым.
Я вернулся к радио и стал вращать ручки приемника. Песни, которые звучали на разных каналах, были мне неизвестны. Неожиданно мама сказала:
– Подожди, оставь.
Мы стали слушать песню.
– Как она называется? – спросил я.
– «Big Brother and the Holding Company».
Мама подпевала Дженис Джоплин и постукивала пальцами по рулю, обтянутому коричневой кожей. Белая сигарета в ее пальцах казалась крохотной дирижерской палочкой. Я приоткрыл окно со своей стороны – впустить немного свежего воздуха.
Мы ехали в Олд-Сэйбрук к маминой подруге Джанет. Они с мамой вместе выросли, а в конце 60-х подались в хиппи. В новом десятилетии ни они, ни их друзья уже не называли себя так. В среде этих людей стали модными слова «искатель», «бродяга», «чудак». Но я про себя продолжал называть их хиппи.
Я никогда не рассказывал о произошедшем со мной в Сан-Франциско. И помнил это только потому, что все еще боялся всех длинноволосых бородатых мужчин.
Дверь веранды открылась, и появилась Джанет – улыбающаяся, высокая, с длинными вьющимися волосами, в ярком фиолетово-желтом платье.
После Бриджпорта дорога стала свободнее, и мы гнали во всю мочь до самого Олд-Сэйбрука. Я предпочел бы провести выходные в «Фиате»: он был чистый и казался безопасным, а в старом грязном доме Джанет меня одолевал непонятный страх. Дом стоял в конце грунтовой дороги, в нем умещались гостиная с гобеленами на стенах и старым диваном, кухня размером со шкаф и чуть более просторная спальня. От дороги к нему вела полоса гравия. Мы осторожно пробрались по ней и припарковали «Фиат» возле веранды с решетками, закрытыми кусками пенопласта. Мама открыла багажник и достала дорожную сумку с вещами и еще одну сумку, хозяйственную, с тремя бутылками вина из одуванчиков. Вино делал для нее один из друзей-хиппи – из тех, что «вернулись к природе».
Дверь веранды открылась, и появилась Джанет – улыбающаяся, высокая, с длинными вьющимися волосами, в ярком фиолетово-желтом платье.
– Бетси! – воскликнула она, закашлявшись от дыма травки.
– Джанет! – радостно ответила мама. – Лохматое ты старое чучело!
Они обнялись. Джанет вручила маме самокрутку в мундштуке.
Я вошел в дом вслед за ними, разглядывая гостиную. Рядом с гобеленами на стенах Джанет приклеила портреты Эбби Хоффман[29] и Кришнамурти. Роль кофейного столика играла деревянная дверь, поставленная на бетонные блоки. На ней красовалась внушительная коллекция полупустых винных бутылок и самодельных керамических пепельниц, полных окурков.
Я знал, что в молодости Джанет училась в частной школе и ездила верхом. Ее отец был старшим вице-президентом инвестиционного банка Bear Stearns. А потом она сменила стильные рубашки и брюки «Izod» на мешковатую одежду, окрашенную вручную, и куртки из оленьей кожи – стала хиппи. Сейчас же сидела с мамой на диване, и они передавали друг другу косяк.
– Я купила карты Таро, – сказала мама. – Можно узнать наши судьбы.
– Давай заглянем далеко в будущее, – ответила Джанет, ее голос немного охрип от табака. – Очень далеко!
– Мам, я пойду погуляю, ладно? – спросил я.
– Давай, – сдавленно сказала мама: не хотела открывать рот, чтобы не выдыхать дым.
Я прошел через задний двор и направился к старому кладбищу. Там мне было не страшно, хоть и говорили, будто у того, кто зевает среди могил с широко открытым ртом, мертвецы могут забрать душу. На кладбищах я старался вообще не размыкать губ.
Я бродил от могилы к могиле, читая надписи на надгробиях. Мой дядя Дэйв делал угольные копии интересных эпитафий, и мне хотелось найти необычную и рассказать ему о ней. У него в студии была одна эпитафия, очень страшная – история о человеке, который убил жену и детей, а затем пошел в город и застрелился. К сожалению, большинство надписей были совершенно обычными: «Ребекка Уолтхэм, любимая жена и мать», «Томас Гудкайнд, упокой Господь его душу».
Позади замшелой статуи крылатого ангела я нашел дикую землянику. Ягоды были твердыми и не особо сладкими. Пытаясь их прожевать, я сел у ног ангела и вспомнил о своей бабушке.
Прошлым летом в Дариене я гулял с дедушкой, и он заметил у старого амбара дикую малину. Мы съели по горсточке, а остальное отнесли бабушке. «Она сварит варенье», – сказал дедушка. Я тогда думал: «Вот настоящее волшебство! Мой близкий человек может превратить малину в варенье!»
Моей храбрости хватало на прогулку по кладбищу днем, но не ночью.
Позади крылатого ангела стояло высокое дерево, и я полез на него, надеясь увидеть с высоты Лонг-Айленд. Я залез так высоко, как мог, перепачкав руки в смоле, и посмотрел на юг. На небе за рекой сквозь облака прорывались яркие солнечные лучи. А в отдалении виднелся Лонг-Айленд. Я просидел на верхушке дерева полчаса, наблюдая, как свет пляшет на серой воде океана, и наслаждаясь молчаливой красотой и спокойным великолепием пейзажа.
Когда стало темнеть и похолодало, я слез с дерева. Моей храбрости хватало на прогулку по кладбищу днем, но не ночью. Я прошел вдоль старой каменной стены, перевернул несколько крупных камней, нашел под ними несколько многоножек и колорадских жуков и вернулся в дом Джанет, как раз когда стало совсем темно.
Мама, Джанет и еще двое их друзей сидели вокруг импровизированного стола из деревянной двери, переворачивая карты Таро. Их глаза блестели, а на лицах блуждали глупые улыбки – травка и вино из одуванчиков делали свое дело. Джанет запихивала травку в конверт от пластинки Deja Vu Бинга Кросби, Стилса, Нэша и Янга. Хиппи обычно посвящали много времени отделению листьев конопли от семян с помощью разворотов таких конвертов.
– Привет, Мобс! – сказала Джанет, ее голос был хриплым. – Где был?
– Просто гулял, – ответил я, нисколько не удивляясь тому, что никто не заметил моего трехчасового отсутствия. В такие выходные у Джанет мама накуривалась с друзьями, а я всегда уходил. Рядом не было ни других детей, ни игрушек, и я научился исследовать окрестности и придумывать себе игры. Правда, чаще всего просто бродил вдоль ручья и искал лягушек.
– Если хочешь есть, там суп на кухне, – сказала мама. Я налил себе супа и намазал маслом кусок хлеба. В кухне стоял маленький стол, я устроился за ним, ужиная и листая «Всемирный каталог», библию хиппи. Текст меня не интересовал, зато в книге были картинки.
Пришел Чарли, один из гостей-друзей Джанет, и налил себе стакан водки из бутылки, стоявшей на полке над плитой. Он выглядел так же, как все хиппи мужского пола: длинные волосы, бакенбарды, грязные джинсы и старая куртка.
– Привет, пацан, – сказал он.
– Привет, – ответил я, надеясь, что он скоро оставит меня в покое.
– Читаешь? Сколько тебе лет?
– Почти пять с половиной.
– А ты не маловат для пяти?
Я хотел сказать: «Вы меня пугаете. Оставьте меня в покое, пожалуйста». Но вместо этого ответил:
– Не для пяти, а для пяти с половиной. Я не знаю.
Он кивнул и поплелся обратно в гостиную, где кто-то только что поставил пластинку Ричи Хейвенса[30]. Мама с друзьями постоянно слушала музыку, и я с уверенностью мог различить исполнения Донована[31], Doors и Хейвенса. Мне нравились медленные песни, а вот громких я боялся.
Я доел суп и подошел к холодильнику, чтобы взять из него мороженое. Джанет могла воинственно отрицать западное общество наживы и потребления и его ложные ценности, но в морозилке у нее всегда было полно мороженого. Я набрал большую тарелку шоколадного, ванильного и клубничного и налил стакан апельсинового сока. Отложил «Всемирный каталог» и принялся за «Альманах фермера». Он был скучный и взрослый, но больше листать было нечего.
В гостиной имелись другие книги, но я не хотел туда идти. Напившись, мама и ее друзья переставали быть взрослыми, то есть здравомыслящими, людьми. Когда мама накуривалась, а это случалось почти каждый день, она менялась. Я ее не узнавал. Она скрывала, что курит наркотик, от родителей, но открыто говорила об этом со всеми остальными.
Напившись, мама и ее друзья переставали быть взрослыми, то есть здравомыслящими, людьми.
Я доел мороженое и поставил тарелку в раковину. Пора было ложиться спать, но никто не собирался готовить мне спальное место. Обо мне забыли. Я неохотно вошел в задымленную гостиную. Джанет на диване целовалась с хиппи, у которого были очень длинные волосы. Мама и Чарли сидели очень близко друг к другу, гадая на картах Таро.
– Мам, где мне спать? – спросил я.
– Ложись где хочешь, – ответила она и отвернулась от меня к Чарли.
Я не мог лечь в кровать Джанет, потому что это была кровать Джанет. Я не мог лечь на диване – там она обнималась с волосатым хиппи. Я не мог спать в машине, потому что продрог бы в ней.
Поэтому я взял с края дивана подушку и индейское одеяло и забрался под кофейный столик. Места там было немного. Но, как заметил Чарли, я был маловат для пятилетнего мальчика, и это решило дело.
Деревянная перекладина в нескольких дюймах от лица навеяла мысли о кладбище. Мне представилось, что я лежу в гробу. Что делают люди после того, как умирают? Там, в могилах, на кладбище?.. Смотрят ли они на деревянную крышку гроба в нескольких дюймах над собой?
Музыка Ричи Хейвенса смолкла. Вскоре я заснул.
* * *
На рассвете я проснулся и выбрался из-под стола. Было холодно, пахло сигаретами и мокрой шерстью. На диване свернулись клубочком двое. Было ясно, что они голые: из-под кучи одеял торчали обнаженные плечи и ноги. Они принадлежали Джанет и ее приятелю-хиппи.
В спальне поверх одеял лежал и храпел голый Чарли. Мама спала рядом с ним.
Я знал, что никто из них не проснется в ближайшее время, поэтому решил позавтракать самостоятельно и набрал в холодильнике мороженого. В доме неприятно пахло, мне не хотелось общаться ни с кем из похмельных хиппи, когда они проснутся. Я вытащил из маминой сумочки ключи от машины, взял в руки тарелку с мороженым и забрался в «Фиат».
Сидя на чистом сиденье с тканевой обивкой, я слушал радио. Голос ведущего был похож на голос дедушки[32].
Бостон, Массачусетс
(1999)
Я переживал паническую атаку и не мог заснуть.
Мы с Натали провели потрясающий вечер в Кембридже[33], и я вернулся к себе в гостиницу в три часа ночи. Рано утром мне нужно было ехать в аэропорт и улетать в Великобританию. Следовало отдохнуть. Но я обливался потом и не мог сомкнуть глаз от страха.
Каждый раз, когда я пытался с кем-то встречаться, меня одолевала паника[34] – бессонница, спазмы в мышцах, потливость и неудержимый хаотичный поток мыслей. До того, как я бросил колледж в 1984 году, мне удавалось без всяких проблем поддерживать отношения с девушками по несколько месяцев. А сейчас страх парализовывал меня после первого свидания.
Обычно я беспокоился о многих вещах – о работе, жилье, деньгах. Но то, что творило со мной сближение с женщиной, не лезло ни в какие ворота. Я осознавал, что все живые существа имеют инстинкт самосохранения и испытывают страх перед реальной опасностью – огнем или львами. Но не понимал, почему паникую из-за привязанности и тепла.
Всю жизнь больше всего я хотел любить и быть любимым. Но стоило мне встретить кого-нибудь, кто мог осуществить мои желания, приходила паника. Она терзала меня до тех пор, пока я не возвращался в свой одинокий мир. Какая-то глубинная часть мозга отчаянно защищала меня, вытесняя из любовных отношений. Как только я выполнял ее требования, страх исчезал.
Панические атаки одолевали меня уже много лет. Но я продолжал наивно надеяться, что однажды встречу прекрасную добрую женщину, которая поможет мне избавиться от них.
* * *
Ранее этим вечером мы отыграли на открытом воздухе концерт, организованный бостонской радиостанцией. Маленький четырехнедельный тур превратился в пять месяцев гастролей, строились планы выступлений в Австралии, Новой Зеландии и Японии – по завершении европейского тура.
После концерта я сменил пропитанную потом концертную одежду на чистую. В гримерке толклись все мои музыканты и техники.
– Не знаю, чем вы, неудачники, займетесь, а у меня свидание! – сообщил я.
– С человеком? – спросил Дэн.
– Ага, – сказал я, стараясь сдержать довольную улыбку.
– Нет, – заявил Стив, осознав, куда я собрался.
– Да, – ответил я, улыбаясь шире.
– Натали? – спросили хором Скотт, Стив и Дэн.
– Ага! – с удовольствием подтвердил я и направился к двери.
За спиной раздался многоголосый горестный вой: «Вали на хе-ер!»
Я взял такси и доехал до Кембриджа. Там меня уже ждала Натали. Держась за руки, мы бродили по Гарварду и целовались под столетними дубами. В полночь она позвала меня в свою спальню, и мы легли рядом на узкой кровати. Когда она заснула, я осторожно высвободился из ее объятий и на такси уехал к себе в отель. Меня захлестнула паника.
Я пытался бороться со страхом с помощью здравого смысла, логических рассуждений. Убеждал себя, что причин для опасений быть не может: нет огня, нет львов; все, что происходит, – всего лишь свидания с женщиной. Но паника была неумолима. Она вела меня к одному. Глубинный поломанный психоментальный механизм ставил знак равенства между безопасностью и одиночеством.
Всю жизнь больше всего я хотел любить и быть любимым.
Над аэропортом Логан поднималось солнце, и я встал с постели. Войдя в ванную, посмотрел на себя в зеркало: лысый, тощий, измученный, печальный.
Много лет назад в один из вечеров, когда моим отношениям с одной чудесной девушкой пришел конец из-за паники, во мне вскипел такой сильный гнев, что я начал бить себя по лицу. Ударил раз. Затем еще. Затем еще, очень сильно – так, что упал на пол.
На какой-то миг мне показалось, что это правильно – надавать себе по глупой бесполезной морде. Потом я испугался – того, что свихнулся. Люди в здравом уме обычно не бьют себя по лицу так, что валятся на пол. И еще люди в здравом уме не паникуют в гостиничном номере из-за того, что сходили на несколько приятных свиданий с доброй и красивой кинозвездой-вегетарианкой.
До отъезда в аэропорт оставался один час. Я знал, что заснуть уже не смогу. Поэтому нашел ручку и бумагу и сел за стол. Я собирался описать свою панику, чтобы лучше ее понять. Первая строчка получилась такой: «Почему я паникую? 1. Меня трясет от страха».
И это было все, что пришло на ум. Несомненно, в моей голове, в подсознании пряталось что-то еще, много всего. У паники была своя история, ее начало, причины ее появления – но они скрывались от меня.
Я смял бумагу и бросил ее в мусорную корзину.
Париж, Франция
(1999)
Я так и не смог выяснить, почему в одних странах мои песни имели успех, а в других нет. Если бы эта тайна раскрылась, мне удалось бы получить признание во всем мире. Я переживал вспышки популярности в Германии и Великобритании, но за девять лет выпуска различных альбомов и пластинок меня так и не заметили во Франции. Именно поэтому столь сильным было мое удивление, когда культовый французский музыкальный журнал «Les Inrockuptibles» пригласил меня выступить в Париже, в концертном зале недалеко от Мулен-Руж. Очевидно, Play французам понравился.
Мы отыграли концерт, французская публика аплодировала и была очень доброжелательно настроена. А после концерта я пошел встретиться со своей подругой Лоррейн, которая жила в Париже. Она была высокой темноволосой стилисткой из Лондона и некоторое время встречалась с моим нью-йоркским другом. Я пообещал себе, что не буду слишком задерживаться: в девять утра нужно было лететь в Бангкок, а оттуда – в Новую Зеландию.
В Новой Зеландии Play стал золотым. Никогда прежде ни одна из моих пластинок не удостаивалась такой чести. Менеджер объяснил это тем, что население страны невелико, и альбом становится золотым, если продано 6000 копий, а не 500 000, которые нужно продать для обретения столь высокого статуса в Штатах. Я получил по почте от новозеландской звукозаписывающей компании свой первый золотой диск. И никто не мог отобрать у меня эту сияющую пластинку в красивой рамке.
На такси я доехал до площади Отель-де-Вилль и прошел пешком несколько кварталов в поисках адреса, который дала мне Лоррейн. Мы договорились встретиться в баре. Но мне никак не удавалось его найти. В конце концов я понял, что она назначила встречу в Лувре. Мне и в голову не приходило, что там может быть бар. Я нашел его, открыл тяжелую дверь и оказался в стильном помещении с высокими потолками, бронзовыми люстрами и красно-золотыми обоями. Лоррейн и несколько ее подруг сидели в одной из кабинок.
– Добрался! – обрадовалась она, целуя меня в обе щеки. Я ощутил себя беспринципно космополитичным: оказался в Лувре в компании гламурных модных женщин после того, как отыграл концерт в Париже, перед тем, как лететь в Азию. Мы пили вино, затем водку, а потом арманьяк.
И никто не мог отобрать у меня эту сияющую пластинку в красивой рамке.
В два часа ночи я ответственно заявил:
– Мне пора, у меня вылет в Новую Зеландию через несколько часов.
– Нет, – пьяно сказала Мэнди, подруга Лоррейн. И выпустила изо рта облачко сигаретного дыма. – Не уходи!
Мэнди мне понравилась, хоть и здорово напилась. У нее были крашеные красные волосы, и она носила очки-авиаторы в золотой оправе. Родилась она на Лонг-Айленде, но жила в Париже, занимаясь чем-то, связанным с модой.
Если бы я вернулся в свою гостиницу при аэропорте, мог бы немного поспать перед 26-часовым перелетом в Новую Зеландию. Но я был в Лувре. И после семи или восьми стаканов сильно опьянел. А главное, симпатичная молодая женщина только что дала мне понять, что не хочет, чтобы я уходил.
– Ладно! И чем займемся? – спросил я, доверившись судьбе и пьяной Мэнди.
Пять минут спустя мы уже ехали на такси в ее квартиру, что располагалась в доме близ Триумфальной арки. Пока мы ехали, я рассказывал Мэнди историю египетского обелиска близ сада Тюильри. Она кивала, но, похоже, ей было скучно.
Добравшись до ее дома, мы поднялись на крохотном лифте XIX века на четвертый этаж. Пока поднимались, я спросил, не слушала ли она в юности на Лонг-Айленде радиостанцию WLIR.
Я слушал WLIR, когда учился в старшей школе: ее сигнал был достаточно силен, чтобы добраться с Лонг-Айленда в Коннектикут. В середине 80-х это была единственная коммерческая радиостанция «новой волны» в Нью-Йорке и его окрестностях. Настоящим удовольствием было проезжать в мамином «Шевроле Шеветт» мимо домов девочек, которые мне нравились, включать радио и слышать Cure и Echo & the Bunnymen.
В 1987 году станция сменила название на WDRE.
– WDRE… – пробормотала Мэнди.
– То есть ты слушала WDRE? – спросил я, стараясь поближе узнать человека, с которым у меня, возможно, сейчас будет секс.
– Ш-ш-ш! – сказала она, заставляя меня замолчать, и уронила ключи на бетонный пол. – Я живу с семьей, и все уже спят…
В квартире было темно, пахло сигаретами и пылью.
– Ты живешь с семьей? – спросил я.
Мэнди недовольно взглянула на меня.
– Они там, – показала она на гостиную. – Мы тут! – И направилась в короткий коридор, ведущий в кухню. Вернулась с бутылкой красного вина, и мы поплелись сквозь темноту квартиры в ее спальню.
Когда Мэнди открыла дверь в комнату, на меня зарычал трясущийся от злости или страха чихуа-хуа. Но когда я сел на кровать, он запрыгнул ко мне на колени и затих.
– Любишь собак? – спросила Мэнди.
– Да, они мне нравятся.
– Это Джордж.
Я хотел рассказать ей о таксе моего покойного дедушки – собачку тоже звали Джордж, – но Мэнди поцеловала меня. Мы упали на кровать и пролили вино. А потом разделись и занялись сексом на мокрых простынях, Джордж скакал вокруг нас и скулил.
Я проснулся в панике. Открыл мобильный телефон: было 4 часа утра. Мэнди крепко спала и храпела. Джордж лежал рядом с ней на подушке и печально глядел на меня.
Я оделся и попытался разбудить Мэнди. Она упрямо продолжала храпеть.
– Мэнди, мне нужно улетать в Новую Зеландию.
Настоящим удовольствием было проезжать в мамином «Шевроле Шеветт» мимо домов девочек, которые мне нравились, включать радио и слышать Cure и Echo & the Bunnymen.
Она спала. Джордж настороженно зарычал. Я прошел через грязную кухню ко входной двери квартиры. Она оказалась заперта и не открывалась без ключа. Я вернулся в спальню.
– Мэнди, проснись! – сказал я, тряхнув свою подругу чуть сильнее. – Мне нужно идти. А дверь заперта.
Она не проснулась, она продолжала храпеть. Джордж громко залаял.
Я нашел связку ключей и вернулся с ней к двери. Ни один ключ к замку не подошел. Я снова вернулся в спальню и включил свет.
– Мэнди, давай, просыпайся! – громко сказал я, начиная психовать. – Дверь заперта, а мне нужно в Новую Зеландию!
Она по-прежнему храпела. Джордж замолчал и теперь глядел смущенно.
Я открыл окно, надеясь, что смогу выбраться через него. Но мы находились на четвертом этаже. Я снова пошел к двери и вдруг услышал: кто-то открывает ее снаружи. В квартиру ввалился здоровенный мужик в черной байкерской кожаной куртке. Он курил и держал под мышкой черный мотошлем.
– Ох, спасибо! – сказал я. – Вы говорите по-английски?
Он встал как вкопанный и озадаченно посмотрел на меня. Я решил, что не время для любезностей: надо было скорей уходить.
– Ну ладно, спасибо, – сказал я и развернулся к открытой двери.
Он тихо и с сильным акцентом произнес по-английски:
– Ты трахался с Мэнди?
– Э-э…
Он швырнул меня на стену и левой рукой схватил за горло.
– Ты трахнул мою девушку?! – рыкнул он, сжав правую руку в кулак.
– Мне нужно в аэропорт, – хотел сказать я, но мешала пережатая трахея. Наконец удалось пискнуть: – Je suis desolé…[35]
Амбал в коже отпустил мое горло и замер с занесенной рукой. Потом его здоровенные плечи опустились. Он уперся взглядом в пол и потряс головой.
– Вали на хер из моей квартиры, американец гребаный!.. – тихо сказал он.
Я бегом пробежал четыре этажа по лестнице и выскочил из здания на пустую улицу. Быстрым шагом прошел два квартала до Елисейских полей и там сел в такси. Меня все еще потряхивало от страха и чувства вины, но мне удалось взять себя в руки.
– К отелю «Софитель» в аэропорту Шарля де Голля, s’il vous plait[36], – сказал я чернокожему водителю.
Мы поспешили прочь из Парижа по пустым улицам под предрассветным серо-голубым небом. Когда отель был уже близко, на радио зазвучала «Why Does My Heart Feel So Bad?»[37]. Я ни разу еще не слышал песен с Play на радио. Эту я сводил на старой дешевой консоли в своей спальне, и тем не менее она звучала совсем неплохо.
– Можно сделать погромче? – спросил я у таксиста.
– Cette chanson?[38] – спросил он на ритмичном афрофранцузском.
– Oui, monsieur, cette chanson[39], – ответил я.
Облака над аэропортом были подсвечены рассветным розовым светом.
Дариен, Коннектикут
(1972)
Одной рукой мама мешала равиоли в кастрюльке, а в другой держала сигарету Winston. Сегодня я ужинал не с ней: собирался в гости с ночевкой к другу Скаддеру Болдуину.
– Подожду папу Скаддера на улице, – сказал я.
– Там холодно и дождь. Может, посидишь тут?
– Не, все хорошо. Пока! – ответил я и закрыл за собой дверь.
Несколько месяцев назад мы переехали в квартиру на Норотон-авеню, недалеко от отделения добровольной пожарной дружины и в квартале от субсидированного государственного жилья. Наш дом был переоборудованным гаражом – с маленькой спальней рядом с входной дверью, ванной комнатой с душевой кабинкой и крохотной кухней. А еще в нем была лестница, которая вела ко второй маленькой спальне и кладовке, в которой мы смотрели телевизор.
До переезда мы жили в нескольких милях отсюда с бабушкой и дедушкой в их белом доме с колоннами на семь спален, окруженном высокими деревьями и широкими лужайками. Но мама хотела независимости и перебралась в эту квартиру, сляпанную из гаража, – хотя на самом деле не могла себе позволить платить за аренду 85 долларов в месяц.
Мы с мамой были бедны, но, когда жили с бабушкой и дедушкой, я мог приглашать к себе друзей и делать вид, что у меня все в порядке. А теперь наша маленькая семья жила в холодном гараже. Вся мебель в нем была куплена в магазине Армии Спасения или сети сэконд-хендов «Гудвилл». Диван в гостиной одряхлел настолько, что, когда на него садились, на пол сыпались куски поролона.
Я узнал о своей бедности в начальной школе в Дариене. Маленький светловолосый мальчик подошел ко мне и заявил: «Ты нищий!» Мне не нравилось быть бедным в одном из самых благополучных городов США. И мне не нравилось, что я не могу пригласить к себе друзей. Единственный из них, кто бывал в моем новом доме, – Роберт Дауни-младший: его семья тоже жила в гараже.
Мы с мамой были бедны, но, когда жили с бабушкой и дедушкой, я мог приглашать к себе друзей и делать вид, что у меня все в порядке.
Я хотел пригласить к себе поиграть своего лучшего друга Бобби Миллера. Но у него был дом на восемь спален. Он возвышался над рекой, окруженный папоротниками и березами. По стандартам Дариена, Бобби и его семья относились к среднему классу: Миллер-старший занимал пост вице-президента IBM.
Еще один мой друг, Фил, жил в кирпичном особняке в конце длинной извилистой подъездной дороги. Я подслушал, как дедушка говорил об его отце: «Он получил в наследство несколько сотен миллионов долларов и управляет банком». А еще был Грант, его папа владел земельным участком в десять акров и работал в крупной консалтинговой фирме «Lazard Frères». И Дэйв, который жил в старом каменном доме. Его отец был исполнительным директором «General Electric»… И так далее: бескрайнее море обеспеченных родителей и их чистых, красивых детей.
Они играли в теннис. Катались на лыжах. Умели играть в лакросс и хоккей на траве. Они знали, где находятся Бермудские острова. Они летали в Швейцарию. А я никогда не покидал США, но однажды был на свадьбе в Небраске.
Сегодня мой друг Скаддер пригласил меня к себе с ночевкой. Его отец должен был заехать за мной. Я не хотел, чтобы Скаддер, или его папа, или кто-то еще знал, что я живу в бывшем гараже. Так что, когда давал свой адрес, то соврал, что живу в симпатичном доме, что стоял в четверти мили от моего жилья.
Папа Скаддера должен был забрать меня в семь вечера, поэтому я вышел из квартиры в 18.45. На мне были джинсы Lee и йельский джемпер, который мама купила в комиссионном магазине Общественного центра Дариена. Я старался выбирать одежду, в которой не выглядел бы как бедняк. Вполне стильные кроссовки мы купили в супермаркете: добрая контролерша разрешила приобрести их на продуктовые талоны. Я надел еще одну новую вещь – синюю куртку, которую бабушка и дедушка подарили мне на Рождество.
Я подошел к дому, который обозначил для своего друга своим, и встал под деревом у дороги. Через несколько минут подъехал папа Скаддера на новеньком «Мерседесе».
– Эй, парень! – сказал он. – А почему ты под дождем ждал?
– Ой, – сказал я, смущенно улыбнувшись. – Да вот, хотел свежим воздухом подышать!
Я слышал эту фразу по телевизору и счел ее подходящей.
– Свежим воздухом? Дождь же, парень.
– Ну, мама курит на кухне, – быстро нашелся я с ответом.
Он поморщился, когда я, сильно промокший, плюхнулся на кожаное сиденье его новой немецкой машины.
– Ты насквозь мокрый! Сколько ты там стоял?
– Пару минут всего, – соврал я.
К счастью, он сменил тему.
– Надеюсь, ты голодный. Миссис Болдуин готовит мясной рулет.
– О, здорово, я люблю мясной рулет![40]
Папа Скаддера закурил, и остаток пути мы говорили о «Yankees». Это была моя любимая бейсбольная команда, а кетчера Турмана Мансона в ней я считал первым игроком. Еще мне нравился питчер Спарки Лайл, но он появлялся на поле не так уж часто. Прошлым летом мы с дедушкой ходили на стадион – посмотреть бейсбольный матч с «Yankees». Я постарался упомянуть об этом в разговоре с папой Скаддера.
Через пятнадцать минут мы выехали на Олд Кобблер Роуд, где жила семья Болдуинов. Дариен стал городом в шестнадцатом веке, и эта улица была его ровесницей. Мы проехали мимо двух древних каменных ворот и припарковались. Когда же вышли из машины, к нам подбежали с веселым лаем золотистый ретривер и черный лабрадор. Они подпрыгивали и лизали меня в лицо.
Я узнал о своей бедности в начальной школе в Дариене. Маленький светловолосый мальчик подошел ко мне и заявил: «Ты нищий!»
– Морган! Стэнли! – добродушно прикрикнул папа Скаддера. – Тихо!
В кухне было тепло, пахло мясным рулетом и сигаретным дымом.
– Здравствуйте, миссис Болдуин, – сказал я, осторожно пожимая руку маме своего друга.
– Вот бы все приятели сына были такие вежливые! – сказала она с улыбкой. – Он в логове.
Я уже был в этом доме, поэтому прошел по застланному ковром коридору в семейную комнату отдыха – так называемое «логово». Там на стенах висело много семейных фотографий: Болдуины на яхте, в горах, в Европе, под огромной рождественской елкой. Мой друг и два его старших брата смотрели по телевизору шоу «Боулинг за доллары»[41].
Братья Скаддера не общались со мной; они были высокими подростками, учились в средней школе, занимались спортом, и я старался к ним не обращаться и не смотреть на них.
– Привет, – сказал я.
– Привет, Моби, – ответил Скаддер, не отрывая взгляда от экрана.
Мы с ним были знакомы с детского сада, но я впервые собирался ночевать в его доме. Единственный бедный ребенок-безотцовщина в кругу своих друзей, иногда я думал: их приглашения на дни рождения и ночевки – осторожная форма местной благотворительности. Меня устраивало такое положение дел, ведь мне доводилось проводить время в теплых домах с коврами.
Стены «логова» были облицованы темным деревом, на полках лежали коробки с настольными играми, а еще там стояли два пинбольных автомата. Я исследовал дом в прошлый визит и уже знал, что в нем есть еще одна семейная комната, парадная гостиная, парадная столовая, солярий и большой кабинет. На участке вокруг него – оранжерея, бассейн и теннисный корт. На втором этаже располагались шесть спален и комнаты для прислуги.
Темнело. Включилась подсветка фасада дома, и я разглядел в окно бассейн, обложенный камнями и закрытый на зиму.
– Жду не дождусь лета, – сказал я.
Скаддер и его братья недовольно покосились на меня: им не нравилось, что с ними разговаривают, когда они смотрят телевизор. Это был их мир, и это было все, чего я желал. Внутреннее отопление. Бассейн. Комнаты для игр. Оранжерея… Но сильнее всего я нуждался в ощущении сопричастности. Болдуины выглядели так же, как все остальные в школе, и жили так же, как все. Их родители владели миром, и мир склонялся перед ними. А я… То, что мы оказались в одном городе, было странным капризом торговли недвижимостью и протестантского наследия.
В XVIII веке я, наверное, был бы мальчишкой-конюхом, которого иногда пускали бы в господский дом, который пугался бы собственной тени и чувствовал бы себя в своей тарелке только в компании лошадей и собак. Приходя к друзьям в гости, я всегда старался быть вежливым, сидеть тихо и не привлекать к себе внимания. Мне было тревожно оттого, что кто-то может посмотреть на меня внимательно и распознать мою истинную природу.
В холле послышался голос мамы Скаддера: ужин был готов. Я подскочил, но Скаддер и его братья проигнорировали ее слова. Она позвала снова.
– Может, пойдем ужинать? – спросил я.
Меня они тоже проигнорировали, их внимание было приковано к «Боулингу за доллары». Мама Скаддера вошла в комнату и выключила телевизор.
– Ма-а-а! – в унисон недовольно протянули Скаддер и его братья.
– Ужин готов, малыши! – объявила она.
Братья Скаддера не были малышами. Они выглядели жуткими тринадцатилетними чудовищами. Если бы я назвал их «малышами», они, наверное, без труда разорвали бы меня на кусочки.
Мы молча прошли через холл и расселись за кухонным столом. Парадная столовая предназначалась для праздников и вечеринок, а кухня – для простых семейных ужинов. Мама Скаддера подала на стол еду, а мой друг и его братья пошли к холодильнику и налили в свои стаканы кока-колы.
Кока-кола! Это была величайшая роскошь – дороже бассейна, теннисного корта и оранжереи! У нас с мамой в холодильнике стояли бутылки с молоком и апельсиновым соком, и мы разбавляли напитки водой. С целью экономии.
– Можно мне кока-колы, миссис Болдуин? – спросил я.
Она улыбнулась:
– Конечно, Моби! Угощайся.
– Почему ты такой вежливый? – буркнул один из братьев Скаддера. – Это странно.
– А по-моему, мило, – сказала мама Скаддера. И снова обратилась ко мне: – Твоя мама хорошо тебя воспитала.
Я хотел сказать: «Это не вежливость, миссис Болдуин, это страх». Мне хотелось пребывать в доме друга, поэтому приходилось притворяться: делать вид, что мы с ним «одной крови». Вежливость была самым простым способом избежать изгнания.
Я налил в стакан кока-колы и опустил в него несколько маленьких кубиков льда. Глотнул. Пузырьки щекотали нос, пахли розой и фруктами.
Миннеаполис, Миннесота
(2000)
– Play на первом месте в Англии! – раздалось в телефонной трубке.
На мне был желтый дождевик, и я говорил со своим европейским менеджером Эриком по телефону-автомату у аптеки в Миннеаполисе.
Эрик жил в Лондоне. После того, как дела Play пошли на лад, я звонил ему каждое воскресенье в одно и то же время, чтобы узнать, на каком месте мой альбом в британских чартах. На прошлой неделе Play был на третьем месте, а теперь… Я не поверил словам Эрика и переспросил:
– Правда?!
– Правда! – прокричал он в трубку сквозь 6000 миль, разделяющие нас. – Ты на первом месте!
В Миннеаполисе я играл на разогреве у группы Bush на концертах MTV Campus Invasion. Фанаты Bush, поклонники альтернативного рока, были не слишком благосклонны к электронной музыке, которую исполняла моя разношерстная группа (барабанщик, бас-гитарист и диджей). Аудитория была не то чтобы враждебна – скорее озадачена. Хотя Play хорошо продавался, я пока не получил никаких отчислений и по-прежнему не мог нанять профессиональную певицу[42]. У нас не было женского вокала, поэтому для половины песен из сет-листа требовались вокальные сэмплы. И когда мы играли «Why Does My Heart Feel So Bad?» и «Natural Blues», микрофон одиноко торчал в центре сцены.
Play вышел в свет десять месяцев назад. Тогда он показал такой результат: три тысячи проданных пластинок за неделю. Сейчас же их раскупали за тот же срок в количестве сто тысяч экземпляров. Play стал одним из самых продаваемых альбомов в мире, и в двадцати странах эта пластинка вошла в десятку лучших. Эрик сказал, что за последние два месяца число ее проданных копий превысило число реализованных записей всех моих предыдущих альбомов.
– К тому же «Southside» на первом месте в топе радио современного рока! И редакция Spin хочет поместить твой портрет на обложку, – напомнил Эрик. – Это же хорошо?
Я согласился с ним: это было хорошо.
В Миннеаполисе я играл на разогреве у группы Bush на концертах MTV Campus Invasion.
Никому бы в этом никогда не признался, но мне нравилось общаться с прессой и видеть свое фото в журналах. Я знал, что крутых музыкантов не волнует внимание прессы, или, по крайней мере, они притворяются, что оно их не заботит. Но меня оно волновало. Оказываясь дома, в Нью-Йорке, я следовал пятничному ритуалу: ходил в магазин журналов в Сохо, на углу Принс-стрит и Лафайет-стрит, и искал свое фото или упоминание о себе в журналах. Признание грело мою душу.
Чем больше внимания я получал, тем больше его желал. Чем больше подарков делала мне жизнь, тем больше мне было нужно. Мне нужно было больше гастролей, больше публикаций, больше алкоголя и больше приглашений на вечеринки звезд. Больше интимных связей за одну ночь. Жизнь была прекрасна, и я хотел, чтобы все так и оставалось.
Я по-прежнему молился по утрам и иногда даже осторожно просил, чтобы свершилась Господня воля. Но на самом деле желал, чтобы Господня воля свершилась только в том случае, если она обеспечит рост моей популярности.
Несколько недель я пытался быть бойфрендом Натали, но не получилось. Я долго собирался рассказать ей о своей панике, но однажды вечером она позвонила мне и сказала, что встретила кого-то другого. Она ожидала, что я расстроюсь или разозлюсь. Но меня обуяла радость от того, что не придется рассказывать о своей ущербности.
Чем больше внимания я получал, тем больше его желал. Чем больше подарков делала мне жизнь, тем больше мне было нужно.
С тех пор я еще дважды влюблялся и, возможно, был бы счастлив в отношениях с любой из своих женщин, если бы мысли о втором свидании не заставляли меня паниковать. Я перестал встречаться с кем бы то ни было и отдался гастрольному образу жизни распущенного алкоголика. Это было отвратительно, но хотя бы не вело к панике.
Несмотря на расставание, мы с Натали остались друзьями. Месяц спустя, когда я гастролировал в Австралии, она пришла на мой концерт в Мельбурне и привела с собой актеров приквела «Звездных войн». Она танцевала с Юэном Макгрегором и исполнителями ролей ДжаДжа Бинкса и молодого Дарта Вейдера.
«Дарт Вейдер танцует с Оби Ваном», – подумал я, когда закричал в песне «Bodyrock».
После концерта я пил с Юэном Макгрегором в гримерной водку и шампанское. Несколько стаканов спустя мы решили, что нам нужно пойти в город и выпить еще, но мне следует быть голым. Я без лишних слов разделся. Sandy, мой тур-менеджер, убеждал меня:
– Моби, хотя бы полотенцем прикройся!
И я отправился в центр Мельбурна с полотенцем на бедрах. Босиком. Без одежды. В одном полотенце.
Мы с Юэном плелись от бара к бару, напиваясь все сильнее. В конце вечера забрели в подземный ресторан, битком набитый австралийскими звездами. Я пошел в туалет облегчиться и обнаружил у писсуара по соседству Рассела Кроу. Он застегнул штаны, а потом начал орать на меня как резаный.
– Эй, мы никогда не встречались! – бормотал я. – Почему ты ругаешься?
Он не ответил, прижал меня к стене и продолжал орать. Но через минуту потерял ко мне интерес, в последний раз выругался и ушел.
Я вернулся в зал и сказал Юэну:
– На меня только что наорал Рассел Кроу.
– Не бери в голову, чувак! – ответил он. – Не стоит того. Он на всех орет.
* * *
Я повесил трубку телефона-автомата в Миннеаполисе, вышел из будки и встал под дождем, пытаясь осознать то, что сказал мне Эрик: мой альбом был на первом месте в Великобритании! Именно в Англии появилась рэйв-сцена. Именно в Англии родилась группа Clash. Это была страна Joy Division и Monty Python, Бертрана Расселла и Уильяма Блейка, и Джона Лайдона – тоже…
Я рос одержимым Великобританией и в течение нескольких недель в старшей школе даже пытался выдавать себя за англичанина. Я подражал акценту, который слышал в сериалах «Башни Фолти» и «Летающий цирк Монти Пайтон», и говорил, что я родственник Терри Холла, вокалиста Specials. Ничего не вышло: акцент звучал, как у актера Дика Ван Дайка в «Мэри Поппинс». К тому же почти все в школе знали меня с детского сада и не могли понять, почему я вдруг начал притворяться британцем.
До концерта было еще несколько часов, поэтому я вернулся в свой отель «Holiday Inn», чтобы приготовить себе обед.
Продукты я купил днем раньше в магазине здорового питания в Висконсине. Я достал из упаковки несколько сосисок, изготовленных из тофу[43], положил их в пластиковый пакет, прошел в ванную и опустил его в раковину. Затем наполнил ее горячей водой, чтобы тофу нагрелось. Через десять минут сосиски были теплыми, как лужайка в летний день.
У меня не было ножа, так что пришлось намазывать горчицу на два куска хлеба карточкой подписки на журнал «In Minneapolis». Я положил тофу и хлеб на полотенце для рук и съел их, запивая вчерашним морковным соком.
Обед в «Holiday Inn», скромном отеле, что стоял через дорогу от автобусной станции, вряд ли можно считать роскошным, но мой альбом занял первое место в Англии. И теплые веганские сосиски казались самым прекрасным блюдом в моей жизни.
Сомерсет, Англия
(2000)
До того, как я начал играть на фестивалях в начале 90-х, единственным масштабным мероприятием на открытом воздухе, отмеченным моим присутствием, был праздник морепродуктов в Вестпорте в 1974 году. На фанерной сцене играли блюграсс-группы[44], а несколько сотен человек сидели на траве, пили пиво и уплетали печеных моллюсков. Тогда мама встречалась с парнем, который играл на банджо в одной из групп. Он разрешил мне сидеть на краю сцены, пока его коллектив исполнял попурри из песен Эрла Скраггса[45].
А теперь я был участником крупнейшего британского музыкального фестиваля в Гластонбери. Закат расцвечивал небо пастельными мазками. Я стоял на сцене, играл «Porcelain» и смотрел, как сто тысяч человек подпевают моей песне. Когда она закончилась, толпа взорвалась – не обычными фестивальными аплодисментами, а ошеломительно громким воем, в котором звучали только любовь и восторг.
Я играл в Гластонбери до этого в 1997 году под дождем – стоя под грязным навесом, для тысяч промокших рэйверов. В этом году было тепло и сухо. Перед выступлением я зашел в палаточный лагерь, которым руководили музыканты Джо Страммер из Clash и Без из Happy Mondays. В старшей школе я любил Clash; Джо Страммер, наряду с Леонардом Коуэном[46], Лу Ридом и Дэвидом Боуи, был одним из моих героев. Джо и Без угостили меня пучином – самодельным ликером, который они варили на чьей-то кухне, – а потом мы танцевали под регги, звучавшее из бумбокса[47], который стоял на стоге сена.
Чтобы избавиться от морального самобичевания, я убедил себя, что ищу любовь.
Сейчас Джо вместе с Лиамом Галлахером[48] стоял сбоку от сцены, танцуя и подпевая мне вместе со всей толпой зрителей. Я вспомнил, как однажды Лиам на фестивале во Франции оценил одну из моих песен, «Natural Blues». Он щелкнул пальцами и сказал: «Музыка, приятель!»
Солнце закатилось за горизонт как раз в тот момент, когда мы закончили выступление песней «Feeling So Real». Воздух был теплым и ласковым. Облака подсвечивались розовым, серым и нежно-голубым.
После концерта моя группа, техники и Джо с Безом в компании еще нескольких парней, с которыми мы познакомились за кулисами, ввалились в мой непримечательный номер в отеле. Джо прихватил с собой бумбокс; кто-то поставил диск с драм-н-бэйсом[49], а стол в гостиной быстро покрылся травкой, бутылками водки и дорожками порошка. Вскоре в номере заклубился дым от сигарет и самокруток.
Один из друзей Джо предложил мне порошок. Я всегда опасался кокаина: он казался мне наркотиком, который начинают принимать перед завершением карьеры. Поэтому вежливо сказал:
– Нет, спасибо.
– Ну, как хочешь, приятель, – ответил он и принял дозу. – Мне больше достанется!
Кто-то поставил диск с хип-хопом, и вскоре стало ясно, что со мной танцует Бекс, ирландская публицистка, которая написала обо мне статью для одного из крупнейших музыкальных журналов. Мы начали целоваться и трогать лица друг друга, а потом, не дожидаясь конца песни, я взял ее за руку и повел в спальню.
Продажи Play росли с каждым месяцем, мои фото появлялись на новых обложках, и случайных связей становилось все больше и больше. Раньше я годами ходил по барам и напивался, набираясь храбрости, чтобы заговорить с женщинами, которые мне нравились. Сейчас же они сами подходили ко мне.
Чтобы избавиться от морального самобичевания, я убедил себя, что ищу любовь. Парализующие панические атаки по-прежнему не давали мне завести настоящие долгосрочные отношения. И я продолжал искать любовь в объятиях тех, кто был достаточно милосерден, чтобы провести со мной ночь. Сегодня это была Бекс из Ирландии.
Обычно ирландские женщины сдержанны, но, как только я закрыл дверь спальни, Бекс сразу же расстегнула блузку и сбросила брюки. У нее были короткие светлые волосы и веснушки на носу. Таблетки сделали ее зрачки огромными, как планеты.
– Я тебе нравлюсь? – спросила она, стоя передо мной обнаженной.
– Конечно! – ответил я, избавляясь от собственной одежды. – Ты восхитительна!
Мы упали на кровать и занялись сексом.
Дверь в комнату открылась, вошел Скотт, мой барабанщик.
– Моби, ты… – начал он и умолк, увидев нас с Бекс в постели.
– Уйди, Скотт, – сказал я.
– Уйди, Скотт, – повторила за мной Бекс.
– Простите! – выдохнул тот и вывалился из комнаты.
Я посмотрел на Бекс, обнаженную и ослепительно красивую.
– Подожди! – сказал я, выбрался из постели и снял со стены зеркало. Вернулся в постель и поставил его перед женщиной.
– Ты прекрасна, – сказал я Бекс. – Я хочу, чтобы ты видела то же, что и я.
– Ох, это чудесно! – ответила она, глядя на отражения наших тел в зеркале.
Следующие несколько часов мы занимались сексом, глядя друг другу в глаза. Когда же закончили, было уже поздно, и большая часть гостей с вечеринки разошлась. Кто-то в гостиной поставил London Calling, но Джо Страммер, который, очевидно, еще не ушел, закричал: «Ох, черт вас возьми, нет!»
Мы с Бекс завернулись в жесткое покрывало из полиэстера и обнялись. Моя голова шла кругом от водки, наркотика и секса. А еще от того, что несколько часов назад сто тысяч людей на фестивале искупали меня в море своей любви и признания.
Из-за двери послышалась баллада Дэвида Боуи «Wild is the Wind».
Я сел на кровати и сказал Бекс: «Пойдем».
Мы накинули пушистые халаты, и я повел ее в гостиную. В ней осталось всего несколько человек, и среди них был Пабло, мой новый перкуссионист. Самые стойкие участники вечеринки допивали водку, а я взял Бекс за руку и повел ее в медленном танце.
– Cause our love is like the wind, – подпевал я Дэвиду Боуи, не попадая в ноты, – and wild is the wind[50].
Песня закончилась, и оставшиеся пьяные гости дружно мне зааплодировали. Я посмотрел на Бекс. Она стояла посреди гостиной, полной дыма, в окружении пустых водочных бутылок, пивных банок и смятых упаковочных пакетов на полу, и по ее щекам текли слезы.
– Спасибо! – сказала она. – Ты прекрасно пел. Я никогда ни с кем не танцевала медленный танец вот так…
– Правда? – потянул я ее назад в спальню. – Я люблю медленные танцы. И собираю песни, под которые их можно танцевать. У меня есть даже записи Селин Дион[51].
– Что? – она сморщила нос. – Селин Дион?!
– Ну да. – Я не смутился. – Пару лет назад мы с другом Фэнси устроили вечеринку и ставили на ней только медленные песни. Все напились, танцевали и обнимались. Представь себе – полная комната хипстеров, пьяно поющих вместе с Селин «My Heart Will Go On»!
Самые стойкие участники вечеринки допивали водку, а я взял Бекс за руку и повел ее в медленном танце.
Мы вернулись в постель и снова завернулись в покрывало. Солнце уже взошло и неуверенно освещало спальню сквозь занавески на окнах.
– А кроме песен Селин Дион какие медленные песни тебе нравятся? – спросила Бекс.
– «I Only Have Eyes for You» Flamingos, – без раздумий ответил я. – Лучшая романтическая медленная песня из когда-либо написанных!
Мы тихо ласкали друг друга. Бекс сказала:
– Поверить не могу, что занималась сексом с любителем Селин Дион.
Я засмеялся.
– Ладно, я соврал! Я все это придумал.
– Нет, не придумал.
– Нет, – сказал я. – Не придумал. Но ты слышала «My Heart Will Go On»? Она действительно хороша.
– Остановись!
– Ладно, ты права.
Я лежал, улыбаясь и прижимаясь к прекрасной Бекс. В другой комнате зазвучала «Golden Years».
– Можно тебе кое-что сказать? – спросил я.
– Давай, – сонно ответила она.
– Дэвид Боуи – мой сосед.
– Что?! – Бекс мгновенно проснулась.
– Недавно переехал, живет через улицу от меня. Мы подружимся.
Она прикоснулась к моему лицу, посмотрела в глаза и спросила:
– Кто ты?
Я слышал, как за дверью Дэвид Боуи поет: «Nothing’s going to touch you in these golden years»[52]. Всем своим существом я желал, чтобы он оказался прав.
Дариен, Коннектикут
(1972)
Ферман, мамин бойфренд, накурился травки прямо перед тем, как отвести меня на завтрак с блинчиками, организованный «Индейскими проводниками» в День труда.
Я вступил в ряды «Индейских проводников» год назад, в первом классе, вместе со всеми своими друзьями. Это была первая ступень к превращению в скаута, а все мы очень хотели стать скаутами.
Занятий в организации было немного. В мае мы участвовали в параде Дня памяти и раз в месяц собирались у кого-то из нас дома, ели спагетти и слушали рассказы чьего-нибудь папы о походах, установке палаток и завязывании узлов.
Сегодняшний завтрак с блинчиками должен был пройти в доме моего друга Джеффа. Его папа работал на Уолл-стрит, учился в школе Лиги плюща, играл в гольф и всячески старался выглядеть и вести себя так, будто на дворе 1952 год, а 60-х не было.
Ферман, новый мамин парень, считал, что 60-е годы так и не прошли. Он был ростом в шесть футов и два дюйма, гордился черными волосами длиной до середины спины и имел густую черную бороду. На завтрак с блинчиками у «Индейских проводников» он решил надеть кожаные штаны и жилет с бахромой, еле-еле прикрывающий голую волосатую грудь.
Я хотел, чтобы меня отвез дедушка. Он был на тридцать лет старше, чем папы моих друзей, но, как и почти все они, работал на Уолл-стрит и походил на чисто выбритого армейского полковника. Когда мама объявила, что меня отвезет Ферман, я ничего не сказал. Если она что-то решила, с ней не стоило спорить. Нам обоим было лучше, когда я делал то, что она хотела.
Ферман и мама накурились в спальне, а я в это время тихо играл на лестнице с игрушечными машинками. Когда взрослые были пьяны и обкурены, следовало соблюдать тишину, а взрослые постоянно были пьяны и обкурены.
За неделю до этого Ферман взял нас с мамой в поездку на лодке к одному из островов близ Лонг-Айленда. Он был членом коннектикутской банды байкеров под названием «Дубы Хартии», поэтому в лодке с нами плыла шумная компания здоровых бородатых дядек в кожаных одеждах. Когда мы высадились на остров, мне пришлось уйти от пьяных и крикливых взрослых. Целый час я бродил по округе и исследовал развалины старого дома посреди острова. Потом проголодался, заскучал и захотел домой.
– Когда мы поедем обратно? – спросил я Фермана.
– Парень, остынь, нам весело, – ответил тот, пьяно, по-волчьи, улыбаясь.
Я снова бродил по острову один и плакал, пока взрослые курили, пили дешевое пиво и крутили на портативном магнитофоне кассету James Gang.
Сегодня, после того как мама закончила курить, она надела на меня жилет с бахромой, точно такой, какой был у Фермана, и головную повязку с птичьими перьями.
– Другие дети не наряжаются, – недовольно сказал я.
– Но ты же Индейский проводник, – ответила мама и воткнула в мою повязку еще одно перо.
Ферман взял меня за руку и молча повел через задние дворы к дому Джеффа. Мы прошли мимо старой каменной стены времен американской революции, и здесь Ферман споткнулся и упал.
– О, черт возьми, мать вашу! – вскрикнул он, впечатавшись задом в грязь и сырые листья.
Я огляделся в надежде, что вокруг никого нет и никто не слышит, как он ругается. Ферман ощупал свой зад и снова выругался: на его кожаных штанах появилась небольшая дырка.
– На хер все! – яростно выкрикнул он.
Я смотрел на него, не зная, что делать с этим огромным злым взрослым.
– Ну, что ты уставился?! – рявкнул он на меня.
– Не знаю… – растерянно ответил я.
Когда взрослые были пьяны и обкурены, следовало соблюдать тишину, а взрослые постоянно были пьяны и обкурены.
Было начало сентября, и с утра у меня было хорошее настроение: через несколько дней мне исполнялось семь лет. Я надеялся, что на день рождения бабушка, дедушка и мама поведут меня в ресторан «На ферме старика Макдональда». Это было лучшее место в мире. Там подавали рутбир[53] в замороженных кружках, а пока твой заказ готовили, можно было пойти в контактный зоопарк и покормить кур зерном. Там даже был мини-гольф на девять лунок; мне очень хотелось перед обедом поиграть в него с дедушкой.
При том условии, что я доживу до дня рождения и Ферман не придушит меня прямо здесь, на заднем дворе, по дороге к дому Джеффа.
Ферман не веселился и не улыбался. Он резко встал с земли и пошел дальше, бормоча себе под нос грязные ругательства.
Около дома Джеффа все Индейские проводники собрались вокруг длинной металлической печи для жарки блинчиков, которую поставили между бассейном и теннисным кортом. Папа Джеффа увидел Фермана в жилете с бахромой и весело сказал:
– А вот и настоящий индеец!
Ферман встал как вкопанный и громко сказал, коротко и четко:
– Идите. На хер.
Он развернулся и быстро зашагал по подъездной дороге и дальше по улице, оставив меня одного. Повисло неловкое молчание. Все Проводники и их отцы смотрели на меня. Ни у кого на голове не торчали перья – только у меня. Все были одеты в обычные шорты и футболки – только я красовался в нелепой для этого случая этнической одежде индейцев.
На лицах взрослых застыли гримасы жалости. Они жалели меня, потому что я был беден и не имел отца. Но мне казалось, что им хотелось, чтобы у меня хватило ума не приходить на этот завтрак. Я приносил в их чистый, отполированный мир нечистоту нищеты.
Я стоял перед ними в своем дурацком жилете с бахромой и повязке с перьями и вдруг расплакался. Мне было стыдно. Один из мужчин подошел ко мне с бумажной тарелкой, полной еды. Он отвел меня к столу для пикника, покрытому клетчатой виниловой скатертью, и посадил на скамейку. Я сидел и горько всхлипывал. Подошли мои друзья – братья Терри и Джон. Их семья была единственной католической семьей в округе.
– Что случилось? – сочувственно спросил Терри.
Мне было шесть лет, мой папа умер, мама была хиппи. Я был беден, и меня только что бесцеремонно бросил вдали от дома обкуренный злобный байкер. Но я не смог ничего сказать и продолжал плакать над тарелкой с сосисками и блинчиками.
Нью-Йорк
(2000)
Петь «oh babe»[54] в припеве было неловко. Но я уже давно работал над песней и никак не мог придумать, что бы еще спеть в этом месте. И это «oh babe» не было ни чувственным, ни милым – оно было отчаянным. Я уже записал строчку «oh babe, then it fell apart», но теперь напрягал мозг в поисках слов получше, чем «oh babe».
Я попробовал «oh lady». Нет.
Как насчет «oh maybe»? Нет.
«Oh now»? Нет.
Слово «babe» было банальным, оно слишком часто использовалось в лексиконе рок-музыки, но звучало лучше, чем все другие слова, которые я пытался подставить.
Мне выпала неделя выходных между европейскими и австралийскими гастролями, и большую часть этого времени я провел дома, записывая новую музыку. Благодаря Play я оказался в пантеоне известных музыкантов, гастролирующих по всему миру, но в крохотной студии на Мотт-стрит ничего не изменилось.
На самом деле так называемая «студия» раньше была моей спальней, но я работал в ней, потому что здесь, в отличие от остальных комнат, было тихо и работал кондиционер. Спал я в маленькой кладовке под пролетом лестницы. Туда едва помещалась кровать.
В остальном квартира практически не изменилась с того момента, как я поселился в ней в 1995 году. Грязно-белый диван едва стоял на своих импровизированных опорах. Его ножки сломались под весом одного из моих друзей, плясавшего на нем пьяным. Пришлось заменить их стопками книг и кусками досок, найденными в коридоре. Обивка дивана была в красных пятнах, потому что другой мой друг занимался на нем сексом со своей подружкой, у которой в тот день начались месячные. Измазанные подушки я укладывал чистой стороной вверх, но на спинке дивана оставались красоваться кровавые отпечатки рук.
В студии повсюду валялось оборудование, а диски и кассеты с записями были сложены в кучки. Маленький серый микшерный пульт стоял на шатком столе. Я собрал этот стол из обрезков фанеры, которые нашел в мусорке, и боялся на него опираться: он легко мог развалиться. Клавишные нашли свое место на решетчатых ящиках из-под молока. Ящики достались мне бесплатно, потому что я унес их с магазинного двора без разрешения. В них можно было хранить и перевозить пластинки, на них можно было ставить музыкальное оборудование, на них можно было сидеть, если для гостей не хватало стульев. Они не имели цены!
В этот день ко мне на обед пришел мой друг Ли.
– И вот так работают музыканты-миллионеры? – спросил он, заходя в убогую студию. – Знаешь, мне казалось, что ты можешь себе позволить что-то получше!
Он был прав, но эта маленькая студия, бывшая спальня, мне нравилась.
Новая песня получалась такой, что могла бы войти в альбом группы Rolling Stones Exile on Main St. Или, точнее, я надеялся, что она звучит как что-то такое, что могло бы войти в этот альбом. Я работал над ней пару часов, и пока что был недоволен слишком громким припевом и звучанием гитары. Пришлось добавить программированные ударные, но они были слишком жесткими и замедляли песню. В библиотеке ударных сэмплов мне удалось найти новые брейкбиты[55]. Они были гибкими, – именно то, что нужно, – так что я зациклил их и стер все, что добавлял раньше.
Мне хотелось, чтобы моя музыка была интуитивной, а не академической. Спонтанная эмоциональная реакция на музыкальную идею всегда намного сильнее, чем ментальный ответ.
Теперь у меня была гитара, припев и несколько брейкбитов, но не хватало куплета. Слушая записи Нила Янга[56], я открыл для себя небольшой его секрет. Или, можно сказать, узнал одно из творческих правил опытного музыканта: «Если сомневаешься, возьми для куплета те же аккорды, что и в припеве, но сделай их тише». Я попробовал использовать в куплете ту же последовательность аккордов, что и в припеве, но более сдержанную. И это сработало.
Я повернулся к дешевому микрофону SM85, которым пользовался все последние десять лет, и пропел «extreme ways are back again»[57] – не имея ни малейшего понятия о том, откуда эта строчка вообще взялась. В середине 80-х я посещал курс по истории сюрреализма в местном колледже. Из него мне стало известно, что Марсель Дюшан и другие сюрреалисты были странными не ради самой странности, а пытались достичь бессознательного через автоматические процессы творчества. Я следовал их путем, сочиняя и записывая музыку без особого планирования и размышления, позволяя своему внутреннему существу выражать себя без посредников. Мне хотелось, чтобы моя музыка была интуитивной, а не академической. Спонтанная эмоциональная реакция на музыкальную идею всегда намного сильнее, чем ментальный ответ. Так что я старался писать музыку не думая, хоть это и не всегда получалось.
Фраза «extreme ways are back again» звучала как чествование того сияющего безумия, в которое превратилась моя жизнь. Но аккорды, лежащие в основе мелодии, были мрачными и печальными, они заставляли текст звучать как предупреждение. Я написал еще немного текста для куплетов, добавил оркестровые струнные, наложил простую басовую линию, и песня была закончена.
Но она не получилась. Я включил ее, и она зазвучала прекрасно, но оказалась слишком простой. Я всегда намеренно делал элементы музыкального сопровождения, привлекающие внимание, грубыми и материальными, но в этой песне такого не случилось. Пришлось включить синтезатор и сыграть поверх трека несколько аналоговых мелодий – эффект не был достигнут, все они звучали нелепо и приторно.
И тут я вспомнил о старом сэмплере Yamaha, с которым работал еще на первом своем концерте в 1990 году. В нем было несколько примечательных скрипичных сэмплов, и я надеялся, что они смогут придать треку интересное звучание.
Я включил сэмплер, вставил загрузочный диск и пять минут загружал сэмплы струнных инструментов. Неудивительно, что мне не нравился этот прибор – самый медленный, самый нелепый аппарат из тех, что у меня имелись. Не верилось, что я работал с ним на своем первом концерте[58].
Пока сэмплы загружались, я пошел в уборную. В коридоре на полу сверкали золотые и платиновые диски. Play получил золото и платину в 25 странах, и с каждой неделей почетных наград в рамках становилось все больше. Я не знал, что с ними делать, и просто складывал их стопкой у стены в длинном коридоре.
Ни одна вечеринка, ни одна платиновая пластинка не доставляли мне такого удовольствия, как тот момент, когда создаваемая песня складывалась, становилась музыкальным произведением.
Сэмплы, наконец, загрузились. Я попробовал вставить их в начале песни, но ничего не получилось. Переключился на другую коллекцию, попробовал изменить тональность. И вдруг все сложилось! В нужной тональности струнные зазвучали разъяренно и угрожающе, словно злобные привидения!
Я добавил в трек этот жутковатый хук[59] и прослушал запись. Новая аранжировка и струнные с измененной тональностью превратили непримечательную рок-композицию во что-то куда более грустное и мощное. Я ощутил цельность и значимость звучания. И радость свершения.
А потом подумал: почему бы не добавить немного общепринятого в сочинении песен? В треке было место для предприпева – место между куплетом и припевом.
– I would stand in line for this, there’s always room in life for this[60], – пропел я поверх нисходящих гитарных аккордов. И после этого уже не пытался придумать что-то еще.
Откинувшись назад в хлипком кресле, я прослушал песню от начала до конца.
Моя ошеломляющая слава сделала меня счастливее, чем когда-либо. Я наслаждался ею, а заодно и алкоголем, и наркотиками, и беспорядочными связями. Но ни одна вечеринка, ни одна платиновая пластинка не доставляли мне такого удовольствия, как тот момент, когда создаваемая песня складывалась, становилась музыкальным произведением.
Создавать новую музыку было чудесно, зачастую я погружался в работу на много часов, не сознавая течения времени. Но вот это – остановиться и прослушать законченную песню – было для меня самым важным. Не только в работе, но и в жизни.
Нью-Йорк
(2000)
– Моби, ты знаком с Миком?
Я запил бокалом шампанского вторую дозу экстази, когда Ричард Брэнсон[61] представил меня Мику Джаггеру[62].
– Нет, – ответил я. – Мы никогда не встречались.
Я протянул руку; Мик пожал ее, разглядывая меня. На нем была розовая шелковая рубашка и темно-синий блейзер, и он был Миком Джаггером. Самый знаковый рок-музыкант стоял в нескольких дюймах от меня и вяло пожимал мне руку.
– Моби выпустил потрясный альбом Play, – сказал Ричард Брэнсон Мику. – Знаешь об этом?
– Да, я его слушал, – сухо сказал Мик, отпустив мою руку и глядя в сторону. Я стоял, смущаясь и размышляя, можно ли говорить с Миком на равных или же Ричард Брэнсон представил меня как забавного лысого молодого музыканта с хитовым альбомом.
– Ну, мне, похоже, пора потанцевать, – наконец собрался я. – Рад был познакомиться, Мик.
Но он не слышал. Он уже отвернулся и теперь был занят флиртом с высокой красивой амазонкой с платиновыми волосами – Софи Даль. Она немного писала книжки, немного снималась в кино, недолго работала фотомоделью, но знали ее в основном потому, что писатель Роальд Даль, автор одной из моих любимых в детстве книг «Джеймс и гигантский персик», приходился ей дедом. Она была почти на фут выше Мика и на сорок лет его младше, но он был неудержим, и, похоже, она сдавалась его напору.
В последнее время я употреблял по 10–15 порций алкоголя за вечер и принимал наркотик каждый раз, как оно попадало мне в руки.
Мой лейбл «V2» арендовал помещение старого банка и устроил вечеринку для группы The Black Crowes. Я провел на VIP-балкон нескольких друзей, и мы пили бесплатное шампанское, бутылку за бутылкой, и глотали наркотик. В последнее время я употреблял по 10–15 порций алкоголя за вечер и принимал экстази каждый раз, как оно попадало мне в руки. Мне пришло в голову назвать свою ежевечернюю дозу алкоголя и наркотиков «коктейль рок-звезды». Это две или три таблетки наркотика, бутылка шампанского и бутылка водки.
Я добрел до бара и попросил у бармена еще одну бутылку «Вдовы Клико».
– Целую бутылку? – спросил он.
– Все в порядке, – уверенно сказал я и добавил: – Тут звучит мой альбом.
Он протянул мне бутылку, а я вдруг увидел прекрасную женщину – высокую, статную, в изящном вечернем платье. Она стояла в одиночестве. У нее были длинные прямые светлые волосы. Казалось, они подсвечены солнцем, и, несомненно, ее голос звучал как пение птиц.
Я подошел к ней.
– Привет, – сказал я. – Вы прекраснейшая женщина на этой планете!
Она улыбнулась.
– А вы – Моби, и вы набрались!
– И это правда.
– У вас есть еще таблетки?
– Нет, – сказал я, погрустнев. Потом сообразил: – Но у моего друга Майкла есть!
Я взял ее за руку и повел мимо Мика Джаггера и Ричарда Брэнсона, мимо Курта Рассела в компании актрис Голди Хоун и Кейт Хадсон, мимо группы моделей и мимо сотрудников лейбла, пока, наконец, не нашел Майкла.
– Майкл, познакомься. Это… – Я повернулся к своей спутнице и запнулся. – Не знаю, как тебя зовут.
– Лорен, – сказала она.
– Да, Лорен! – снова повернулся я к Майклу. – И она прекраснейшая женщина на этой планете!
Я поцеловал ее и спросил:
– Хочешь поехать в «Sway»[63]?
– Да, я хочу поехать с тобой, – ответила она откровенно и сдержанно. Взяла меня за руку и повела за собой прочь с вечеринки.
Когда мы вышли на Лафайетт-стрит, папарацци кинулись снимать меня.
– Моби! – крикнул кто-то из них сквозь ритмичное щелканье фотовспышек. – Это твоя девушка?
– Надеюсь! – громко ответил я, и мы с Лорен сели в такси.
– Спринг и Гринвич-стрит, – сказала она таксисту.
По радио зазвучала песня группы Creedence Clearwater.
– А! – закричал я. – Сделайте громче, пожалуйста!
Таксист засмеялся и прибавил громкость. Под звучание «Proud Mary» мы выехали на Принс-стрит.
«Proud Mary» была первой песней, которая мне понравилась в детстве. Я называл ее «Rolling on the River» до одиннадцати лет, пока мальчик постарше не посмеялся надо мной и не сказал, как называть ее правильно.
Я открыл окно.
– Почувствуй, какой свежий воздух! – весело крикнул я. Лорен засмеялась и взяла меня за руку.
– Лорен, ты такая красивая! – воскликнул я и поцеловал ее.
Мы подъехали к «Sway», моему любимому нью-йоркскому бару, полному наркоманов и дегенератов. Перед входом стояла очередь, но контролер узнал меня и провел нас внутрь.
– Здесь Боно[64], – сказал он, ведя нас сквозь толпу. – Я отведу вас к нему.
– Боно? – сказала Лорен. – Никогда не встречалась с ним.
– Он потрясающий, – пробормотал я, стараясь не отстать от контролера. В задней комнате было намного тише, чем в баре, в ней стояли низкие скамьи, покрытые грязной, прожженной сигаретами тканью с марокканским узором.
Боно сидел в окружении друзей. Он был во всем черном, к тому же еще надел и солнцезащитные очки.
– Моби! – воскликнул он и подскочил. Мы обнялись.
– Принесите ему шампанского! – сказал он подскочившему официанту. – И его прекрасной даме тоже!
Боно представил меня Майклу Стайпу[65].
– А мы знакомы, – сказал я и обнял Майкла. Я полюбил его с тех времен, когда впервые услышал «So. Central Rain» на радио колледжа в 80-х; несколько месяцев назад мы стали друзьями-полуночниками. Затем Боно познакомил меня с писателем Салманом Рушди; тот улыбнулся, сверкнув профессорскими очками. Почему-то я не представлял себе этого серьезного, очень талантливого человека улыбающимся, да еще пьющим шампанское в ночном баре. И смутился.
– Это честь для меня, сэр, – сказал я Салману Рушди, – пожать вашу руку. Я отношусь к вам с большим уважением.
Он засмеялся и ответил:
– Ох, спасибо! Вы очень любезны.
Нам принесли бутылку шампанского, и диджей поставил песню группы Buzzcocks. Боно и я встали и начали танцевать.
– Где мы теперь, – подпевали мы Питу Шелли[66], – все поддельное, ничего настоящего…
– Довольно иронично, – сказал Боно, улыбаясь. Ироничной была не столько песня, сколько ситуация. В юности мы с ним были принципиальными панк-рокерами. И теперь двое бывших детишек-панков пили шампанское ценой три сотни долларов за бутылку во чреве чудовища и напевали старую песню под названием «Paradise», то есть «Рай».
Боно сидел в окружении друзей. Он был во всем черном, к тому же еще надел и солнцезащитные очки.
В пять утра хозяева клуба закрыли его, но разрешили некоторым гостям остаться в задней комнате и допить шампанское. Я налил Лорен еще один бокал.
– Изысканный труп пьет молодое вино! – неожиданно выскочило из меня.
– Что? – удивилась она. Я попытался объяснить ей принцип сюрреалистической автоматической речи, но не смог: мозг усваивал алкоголь и наркотики.
– Знаешь, – вдруг сказал Боно, – мне очень понравился альбом Animal Rights[67].
– Правда? – удивился я и сморгнул. Теперь я мог разглядеть своего друга с трудом, мои пьяные глаза стали жить собственной жизнью. – Ух ты. Он никому не понравился.
– Но мне он понравился. И мне нравишься ты.
Мы обнялись. Лорен шепнула:
– Может, поедем ко мне домой?
– У тебя есть дом? – глупо спросил я.
– Квартира.
– Ладно, поехали.
Когда мы встали, Боно проводил нас словами:
– Береги его, Лорен.
Мы прошли сквозь пустой бар и оказались на залитой рассветным солнцем Спринг-стрит. Взяли такси и быстро доехали до квартиры Лорен. Когда же поднимались на лифте, она предупредила:
– У меня большая собака.
– Люблю больших собак! – громко выкрикнул я. Она только улыбнулась.
Когда Лорен открыла дверь, огромный, весом, наверное, фунтов в сто, ротвейлер выбежал нас приветствовать. Я присел перед ним, и он прыгнул на меня, уронив на пол. Радостно облизал мне лицо.
– Он любит людей! – констатировал я, пока пес катал меня по полу коридора.
Лорен рассмеялась.
– Он не очень умный, но милый.
– Ха, мы с ним похожи! А как его зовут?
– Бочче.
– Baci, по-итальянски «поцелуй»?
– Нет, по-итальянски bocce «игра в шары».
Мы с Бочче начали бегать по квартире и отнимать друг у друга кусок старой обслюнявленной веревки, пока Лорен не сказала:
– Ладно, Бочче, мне нужно забрать твоего нового дружка в постель.
– А где он спит? – спросил я.
– Обычно в кровати, но сегодня будет на полу.
– Прости, Бочче, – сказал я, виновато глядя псу в глаза. – Пожалуйста, прости!
Лорен задернула шторы – черные, светонепроницаемые, – и во тьме мы разделись, легли в кровать и занялись сексом. Бочче сопел и храпел на полу. Позже Лорен предложила мне очередной наркотик и прошептала:
– А теперь закрой глаза, – сказала она. И я закрыл.
Открыл я их через 12 часов. Было девять вечера. Ксанакс и викодин сделали свое дело. Бочче все еще спал, Лорен тоже. Я на ощупь включил свет и обнаружил, что рядом с кроватью на стене висело несколько дюжин ламинированных пропусков за сцену, в основном от хард-роковых и хэви-металлических групп – Monster Magnet, Soundgarden, Jane’s Addiction.
Лорен проснулась.
– Доброе утро, – улыбаясь, сказала она.
– Сейчас девять вечера.
– И все равно доброе утро.
– Monster Magnet? – спросил я, держа в руках пропуск.
– О, нашел мою коллекцию!
Я засмеялся.
– Так я не особенный?
Она улыбнулась и привлекла меня к себе.
– Ох, милый, ты очень особенный!
Дариен, Коннектикут
(1973)
Мама хотела меня ударить. Она никогда прежде меня не била, но никогда прежде она так не злилась на меня.
Мы стояли на растрескавшемся асфальте рядом с нашей квартирой в бывшем гараже, и она занесла руку для удара.
– Двадцать долларов! – кричала она. – Ты чуть не потерял двадцать долларов!
Рука зависла в воздухе, дрогнула и опустилась.
– Я обещала себе, что никогда не ударю тебя, – сказала она. – И я тебя не ударю.
– Прости, – тихо ответил я.
Она схватила меня за плечи.
– Никогда, никогда больше так не делай! Это были двадцать долларов! Деньги на еду на весь месяц!
– Прости…
Я был испуган и еле сдерживался, чтобы не заплакать.
Мы ездили по магазинам. Когда же припарковались возле дома, я схватил с переднего сиденья «Плимута» мамину сумочку, и каким-то образом две десятидолларовые купюры незаметно выпали из нее на грязный снег. Не обнаружив их в сумке, мама яростно обыскала всю нашу маленькую квартиру. Через полчаса она вернулась к машине, где и нашла у пассажирской дверцы эти двадцать долларов, уже влажные от мокрого снега.
Облегчение от того, что деньги нашлись, сменилось гневом, ее лицо покраснело, и она занесла надо мной руку. Но не ударила.
Мы вернулись в дом, и она закурила. Ее пальцы дрожали. Не от холода – от страха, вызванного возможной потерей денег. Месяц назад, как раз перед Рождеством, маму уволили с должности секретаря, и она не могла найти новую работу. Никаких доходов у нас не было, мы оплачивали аренду и покупали еду на деньги, которые давали маме в долг ее родители.
Поздними вечерами я слышал, как она, думая, что я сплю, говорит с родителями по телефону:
– Папа, мне нужно еще немного денег.
Дедушка спрашивал ее о работе.
– Я знаю, пап. Ищу каждый день, – отвечала мама. – Работы пока нет.
* * *
Мы вошли в кухню, и она положила мокрые купюры на стол, чтобы они просохли. Старый газовый обогреватель отключился, и она зажгла его с помощью деревянных кухонных спичек. Это был единственный источник тепла в доме. Через некоторое время его решетка стала оранжевой, кухня прогрелась, мы открыли дверь в спальню, надеясь, что тепло дойдет и туда. Иногда, особенно в холодные дни, наши кошки, Пакка и Рейсер, целыми днями спали на обогревателе.
Я устроился за кухонным столом и начал делать уроки по правописанию и математике. У меня был стол в спальне – фанерный. Много лет назад дедушка сделал его для мамы, когда она училась в школе. На столешнице сохранилась вырезанная ножом надпись: «НЕНАВИЖУ ДЖЕННИ УИЛЬЯМС!»[68] Мама сделала ее, когда училась в старшей школе Дариена. Я не сидел за этим столом зимой, потому что в комнате было слишком холодно.
Докурив вторую сигарету и разобрав купленные продукты, мама успокоилась.
– Вечером придет Пайк, посмотреть телевизор, – сказала она.
Пайк мне нравился. Мама встречалась с несколькими мужчинами, и Пайк выгодно отличался от всех других ее приятелей. Правда, он входил в банду байкеров и носил кожаную куртку. Но у него была работа, и он относился ко мне очень хорошо. Я не знал, почему мама встречается с мужчинами из банд на мотоциклах. Мне казалось, что только эти парни из всех мужчин, которых я знал, не работают на Уолл-стрит.
* * *
– Можно посмотреть «Мэш»? – спросил я у мамы после ужина. Было восемь вечера, в это время мне полагалось ложиться спать. Но сериал «Мэш» начинался как раз в восемь, а я любил его.
Мы сидели в кладовке, где стоял диван и маленький черно-белый телевизор. Это была самая холодная комната в квартире: от обогревателя на кухне тепло до нее не доходило. Мама и Пайк устроились под одеялом на коричневом поролоновом диване, а я вместе с кошками свернулся клубочком на большом мягком кресле, купленном в комиссионке.
– Ладно, можешь пока не ложиться, – улыбнулась мама. Они с Пайком уже накурились.
– У тебя хороший вкус, Мобс, если ты смотришь «Мэш», – сказал Пайк, его глаза были прикрыты тяжелыми веками.
– Да, это классный сериал, – ответил я.
– А кто из его героев тебе нравится? – спросил он.
Я подумал.
– Наверное, Хоукай. А еще полковник Блейк. И Радар.
Сериал начался, и мы замолчали. У нас в семье было неписаное правило – не разговаривать во время просмотра фильмов или передач. Только во время рекламных перерывов мы могли поболтать и посмеяться. Но, когда перерыв заканчивался, все тут же замолкали. Правило было очень строгим. Например, моя добрая бабушка, которая никогда не повышала голос и занималась волонтерством в Норотонской пресвитерианской церкви, могла громко рявкнуть «Заткнитесь!», если с ней осмеливались заговорить во время ее любимой передачи «60 секунд».
Плакаты были новые, и такие же висели в комнатах у моих друзей. Если прищуриться, глядя на них, можно было представить, что я живу в хорошем доме.
Я стал смотреть сериал, а мама с Пайком снова закурили травку. К счастью, «Мэш» показывали на втором канале, который достаточно хорошо ловился. Антенной нам служила металлическая вешалка; она в любом положении хорошо принимала каналы № 2 и № 7. Но чтобы посмотреть четвертый и пятый, ее нужно было повернуть перпендикулярно окну, а девятый и одиннадцатый никогда не давали на экране чистую картинку. Ну а тринадцатый, последний, канал был нам с такой антенной вообще недоступен.
Когда «Мэш» закончился, я пожелал маме и Пайку спокойной ночи и спустился вниз почистить зубы. Потом забрался в постель под гору одеял и стал смотреть на плакаты с изображениями знаменитых американских бейсболистов. Бабушка и дедушка подарили мне их на Рождество, и, когда я видел улыбчивые лица крепких парней в футболках, мне казалось, что у меня в жизни все идет нормально. Плакаты были новые, и такие же висели в комнатах у моих друзей. Если прищуриться, глядя на них, можно было представить, что я живу в хорошем доме.
Выключив свет, я заснул. И мне приснился сон.
Я видел его очень часто. Под серым небом посреди поля подсолнухов стоял старый викторианский дом. Что-то заставляло меня войти в него. В доме были еще люди, но только я знал, что главный коридор в нем ведет в другое, темное, измерение. В этом измерении находилось некое существо, которое могло меня убить. Поэтому там следовало вести себя тихо, чтобы оно не узнало, что я попал в его мир. А я попадал туда всегда. И чувствовал присутствие этого существа, но был в безопасности, пока оно меня не видело и не слышало.
В ту ночь сон получил неожиданное продолжение. Я вышел из темного измерения и вернулся в поле высоких подсолнухов. И вдруг за спиной раздался дикий пронзительный крик. Я обернулся. Мимо меня пробегал маленький мальчик, объятый пламенем. На нем горела рубашка, штаны, кепка – вся одежда. Он был наполовину в нашем измерении, а наполовину в другом – и там его уничтожало нечто. Я понял, что если однажды раскрою свое присутствие в мире страшного существа, то буду гореть, как этот мальчик.
Я проснулся с криком, дрожа от страха. Выбрался из постели и побежал по лестнице наверх: мне нужно было рассказать маме про кошмар.
В спальне на втором этаже тускло горела свеча и пахло травкой.
– Мама, мне приснился кошмар! – вскричал я.
Мама и Пайк занимались сексом.
– Вали обратно! – глухо сказала она.
Я застыл. Я всего боялся. Я боялся своей темной комнаты и кошмарного сна. Мне было страшно и здесь – в этой темной комнате, в которой мама лежала, придавленная Пайком к постели.
– Моби! Иди обратно! – закричала мама.
Я заплакал и пошел назад. Пакка, рыжий полосатый кот, которого мы подобрали на улице год назад, уже лежал на моей кровати и ждал меня, мурлыкая. Пришла Рейсер, маленькая трехцветная кошка, сладко потянулась и легла рядом с Паккой.
Я закрыл дверь. Тепло от обогревателя в кухне перестало поступать в комнату. Мне предстояло проснуться утром, дрожа от холода. Зато Пакка и Рейсер свернулись клубочками рядом: когда дверь была закрыта, коты не могли уйти.
Нью-Йорк
(2000)
Я, наконец, разобрался в таксономии[69] лимузинов.
Еще в 1995 году я участвовал в турах рок-групп Red Hot Chili Peppers и Flaming Lips – играл у них на разогреве. Мы выступали на нескольких европейских площадках, достаточно больших для того, чтобы музыканты Chili Peppers могли проехать на лимузине прямо к сцене. Они так и делали. В то время это выглядело как абсурдный каприз зазнавшихся рок-звезд.
А теперь почти каждый вечер разнообразные лимузины привозили меня прямо за сцену, на которой мне предстояло играть. И это происходило в самых разных уголках мира. Длинные лимузины для выпускных балов на Среднем Западе, лимузины промышленных магнатов с затемненными окнами в Нью-Йорке, бронированные лимузины в Южной Америке, компактные «Мерседесы» в Германии и Восточной Европе… Я стал хорошо разбираться в этих автомобилях.
Элегантные «Мерседесы» мне нравились больше всего: в них я чувствовал себя агентом ЦРУ или президентом небольшого швейцарского банка.
Предполагалось, что тур в поддержку Play займет четыре недели, но уже шел восемнадцатый месяц моих выступлений. Я со своей группой совершал то, что Барри, один из трех моих менеджеров, называл «кругом почета»: мы ездили по городам, в которых годы тому назад были много раз. Но теперь играли не в маленьких клубах, как в прошлом, а на огромных стадионах.
Мне нравилось быть знаменитым, и я давал столько интервью – для печати, для телевидения, для радио, – сколько было в моих силах. Журналисты постоянно задавали вопросы, связанные с писателем Германом Мелвиллом, моим предком. Я столько времени уделил рассказам о его «Моби Дике», что чувствовал себя ученым, хотя на самом деле так и не дочитал до конца этот роман. Я говорил, что Мелвилл создал нечто аллегорическое, белый кит Моби Дик у него символизирует огромные и непостижимые силы Вселенной, а капитан Ахав – ничтожное человечество, которое ведет вечную борьбу с непобедимым началом и постепенно гибнет в ней. Ответ на вопросы о «Моби Дике» я неизменно заканчивал бойким замечанием: «Конечно, я бы предпочел, чтобы меня назвали в честь великих сил Природы, что, слава Богу, и случилось, а не нарекли бы Ахавой».
Я стал рок-звездой и обрел своего собственного Моби Дика. Но, в отличие от белого кита Германа Мелвилла, мой был мне другом. Он улыбался и весело катал меня на своей огромной спине. Он был похож на дружелюбного пони и никоим образом не олицетворял злую силу природы. Я решил, что такова моя карма: мне доступна Слава, она всегда со мной; моего Моби Дика не нужно преследовать, гарпунить и связывать узловатыми веревками.
Мы закончили европейский «круг почета» аншлаговым шоу на Уэмбли Арене в Лондоне, а затем полетели в Нью-Йорк, чтобы сыграть три концерта в Бальном зале Хаммерштейн. После финального концерта за кулисы пришли Джон Лайдон[70], Дэвид Боуи и Кайл Маклахлен[71]. В юности я был одержим музыкой Джона Лайдона и Дэвида Боуи, а Кайла Маклахлена полюбил, посмотрев сериал «Твин Пикс».
Джон Лайдон с женой любезно поблагодарили меня за билеты. Маклахлен выразил свое восхищение представлением. А Дэвид Боуи спросил, когда мы сможем выпить кофе где-нибудь поблизости. Пить кофе и вести вежливую беседу с тремя моими кумирами – это было потрясающе, но я чувствовал себя неуютно. Тот подросток, который жадно слушал записи Джона Лайдона и Дэвида Боу и запоем читал их интервью в британских музыкальных журналах, а телесериал «Твин Пикс» переписал на видео и смотрел десять раз, все еще жил во мне. Он не давал мне общаться на равных со звездами. И все-таки прошло много времени, мой мир изменился, и мне удавалось делать вид, что смущение и стеснительность не терзают меня. А в конце того знаменательного вечера я вообще перестал чувствовать себя самозванцем.
Мне нравилось быть знаменитым, и я давал столько интервью – для печати, для телевидения, для радио, – сколько было в моих силах.
После Нью-Йорка я полетел в Лос-Анджелес, чтобы в Греческом театре дать финальный концерт «круга почета». Театр оказался не очень большим – вмещал всего 5000 человек, – но был одной из самых красивых открытых концертных площадок в мире. Поставить здесь последнюю точку в долгом и прекрасном туре – это было здорово. Все билеты на концерт были распроданы менее чем за день, поэтому мои менеджеры подняли вопрос о возможности переноса выступления на более масштабную площадку. Но я хотел закончить тур именно в Греческом театре.
Мы сыграли песни из Play и кучу моих старых рэйв-треков. В какой-то момент, когда зазвучало вступление к «Porcelain», я бросил взгляд на первый ряд и встретился глазами с Кристиной Риччи[72], она качала головой в такт музыке. Мы встречались несколько раз в Нью-Йорке, здоровались в барах, но никогда тесно не общались.
После концерта Кристина пришла за кулисы. Стройная фигура и прямые короткие черные волосы делали ее похожей на обворожительную Луизу Брукс[73], ожившую в XXI веке. Я предложил ей шампанского, и тут вошел Моррисси[74]. Я никогда прежде с ним не встречался и сразу же занервничал, поскольку был большим поклонником его сольных альбомов и основанной им группы The Smiths.
Встречая любимых музыкантов и актеров, я зачастую оказывался в тупике. С одной стороны, меня одолевало сильное желание долго рассказывать им, как чудесно то, что они делают. А с другой – хотелось еще и поиграть в крутизну: позволить себе фамильярничать с ними. Я не знал, что сказать Моррисси, поэтому, как и Кристине, предложил ему шампанского. Он отказался, коротко попросил меня подумать о продюсировании его следующего альбома, вежливо пожал мне руку и ушел.
– Это был Моррисси? – спросил я у Кристины, когда за ним закрылась дверь.
Она засмеялась:
– Думаю, да!
Прикончив две бутылки шампанского, мы с ней сели в мой черный длинный лимузин и отправились гулять по барам Голливуда. Когда в два часа ночи все питейные заведения закрылись, мы поехали на встречу с фотографом Дэвидом Лашапелем[75] в отель «The Standart Downtown», где остановился и я. В баре отеля все еще подавали алкоголь; мы нашли Дэвида в отдельной комнате в окружении свиты из дегенератов и обаятельных фриков. Рядом с ним всегда возникало ощущение, что ты попал в один из ранних фильмов Джона Уотерса[76].
– Моби, – сказал Дэвид, – знакомься, это Холли. И указал на немолодую, но все еще красивую женщину.
– Привет, – сказал я, пьяно ей улыбаясь.
– Моби, – надавил голосом Дэвид, будто объясняя простаку очевидную истину, – это Холли из «Прогулки по беспутному кварталу»[77]!
– Ох! – ошарашенно выдохнул я, узнавая в женщине исполнительницу одной из главных ролей в «Прогулках». Это была французская актриса и модель Капучине. – Можно тебя поцеловать?
– Конечно, милый! – весело ответила она.
Встречая любимых музыкантов и актеров, я зачастую оказывался в тупике.
Я поцеловал Холли, и одновременно Дэвид проглотил здоровенную порцию текилы и закричал:
– Пошли все на дискотеку!
– Тут есть дискотека? – удивился я.
Он взял меня и Кристину за руки и провел через кухню отеля к двери, за которой находился частный клуб.
Первым, кого я увидел, зайдя туда, был Джо Страммер. Я не видел его со времени участия в фестивале в Гластонбери, поэтому горячо приветствовал своего друга.
– Джо! – воскликнул я.
– Моби! – ответил он.
Мы обнялись и принялись танцевать под песню Донны Саммер[78].
– Я люблю тебя, Джо! – пьяно орал я.
– Я люблю тебя, Моби! – орал он в ответ не менее пьяно.
К нам присоединилась Кристина, затем Дэвид и Холли. Мы все обнимались и танцевали что-то немыслимое под потустороннюю красоту звучания «I Feel Love».
Я закрывал еще одну страницу своей жизни, на которой шла речь о чудесных восемнадцати месяцах моего гастрольного тура. Я был на вершине блаженства.
Мы пили. Мы танцевали. А в пять утра, обняв всех в последний раз, я вытянул Кристину из клуба и повел в свою комнату. Номер был не особенно хорош, но из его окон открывался вид на Тихий океан. Мы открыли еще одну бутылку шампанского и расположились на балконе в старинных креслах, наслаждаясь теплым ночным воздухом и глядя на бесконечные россыпи огней Лос-Анджелеса. Обычно этот огромный город с двадцатью миллионами жителей был очень шумным. Но сейчас он спал, и его обнимала тишина. Приближался рассвет; на востоке в небе над горизонтом обозначилась тонкая розовая полоска. Я поставил бокал на пол и поцеловал Кристину.
И счастливо вздохнул. Со мной была очаровательная кинозвезда. И я закрывал еще одну страницу своей жизни, на которой шла речь о чудесных восемнадцати месяцах моего гастрольного тура. Я был на вершине блаженства.
– Как думаешь, теперь все успокоится, ведь этот твой тур закончился? – спросила Кристина, гладя мою руку.
Я улыбнулся и отхлебнул шампанского из бутылки.
– Ох, кажется, нет!
Часть вторая
Мы все сделаны из звезд
Дариен, Коннектикут
(1973)
Я ненавидел Уотергейтское дело[79]. Мне было непонятно, что так взбудоражило множество вашингтонских дядек в дорогих костюмах. Но они маячили на телевизионном экране как раз тогда, когда должны были показывать мультфильмы.
Во время летних каникул мне было жарко, скучно и одиноко. Друзья купались, ходили по океану под парусами, играли в теннис или уезжали в летние дома на остров Нантакет. А я целыми днями торчал перед телевизором, потому что других занятий у меня не было. И вот беда: каждое утро я собирался посмотреть мультфильм про Вуди Вудпекера, или Багза Банни, или еще какого-нибудь социопата, а вместо этого натыкался на трансляцию слушания в Сенате. На экране солидные мужчины нервно курили сигареты и что-то бормотали.
Телевизор обеспечивал мне не бог весть какой досуг, но Вашингтон отбирал у меня и это.
К счастью, слушания по Уотергейтскому делу проходили в деловые часы, и я мог смотреть мультфильмы в субботу утром, фильмы после обеда по девятому каналу и ситкомы, «комедии положений», типа «Все в семье» по вечерам, когда мы с мамой молча ужинали перед телевизором.
Мы съехали из квартиры в бывшем гараже на Норотон-авеню и жили у бабушки с дедушкой, пока не перебрались в Стратфорд. Мама не объясняла, почему мы уезжаем из Дариена. Несколько недель назад однажды утром она сказала за завтраком:
– Мы скоро переедем в Стратфорд.
– Я пойду там в школу? – спросил я.
– Да, – ответила она и закурила.
Сейчас же, когда Уотергейт отобрал у меня телевизор, мне пришлось искать в доме маминых родителей новое занятие, чтобы заполнить длинные жаркие дни. Дядя Джозеф отдал мне старую деревянную коробку с монетами, которые он собирал в детстве, и я устраивался на крыльце бабушкиного дома и подолгу разглядывал их. В конце концов мне на ум пришла идея игры, которую я назвал «Банк». Я разобрал монеты по странам происхождения. В игре страны как будто одалживали друг другу деньги. Греция могла ссужать монеты США, Украина – Японии, а Южная Корея – Мексике. Я задумывался: не в этом ли по большей части заключалась дедушкина работа на Уолл-стрит?
Так можно было убивать время. Я сидел в крашеном плетеном кресле, двигая монеты по старому карточному столу. Над цветочной клумбой беззаботно гудели шмели, пахло настурцией и левкоем. Но без телевизора было очень скучно. Иногда я вставал, шел в гостиную и включал его, надеясь, что на экране покажутся песик Друпи, Гадкий Койот, Хекл и Джекл. Но их не было.
Однажды утром я играл с машинками, заставляя их перепрыгивать через стопки монет из коллекции дяди Джозефа. Бабушка ушла на волонтерскую работу в Норотонскую пресвитерианскую церковь и, как обычно, оставила меня дома одного. Иногда мне это нравилось. Я мог заглянуть в шкафы и на книжные полки, поворошить вещи взрослых, не объясняя даже самому себе, что меня интересует.
На самом деле сильнее всего меня привлекали предметы, которые мама и ее родители складывали в шкафах, а потом про них забывали. Старые календари, сношенная обувь, пустые бутылки из-под шампуня, мятые журналы. Я мог включить в шкафу пятнадцативаттовую лампочку и сидеть там, играя с этими ненужными вещами, которые когда-то имели для людей ценность.
Пит указал мне на заднее сиденье, и я без всяких колебаний запрыгнул на него.
Как раз в тот момент, когда я разрушил машинкой стопку греческих драхм, в дверь позвонили. Я выглянул в окно. На крыльце стоял новый мамин приятель Пит. Его черный мотоцикл «Триумф» стоял на дороге. Я открыл дверь.
– Привет, Пит.
– Привет, Мобс! Мама дома? Я хотел позвать ее покататься.
Пит ходил в кожаной куртке, но у него не было бороды, и стригся он довольно коротко. То есть выглядел намного опрятнее, чем предыдущие мамины приятели. Он всегда охотно улыбался и казался добрым. Пит мне нравился.
– Ее нет, она на работе, – сказал я. После долгих поисков мама в конце концов нашла работу секретаря.
Пит надел зеркальные очки и посмотрел на меня. Я видел в линзах свое отражение.
– Хочешь покататься? – спросил он. – К маме заедем.
Я на секунду задумался. Было немного боязно. Но последние шесть недель я только тем и занимался, что играл с монетами и машинками. Может быть, хватит? Стоит сделать на пару часов перерыв? К тому же мне никогда не доводилось ездить на мотоцикле.
Я кивнул.
– Хорошо.
Пит указал мне на заднее сиденье, и я без всяких колебаний запрыгнул на него. Он запустил мотор – тот оглушительно взревел – и помчался по пригородной дороге вдоль сосен и дубов.
– Ты как? – крикнул он мне.
Я обхватил его руками за пояс, мое лицо прижалось к его спине, обтянутой черной кожаной курткой, а в ушах ревел ветер.
– Нормально!
Я был одет легко: шорты, футболка и зеленые шлепанцы. Потоки воздуха чувствительно хлестали меня по бокам и бедрам.
Пит остановился у кафе «Баскин Роббинс» на Пост-Роуд.
– Как насчет мороженого? – спросил он.
– Конечно! – сказал я, удивляясь тому, как удачно все складывается. Этим летом все дни были одинаковые: проснуться, позавтракать, включить телевизор, выключить телевизор, потому что там Уотергейт; поиграть с монетами, покататься на велосипеде, поиграть с машинками; задуматься, какой будет моя жизнь в Стратфорде; поужинать перед телевизором, лечь спать. Но сегодня я катаюсь на мотоцикле и иду в «Баскин Роббинс»!
Мы вошли в кафе, и я тут же ощутил запах ванили и замороженного молока.
– Что ты хочешь, Моби? – спросил Пит.
– Жвачку, – решительно сказал я, встав на цыпочки, чтобы разглядеть картонные тубы с мороженым через стекло витрины.
– Жвачку?..
– Он имеет в виду мороженое с жевательной резинкой, – объяснил скучающий за прилавком подросток в футболке с изображением Нила Янга с гитарой в руках. Оно было чудом, это мороженое: розовое, с кусочками розовой жвачки. И оно продавалось в «Баскин Роббинс»! Я любил его.
Пит купил две порции «жвачки» и мы съели их, стоя за круглым столиком возле окна.
– Поедем к маме? – спросил Пит, бросив остаток рожка в мусорную корзину и закурив.
– Конечно! – ответил я и быстро доел мороженое.
Пит снова завел мотоцикл, и тот радостно взревел. Люди на парковке смотрели на нас. Я был горд, стоя рядом с мощной машиной и сильным человеком. Пит был не таким чистюлей, как отцы моих друзей, и работал в автомастерской, а не в инвестиционной компании или банке. Но он был добрым. Он нравился маме, и мне нравился тоже.
Я иногда представлял себе, каково это – иметь отца и жить в настоящем доме. Наверное, Пит не смог бы покупать мне новые рубашки от «Izod» или снять для нас дом на острове Нантакет. Но из всех мужчин, с которыми встречалась мама с того момента, как умер папа, он был единственным, кого я желал видеть маминым мужем.
Я не хотел плакать. Не хотел показывать Питу, что мне больно. Не хотел испортить этот день.
Я крепко вцепился в пояс Пита, когда он выезжал с парковки.
– Поехали длинной дорогой! – крикнул он.
– Поехали! – радостно ответил я. Ветер беспрестанно хлестал меня. Когда же мы прибавили скорость, он стал таким яростным, что мои шорты и футболка стали похожи на рвущиеся, хлопающие флаги. Мы проехали по Токеник-Роуд и по извилистым дорогам рядом с пляжем. И мчались так быстро, что деревья вдоль дороги размылись и слились в одно целое, и мне стало казаться, что мы едем по лабиринту с зелеными стенами.
Я двинул ногой и тут же ощутил жгучую боль. Пит почувствовал неладное и притормозил. Я не хотел плакать. Не хотел показывать Питу, что мне больно. Не хотел испортить этот день. Но так получилось, что моя нога прижалась к огненно-горячей выхлопной трубе, и теперь на голени расцветал ярко-красный ожог размером с ладонь.
– Ох, черт! – сказал Пит, он явно был в ужасе. – Нужно отвезти тебя к маме!
Я кивнул, сдерживая слезы. Мне никогда еще не приходилось испытывать такую сильную боль. Я хотел, чтобы это прекратилось и мы с Питом вернулись к реальности безмятежной гонки на мотоцикле, розового мороженого с жевательной резинкой и лабиринтов из размытых деревьев.
Мы доехали до маминого офиса. Пит выглядел перепуганным.
– Мобс, скажи маме, что мне жаль. Правда, мне жаль…
Он опустил стекло мотошлема и уехал. Рев мотоцикла быстро стих, стали слышны громкий стрекот цикад и пение птиц.
Я ни разу не был в новом мамином офисе, но она показывала мне здание, где ей предстояло трудиться, когда получила работу секретаря. У ее компании было странное название из двух непонятных слов, которое в моей голове не держалось.
Я вошел в офис. В нем было светло и работали кондиционеры. Звонили телефоны, жужжали копировальные аппараты, и за столом у входа сидела мама. На ней ладно сидел бежевый костюм из секонд-хенда. Свои длинные светлые кудрявые волосы она стала закалывать на затылке, пытаясь не выглядеть женщиной-хиппи, которая встречается с байкерами.
– Моби?! – испуганно вскрикнула она, когда я вошел и, наконец, расплакался.
– Прости, мам, – плакал я. – Пит не виноват. Это я сам обжегся… Я обжегся, прости, прости…
Округ Сан-Бернардино, Калифорния
(2001)
В гримерке амфитеатра в пустыне неподалеку от Лос-Анджелеса мы с музыкантами New Order вспоминали, как играть песню группы Joy Division.
– Черт возьми, – сказал Питер Хук[80], – мы не играли эту песню со смерти Иэна[81].
Я организовал летний гастрольный тур под названием Area: One по открытым площадкам Америки. В течение последних шести недель мы все ездили по США: дуэт Outcast, хип-хоп-группа The Roots, музыканты New Order, Incubus и группа диджеев, в том числе Карл Кокс и Пол Окенфолд[82]. Я был хедлайнером[83], а также промоутером тура. Идея противоречивого и замысловатого сочетания танцевальной музыки, хип-хопа и рока в одном концерте пришла мне в голову в баре, в пять утра, в феврале прошлого года.
В Штатах проходили масштабные музыкальные фестивали, но эклектичных среди них не было. Я рассказал менеджерам об идее гастрольного тура, который представлял бы собой разношерстный по составу участников фестиваль на колесах. Затем мы нашли продюсерскую компанию, которая была не прочь поработать со мной после успеха Play. Мы составили список групп и диджеев, которых хотели бы видеть на нашей сцене, – и, к моему удивлению, большая их часть приняла наше предложение.
Самым странным в Area: One мне казалось то, что ездил я вместе с Питером Хуком, Стивеном Моррисом[84] и Барни Самнером[85], и они играли у меня на разогреве. А ведь в юности я преклонялся перед ними, восхищался их игрой в New Order и Joy Division! Часами слушал их записи на своем плеере Walkman, катаясь на велосипеде по Дариену и с тоской глядя на дома девочек, которые мне нравились.
Смущало еще и то, что я почти считал их друзьями.
Несколькими днями ранее на шоу поблизости от Сан-Франциско я спросил их: «Может быть, вы сыграете какую-нибудь песню Joy Division на последнем концерте тура? Например, «New Dawn Fades»[86]?»
В принципе, они должны были сказать: «Нет, Моби, прошлое священно, и мы не должны его трогать». Но я услышал желанный ответ:
– Конечно! Почему бы и нет?
Чтобы вспомнить, как играть «New Dawn Fades», им понадобилось не слишком много времени – ведь это они написали ее, к тому же в песне было всего четыре аккорда. После репетиции Хук задумчиво посмотрел на меня.
– Моби, – сказал он, – Иэн гордился бы нами…
Я печально улыбнулся. Иэн Кертис умер еще до того, как Joy Division ворвались в мою жизнь, но мне он казался ближе, чем большая часть родственников и друзей. Я вышел из комнаты и побрел в свою гримерную. Меня не оставляла надежда, что перед концертом ко мне заглянет Кристина Риччи, но пока что ее не было. Прошлой осенью мы в течение нескольких недель пытались встречаться – ничего не получилось из-за моих панических атак. Неподалеку от двери моей комнаты, в небольшом холле за пластиковым столиком сидели Джон Тейлор[87] и актриса Шарлиз Терон.
В принципе, они должны были сказать: «Нет, Моби, прошлое священно, и мы не должны его трогать».
Я знал Шарлиз с середины 90-х, когда она встречалась с моим другом, а с Джоном мы познакомились недавно. Они оба были очень высокими и, сидя на маленьких пластиковых стульчиках, выглядели немного неуклюжими.
– Привет, Шарлиз. Привет, Джон, – приветствовал я их. И спросил, указывая на гримерную: – Хотите зайти ко мне?
– Там Энди Дик[88], – сказала Шарлиз и задумалась, явно подбирая слова. – Это плохо.
Мы с эксцентричным комиком Диком приятельствовали. Из-за двери гримерки доносились веселые крики и хохот. Я открыл ее и увидел: Энди со спущенными штанами сидел на столе на корточках, прямо над веганским тортом, который менеджеры подарили мне в честь окончания тура. Группа его друзей стояла вокруг стола и скандировала: «Сри! Сри! Сри!»
– Я пытаюсь! – кричал он в ответ. Его светлые волосы промокли от пота и прилипли ко лбу.
– Сри! Сри! Сри!
– Что вы делаете? – спросил я.
– Энди пытается обосрать твой торт, – ответил мой друг Ли.
Мы с Ли вместе выросли в Коннектикуте, и он был одним из первых, с кем я снимал жилье в Нью-Йорке в конце 80-х. С женой и несколькими друзьями он прилетел в Лос-Анджелес на последний концерт тура.
– О, ладно, – сказал я с легким недовольством из-за того, что не смогу съесть подаренный мне веганский торт.
Я взял себе пива, а Шарлиз и Джону – воды и вышел из гримерной, плотно прикрыв за собой дверь.
– Энди Дик пытается накакать на мой торт, – сообщил я Шарлиз.
– Отвратительно, – сказала она.
– О, да!
* * *
Я никогда прежде не занимался организацией фестивалей, но Area: One имел успех. Погода была прекрасная, группы и диджеи прекрасно поладили, и на каждом концерте был аншлаг. Мне казалось, что закончить этот тур, сыграв для 20 000 человек в Калифорнийской пустыне, будет правильно, поскольку я полюбил Лос-Анджелес. Когда я впервые посетил этот город в начале 90-х годов, мне казалось, что он мне не понравится; нью-йоркские друзья говорили, что Лос-Анджелес – это земля хищных агентов и актеров-пустышек. Но чем больше времени я на этой земле проводил, тем большей симпатией проникался к гостеприимному мегаполису с его горами, домами XIX века и небоскребами, солнечными веганскими ресторанами.
В 10 часов вечера я вышел на сцену и начал свой сет с «Bodyrock». А после выхода на бис сказал зрителям:
– Поверить не могу в то, что сейчас случится, но я собираюсь спеть песню Joy Division с Joy Division.
На сцену вышли Питер и Барни. За ними с гитарами в руках – Билли Корган[89] и Джон Фрушанте[90], такие же верные поклонники Joy Division, как и я. За ударной установкой сидел Стивен Моррис. Я начал отсчет: «Один, два, три, четыре!» – и мы все начали играть «New Dawn Fades».
Получалось неровно – все, кто был на сцене, репетировали только один раз. Но я испытывал волшебные чувства, потому что пел песню Joy Division с музыкантами Joy Division. Второй куплет я исполнял высоко и громко, как мог, – чтобы добиться такого же звучания, какое я слышал на пиратской кассете с записью концерта Joy Division 1978 года. Когда я закончил, Питер Хук с улыбкой посмотрел на меня. В его глазах стояли слезы.
New Order, Билли Корган и Джон Фрушанте ушли со сцены, и я закончил выступление так же, как заканчивал концерты почти всегда, начиная с 1995 года, – песней «Feeling So Real». Я вспомнил, как играл ее на одном из первых выступлений на маленьком рэйве неподалеку от Вашингтона в округе Колумбия. Тогда меня переполняла такая же радость, как и сейчас. К несчастью, после 1995 года я пережил разрыв с американским лейблом, несколько панических атак, разорение и мучительную смерть матери от рака.
Несомненно, я и только я был виноват во всех этих бедах. Но сейчас, когда моя песня звучала для десятков тысяч танцующих под нее людей, ко мне пришло ощущение того, что Господь меня простил. Уже было продано больше десяти миллионов копий Play, они превратили меня в рок-звезду. Мир принадлежал мне. Я должен был удержать его и никому не отдавать.
Когда я ушел со сцены, мой роуди[91] Кевин вручил мне холодную бутылку дорогого шампанского, улыбнулся и сказал:
– У тебя гости.
У гитарной стойки стояла Кэти. Я переписывался с ней по электронной почте в течение нескольких месяцев – с тех пор, как мы познакомились во Франции. Она была родом из Сан-Франциско, но получала степень магистра в Лионе, где я тогда выступал. Мы ни разу не целовались и даже не держались за руки, но постоянная переписка дарила ощущение, что мы близко знаем друг друга. Я, все еще потный, подбежал к ней и обнял ее.
Мир принадлежал мне. Я должен был удержать его и никому не отдавать.
– Я прилетела встретиться с тобой! – сказала она.
– Из Франции?!
Кэти засмеялась.
– Ты мне нравишься, но не настолько сильно! Из Сан-Хосе.
Мы прошли за сцену, в гримерку моей группы. Жизнь становилась сюрреалистичной, волшебной: я был хедлайнером фестиваля, который сам и организовал, я пел песню Joy Division с музыкантами Joy Division, а после концерта встретился с прекрасной и умной блондинкой, с которой познакомился в Европе.
Все мои музыканты и техники толпились в комнате. Я громко сказал:
– Слушайте все, это…
Но никто не обратил на меня внимания. Все смотрели на комика-эксцентрика Энди Дика, который спустил штаны и мочился в бутылку шампанского.
– Это Энди Дик? – спросила Кэти.
– Ага, – ответил я.
Энди меня заметил.
– Моби! – закричал он, протягивая мне бутылку. – Хлебни шампанского!
Кто-то из ребят заметил:
– Энди, ничего не выйдет: он видел, что ты делал.
– Ладно, – сказал Энди и кивнул на ошметки моего веганского торта на столе. – Хотите сладенького?
Стратфорд, Коннектикут
(1974)
– Что такое оргия?
Я расположился на заднем сиденье маминого «Плимута». Сама она вместе с другом Рассом сидела впереди. Они курили и разговаривали. Расс упомянул «оргию» – я никогда прежде не слышал этого слова и хотел узнать, что оно означает.
В прошлом августе мы переехали из Дариена в Стратфорд. Мамина подруга Кэти нашла там дом – обветшалый трехэтажный особняк постройки 1930-х годов – и уговорила маму и кое-кого из ее друзей снять его совместно. В декабре в дом переехал Расс. Дизайнер украшений из Вермонта, он был высоким жилистым парнем с длинными, до пояса, рыжими волосами, которые завязывал в хвост. Расс кустарным способом изготавливал украшения в нашем гараже, а заодно и продавал там наркотики.
Он хихикнул и повернулся ко мне.
– Малыш, оргия – это когда толпа взрослых устраивает очень веселую вечеринку. Ты, когда вырастешь, тоже сможешь делать это.
Мама сердито посмотрела на него.
– Расс!..
– Что? – Он осклабился. – Хочешь участвовать в оргиях, когда вырастешь, Мобс?
– Не знаю. – Я так и не понял, что такое оргия.
Мама и Расс возвращались из офиса биржи труда в Бриджпорте, где они получали пособие по безработице и справлялись, не появилась ли подходящая работа. Рассу на самом деле не нужно было куда-либо устраиваться, потому что он торговал наркотиками. Но ему нравилось получать от правительства пособие. Мама, напротив, отчаянно нуждалась в заработке.
Малыш, оргия – это когда толпа взрослых устраивает очень веселую вечеринку. Ты, когда вырастешь, тоже сможешь делать это.
Мы высадили Расса у нашего дома и поехали за продуктами. Дом потихоньку разрушался, и в нем пахло плесенью. Именно поэтому он дешево нам достался. Мне он не нравился. И вообще, мне не нравился Стратфорд, не нравилось, что байкеры и хиппи постоянно заходят к нам за наркотиками. Но, хотя мама охотно говорила со мной о музыке, фильмах и книгах, ее никогда не интересовало мое мнение о том, как мы живем. И я научился держать его при себе.
Кэти когда-то училась вместе с мамой в старшей школе Дариена и, прежде чем стать хиппи, была симпатичной аккуратной девушкой – я видел ее фото начала 60-х. Теперь она носила буйные черные кудри и напоминала Грейс Слик[92] из Jefferson Airplane.
Мне казалось, что Расс – бойфренд Кэти, потому что он по большей части спал в ее комнате. Но несколько раз я видел, как он ночью крадется в мамину комнату.
Как-то раз я спросил маму об этом. Она ответила:
– Расс делает мне массаж от головной боли.
Я не знал о ее страданиях из-за ночных болей в голове. Но порадовался тому, что Расс делает в доме что-то полезное, а не только незаконно торгует наркотиками и дешевыми украшениями.
Итак, мы с мамой отправились в магазин. Февральское небо было низким и серым; падавший с него мокрый снег превратился в холодную изморось.
Мы купили молоко, хлеб, хлопья, апельсиновый сок, блок сигарет и упаковку равиоли. Затем пошли к кассе, где скучающий кассир-подросток распечатал нам чек.
– Девять долларов и двадцать центов, – объявил он.
Мама заглянула в кошелек и застыла, ее лицо покраснело.
– У меня только восемь долларов… – растерянно сказала она. – Мобс, что-то придется оставить.
Она потянулась к сигаретам, но я сказал:
– Не надо, мам. Давай вернем равиоли и хлеб.
Мне не нравилось, что мама курит, но без сигарет она была злой и несчастной. Нам, конечно, нужна была еда, но обойтись без сигарет она не могла.
Я отнес продукты на место, и мама сердито спросила у кассира:
– Теперь хватит?
Паренек пробил чек на молоко, хлопья, апельсиновый сок и сигареты.
– Ага, – ответил он безразлично.
В машине мама прикурила трясущимися руками. Я понимал, что ей стыдно и горько. Когда она была в таком состоянии, с ней нельзя было говорить. Так что я сидел на своем месте и глядел в окно, исчерченное каплями дождя. Мне хотелось включить радио, но я не сделал этого: молчал и не шевелился.
Когда мы приехали домой, мама пошла наверх, а я разобрал скудное пополнение продуктов и налил себе стакан разбавленного апельсинового сока. Переехав в Стратфорд, мы стали разбавлять молоко и сок еще больше, чем делали это в Дариене, – чтобы их хватало надолго. Поначалу их вкус казался странным, но теперь, если мне доводилось пить сок в гостях у друзей, он казался мне слишком насыщенным и сладким.
Я сидел в кухне и читал статью о «Человеке на шесть миллионов долларов» в журнале «Динамит», который подарил мне друг Рон. Потом пришло время делать уроки. Моя комната в Стратфорде была немного больше той, в которой я жил в Дариене. Но выглядела она абсолютно так же – с одним матрасом на полу и самодельным фанерным рабочим столом у окна. Перед переездом в Стратфорд я аккуратно снял со стен плакаты с изображениями бейсболистов и первым делом повесил их в своем новом жилище на стене рядом с постелью. Плакаты немного поблекли, но я по-прежнему гордился ими.
Мне нравилось сидеть на скамейке, закрыв дверцы шкафа, вдыхать запах старого дерева и слушать в темноте радио.
В этом году я пошел в начальную школу Бердсай. Она сильно отличалась от школы Ройл, которую я посещал до третьего класса. Ройл была чистой и размещалась в новом кирпичном здании. Бердсай – в грязной развалюхе, в которой со стен сыпалась штукатурка. В Ройл учились только белые дети, а в Бердсай – в основном чернокожие ребята и латиноамериканцы. Но через пару недель я завел там множество друзей. Эта школа мне понравилась намного больше прежней. Все мои одноклассники принадлежали к борющемуся за жизнь классу обездоленных американцев. С ними я не стыдился продуктовых талонов и одежды из секонд-хенда. Хотя никто из них не был так же беден, как я.
Правда, мне по-прежнему нельзя было приглашать друзей к себе домой. Ведь Росс торговал наркотиками, и те люди, что приходили к нему и частенько забредали вместе с ним в нашу кухню, выглядели безобразно.
В школе всем дали задание написать доклад о штате Орегон. Когда я сел за свой фанерный стол, то понял, что мне нужно в библиотеку – почитать энциклопедию. Я любил ходить в библиотеки, особенно зимой. Там было тепло, чисто и безопасно.
На улице темнело, и шел дождь. Я направился к маме, чтобы попросить ее отвезти меня на автомобиле. Подождал перед дверью, прежде чем постучать. И услышал, что она плачет. Не подумав, я окликнул ее и тут же об этом пожалел.
Мама зло крикнула из-за двери:
– Что?!
Я хотел убежать прочь, но все же спросил:
– Мама, ты можешь отвезти меня в библиотеку?
– Уходи! – закричала она. – Оставь меня в покое!
Я ушел к себе, ступая как можно тише. А в своей комнате залез в большой платяной шкаф – послушать радио. Те, кто жил здесь до меня, поставили в нем маленькую скамеечку, и мне это казалось смешным и необычным. Мне нравилось сидеть на ней, закрыв дверцы шкафа, вдыхать запах старого дерева и слушать в темноте радио.
Я включил радиоприемник, который бабушка и дедушка подарили мне в прошлый день рождения. Мне повезло: шла интересная программа ведущего Кейси Кейсема «Топ-40 Америки». Мне нравился его низкий голос. Кейси объявил песню в исполнении Кэта Стивенса, и я начал успокаиваться. Мама любила слушать песни этого певца, я видел его по телевизору, и, хотя у него были длинные волосы и борода, он не казался мне страшным.
Слушая радио, я все еще злился на себя. Не стоило просить о чем-то маму, когда она расстроена. Я не должен был беспокоить ее, сам виноват, что она накричала на меня. Когда она плакала, наступал конец света. «И все это из-за меня!» – думалось мне.
Я сидел в темном шкафу, слушал радио и размышлял о том, когда мне можно будет выходить.
Нью-Йорк
(2001)
Наступил мой день рождения, и часы показывали всего 8.50 утра. Почему мой телефон звонил?
Накануне я с актерами Брюсом Уиллисом и Беном Стиллером напился на вечеринке Недели моды. В три часа утра, перед самым уходом из «Lot 61», бара в Челси, я решил найти какую-нибудь женщину, которая составила бы мне компанию ночью. Но потом подавил это желание и отправился домой один. Пообщавшись с Кэти в Лос-Анджелесе и осознав, насколько она мне нравится, я начал задумываться о том, чтобы наконец разобраться с паническими атаками и попытаться завязать полноценные отношения с этой девушкой. Я заказал машину, которая после обеда должна была отвезти меня в аэропорт Кеннеди. Кэти прилетала из Сан-Франциско в Нью-Йорк, и я хотел встретить ее в аэропорту.
Мы с ней продолжали обмениваться электронными письмами и созваниваться каждый день. Я был счастлив. Удивительно, но до сих пор паника ни разу не скрутила меня.
Телефон перестал звонить. Я повернулся на другой бок и попытался снова заснуть. И тут снова раздались трели звонка. Черт! Наверное, это наглый менеджер по продажам какой-нибудь компании или кто-то ошибся номером! Никто из моих знакомых не стал бы звонить мне так рано, особенно в мой день рождения. Через некоторое время телефон умолк, и я перевернулся на другой бок.
И он тут же зазвонил снова. Я, грязно ругаясь, выбрался из постели, пробежал по холодному бетонному полу лофта и поднял трубку.
– Алло! – зло закричал я. У меня было похмелье. И я ждал, что сейчас продавец на другом конце провода предложит мне поменять оператора междугородней связи.
– Моби! – Это был Дэмиен. – Поднимись на крышу!
– Что? Зачем?!
– Поднимись на крышу! – требовательно повторил он, в его голосе слышались отчаяние и страх. – Всемирный торговый центр взорвали![93]
– Что-о?!
– Иди на крышу!
Я, обвязавшись вокруг пояса полотенцем, стал подниматься по лестнице на крышу и услышал зловещий гул…
Пообщавшись с Кэти в Лос-Анджелесе и осознав, насколько она мне нравится, я начал задумываться о том, чтобы наконец разобраться с паническими атаками и попытаться завязать полноценные отношения с этой девушкой.
Позже мне стало известно: первый самолет врезался в Северную башню, пока я спал. Поначалу люди предположили, что произошла чудовищная ошибка: что-то напортачил пилот. Все обитатели Нижнего Манхэттена выбрались из квартир. Гул, который я услышал, был порожден говором тысяч людей, стоящих на крышах. Они стали кричать, увидев, как к Всемирному торговому центру приближается второй самолет. Он целенаправленно развернулся по длинной дуге и летел прямо на Южную башню. Шагнув на свою крышу, я услышал грохот. Самолет протаранил ее.
Теперь люди кричали не только от недоумения и страха. Их обуял ужас: они поняли, что причина происходящего – не трагическая случайность или ошибка пилота. За этим несчастьем кроется чей-то злой умысел.
Мой мозг отказался работать, он не способен был воспринять увиденное мною. Я растерянно огляделся. Вот моя крыша – с серым деревянным настилом, с потрепанным дождем и ветром столом, за которым я ел блинчики и читал «New Yorker»; с открытым душем, которым я никогда не пользовался; с маленькими грядками, на которых я пытался выращивать лаванду и мяту…
Ум, сердце, душа отказывались воспринимать наблюдаемое мною. Здания в сотню этажей не должны падать.
А на расстоянии меньше мили от меня полыхали башни-близнецы.
Я видел их ежедневно – спокойных, суровых стражей Нижнего Манхэттена. Я помнил, как бывал в дедушкином офисе в Вулворт-билдинге, когда Всемирный торговый центр только строился, и смотрел из окна на два огромных котлована, вырытых под закладку фундамента будущих небоскребов. Потом башни росли, закрывая окна дедушкиного офиса, и его секретарь сухо ворчал, что они испортили вид из окна.
А теперь эти высоченные башни были объяты пламенем и дымились жутким черным дымом.
Все это казалось нереальным. Хотелось думать, что яростное оранжевое пламя – всего лишь пиротехнический трюк, устроенный на съемках какого-то фильма-катастрофы. Но беда была не постановочной, а настоящей, и в миле от меня умирали тысячи людей.
Дэмиен все еще был на проводе.
– Моби, что происходит?! – кричал он, громко всхлипывая. Я знал Дэмиена с конца 80-х и никогда не видел, чтобы он плакал. А теперь он стоял на Черч-стрит в микрорайоне Трайбека и смотрел, как из окон башен вываливаются люди. И рыдал в трубку.
Улицы внизу подо мной наполнились воем сирен. Полиция, пожарные, национальная гвардия, машины скорой медицинской помощи – все они стремились на юг, к Всемирному торговому центру.
Я спустился с крыши, оделся и включил сразу и телевизор, и радио, и компьютер. Я просматривал все новостные сайты и все каналы ТВ. Везде была информация о том, что произошло, и нигде – о том, почему это случилось и чья в том вина. Я лихорадочно переключал каналы и листал сайты. И вдруг снова услышал страшный грохот. Мне казалось, что звук удара самолета о Северную башню был ужаснейшим. Но этот грохот был громче, сильнее и намного страшнее всего того, что мне доводилось слышать.
Я побежал на крышу. Из двух башен осталась только одна, окруженная апокалиптическими облаками пыли. Куда исчезла вторая? Та, в которую я водил бабушку на обед в день ее 70-летия? Та, в которой этим утром были тысячи людей?!
– Нет, – тихо сказал я. – Нет. Нет…
Я замолчал, наблюдая, как к небу поднимается огромный столб пепла и дыма. Ум, сердце, душа отказывались воспринимать наблюдаемое мною. Здания в сотню этажей не должны падать. Не должны тысячи людей с утра приезжать на работу, чтобы там погибнуть.
На крышах вокруг никто больше не кричал. Люди плакали или же стояли молча, как и я.
Мои планы на этот день, на мой день рождения, доселе были простыми. Я должен был встретить Кэти в аэропорту, поужинать с ней в веганском ресторане «Angelica’s Kitchen», а потом сходить на пару вечеринок Недели моды. Затем мы выпили бы водки, приняли наркотик и занялись сексом на крыше.
Но миру пришел конец.
Я смотрел на оставшуюся башню и гигантское дымное облако, накрывающее Манхэттен. И продолжал повторять, слушая вой сирен:
– Нет. Нет. Нет…
Нью-Йорк
(2001)
Спустя месяц после трагедии 11 сентября в Нью-Йорке продолжался траур. Каждый забор и пустая стена были покрыты тысячами фотографий погибших. Все улицы патрулировались полицейскими и военными. Большинство моих друзей сочли пьянство единственным действенным способом осознания того, что нельзя было принять.
Мир сошел с ума. Казалось, что Нью-Йорку был нанесен смертельный удар. Магазины и рестораны закрывались, предприятия банкротились, и люди толпами покидали город. Мои отношения с Кэти закончились, не успев толком начаться: она не хотела переезжать в Нью-Йорк, а я не желал покидать город, где родился. Он не нуждался во мне, но оставить его, когда с ним случилось несчастье, – это было выше моих сил.
Я не знал, как справиться со своим горем. Я был травмирован. Поэтому, как и многие другие жители Нью-Йорка, больше пил, принимал больше наркотиков и теперь мог привести домой любую женщину, которая на это соглашалась.
Однажды вечером я сидел, напиваясь, в баре отеля «The Mercer», когда ко мне подошел незнакомый мужчина. Он представился как Ларри и спросил, не хочу ли я полетать на вертолете – до Стейтен-Айленда и обратно.
Меня учили никогда не садиться в машины с незнакомыми людьми, но никто ничего не говорил о вертолетах.
– Конечно, – сказал я этому случайному человеку. – И когда же?
– Завтра, в три часа дня. Приезжайте на вертолетную площадку на углу 27-й улицы и Вест-Сайд Хайвей.
* * *
На следующий день я проснулся в два часа дня, быстро позавтракал и на такси доехал до вертолетной площадки. Ларри встретил меня и проводил в небольшой зал ожидания, где познакомил с другими людьми, которые должны были лететь с нами на Стейтен-Айленд. Там были три артиста «Цирка дю Солей», клубный промоутер, которого я знал, двое суровых шкафоподобных мужчин в темных костюмах, похожих на боссов мафии, и симпатичная бывшая участница конкурса «Мисс США»; я помнил, что в прошлом году она заняла на нем второе место.
Меня учили никогда не садиться в машины с незнакомыми людьми, но никто ничего не говорил о вертолетах.
– Мы полетим на двух вертолетах, – объяснил нам Ларри. – Пообедаем на Стейтен-Айленде в доме моего друга, а потом вас доставят обратно.
Бесплатный обед в доме друга?.. С утра я опохмелился пивом и теперь ничему не удивлялся. Мне было весело. Цирковые акробаты и боссы мафии летят на вертолете на Стейтен-Айленд, до которого полчаса езды на автомобиле? Ха!..
– Есть ли в этом хоть какой-то смысл? – спросил я у бывшей участницы конкурса «Мисс США».
– Абсолютно никакого, – сказала она. – Меня зовут Кларисса.
– Моби, – представился я, осторожно пожимая ей руку.
Мы полетели над Гудзоном. Мне не хотелось смотреть на то место, где раньше стояли башни-близнецы, но взгляд сам притянулся к нему. Увидев груды обломков высотой более ста футов, я вновь ощутил гнев и безнадежность, которые последние недели пытался заглушить водкой и экстази. Я не знал, смогу ли когда-нибудь избавиться от горя, которое сдавливало мне грудь.
К счастью, мы удалились от Нижнего Манхэттена и уже через несколько минут приземлились на Стейтен-Айленде, возле новенького особняка, стоящего на берегу Атлантического океана. Нас встретил маленький человечек, ростом не более пяти футов, по имени Стивен. Немолодой, с рыжими редеющими волосами, зачесанными назад, он был одет в строгий черный костюм.
– Благодарю вас за то, что вы согласились стать моими гостями, – вежливо сказал он, когда мы вошли в огромную гостиную с полом, выложенным белым мрамором с золотыми прожилками. Несколько слуг с серебряными подносами стали разносить шампанское. И я принялся напиваться.
– Это ваш дом? – спросила Кларисса у Стивена.
– Да, – сказал он и загадочно улыбнулся. – Хотите экскурсию?
– Конечно.
Мы проследовали вслед за Стивеном в холл, в центре которого стоял на постаменте огромный нефритовый тигр.
– Позвольте рассказать одну историю, – сказал Стивен и повел нас вверх по мраморной лестнице. Она выглядела так, словно ее привезли на Стейтен-Айленд со съемок MTV о довоенной Джорджии.
– Я всегда хотел быть провизором, – начал свой рассказ хозяин особняка, – поэтому в 70-е годы поступил в фармацевтический колледж. Мой отец работал фармацевтом в Куинсе, и мне хотелось иметь модную аптеку на Манхэттене на Пятой авеню.
Он медленно вел нас через лабиринт спален и гостиных. Во всех комнатах были панорамные окна, выходящие на Атлантический океан.
– После окончания колледжа я занял немного денег и открыл свою аптеку, но в нее никто не ходил. Через пару месяцев меня стало мучить воспоминание о том, что мои кредиторы обещали укоротить мне пальцы, если я не верну долг.
Мы с Клариссой одновременно опасливо взглянули на шкафоподобных «боссов мафии».
– Я боялся, и мне нужно было что-то сделать, чтобы наладить бизнес. Я нашел в подвале аптеки несколько старых кукол, и мой друг, бродвейский мастер декораций, поставил их в витрину. Она стала привлекательной.
Он прервался, остановившись перед очередной дверью.
– О, – сказал он, – вот это моя спальня!
Стивен открыл дверь в просторную комнату с шикарным розовым ковром на полу. Кровать стояла на подиуме у стеклянной стены с захватывающим видом на океан. У другой стены разместилось джакузи.
Он медленно вел нас через лабиринт спален и гостиных. Во всех комнатах были панорамные окна, выходящие на Атлантический океан.
– В магазин стали приходить люди, – продолжал Стивен, – но они хотели покупать кукол, а не лекарства. Я продал все, что было в витрине. А потом пошел на швейную фабрику в Куинсе и заплатил нескольким работницам за то, чтобы они сделали для меня из обрезков тканей еще нескольких девочек-игрушек. Я выставил их в витрину, и людям они понравились.
Он привел нас в маленькую гостиную, гордо улыбнулся и указал на двух кукол, сидевших на диване.
– Вот так я и придумал линию мягких скульптурных «Маленьких людей» Cabbage Patch.
Мы все ошеломленно молчали. Я – прежде всего потому, что не понимал: зачем Стивену нужна эта экскурсия? И чего он, собственно, от нас хочет?
– Я продал их компании Coleco за кучу денег и стал снимать фильмы вместе с моим другом Стивеном Сигалом, который живет по соседству.
– А он сейчас в Америке? – спросил один из артистов цирка.
– Нет, он шлет свои извинения, но пребывает в России с Путиным.
Стивен провел нас по лестнице вниз, в столовую.
– А теперь давайте поедим! – сказал он. Мы все расселись за длинным столом, и слуги принесли большие блюда с итальянским салатом.
– Эй, ты слышал о том русском парне, которого нашли неподалеку, на пирсе? – тихо спросил у меня клубный промоутер, когда тарелки с салатом сменились тарелками спагетти.
– Нет, а что случилось?
– Его привязали к доске, и во лбу у него была дыра от пули.
Один из «боссов мафии», до сих пор молчавший, промокнул рот салфеткой и сказал:
– Он не должен был здесь появляться.
Я вообще перестал что-либо понимать.
– Мне нужно еще выпить, – сказал я Клариссе. – Мы отсюда выберемся живыми?
Мы съели десерт и после обильной выпивки в библиотеке, отделанной дубовыми панелями, полетели обратно на Манхэттен.
Я так и не получил ответы на вопросы, которые задавал себе во время экскурсии.
– Спасибо, Ларри, – сказал я, когда мы вышли из вертолета. – Это был самый странный опыт в моей жизни.
– А какие у вас планы сейчас? – спросил он. – Хотите пойти на вечеринку?
Я должен был встретиться со своими друзьями Ли и Дейлом, поэтому спросил, не могут ли они пойти с нами.
– Конечно! – сказал Ларри. Он дал мне адрес ресторана на пересечении Парк-авеню и 20-й стрит, и я отправил друзьям sms-сообщение. Мы с Ларри и Клариссой взяли такси и долго ехали почти через весь город. Ли и Дейл ждали у входа в ресторан: вечеринку организовал застройщик-миллионер, охрана у него была строгой, и поэтому без нас их не пропустили.
На Стейтен-Айленде я опрокинул в себя три бокала шампанского, три бокала красного вина, рюмку водки перед десертом и аперитив с арманьяком, так что был на верном пути к тому, чтобы напиться вусмерть. Ли и Дейл оказались еще более пьяны, чем я.
– А! – воскликнул я, войдя в ресторан и узнавая знакомую обстановку. – Помню! Здесь я познакомился с Дэвидом Боуи!
Глаза Клариссы расширились.
– Ты знаком с Дэвидом Боуи?
– Вообще-то мы живем по соседству. Машем друг другу ручками с балконов.
– Правда?!
– Приходи ко мне, и я тебе все покажу, – кротко предложил я и взял ее за руку.
Она загадочно улыбнулась.
– Дейл, – обратился я к другу, когда мы заказали напитки, – расскажи Клариссе об игре «положи х*й».
– Во-первых, ты очень красивая, – сказал он ей.
– Она заняла второе место в конкурсе «Мисс США», – заметил я, гордясь своей новой подругой.
– Так вот, – продолжал Дейл, – «положить х*й» – это когда ты вытаскиваешь пенис из штанов на вечеринке и прикасаешься им к кому-то.
– Фу, – сказала Кларисса и поморщилась. – Это сексуально, что ли?
– Нет-нет, – серьезно сказал он. – Это не сексуально, а просто глупо и смешно. Ты трогаешь только одежду, и человек, на которого ты этот х*й положил, об этом даже не догадывается.
Кларисса повернулась ко мне:
– Ты это делал?
– Нет, – смущенно признался я.
Вечеринка оказалась не слишком интересной. На ней присутствовали в основном бизнесмены и представители строительных компаний. Самым примечательным из них был Дональд Трамп. Он стоял в нескольких ярдах от нас у подножия лестницы и громко разговаривал с другими гостями.
В то время Трамп был средней руки владельцем строительной компании, а также – из-за своего бурного темперамента и скандального нрава – главным героем бульварных газет. Недавно он выступил в реалити-шоу, и это придало ему известности.
– Моби, давай, положи х*й на Трампа, – сказал Ли.
– Что? – переспросил я. – А надо?
– Да, – спокойно молвил Дейл.
– Ага! – шаловливо подтвердила Кларисса.
– Черт, – сказал я, осознавая, что класть на Дональда Трампа все же придется. Выпил водки для храбрости, вытащил свой вялый пенис из штанов и небрежно прошел мимо бизнесмена, задев членом край его пиджака. Мне повезло: он, похоже, ничего не заметил и даже не пошевелился.
В то время Трамп был средней руки владельцем строительной компании, а также – из-за своего бурного темперамента и скандального нрава – главным героем бульварных газет.
Я вернулся к друзьям и заказал еще один напиток.
– Сделал? – спросила Кларисса.
– Сделал. Положил на Трампа х*й.
Выпив еще немного, я спросил у Клариссы:
– Не хочешь пойти ко мне, посмотреть на балкон Дэвида Боуи?
– Неплохой способ привлекать женщин! – весело ответила она. – Я согласна!
Мы доехали на такси до моего дома и зашли в магазин, чтобы купить пива. Я вспомнил: днем 11 сентября здесь было полно людей, которые молча запасались водой и едой. Никто не знал, насколько серьезно случившееся и насколько плохо все может обернуться в будущем. Прическа и пиджак человека, стоявшего в очереди передо мной, были усыпаны серым пеплом, летевшим с места катастрофы. Он стоял с опущенной головой и тихо плакал.
Теперь же, месяц спустя, в магазине в час ночи горел яркий свет, и казалось, что ничего страшного не произошло. Мы с Клариссой купили упаковку «Сьерра-Невады» и принесли ее на крышу. Я показал ей дом, в котором жил Дэвид Боуи, и балкон своего знаменитого соседа. В миле от нас на месте Всемирного торгового центра возвышались кучи обломков и раскинулось пепелище.
– Ты хочешь остаться в Нью-Йорке? – спросил я.
Она наморщила нос, задумавшись.
– Думаю, да… А ты?
Это был город, в котором я родился. Город, где можно было повстречать красивую женщину и привести ее на крышу над своей квартирой, чтобы глупо потаращиться на балкон Дэвида Боуи.
– Вряд ли что-то заставило бы меня уехать, – улыбнувшись своим мыслям, сказал я.
Стратфорд, Коннектикут
(1975)
После школы мы с Роном пошли играть на развалинах заброшенного особняка.
Рон был одним из моих лучших друзей в Стратфорде. Он нравился девочкам, потому что был красивым и довольно высоким для пятиклассника. Но девочки его не интересовали.
Он не знал, что он гей, потому что никто из нас не знал, что такое гей…
Мы бродили по развалинам, балансировали на каменном фундаменте и гадали, как выглядели комнаты до того, как дом сгорел дотла.
– Когда я разбогатею, куплю его и устрою в нем бильярдную, – сказал Рон.
Я ответил:
– А мне бы хотелось купить его и жениться на Фрэнси из соседнего классса. Знаешь ее? – Рон молча кивнул. – И мы бы здесь жили.
Я поднял кусок бетона и швырнул его в сторону рассыпающегося камина.
Покинув разрушенный особняк, мы некоторое время бегали по лесу и нашли несколько размокших порножурналов. Я попытался палкой открыть один из них, но журналы превратились в сплошное мокрое месиво. Мы сумели разглядеть всего несколько фотографий обнаженных женщин с черными треугольниками лобковых волос.
– Фу! – сказал Рон и отвернулся. Я смотрел на эти фотографии, и мое сердце гулко стучало. Порно тогда было незаконной редкостью, обычно его прятали. И вот оно попало мне в руки – размокшие, поврежденные снимки. Но какими же оглушающе притягательными они были! Я хотел забрать журнал с собой и спрятать, чтобы иметь возможность разглядывать расплывшиеся изображения обнаженных грудей и ягодиц, когда захочу. Но Рон посоветовал мне оставить журнал там, где мы его нашли: «Тебе нужны неприятности?»
Рон был одним из моих лучших друзей в Стратфорде. Он нравился девочкам, потому что был красивым и довольно высоким для пятиклассника.
Мы пошли обратно к моему дому. По дороге мой приятель зачем-то заглянул в ливневую канализацию.
– Там пять долларов! – завопил он.
– Что?
И вправду, на дне водостока лежала пятидолларовая банкнота.
– Как бы нам ее достать? – озадачился Рон. Я никогда не видел его настолько взволнованным.
– Давай поднимем решетку, – сказал я. Мы вцепились в мокрые, скользкие металлические прутья.
– Раз, два, три, тяни! – командовал я, но, несмотря на все наши усилия, решетка не сдвинулась с места.
– Может, туда можно из другого места пролезть? – спросил Рон. Мы огляделись. Никакого прохода в канализацию поблизости не наблюдалось.
– Давай найдем палку, – предложил я. Мы поискали на обочине дороги и нашли длинную тонкую палку. Один ее конец я обмазал грязью и медленно опустил его в сток. С первой попытки купюра прилипла к палке. Я вытянул ее, и Рон схватил вожделенную бумажку.
– У меня есть пять долларов! – истошно закричал он, подскакивая на месте. Мы осмотрели купюру. Она была мокрой и перепачканной в сточной грязи. Но все-таки эта зеленая штучка выглядела прекрасной!
– Я дам тебе доллар, потому что ты помог мне ее достать, – посерьезнев, весомо сказал Рон.
– По-моему, это справедливо, – немедленно и столь же весомо ответил я. Доллар был для меня настоящим богатством. Тем более ценным, что подарила мне его не бабушка, как она иногда это делала, а великодушные боги ливневой канализации!
Мы решили сегодня же потратить найденные деньги и пошли ко мне домой, чтобы попросить мою маму довезти нас на автомобиле до универмага.
– А зачем ты заглянул в этот водосток? – спросил я Рона по дороге.
– Я не знаю! – развел он руками.
Мы вошли в дом, и он закричал:
– Бетси, я нашел пять долларов!
Бетси – имя моей мамы. Она, как истинная демократичная хиппи, просила моих друзей называть ее по имени.
– Мы можем поехать в «Брэдлис»? – спросил я.
«Брэдлис» был самым дешевым из всех универмагов в Стратфорде. На вершине иерархии городских универсальных магазинов стояли «Мейси» и «Блумингдейл», но мы не могли позволить себе что-то покупать ни в одном из них: цены там кусались. А вот в «Брэдлис» мы всегда делали большую часть покупок. Здесь пахло жареной едой, между стеллажами с дешевыми товарами слонялись толпы иммигрантов и коннектикутских бедняков. Мы сели в мамин «Плимут» и быстро доехали до универмага.
– Я даю Моби доллар, – объявил Рон, – потому что он помогал мне, когда я нашел эти пять долларов.
Мама улыбнулась.
– Очень мило с твоей стороны, Рон. Моби, что ты хочешь купить?
– Пластинку «Convoy», – ответил я без малейшего колебания.
Я услышал песню «Convoy» по радио и сразу влюбился в нее. В ней пелось о тяжелых грузовиках, фурах и рефрижераторах, и это была самая лучшая песня, которую я когда-либо слышал. Я понятия не имел, что такое «медведь в воздухе», и никогда не слышал о компании «Kenworth»[94], но все в мире «Convoy» казалось необычным.
Мама припарковалась рядом с огромной кучей тающего серого снега. Мы с Роном побежали к зданию магазина, крича:
– Догоняй, мам!
– Скорее, Бетси!
Доллар был для меня настоящим богатством. Тем более ценным, что подарила мне его не бабушка, как она иногда это делала, а великодушные боги ливневой канализации!
Она рассмеялась и поспешила за нами по мокрой парковке. Мы знали «Брэдлис» как свои пять пальцев, так что Рон сразу убежал выбирать конфеты и футболки, а я пошел в отдел пластинок. Там продавались виниловые альбомы Элтона Джона, Боба Сигера[95] и группы Eagles. Но мне нужна была только одна вещь, и я нашел ее в разделе синглов – «Convoy» С. У. МакКолла[96].
Я осторожно взял пластинку в руки. Это был первый сингл, который я покупал в своей жизни. Я вернулся ко входу в магазин и стал ждать, когда придет Рон и даст мне доллар.
Он появился довольно скоро – с красной пластиковой корзинкой в руках. В ней лежали десять коробок разных конфет и ярко-желтая футболка.
Рон оплатил свои покупки, а затем протянул мне смятую долларовую купюру. Все это выглядело как очень серьезная сделка. Я пожал ему руку и официальным тоном сказал:
– Спасибо, Рон.
Я отдал этот доллар кассирше, и она положила мою пластинку «Convoy» в маленький коричневый бумажный пакет. Теперь у меня был собственный сингл! И песня, которую я слышал по радио. Теперь она была моей.
После двадцатого прослушивания я стал подозревать, что ситуация, вообще говоря, ненормальная.
Мы высадили Рона с конфетами и футболкой возле его дома. Я опустил окно и закричал ему вслед:
– Не могу поверить, что ты нашел пять долларов!
Когда мы приехали домой, я включил мамину стереосистему, поставил пластинку и нажал кнопку «пуск». Последовали две секунды шипящей виниловой тишины, а затем послышался звук армейских барабанов, с которых начиналась запись. «Convoy» сочетала в себе богатые оркестровые аранжировки, харизматичное исполнение МакКолла и выразительные припевы. Я стоял перед стереосистемой – неподвижный и потрясенный. Через три минуты и сорок девять секунд песня закончилась, И я снова нажал «пуск».
Мне хотелось, чтобы она никогда не заканчивалась. Пластинку я мог слушать сколько угодно, и поэтому прокрутил ее в четвертый раз, и в пятый, неподвижно стоя перед вертушкой.
После двадцатого прослушивания я стал подозревать, что ситуация, вообще говоря, ненормальная. Но каждый раз, когда начинала звучать песня, мне казалось, что происходит что-то волшебное. Поэтому я нажал «пуск» в двадцать первый раз и снова прослушал ее. И еще раз. После 30-го или 40-го прослушивания мама крикнула с кухни, что ужин готов, и я оторвался от стереосистемы.
– Нравится пластинка? – спросила она, накладывая мне на тарелку спагетти.
– Очень нравится, – ответил я, все еще пребывая в легком трансе после двух часов прослушивания одной и той же песни. Мы ели спагетти, а наши кошки спали на полу кухни. После ужина мама сказала:
– Вечером придет Кип.
Кип мне не нравился. Мама встретила его на заправке в Бриджпорте, где он работал. У него были длинные черные волосы, от него пахло бензином, и он всегда смотрел на меня, как на бродячую собаку, вставшую у него на пути. Мама и раньше встречалась с парнями, работавшими на заправках и в автомастерских, но все они приходили к нам умытые и в чистой одежде. Кип заваливался в наш дом сразу после работы – в заляпанном машинным маслом комбинезоне и с черными от грязи лицом и руками. Кроме того, они с мамой всегда размещались в гостиной, а это значило, что стереосистема будет мне недоступна.
– Хорошо, мам, – сказал я.
Меня утешала мысль о том, что завтра Кип уйдет и, как обычно, не будет появляться дня три. И я смогу слушать «Convoy», сколько моей душе угодно.
* * *
Утром я вышел на кухню к завтраку. Мама сидела за столом, сжимая обеими руками чашку кофе. На ее бледном лице застыло выражение растерянной озабоченности. По утрам она никогда не была веселой, но сейчас казалась особенно расстроенной. Я никогда не спрашивал, все ли с ней в порядке, потому что она могла ответить криком. Просто старался вести себя тихо и молчал. Но на этот раз она сама спросила меня:
– Мобс, как ты?
Я перестал засыпать сахар в миску с хлопьями.
– Нормально. А что?
– Ты в порядке? После вчерашней ночи?
Я был в полном замешательстве.
– Что ты имеешь в виду?
Она изумленно уставилась на меня:
– Ну, после того, что случилось вчера вечером…
Мне стало очень неловко.
– А что случилось?
– Ты правда ничего не помнишь?
Я стоял у холодильника. Время замедлилось. Я понятия не имел, о чем она говорит, и когда попытался вспомнить вчерашний вечер, у меня закружилась голова.
– Нет, не помню. Я сделал уроки и лег спать.
Она закурила сигарету и посмотрела мне прямо в глаза.
Мамины глаза наполнились слезами.
– Ты спас мне жизнь, Мобс!..
– После того как ты лег спать, ко мне пришел Кип. Мы начали ссориться. Потом перебрались в кухню и продолжали друг на друга кричать. Помнишь?
– Нет, – ответил я.
– Он бесился, потому что я сказала ему, что больше не хочу его видеть. Ну, знаешь… Не хочу быть его девушкой.
Я почувствовал облегчение, потому что Кип мне не нравился. Правда, когда у мамы не было парня, она очень грустила. И это немного озаботило меня.
– А потом он перестал орать, схватил нож и сказал: «Либо я, либо ты! Один из нас должен умереть!»
Она нервно затянулась сигаретой.
– Он пошел на меня с ножом в руках. И тогда появился ты.
– Что?!
– Да! Ты встал посредине кухни. Мы не услышали, как ты вошел. Но когда Кип увидел тебя, бросил нож и выбежал из дома.
– Я спал?
– Нет, ты не спал. Но ты молчал. Когда Кип ушел, ты вернулся в свою комнату.
Я никогда ничего не забывал, но этого не помнил, хотя все произошло несколько часов назад. Первой моей мыслью было: нет, я спал в постели. Но в этот момент я вдруг осознал, что каким-то образом оказался в двух местах одновременно. И на своем матрасе, лежащем на полу, и на кухне. Воспоминание напоминало лунный свет, проходящий сквозь бумажную салфетку. Теперь я точно знал: такое случалось со мной и раньше. Это было необъяснимо, но «раздвоение» я переживал не раз.
Выдать сейчас маме «я был и там, и там» было бы безумием.
Поэтому я просто высказал предположение:
– Наверное, я ходил во сне?
Мамины глаза наполнились слезами.
– Ты спас мне жизнь, Мобс!..
Солт-Лейк-Сити, Юта
(2002)
– Вы выступаете после Kiss, – сказал менеджер, сверившись со своим блокнотом, – и перед Bon Jovi.
– Хорошо, – сказал я. – Это интересно!
– Пожалуй, да, – вежливо ответил он и пошел прочь.
В Солт-Лейк-Сити я должен был петь на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр. Список выступающих в музыкальной части праздника был абсурдно прекрасен. Помимо Kiss, Бон Джови и меня, в число исполнителей входили группа Earth, Wind & Fire, а также Вилли Нельсон[97], Кристина Агилера[98], Донни и Мэри Осмонд[99]. Мероприятие проводилось на стадионе вместимостью в 500 000 человек. Мне сказали, что организаторы Олимпийских игр ожидают: трансляция церемонии соберет телевизионную аудиторию числом более миллиарда человек.
Это были первые Олимпийские игры после 11 сентября, и аэропорт Солт-Лейк-Сити, в котором приземлился мой самолет, сильно смахивал на зону боевых действий. Повсюду ходили солдаты, с ног до головы одетые в броню и вооруженные внушительными черными автоматами. В самом Солт-Лейк-Сити они стояли почти на каждом углу. Вишенкой на торте этой апокалиптической Олимпиады было то, что на стадионе во время моего выступления должен был находиться вице-президент США Дик Чейни.
– Если вы хотите встретиться с вице-президентом, это можно организовать, – сказал мне человек, встретивший меня в аэропорту.
– Нет, спасибо, – сказал я. Мне хватило ума не говорить, что я считал Дика Чейни архитектором зла и приспешником дьявола. Он руководил корпорацией «Halliburton», которая зарабатывала миллиарды долларов на продаже нефти, оружия и боеприпасов. Его назначение на пост вице-президента я считал непростительной ошибкой администрации Дж. Буша-младшего.
В Солт-Лейк-Сити я должен был петь на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр.
После обсуждения моего сета с дирижером оркестра и руководителем хора – а именно с оркестром и хором мне предстояло выступать – мы втроем прошли в комнату за кулисами, чтобы выпить по чашке чая. Там был Вилли Нельсон с пестрой банданой на голове. Он перешучивался с Джоном Бон Джови[100], который был похож на мужчину-модель, подрабатывающего рок-звездой. Джин Симмонс[101], уже полностью загримированный, разговаривал с одним из членов группы Earth, Wind & Fire, возвышаясь над ним благодаря своим ботинкам на чудовищно высоких платформах. Кристина Агилера, смущенно поправляя на голове огромную копну волос, искала уборную. А чистенькие и прилизанные, как будто только что сошедшие с рекламных плакатов Донни и Мэри Осмонд тихо сидели в уголке и приятно всем улыбались.
Церемония закрытия началась. Огни на стадионе погасли, полмиллиона человек зааплодировали, а оркестр заиграл торжественно-заунывный гимн Олимпийских игр.
Спортивные соревнования, тем более международные, всегда заставляли меня грустить. Ведь большинство соревнующихся в конечном итоге проигрывает. Всякий раз, когда я смотрел Олимпийские игры, старался радоваться за победителей. Но мысль о том, что кто-то тратит свою жизнь на подготовку к одному конкретному соревнованию, а затем терпит крах своих надежд и планов на глазах у всего мира, казалась настолько удручающей, что ее трудно было выразить словами. Радоваться я не мог.
Earth, Wind & Fire играли на льду посреди стадиона, а вокруг них красиво танцевали мастера фигурного катания. Затем выступили Вилли Нельсон и Kiss. А потом настала и моя очередь.
Перед началом песни я улыбнулся оркестру, состоящему из 150 музыкантов и хору из 50 человек, одетых с головы до ног во все белое и уже основательно продрогших. Услышал, как мое имя объявили полумиллиону присутствующих на стадионе и миллиарду телезрителей, спел «We Are All Made Of Stars»[102], и через три минуты мое выступление закончилось.
Диктор громко произнес имя Бон Джови, и расторопные охранники поспешно увели меня со сцены, посадили в гольф-кар и отвезли на вторую сцену. Там уже стояла моя группа. Мы должны были сыграть три песни, сразу после завершения основной части церемонии.
Мой роуди Кевин протянул мне гитару.
– Не замерз? – спросил он. Температура воздуха была намного ниже нуля.
– Нет, – ответил я.
В небе над стадионом с грохотом расцвели огни фейерверка. Прямо над нами появились два гигантских муляжа – головы динозавров, каждая размером со школьный автобус. Их огромные рты стали открываться и закрываться, и в динамиках раздались голоса Донни и Мэри Осмонд. Они озвучивали комический диалог рептилий.
Когда он явно стал подходить к концу, мы с ребятами вскинулись и взяли в руки инструменты. Динозавры сказали голосами Донни и Мэри:
– А вот и Моби!
Я слушал группу The Osmonds, песни Вилли Нельсона, Kiss и Earth, Wind & Fire, будучи еще подростком. Сейчас же выступал со ними в одном концерте. Мне казалось, что я попал в реалити-шоу, сценарий которого написали Пруст и Хантер С. Томпсон. Я играл «Bodyrock» и «Natural Blues», а с ярусов стадиона каскадом спускались несколько тысяч белых воздушных шаров. Когда прозвучала последняя нота, небо взорвалось ярким фейерверком. Динозавры Донни и Мэри провозгласили:
– Пусть этот салют будет в честь Моби!
А потом объявили выход Кристины Агилеры.
Спортивные соревнования, тем более международные, всегда заставляли меня грустить.
Я прошел за кулисы, спустился по длинному бетонному тоннелю и сразу же сел в микроавтобус, который должен был отвезти меня в отель. Расслабленно откинулся на спинку сиденья. Олимпиада, официальное мероприятие международного масштаба, телетрансляция на весь мир, огромная ответственность… Только теперь я понял, как сильно волновался. Следовало хорошенько отдохнуть и повеселиться.
Водитель высадил меня у отеля, и я отправился в лобби-бар в поисках развлечений.
Там было почти так же тихо, как в микроавтобусе. Из стереосистемы лился мягкий джаз, несколько туристов пили пиво. Я только что отыграл для миллиарда людей и теперь хотел провести вечер как настоящая рок-звезда. Я хотел пить и принимать наркотики, а потом оказаться в постели, полной голых спортсменок и женщин-телеведущих. Но, судя по атмосфере в баре, сегодня у меня ничего подобного получиться не могло.
Завтра мне нужно было встать в 5.30 утра и в 7.00 сесть в самолет, чтобы лететь в Лос-Анджелес. Поэтому я отказался от своих недостойных мечтаний и пошел в номер, где старательно и ответственно заснул.
* * *
Организаторы Олимпийских игр наняли для музыкантов, игравших на церемонии закрытия, два частных самолета: один направлялся в аэропорт Тетерборо в Нью-Джерси, а другой – в аэропорт Ван-Найс близ Лос-Анджелеса. Я собирался снимать в Лос-Анджелесе клип на песню «We Are All Made of Stars», поэтому полетел на Запад – вместе с Kiss, Вилли Нельсоном и Earth, Wind & Fire.
В полете я задремал и очнулся только тогда, когда мы заходили на посадку. Я моргал и все никак не мог прийти в себя. Теоретически лететь в одном самолете с культовыми музыкантами после того, как ты выступил с ними для пятой части населения планеты, было здорово. Но практически – нелегко. Длинные перелеты я переносил плохо.
После того как самолет совершил посадку, я достал из багажного отсека свой рюкзак и вместе с другими музыкантами вышел в проход. Кто-то похлопал меня по плечу. Я обернулся – позади меня стоял Джин Симмонс. Я не был с ним знаком, но он смотрел на меня так, словно мы хорошо знали друг друга.
– Моби, – сказал он, глядя мне прямо в глаза, – вы сильный и привлекательный человек!
Я не знал, что ответить, но все-таки нашелся:
– Ха, мне так не кажется!..
Он улыбнулся, и мы вышли из самолета под безоблачное небо Лос-Анджелеса.
Честер, Коннектикут
(1976)
Я глотал камешки.
Шел четвертый день моего пребывания в летнем лагере. Я ненавидел его и хотел домой.
В первый день, после того как мама меня привезла сюда и уехала, я вежливо спросил у вожатых, можно ли мне уехать домой.
На второй день я сказал им, что мой дедушка умирает, потому что перенес несколько инсультов (и это было правдой). И что только мне понятна его искаженная параличом речь (а это уже было враньем). Я даже использовал сложный для меня термин «внутримозговое кровоизлияние», пытаясь впечатлить вожатых. Но ничего не вышло: меня не отпустили.
На третий день я попытался упасть с лестницы, но пролетел вниз всего на несколько ступенек и отделался небольшим синяком на плече. После этой неудачной попытки членовредительства я написал маме письмо, умоляя ее забрать меня домой. Перед тем как положить его в конверт, я побрызгал на текст водой, чтобы чернила расплылись и было похоже, будто из моих глаз ручьем лились слезы.
Наступило утро четвертого дня. Я ушел в лес и начал глотать мелкие камешки – в надежде, что заболею и меня отправят в больницу, а потом мама приедет за мной. Мне казалось, что глотать камни трудно, но они были маленькие и гладкие и проваливались в желудок легко, как таблетки витаминов.
Мама отправила меня в лагерь на две недели, а сама переехала из нашего дома в Стратфорде обратно к своим родителям в Дариен. Дедушка после инсультов находился в очень тяжелом состоянии.
Я навещал его в больнице перед тем, как поехать в лагерь. Я держал его за руку, повторяя: «Дедушка! Дедушка…» Но его глаза оставались закрытыми, а грудная клетка медленно и с трудом поднималась и опускалась. После каждого трудного выдоха наступала пауза – и эта тишина, казалось, возвещала о конце его жизни. Я пугался. Но снова случался вдох, и дедушкина грудь медленно поднималась.
Я рос посреди хаоса маминой хипповой жизни, мне было нелегко, и дедушка всегда оставался моим надежным старшим другом. Тем, кем не смог стать для меня ни один из маминых парней. У дедушки была короткая стрижка, от него пахло джином с тоником и лосьоном после бритья. Он водил меня на игру «Yankees». Он разрешал мне ездить на своей газонокосилке, хотя тогда я был так мал, что не дотягивался до педалей.
Иногда я забирался в его шкаф, чтобы побыть с вещами, хранившими его запах. Прикасался к старому шерстяному пальто, которое он носил зимой, и впитывал охватывающее меня ощущение тепла, уюта и безопасности.
А теперь он умирал. Или, говоря откровенно, был уже мертв. Он ни на что не реагировал. Его жизненные силы исчерпались.
* * *
Лагерь Хейзен, в который отвезла меня мама, был типичным лагерем YMCA[103]. Располагался он где-то в Восточном Коннектикуте. В домиках, выстроенных из старых бревен и досок, пахло влажными спальными мешками и пылью. Теплое озеро было такого же густого чайного цвета, как и любое другое озеро в Новой Англии летом. В воздухе гудели тучи комаров и носились кусачие черные мухи.
Я возненавидел Хейзен.
Вранье вожатым, падение с лестницы, отправка письма маме и глотание камешков не принесли никакого положительного результата. Ответ от мамы не приходил, я не заболел. И тогда решил смириться со своей жалкой долей. Как и любой заключенный, я терпел и старался оставаться самим собой.
Я читал книги. Бегал по утрам. Гулял в лесу. Плавал по озеру в лодке. Я сделал для дедушки глиняную пепельницу.
И вот, наконец, две недели заточения миновали. Наступило ясное утро моего освобождения. В девять часов утра, после завтрака из яиц, бекона и фруктового сока, я уселся на скамейке перед столовой и стал высматривать мамину машину.
Я рос посреди хаоса маминой хипповой жизни, мне было нелегко, и дедушка всегда оставался моим надежным старшим другом.
К десяти утра в лагерь приехало много родителей. Они забрали большую часть детей.
– Моби, может, зайдешь к себе? – спросил один из вожатых. – Скоро дождь пойдет.
Я хотел ответить длинной речью: «С вами и с этим лагерем все в порядке. Но по какой-то необъяснимой причине я ненавижу это место, а заодно и вас. И сейчас весь смысл моей дерьмовой маленькой жизни состоит в том, чтобы дождаться, когда мама въедет на своем стареньком «Плимуте» в ворота, чтобы забрать меня из этой тюрьмы».
Но сказал я другое:
– Нет, спасибо, мне лучше здесь.
И продолжил покорно ждать, сидя рядом со своим потрепанным красным спальным мешком и обшарпанным чемоданом, которым мама пользовалась, когда еще училась в колледже в начале 60-х.
Наконец, в одиннадцать часов в воротах лагеря показался мамин «Плимут». Я вскочил и, только он подъехал и остановился, бросил спальный мешок и чемодан на заднее сиденье и прыгнул на пассажирское место рядом с мамой. Мы выехали за пределы лагеря, я опустил стекло, высунул голову в окно и закричал:
– Я свободен!
Мама рассмеялась, но было заметно, что она чем-то озабочена. Перед тем как выехать на шоссе, мы остановились возле закусочной, чтобы пообедать.
– Мобс, – сказала мама, когда я расправлялся со стопкой блинчиков, – дедушке плохо.
– Ему давно плохо, – ответил я, не понимая, почему мама напоминает об этом.
– Нет, – сказала она, и на ее глаза навернулись слезы. – Ему стало намного хуже.
Я не понимал, о чем она говорит. Как дедушке может быть хуже, если он лежит на койке, ни на что не реагируя? Разве может быть хуже этого что-то еще?!
Мы доели завтрак и направились на запад. Проехали Стратфорд, и я вспомнил, что больше там не живу. Что мама отослала меня в лагерь только для того, чтобы организовать переезд к своим родителям. Я был рад, что возвращаюсь в Дариен, буду жить в красивом доме с колоннами и увижу своих старых друзей.
Еще через 30 минут мы добрались до въезда в город. И проехали мимо.
– Разве мы не едем домой? – удивился я.
– Нет, нам нужно в больницу. Она уже близко.
У меня упало сердце. Я понимал, что если мы так спешим в больницу, то, значит, дедушкино состояние еще хуже, чем говорила мама.
Мы въехали на стоянку, и начался дождь. Горячий августовский дождь, который нисколько не охлаждал плотный жаркий воздух.
– Можно я посижу в машине? – спросил я, надеясь остаться в стороне, пока дедушка умирает.
– Нет, Мобс, – сказала мама, выходя из машины и прикуривая.
Мы поднялись на лифте на третий этаж. В коридоре я увидел родственников – тетя Джейн и тетя Энн плакали, обнимая друг друга. Их мужья, опустив головы, стояли поодаль. Бабушка со скорбным лицом разговаривала с администратором.
Мама резко остановилась.
– Нет… – шепотом сказала она.
Мои тети подбежали к маме и обняли ее.
Я заглянул через полуоткрытую дверь в дедушкину палату. Он все еще был там. Он лежал на выцветших простынях. Казалось, что он крепко спит, но я понял, что он умер. Я хотел войти и не сдвинулся с места: мне было страшно. Я никогда раньше не видел мертвого тела.
Я повернулся и пошел прочь. Все были поглощены своим горем, и никто не заметил моего исчезновения. Я забрел в холл, в котором стояло несколько пластиковых стульев и торговый автомат, издающий низкий гул.
Мой отец погиб, когда я был маленьким, и мне казалось, что этой потери достаточно – никто из моих близких больше не покинет этот мир. Во всяком случае, до наступления моего совершеннолетия. Но дедушка, который всегда был рядом со мной, ушел. Намного раньше, чем я ожидал. Теперь он не придет ко мне 11 сентября, в день, когда мне исполнится 11 лет.
Мимо холла прошли несколько санитаров. Я не хотел, чтобы видели мое лицо, и закрыл его руками. Никогда раньше мне не доводилось оплакивать умершего человека. Я не знал, что полагается делать.
В голову пришли мысли о Джордже, таксе моего деда. Их дружба была трогательной. Дедушка работал целыми днями, но взял за строгое правило выгуливать Джорджа в шесть утра перед уходом на работу и в шесть вечера после возвращения домой. Бывший морской пехотинец, жестко-деловитый менеджер Уолл-стрит, он имел суровый нрав. Но Джордж размягчил его сердце. Я видел, как они играли. Дедушка не подозревал, что кто-то на него смотрит, и вел себя по-детски беззаботно, весело смеялся.
Я представил себе, как Джордж ждет возвращения дедушки, ищет его и не может найти. И заплакал. Мне показалось, что из коридора кто-то смотрит на меня. Я сглотнул слезы, повернул стул лицом к стене, снова прижал ладони к лицу. И заплакал еще сильнее.
Лос-Анджелес, Калифорния
(2002)
Было два часа ночи. Я, облаченный в скафандр NASA, сидел в ресторане быстрого питания с темнокожими актерами, Гэри Коулманом и Тоддом Бриджесом.
Мы снимали клип на песню «We All Made of Stars». Режиссер Джозеф Кан считал, что видео должно показать, как Голливуд и слава портят людей. Такой взгляд на песню, вдохновленную моим преклонением перед открытиями квантовой механики и астрофизики, был довольно странным. Но мне понравились другие работы режиссера, и я доверился ему в надежде получить нечто особенное.
За последние два дня мы сняли Като Кэлина[104], приятеля О. Джея Симпсона[105], в дешевом баре; Верна Тройера[106] в стриптиз-клубе; Дейва Наварро[107] в наркопритоне; Томми Ли[108] в борделе; Шона Бина[109] в арендованном «Delorean»; Кори Фелдмана[110] в еще одном наркопритоне и Анджелину, святую покровительницу Лос-Анджелеса, в ее розовом «Mustang» с откидным верхом.
Мне пришлось надеть списанный скафандр, потому что в названии песни упоминаются космические звезды. В детстве я был одержим всем, что касалось открытого космоса. Поэтому в первый день съемок был в восторге от того, что надену настоящий скафандр. И с удовольствием облачился в него. Но через несколько минут до меня дошло: возможно, скафандр помогал космонавтам выжить в космосе, но на жарком бульваре Голливуд в нем было не очень-то комфортно.
Моя работа перед камерой заключалась в том, что я неподвижно стоял, а актеры вокруг меня танцевали и шевелили губами под песню, делая вид, что поют. Крупные капли пота катились по моей спине, она зудела, но я ничем не мог себе помочь: мои руки были упакованы в толстые перчатки космонавта. В перерывах между дублями я просил снять с меня шлем и почесать мне спину сквозь ткань скафандра.
Мне казались странными съемки голливудской легенды Боба Эванса, шевелящего губами под песню у бассейна в своей квартире. Но сидеть в ресторане фастфуда с Гэри Коулманом и Тоддом Бриджесом было еще более странно. И грустно. Все остальные участники съемки с радостью согласились сниматься, потому что им нравился я или моя песня. Но от одного из агентов по подбору актеров я слышал, что Гэри Коулман сидел напротив меня только потому, что ему заплатили пятьсот долларов.
Я пытался завести с Гэри и Тоддом беседу, но это было непросто. Актеры находились в подавленном настроении. Сериал «Различные ходы», который принес им известность, оказался проклятым. Почти все, кто участвовал в его создании, умерли или серьезно пострадали. Например, актриса Дана Плато, игравшая роль умной и очаровательной Кимберли, после премьеры сериала стала наркоманкой и начала сниматься в порно. Позже она умерла от передозировки героина. Ее нашли на пустынном пляже неподалеку от Лос-Анджелеса.
Гари был немногословен и угрюм. Недавно появилось видео, запечатлевшее его на новой работе в качестве парковщика. Одетый в бежевую униформу слишком маленького для него размера, он преследовал машину, набитую подростками, которые отказались платить. Это была унизительная для актера, душераздирающая сцена.
Клип «We Are Made of Stars» был посвящен тому, какую разрушительную роль в человеческой судьбе играет слава. Не всех она погубила, но все от нее пострадали. Только не я. Во мне жила уверенность, что слава не принесет мне вреда. До того, как стать известным, я был неуверенным в себе лысым коротышкой из Коннектикута. А теперь я – рок-звезда с платиновыми альбомами, живу в дорогих гостиницах и шикарных гастрольных автобусах и дружу со знаменитостями. Слава спасла меня – разбитого жизнью, распадавшегося на части – и заново собрала из кусков.
Я переодевался в гримерной, меняя скафандр на привычные джинсы и черную футболку, когда зазвонил мой мобильник. Номер был незнакомым, но я все равно ответил. Из трубки послышались громкие звуки техно и женский голос, кричавший: «Это Ягуар!»
Накануне я в компании нескольких друзей был в стрип-клубе «Седьмое покрывало» в районе Ранчо Ла-Брея и, напившись, имел там долгую беседу с симпатичной стриптизершей по имени Ягуар. Она рассказала, что учится в колледже Огайо и зарабатывает стриптизом на жизнь. Я дал ей свой телефон.
– Моби! – кричала она в трубку сквозь грохот танцевальной музыки.
– Алло! – как можно громче отозвался я.
– Привет! Это Ягуар! Мы вчера познакомились! Можно с тобой встретиться?
Вечерело, я целый день провел в скафандре, а с утра должен был вылететь в Лондон. Но все-таки рассказал Ягуар, где меня найти, и поехал на лимузине в свою гостиницу «Four Seasons». Там цена одной ночи в номере с двумя спальнями – таком, в каком я жил, – превышала бюджет моего первого клипа «Go»; он составлял 1500 долларов.
Мне по-прежнему хотелось считать себя панк-рокером, презирающим богатство и расточительность. Но я ехал на лимузине в номер за 2000 долларов со съемок клипа с бюджетом в 950 000 долларов. Мне нравилось считать себя духовным и умеренным человеком. Но быть рок-звездой, жить в богато обставленных гостиничных номерах и заниматься сексом с красивыми стриптизершами мне тоже нравилось.
Слава спасла меня – разбитого жизнью, распадавшегося на части – и заново собрала из кусков.
Размышления над этим парадоксом неизменно приводили меня к одному выводу. Меня неудержимо тянуло к тому, что доставляло удовольствие. Мой жадный гедонизм игнорировал неопровержимые доказательства того, что я просто эгоистичный лицемер.
Я поднялся на лифте в номер, с помощью пульта дистанционного управления включил камин и, усевшись на диван, стал ждать Ягуар.
Всего через несколько минут она позвонила в дверь. От нее пахло так, будто ее работа заключалась в курении сигарет на парфюмерной фабрике. Она была одета в красивое тонкое платье цвета «серый металлик». Стриптизерские туфли на платформе делали ее чуть выше меня. Она тряхнула длинными осветленными волосами:
– Привет, Моби!
– Привет, – сказал я, не придумав ничего лучше.
– У тебя есть что-нибудь выпить? – спросила она, деловито направляясь прямиком к мини-бару. Заметив банку пепси и маленькую бутылочку сливочного ликера «Bailey’s», она вылила их в тяжелый хрустальный стакан, с сосредоточенным видом попробовала напиток, а затем еще раз покопалась в мини-баре и добавила к ликеру и пепси содержимое двух маленьких бутылочек водки.
– А лед у тебя есть? – поинтересовалась она.
– Нет, но можно достать.
«Four Seasons» – одна из лучших гостиниц мира, но, пройдя по коридору к машине для производства льда, я обнаружил, что она абсолютно такая же, как в «Holiday Inn». Почему-то мне казалось, что увижу здесь нечто более навороченное.
Когда я вернулся в номер с полным ведерком льда, Ягуар уже прикончила коктейль и закурила.
– Ох, – сказал я. – Лед-то тебе еще нужен?
Она взяла хрустальный стакан и наполнила его льдом. Затем вернулась к мини-бару и смешала другой коктейль: напиток «7-Up», ликер «Southern Comfort» и ром.
Мне не нравилось, что она безостановочно пьет и курит у меня в номере, но возмущаться не хотелось. Хотя эта Ягуар явно была не в своем уме, – и как я этого вчера не заметил? – мне по-прежнему хотелось с ней переспать. Я потянулся к ней, чтобы поцеловать, но она отвернулась.
– Хочешь «особого К»? – спросила она. «Особый К» – это мощный транквилизатор, который в первые годы распространения рэйва стал клубным наркотиком. Я никогда его не пробовал и подозревал, что не стоило экспериментировать сейчас: через несколько часов нужно было сесть в самолет.
– Нет, спасибо, – отказался я.
Ягуар достала пакет, полный белого порошка, высыпала его на стол в номере и стала делить кучку на несколько дорожек.
– Я не буду, – напомнил я.
– Я знаю, – ответила она и спросила: – Ты духовный человек?
– А что, если так?
– Ты читал «Селестинские пророчества»?[111]
– Нет.
Я слышал о «Селестинских пророчествах», но, даже не открывая книгу, почему-то решил, что в ней идет речь о поверхностной духовности для глупцов.
– Слушай, я вчера увидела тебя в «Седьмом покрывале» и сразу поняла, что ты духовный, – сказала она и склонилась к столу, чтобы принять наркотик. – Тебе нужно прочитать «Селестинские пророчества». Это невероятная книга, в ней рассказано обо всем.
Ее телефон зажужжал, и она взяла его в руки.
– Я изучал Библию, – сказал я, – но стал приверженцем агностицизма.
Она проигнорировала мои слова, напряженно глядя на светящийся экран телефона. Затем встала с дивана, подошла к окну и что-то зашептала в микрофон. Тихий разговор занял десять секунд. Она села и снова приняла дозу.
– Это был Маркус Шенкенберг[112], – сказала она. Ее глаза блестели. – Он в «Ermitage». Мне нужно с ним встретиться.
Прежде чем встать, она оглядела мой номер, пытаясь, видимо, решить, стоит ли остаться здесь и заняться сексом с рок-звездой или лучше поехать в «Ermitage» и переспать с актером-моделью. Помимо гостиной, в которой Ягуар нюхала свой «особый К», в номере за две тысячи были камин, две спальни, столовая и патио с видом на пальмы и бассейн. Она пошла к двери, предпочтя модель Маркуса музыканту Моби.
Я хотел было рассердиться, но быстро передумал.
По дороге к двери она покачнулась на своих стриптизерских платформах и чуть не упала.
– Ты вот такой сядешь за руль? – осторожно спросил я.
– Что? Ха! Конечно! Я всегда вожу под кайфом!
Я хотел было посоветовать ей взять такси, но она уже ушла.
– Прочитай «Селестинские пророчества»! – крикнула она из коридора. – Эта книжка такая же духовная, как ты!
Нью-Йорк
(2002)
Я был одет так, словно собирался на антарктическую станцию Мак-Мердо, хотя мне нужно было пройти всего два квартала до дома Дэвида Боуи. В Нью-Йорке буйствовал жестокий ледяной ветер, и, чтобы выжить, я завернулся в длинный серый шарф, надел куртку, подбитую искусственным мехом, толстые перчатки Patagonia и черную балаклаву.
Неделей раньше Дэвид был у меня в квартире. Мы репетировали, собираясь вместе дать благотворительный концерт.
– У меня идея, – сказал тогда я, полностью отдавая себе отчет в том, что Дэвид Боуи, полубог, сидит у меня, убого самозванца, в гостиной, и мы говорим на равных, чего в принципе быть не должно. – Что, если мы сыграем «Heroes» на акустической гитаре?
Он улыбнулся и ответил:
– Давай попробуем.
Я выучил аккорды «Heroes» накануне вечером, когда репетировал в одиночку. Поэтому сразу негромко взял на гитаре открывающий аккорд D-мажор. Дэвид глотнул кофе и начал петь.
Сердце замирало от восторга: Дэвид Боуи исполнял самую прекрасную песню из когда-либо им написанных! Во время исполнения второго куплета его голос стал громче, богаче, и я не удержался: стал ему подпевать.
Полчаса спустя репетиция закончилась, мы выпили кофе, и Дэвид упомянул, что на следующей неделе обедает у себя в квартире с Лу Ридом и Лори Андерсон[113]. И добавил, улыбаясь, что будет рад, если я присоединюсь к ним.
– Мы с Иман[114] можем приготовить для тебя что-нибудь веганское, – добавил он.
Итак, я оделся по-зимнему и добрался до дома Дэвида. Вошел в лифт и, поднимаясь на восьмой этаж, начал избавляться от зимней экипировки. Оказавшись у дверей квартиры, замер. Я был здесь уже пятнадцать или двадцать раз, но всегда медлил, прежде чем постучать. Меня охватывало благоговейное чувство: пройдет несколько секунд, и я переступлю порог квартиры великого рок-музыканта – с ее длинными коридорами, гиперсовременной, но уютной кухней, библиотекой, отделанной темным деревом, и панорамными высокими окнами.
Сердце замирало от восторга: Дэвид Боуи исполнял самую прекрасную песню из когда-либо им написанных!
У меня в голове не укладывалось то, что каждый раз я приходил к Дэвиду как к другу. Как к равному. Дэвид Боуи был иконой британского рока – творец, новатор, интеллектуал. А я – лысым дегенератом, пластинка которого по случайности стала хитовой. Он был полубогом, а я больше всего походил на мистера Случайность.
Я постучал, дверь открылась, и передо мной предстал Дэвид Боуи в серых слаксах и черной футболке, пахнущий дорогим мылом.
– Ничего себе! – сказал он, имея в виду мою куртку, перчатки, шарф и балаклаву. – Ты собрался пешком в Канаду?
– Ненавижу мерзнуть, – ответил я, переступая порог.
– Давай я возьму вещи.
Я замер на добрых десять секунд, поражаясь тому, как неправильно было слышать это от Дэвида. Нельзя попасть на небеса и услышать от Бога: «Давай я возьму твои вещи».
Он убрал мое зимнее снаряжение в шкаф, и мы прошли в кухню, где Иман готовила и беседовала с Лори Андерсон.
– Моби! – воскликнула Иман и обняла меня.
Она была скульптурным совершенством – высокая, стройная, изящная. Эта прекрасная женщина – добрая, уравновешенная, уверенная в себе – всегда вызывала во мне восхищение и благодарность за то, что в ее присутствии я переставал ощущать себя ничтожеством.
– Ты знаком с Лори? – спросила Иман.
– Да. Привет, – сказал я, вежливо целуя Лори в щеку. Я часто видел ее на благотворительных мероприятиях по сбору средств и открытиях выставок, и она со своими торчащими, как у Джонни Роттена[115], волосами, всегда казалась веселой и озорной.
– А с Лу? – снова спросила Иман.
Лу Рид в пиджаке, обвешанном металлом, пил в сторонке коктейль и листал журнал.
– Привет, Лу, – сказал я. Он бережно обнял меня, произнес теплые слова. Вообще, Лу ненавидел большую часть людей. Но по непонятной причине ко мне относился с симпатией.
– Как дела, Моби? – спросил он тем самым неповторимым голосом, который я слышал в «Heroin», «Pale Blue Eyes» и во множестве других знаковых песен.
– Хорошо… – Я запнулся, вдруг осознав, что окружен богами из горних миров. – Холодно.
Лу с удивленным видом огляделся.
– Но здесь тепло.
– Моби шел сюда пешком из дома, – пришел мне на помощь Дэвид.
– Но ты живешь на соседней улице! – осуждающе посмотрел на меня Лу.
– Ну да. Я тот еще неженка… – Меня смутили замечания Лу. Но такой уж был у него характер!
– Ты был дома у Моби? – спросил его Дэвид, переводя разговор на другую тему.
– Когда я строил студию, заходил к нему посмотреть, как его плотник обшил деревом стены кухни, – со свойственной ему обстоятельностью ответил Лу.
Я раздвоился. Один Моби в реальности вел спокойную беседу с парой друзей в ожидании ужина. А другой – существовавший на тонком плане – вопил: «Лу Рид и Дэвид Боуи знают, где я живу! Как это здорово! Они были у меня дома! Черт! Мир перевернулся!»
Он бережно обнял меня, произнес теплые слова. Вообще, Лу ненавидел большую часть людей. Но по непонятной причине ко мне относился с симпатией.
– Да, Моби, – сказал Дэвид, – я кое-что вспомнил! Ты когда-нибудь видел стилофон[116]?
– Нет, а что это?
– Сейчас покажу.
Мы оставили Лу, Иман и Лори и прошли по длинному коридору в студию. Она была скромной, похожей на гостевую спальню, в которой почему-то стояло музыкальное оборудование.
– Я заканчиваю альбом, – сказал Дэвид, – и сегодня записал стилофонную партию для одной песни.
Сияя улыбкой, он вложил мне в руки небольшую розовую картонную коробку. Я открыл ее и увидел самый маленький в мире синтезатор.
– На нем нужно играть стилусом! – сказал Дэвид, протягивая мне что-то типа металлической авторучки. – Это, наверное, лучший инструмент из когда-либо изобретенных!
Я включил стилофон и провел стилусом по клавишам. Звук был неровным, ломаным, но неожиданно красивым.
– А можно мне послушать песню? – спросил я.
– Она еще не сведена.
– Ничего страшного.
Дэвид вставил диск в студийный проигрыватель, нажал кнопку воспроизведения и закурил сигарету.
– Она называется «Slip Away», – сказал он, выдыхая дым. Песня зазвучала – красивая, сильная, уязвимая, полная тоски. Через четыре или пять минут она закончилась, но мы молчали. Дэвид курил, а я мысленно продолжал слушать волнующие сердце звуки и слова.
– Дэвид, она прекрасна! – искренне сказал я.
– Спасибо.
– Нет, правда, так и есть! Это чудесная песня! Спасибо, что дал послушать.
Он погасил сигарету.
– Пойдем посмотрим, как там ужин?
– Она называется «Slip Away», – сказал он, выдыхая дым. Песня зазвучала – красивая, сильная, уязвимая, полная тоски.
«Slip Away» меня потрясла. Никто не назвал бы ее лирической, или крутой, или танцевальной. Она не казалась и современной. Но это была одна из самых красивых и беззащитных песен Дэвида Боуи, которую я когда-либо слышал.
Во время ужина мы все не переставали болтать – за исключением Лу, который, похоже, легко обходился без общения, занимаясь исключительно едой и водкой с содовой. Мы говорили о новых фильмах, о холоде в Нью-Йорке, о наших новых альбомах, концертах и друзьях – обо всем. После обеда вся компания устроилась в библиотеке, и Дэвид стал весело рассказывать нам какую-то чепуху и анекдоты. Я никогда прежде не видел его настолько счастливым и расслабленным.
Лори, Иман и я смеялись, слушая Дэвида. Лу заснул на диване. Лори протянула руку и осторожно взяла из его руки наполовину наполненный стакан. Потом мы танцевали и пели.
Через час Лу, вздрогнув, проснулся и, нахмурившись, огляделся, вспоминая, где находится.
– Который час? – спросил он.
– Одиннадцать, – ответил я. – Кажется, нам пора уходить.
Мы все вышли в коридор. Я завернулся в свое зимнее снаряжение, как мумия; Лу и Лори надели куртки – не такие теплые, как та, что была на мне, но гораздо более стильные.
– Спасибо за чудесный вечер! – сказал я Иман, обнимая ее и целуя.
– Ой, подожди! – вскинулся Дэвид и убежал. Вернулся он, держа в руках стилофон.
– Вот, возьми. – Он протянул мне розовую коробку с изображением танцующих хипстеров 60-х.
Я задохнулся от радости:
– Ты уверен, Дэвид?!
– Я купил на eBay пять штук! – Он прижал розовую коробку к моей груди. – Ты же король дискотеки, вот и возьми его себе!
Я крепко обнял его.
– Спасибо, Дэвид! И еще раз скажу: твоя новая песня прекрасна!
Он смущенно улыбнулся:
– Спасибо, Моби…
В лифте Лу спросил:
– Что он тебе подарил?
– Стилофон. Это такой маленький синтезатор. – Я протянул ему коробку.
Он взял ее, открыл и внимательно изучал инструмент, пока мы шли через вестибюль. Потом взял стилофон в руки, и я включил его. Лори Андерсон и швейцар с удивлением смотрели на нас. Лу провел стилусом по клавишам – раздался характерный тонкий ломаный звук. Лу посмотрел на меня и засмеялся.
Он водил стилусом по крошечным клавишам и улыбался, слушая странную ломаную музыку.
Дариен, Коннектикут
(1978)
Я услышал, как один из семиклассников на игровой площадке средней школы Мидлсекс рассказывал, как его старший брат пытался курить наркотик.
– У меня есть такое дома, – сказал я с беззаботностью, которой на самом деле не ощущал.
Я был маленький и бедный и не имел отца. Скотт Деккер, Кит Морган и Найджел Дэйкотт были самыми крутыми семиклассниками во всей школе. Мы учились в одном классе, но я никогда не попадал в их поле зрения.
– Нет, у тебя этого нет, – хмыкнул Скотт.
– Есть! Могу показать – сказал я.
– Ладно, принеси завтра в школу.
Я знал, что мама хранит это в черной лакированной шкатулке, стоявшей на пианино, которое подарила ей бабушка. После школы у меня была пара часов, прежде чем мама придет с работы, так что я взял то, что мне нужно, насыпал в пакет для сэндвича, разбавив для солидности орегано, и отнес Скотту, Киту и Найджелу.
Никто из них до сих пор не имел дело с незаконными веществами. Кит забрал у меня пакет, сказав, что это круто. Но я всего лишь дал им то, что украл у мамы.
* * *
После того, как я доказал ребятам, что могу быть полезен, Кит пригласил меня к себе с ночевкой – с условием, что я принесу еще наркотиков. Его родители уехали из города. Сестра Кита страдала шизофренией, и, когда он навещал ее в Сильвер-Хиллс, местной больнице для богачей с душевными болезнями, она давала ему антипсихотики, которые ей выписывали.
Мы пришли к нему домой.
– Твои родители точно уехали? – спросил я. Мне никогда не доводилось ночевать у друга без его родителей. Я нервничал, но хотел, чтобы Кит думал, что я крутой.
– Они в Северной Каролине! – весело ответил он.
Пока родители Кита были в отъезде, за ним присматривала соседка Вики. Она была красивой блондинкой и училась в старшей школе Дариена. В тот вечер она пригласила в дом Кита кучу своих друзей, ребят постарше нас с Китом, и принесла ящик пива, украденный из родительского гаража.
Вики, Кит и я ждали гостей, сидя у телевизора.
Я хотел тусоваться со старшими и крутыми ребятами. Я желал, чтобы они принимали меня, приглашали к себе домой, катали на своих яхтах, приглашали в клубы, в которые ходили вечерами. Но они были мне не очень-то приятны. Никому из них не нравилось то, что любил я: научная фантастика, животные, «Топ-40 Америки» Кейси Кейсема, Beatles…
В дверь позвонили. Начали собираться друзья Вики.
Мы с Китом мешали коктейль из водки, апельсинового сока, коричневого сахара и безалкогольного напитка «Доктор Пеппер». Коричневый сахар мы выбрали потому, что он казался интереснее, чем белый.
– Вкусно, – сказал я, пробуя коктейль.
От пива и виски, которые мне уже довелось пробовать, меня тошнило. Но сладкие напитки, например шампанское и кремовый мятный ликер, я переносил хорошо, они мне нравились.
Вечер продолжался, появились еще несколько подростков постарше в футболках с надписями Led Zeppelin, Yes и Rolling Stones.
К полуночи у меня в глазах все плыло, и я с трудом мог стоять на ногах. Вики обнималась с одним из своих приятелей из школы. Компания футболистов пила на кухне пиво и слушала Джими Хендрикса[117]. Я подошел к ним, пробормотал: «Я обдолбался!» – и упал.
Я хотел завести друзей, я хотел стать своим для крутых ребят в черных концертных футболках, но сопутствующая им тьма теперь меня пугала.
Мне казалось, что они проникнутся ко мне уважением – за то, что я дошел до такого состояния. Но сквозь алкогольно-наркотический туман до моих ушей долетели слова одного из них: «Если он сейчас такой, что будет лет через пять?»
И я испугался. Все, что со мной происходило, привело меня в ужас. Подростки. Музыка. Спиртное. Наркотики. Я осознал, что намеренно шагнул в мир моей мамы. Я хотел завести друзей, я хотел стать своим для крутых ребят в черных концертных футболках, но сопутствующая им тьма теперь меня пугала.
Пока я лежал на полу, предаваясь горестным размышлениям, зажегся свет, и музыка смолкла. Раздался громкий, низкий голос взрослого мужчины.
– Что за хрень тут творится?!
Это был отец Вики. Он пришел проверить, как его дочь справляется с обязанностями няни и гувернантки.
– Папа?! – испуганно воскликнула Вики.
– Вот так ты платишь за доверие, юная леди? – взревел он.
Она заплакала.
– Где Кит?! Его родители должны об этом узнать!
Отец Вики произнес страшное слово – страшное даже для самых крутых ребят – «родители». Дариенские подростки воровали все, до чего могли дотянуться. Они пили, курили и занимались сексом, надеясь, что родители не узнают. Даже суровый пятнадцатилетка в футболке с изображением группы Blue Oyster Cult был в ужасе от вероятности того, что отец увидит, как он тайком выбирается из дома с ворованной упаковкой пива.
– Где Кит?! – снова взревел отец Вики. Ребята пристыженно смотрели в пол кухни. – Выметайтесь отсюда! Завтра я позвоню вашим родителям.
Он пошел осматривать дом. Я поднялся с пола и зачем-то последовал за ним по коридору, застланному толстым ковром. Он нашел Кита, тот лежал без сознания на кровати в гостевой комнате. Кровать была мокрой от его мочи и рвоты.
– Кит, – позвал отец Вики. – Очнись, Кит!
Он сильно потряс моего приятеля за плечо. Тот не реагировал. Ударил по щеке – Кит не очнулся.
Я стоял в нескольких футах от них. Мне было тринадцать лет, я был пьян и принял наркотики. И сейчас смотрел на своего приятеля, который, возможно, был уже мертв.
– Звони 911! – закричал дочери отец Вики. Потом заметил меня.
– А ты еще кто? – сердито спросил он.
– Я Моби, – ответил я тихо, чуть не плача. Он перестал обращать на меня внимание и вернулся к Киту.
– Кит, очнись!
Тот не приходил в себя. А вот я пришел. Страх отрезвил меня, заставил встать и стоять с раскрытыми в ужасе глазами. Приехавшие парамедики быстро интубировали Кита и положили его на каталку. Он был жив, но, вероятно, находился в коме. Один из врачей спросил меня:
– Что он принимал?
Я знал, что травка и гашиш незаконны, поэтому сказал:
– Водку и какие-то таблетки от его сестры.
Когда «скорая» уехала, отец Вики посмотрел на меня и сказал:
– Я отвезу тебя домой, мистер.
Мы вышли из дома и сели в его BMW.
– Сколько тебе лет, сынок? – спросил он, пока мы ехали по тихим пригородным улицам.
– Тринадцать, сэр, – ответил я, стараясь не расплакаться.
– Тринадцать, – вздохнул он и покачал головой. – Тринадцать…
Мне было тринадцать лет, я был пьян и принял наркотики. И сейчас смотрел на своего приятеля, который, возможно, был уже мертв.
Он начал было говорить мне, что я поступаю плохо, выбрал неправильный путь, что надо взять себя в руки, но потом покачал головой и замолчал. Остаток пути мы ехали в тишине.
Отец Вики подвел меня к двери моего дома и сильно постучал в нее. Через минуту вышла мама в бежевой ночной рубашке и зеленом махровом халате.
– Вы мать этого мальчика? – прозвучал суровый вопрос.
– Да, – ответила мама, моргая спросонья. – Что случилось?
– Они с друзьями напились и приняли наркотики. Один из них чуть не умер! – с негодованием сказал отец Вики. Он, конечно, не подозревал, что именно его дочь устроила многолюдную вечеринку и обеспечила нас большей частью алкоголя.
– Мобс, это правда? – спросила мама.
И я, наконец, заплакал.
– Ладно, – сказала она. – Иди спать. Поговорим утром.
Она проводила меня до постели. Я долго плакал, а потом заснул.
Утро выдалось ясным и спокойным. Сквозь желто-белые полосатые занавески пробивались солнечные лучи. За окном шелестела листва, пели цикады; издалека доносилось жужжание газонокосилки. Я пошел в мамину комнату. Она складывала постиранное белье.
– Расскажи, что случилось, – спокойно сказала она.
Я помедлил, не зная, что говорить. Я не хотел признаваться, что украл наркотики из ее шкатулки.
– Старшие ребята дали нам с Китом таблетки и пиво. А потом он потерял сознание, и его увезли в больницу.
Она прикурила и посмотрела в окно.
– А как ты себя чувствуешь? – спросила она.
Я не знал, как это описать. Я чувствовал себя половой тряпкой в луже на грязном полу. Беспомощным малышом, попавшим в пещеру, полную демонов.
– Ужасно, – ответил я. И горько заплакал.
– Все хорошо, – сказала мама, обнимая меня и гладя по голове. – Все хорошо.
Нью-Йорк
(2002)
Весной 1987 года я встречался с Мелани – красивой темнокожей француженкой, которая один год прожила в Коннектикуте. Постепенно преодолевая языковой барьер, мы поняли, что на самом деле у нас не так уж много общего, но я все равно накопил денег на билет на самолет, мы полетели во Францию и провели лето в Париже.
Я не хотел, чтобы парижане узнавали во мне американца, поэтому купил в комиссионном магазине у Нотр-Дам полосатый свитер, старый синий блейзер и поношенные черные рабочие ботинки. Надевая все это, я был более-менее похож на Марселя Дюшана и других французских сюрреалистов, которыми был одержим в старших классах. Я очень хотел сойти за парижанина и курил французские сигареты без фильтра. И еще я часами сидел в чайном кафе «L’Ebouillanté» – поначалу чтобы сойти за своего, а потом из-за того, что полюбил его. Оно размещалось в доме XVII века в квартале Маре. Я сидел за столом на втором этаже, чайниками пил чай дарджилинг и читал Фуко и Рембо, а еще отправлял претенциозные черно-белые открытки друзьям в Коннектикут.
Лето в Париже закончилось, мы с Мелани расстались, и я вернулся домой – жить с мамой. Я был невыносим, пересыпал свою речь французскими словами, которых нахватался за лето, и постоянно напоминал всем знакомым, что несколько месяцев провел в Париже. Еще я рассказывал всем, что хочу открыть маленькое чайное кафе, похожее на «L’Ebouillanté».
* * *
В 1999 году я работал диджеем в бостонском клубе и встретил там девушку по имени Келли. Она слышала Play, альбом ей понравился, и после моего сета она храбро подошла ко мне и сказала:
– Ты крут!
Келли оказалась девушкой моей мечты: умная, начитанная и бесконечно преданная музыке «новой волны». Она носила на своем твидовом жакете винтажные значки рок-групп Joy Division и The Cure. Мы периодически встречались в течение двух лет. А после 11 сентября 2001 года почему-то сблизились еще больше.
Однажды утром, после долгой ночи с водкой и экстази, я рассказал ей о своей старой мечте – о маленьком чайном заведении. Ее глаза загорелись. Она работала в ресторане для туристов в центре Нью-Йорка, и ей нравилось все, связанное с приемом и обслуживанием гостей.
– Я бы с удовольствием открыла такое кафе! – воскликнула она.
Келли оказалась девушкой моей мечты: умная, начитанная и бесконечно преданная музыке «новой волны».
Мы начали поиски в восточной части Нижнего Манхэттена и нашли помещение, в котором раньше была парикмахерская. Владелец отчаянно хотел его сдать, но после 11 сентября все потенциальные арендаторы либо закрыли свой бизнес, либо уехали.
Подписав договор об аренде, мы с Келли отправились на крышу моей квартиры обсудить, как мы назовем наше новое предприятие. Пока проводили мозговой штурм, солнце стало садиться. Его краснеющий диск оказался на уровне моего лица и светил прямо в глаза. Я поднял руку, чтобы заслониться от света. И с замиранием сердца осознал: закат виден только из-за того, что башен Всемирного торгового центра больше нет. На мои глаза навернулись слезы.
– Что с тобой? – спросила Келли.
– Все хорошо, – сказал я, сглотнул горький комок в горле, закурил, и мы продолжили обсуждение названия кафе.
– «Утконос», – предложил я. Почему-то утконосы меня впечатляли. Поэтому я считал такое название подходящим.
Но Келли сказала:
– А как насчет «Teany»?
– Как ты сказала?
– «Tеаny», – повторила она. – От слова «чай», но звучит и пишется почти как tiny[118]. У нас маленький салон, мы сами с тобой невысокие, у нас крошечный бизнес, мы продаем чай в Нью-Йорке. Tiny. Tеаny.
Я задумался на секунду, выискивая недостатки в ее креативной логике. Но нет, она была права. Отличное название.
– Звучит прекрасно! – сказал я.
В нашем новом деле была пара сложностей. Во-первых, никто из нас никогда не управлял бизнесом. Во-вторых, мой ресторанный опыт был исключительно потребительским.
Я заканчивал запись альбома 18 и готовился к трехмесячному промотуру, за которым, по мнению моих менеджеров, должен был последовать концертный тур длительностью в два года. Так что мы решили, что я вложу в «Teany» деньги, а Келли будет делать все остальное.
Мы хотели, чтобы кафе было современным, но не слишком. Чистым, но не стерильным. Красивым, но не претенциозным. Я улетал в Сингапур, первый пункт промотура 18, и по дороге в аэропорт написал Келли в sms: «Сделай его милым:-)».
Пока я был в отъезде, она посылала мне предложения по меню, варианты десертов, ссылки на сайты поставщиков чайной посуды, фотографии образцов плитки и тканей, плей-листы музыкального оформления салона – и множество других вещей, которые нужны, чтобы открыть очаровательное чайное заведение площадью в двести квадратных футов.
И вот через три месяца я вернулся в Нью-Йорк и увидел сияющее новизной кафе, готовое к приему посетителей на 90 процентов! А еще я застал свою девушку совершенно изможденной. Келли работала по 16 часов в день, семь дней в неделю. Я почувствовал себя очень виноватым.
Мы открыли кафе в мае 2002 года, за неделю до моего отъезда на гастроли с альбомом 18. На вечеринку, устроенную в честь начала работы «Teany», я пригласил всех, кого знал, – от мультипликатора Мэтта Гроунинга[119] и группы Strokes до Дэвида Боуи и джазовой певицы Норы Джонс, от актеров Джимми Фэллона и Клэр Дэйнс до музыкантов TV on the Radio. Упорная работа Келли оправдала себя: кафе выглядело потрясающе. Зеркальные стекла витрины, мягкий свет, поблескивание столешниц из нержавеющей стали, белая плитка на полу – все здесь создавало ощущение уюта и чистоты.
В нашем новом деле была пара сложностей. Во-первых, никто из нас никогда не управлял бизнесом. Во-вторых, мой ресторанный опыт был исключительно потребительским.
А вот Келли выглядела плохо. Похудевшая, бледная, она была измучена и, казалось, находилась в одном дюйме от нервного срыва. Она отвела меня в офис в подвале кафе и расплакалась.
– Что такое? – озабоченно спросил я.
Минуту назад я чувствовал себя прекрасно. Я был рок-звездой, собирался гастролировать по миру с долгожданным продолжением Play. Готовился выступать на стадионах и быть хедлайнером фестивалей. И сбылась моя давняяя мечта: я стал владельцем прелестного маленького чайного кафе!
– Я не справляюсь, – сказала Келли, обхватив себя руками и дрожа.
– С «Teany»?
– Нет, дело не в нем. Я не могу быть просто одной из женщин, с которыми ты спишь.
– Ох…
Мы с Келли давно близко знали друг друга, но у нас всегда были открытые, вовсе не моногамные, отношения. Она встречалась с другими мужчинами – по крайней мере, мне так казалось. А я встречался с другими женщинами. На самом деле все знали, что я сплю с кем попало. Моя распущенность стала легендой Нижнего Манхэттена. В недавней журнальной статье обо мне цитировались слова Ричарда Джонсона, обозревателя светской хроники в «New York Post»: «Моби видел больше задниц, чем унитаз в дамской уборной». Мне следовало бы испытывать некоторый стыд или раскаяние за свои распутные повадки, но я его не испытывал. И не чувствовал вины из-за того, что, будучи бойфрендом Келли, имел еще много связей. «У нас с ней открытые отношения», – твердил я себе.
– Ты хочешь поговорить об этом сейчас? – спросил я, озадаченный и раздосадованный тем, что она портит мне праздник – впрочем, вполне обоснованно.
– Я должна, – сказала она, глядя на меня с горечью и упреком.
Много лет мне казалось, что предел моих мечтаний о личном счастье – истинно любовные отношения с замечательной женщиной. Я постоянно говорил всем своим друзьям, что мечтаю жениться, иметь полноценную семью. И вот передо мной стояла чудесная женщина, которая хотела выйти за меня замуж и родить мне детей. Я избегал серьезных отношений, потому что они вызывали у меня приступы паники. Но не лгал ли я себе? Наверное, лгал. На самом деле – и это было для меня яснее ясного – я желал славы и распутства, а не тихого домашнего блаженства.
Я желал ездить по всему миру, выступая на хоккейных аренах и футбольных стадионах. У меня был свой собственный гастрольный автобус с персональной спальней. И я только что нанял ассистентку, Фабьен, чья работа по большей части заключалась в организации для меня вечеринок после концертов. Я встретил ее в баре и уже через час взял на работу – после того, как она отдалась мне на заднем сиденье такси. Мне хотелось наслаждаться каждым своим днем, как можно более полно, распутно и дегенеративно.
– Ладно… – сказал я, собираясь с духом. И тихо произнес: – Давай останемся просто друзьями.
Келли стиснула зубы, и в этот момент мне стало понятно, как сильно она презирает меня.
Я знал все годы, что мы встречались: она любила меня. Ждала, что я сделаю ей предложение. Когда мы познакомились, она видела во мне тонкого, чувственного музыканта из Коннектикута, который позволил себе немного и ненадолго распуститься. Но теперь она знала: распущенность – норма моей жизни.
Мне было жалко ее, и пришлось уговаривать себя: «Я не сделал ничего плохого, ведь я никогда не лгал ей!» И продолжал твердить: «У нас были открытые отношения! Глупо говорить об изменах в рамках нашего соглашения!» Но это не помогало.
– Прекрасно, – сухо сказала Келли. – Договорились.
– Ты отлично справилась с кафе… – выдавил я из себя.
У нее был такой взгляд, будто она хотела ударить меня в лицо.
– Мы закончили, – процедила она сквозь зубы и вышла за дверь.
Я поднялся по лестнице и услышал шум вечеринки. В кафе сидело всего 20 или 30 человек, а несколько десятков других гостей вышли на улицу и расселись на тротуарах. Они пили шампанское и пиво, ели печенье и кростини, приготовленные Келли.
Присев на железные перила лестницы у входа в «Teany», я прикурил у Мэтта Гроунинга. Ко мне подошел один из боссов моего лейбла звукозаписи.
– Моби, – сказал он, – твой 18 уже стал золотым и платиновым в 20 разных странах!
– Поздравляю, приятель! – сказал Мэтт, пожимая мне руку.
Мимо прошла Келли.
– Мэтт, – вскинулся я, – это Келли, она в одиночку открыла «Teany»!
– Отличная работа, Келли! – воскликнул он.
Келли пристально посмотрела на меня, а затем обратилась к Мэтту.
– Мы только что расстались, – сказала она ему. – Твой друг – гребаный мудак.
Нью-Йорк
(2002)
На встрече с журналистом и телеведущим Чарли Роузом я все еще был пьян с ночи накануне.
После того, как я целый день давал интервью, посвященные новому альбому 18, мне нужно было расслабиться. И я пошел пить с Энди Диком и его свитой из дегенератов. Мы с Энди не были друзьями, и он постоянно говорил, что не пьет, но всегда был готов шататься по барам хоть всю ночь. Мы это и делали до четырех утра, пока нас не вышвырнули из стрип-клуба на Вест-Сайд-Хайвей из-за нашего буйства.
Мы с Энди вместе с растущим отрядом стриптизерш и дегенератов уселись в такси, проехали через весь город и через час были у меня дома. Какие-то люди, которых я даже не знал, скрылись в моем туалете и стали принимать наркотики. А Энди с друзьями и стриптизершами устроил оргию в моей крошечной спальне под лестницей.
Я наблюдал, как группа незнакомцев портит мои простыни, и тут покрытая татуировками женщина с ярко-рыжими волосами взяла меня за руку и повела на крышу. До рассвета оставалось всего несколько минут; город был тих, над темным горизонтом показалась розовая полоса.
– У меня есть для тебя подарок, – сказала женщина, опускаясь на колени и стягивая с меня брюки.
Она взяла мой член в рот, а я посмотрел вниз, в мансардное окно, и увидел, как еще одна кучка незнакомцев принимают порошок на моем столе для завтрака. После того как я кончил, женщина поднялась на ноги, улыбнулась и представилась:
– Я Лиз.
К семи утра все ушли, оставив столы перепачканными порошком и заваленными пустыми бутылками из-под шампанского и водки. В 8.30 мне нужно было начинать долгий и трудный день: встреча с Чарли Роузом, куча интервью для иностранной прессы, автограф-сессия на Таймс-сквер и первое выступление в прямом эфире в музыкально-юмористической передаче «Saturday Night Live». Поэтому я решил часок поспать. Простыни на кровати после оргии вызывали у меня тошноту, и я лег на диване в гостиной.
После того, как я целый день давал интервью, посвященные новому альбому 18, мне нужно было расслабиться.
Я долго ворочался с боку на бок. Потом зазвонил будильник. Стоя под душем, я прикидывал, смогу ли прожить следующие 16 часов без сна. Хмель до сих пор кружил мне голову. Надев черные джинсы и футболку, я вышел из дома и сел в ожидавший меня лимузин. Пока мы мчались по городу, яркое солнце улыбалось мне сквозь тонированные стекла. И я решил, что слишком пьян и доволен жизнью для того, чтобы чувствовать усталость.
В студии Чарли Роуза ассистентка продюсера спросила, не хочу ли я что-нибудь выпить.
– Кофе, пожалуйста, – сказал я. – Ночью не удалось поспать, и у меня похмелье.
Это звучало более приемлемо, чем признание, что я все еще пьян.
Она улыбнулась:
– Все хорошо. У нас у всех похмелье.
Позже она провела меня в темную комнату, уставленную телекамерами, и усадила в черное кожаное кресло. Вошел Чарли Роуз. Он сел в такое же кресло напротив меня. Его глаза были налиты кровью, как у легавой, и мне показалось, что он, как и я, не пришел в себя после вчерашнего.
Чарли расспрашивал меня об успехе Play, о моем родстве с Германом Мелвиллом, о событиях 11 сентября. Через 15 минут наша беседа закончилась, и я уступил свое кресло Полу Остеру[120].
– Мне нравятся ваши работы, – сказал я ему, вставая.
– А мне нравятся ваши, – ответил он, усаживаясь на мое место.
Я хотел, чтобы Пол увидел интервью, которое я только что дал Роузу, и подивился моей эрудиции и очаровательному, но неискреннему самоуничижению. Я хотел, чтобы он впечатлился достаточно для того, чтобы приглашать меня на званые обеды в свой бруклинский особняк, в компанию высоколобых постмодернистов.
Когда я шел к своему лимузину, мимо проехал курьер на велосипеде.
– Привет, Моби! – взволнованно и радостно воскликнул он.
– Привет! – крикнул я в ответ. Как приятно, когда тебя узнают на улицах!
Лимузин проехал несколько кварталов, доставив меня к небоскребу, стоящему недалеко от Таймс-сквер, и сотрудники звукозаписывающего лейбла потащили меня в пентхаус. Там я провел три часа, беседуя с иностранными журналистами. Интервью с Роузом мобилизовало меня, и мозг работал как надо. Я умничал, шутил, разглагольствовал о «творческом процессе» и противостоянии Добра и Зла. Мне хотелось, чтобы интервьюеры рассказали всем в своих газетах и журналах о том, какой я умный, тонкий и добрый. О том, что они повстречали лучшего человека, которого когда-либо знали.
А за это я готов был говорить то, чего они от меня ждали.
Чем я отличался от проститутки? Разница между нами заключалась в том, что мной руководил энтузиазм, а не деньги. Ну, энтузиазм и желание быть самым известным человеком в мире.
После интервью лимузин отвез меня в торговый центр «Virgin Megastore» на Таймс-сквер, где уже ждала толпа поклонников. Очередь тянулась от стола для автографов, стоявшего на первом этаже, через все здание на улицу и устремлялась вверх по Седьмой авеню.
Я хотел, чтобы он впечатлился достаточно для того, чтобы приглашать меня на званые обеды в свой бруклинский особняк, в компанию высоколобых постмодернистов.
Автограф-сессия продолжалась полтора часа. Я пытался подарить всем, кто пришел, то, ради чего они стояли в очереди. Моя подпись, улыбка, мгновение доброжелательного внимания – маленькие знаки приятия, симпатии со стороны сияющей звезды. Я обнял нескольких плачущих от восторга женщин, хотя организаторы акции и просили меня этого не делать.
Потом охранники расчистили путь через толпу и усадили меня обратно в лимузин. Через несколько минут автомобиль подъехал к зданию Рокфеллер-центра, построенного в стиле ар-деко. В нем размещалась студия «Saturday Night Live». Я смотрел передачу SNL в детстве, а теперь попал туда, где ее снимали.
Новая фаланга охранников проводила меня в гримерную. Я оглядел черный холодильник, коричневый диван, белый прикроватный столик и понял, что уже бывал в этой комнате раньше, когда снимался в телешоу «Поздней ночью с Конаном О’Брайеном». Тогда она тоже служила мне гримерной.
Я закрыл дверь и попытался задремать на диване. Но не мог сомкнуть глаз. Воздух вокруг меня, казалось, вибрировал. Весь этот день был наполнен тем, чего я когда-либо желал. Он оказался даже лучше, чем я только мог себе представить. Поэтому следовало выпить кофе, чтобы прожить его наиболее полно.
После выступления в «Saturday Night Live» моя известность должна была улететь в стратосферу. Я смутно предполагал, что однажды скажу: «Мне достаточно славы», но представить себе такой сценарий было трудновато.
Мой тур-менеджер Sandy принес в гримерную акустическую гитару. Я забренчал на ней, напевая «We All Made of Stars», которую мне предстояло исполнить. Затем стал наигрывать и петь «Lucky Man», песню 1970 года группы Emerson, Lake & Palmer. И думал: может быть, я и есть тот самый Lucky Man, счастливчик с идеальной кармой? Потом дошел до последнего куплета и вспомнил: там поется о том, как героя песни уничтожают гордыня и глупость.
Я отложил гитару. Резко встал с дивана.
Слава может уничтожить других, сказал я себе, но только не меня. Я буду тем счастливчиком, который сможет придумать, как сделать так, чтобы последний куплет этой песни в его жизни не прозвучал.
Дариен, Коннектикут
(1978)
Мне исполнилось 13 лет, и я начал мастурбировать. Я был уверен, что это неправильно и Бог на меня разгневается. Но в моем мозгу произошел какой-то сдвиг, и все юные, молодые, а порой и зрелые представительницы слабого пола, попадавшиеся на глаза, стали жгуче-эротичными – те, что встречались на улице, учительница английского, все девочки из школы… Еще пару недель назад я вообще не помышлял о мастурбации, но теперь только о ней и думал.
Я занимался самоудовлетворением перед школой, в школьном туалете, после школы, еще раз после школы и перед сном. Иногда для пущего эффекта я думал о женщинах, которых видел по телевизору, иногда смотрел на обнаженных фотомоделей в старых номерах журнала «National Lampoon»; их раскидывали в доме мамины друзья.
Я никогда не говорил о сексе ни с мамой, ни с кем-то другим. У меня было стойкое убеждение: все, обозначаемое этим словом, – страшно и плохо. Оно сформировалось прежде всего потому, что несколько раз мне довелось случайно увидеть, как мама лежит, распластанная, под одним из своих друзей. Когда я учился в третьем классе, мне в руки попала книга «Радости секса»[121]. Помню ужас, с которым я рассматривал иллюстрации. На них волосатые мужчины творили немыслимое с обнаженными беззащитными женщинами.
Мне казалось, что если секс – это плохо, то ублажать себя – плохо вдвойне, но остановиться я не мог. Через несколько недель яростной мастурбации на моем пенисе появились болезненные образования, похожие на ожоги. Я не догадывался, что попросту натер его. Но вместо этого решил, что Господь наказал меня, послав какую-то ужасную болезнь.
До этого я никогда не молился, но теперь ежедневно вставал на колени и пытался заключить со Всемогущим сделку: «Господи, если ты избавишь меня от этой проказы, то я перестану мастурбировать!» Через несколько дней натертости зажили, и я решил отдать Богу должное. Он исцелил меня, и мне нужно было исполнить то, что обещал Ему.
Первое, что мне следовало сделать, – это собрать старые журналы «National Lampoon», отнести их в лес и сжечь с молитвой. Мне казалось, что запах горящего порно будет приятен Господу. Я так и сделал. Потом нашел Библию, которую мне недавно подарила бабушка в Рождество, и утром, когда вожделение овладело мной, стал ее читать.
Это сработало – на целый день. Но после суток воздержания я снова начал мастурбировать. Страшно переживал, каялся – и мастурбировал снова.
И все-таки я продолжал молиться и читать Библию. Как мог, старался угодить Господу, избежать наказания. Книга Бытия была интересной, и даже Исход еще удержал мое внимание. Но третья из пяти книг Торы, Левит, с бесконечными главами, повествующими о малопонятных еврейских религиозных законах, навеяла на меня скуку. Я начал было ее читать, но потом отложил и пошел мастурбировать.
Мне было непонятно, что еще можно сделать, чтобы уйти от греха. Я сжег порно, я пытался читать Библию. Молился изо всех сил.
И продолжал мастурбировать пять или шесть раз в день.
Я знал, что кое-кто из ребят в нашей школе – истинно верующие христиане, которые посещают какие-то религиозные собрания. Они составляли небольшую группу, держались особняком, не носили черных концертных футболок, вели себя очень сдержанно, были чистюлями. Однажды в обед я подошел к их столу и спросил, могут ли они порекомендовать какое-нибудь сообщество молодых христиан. Их глаза загорелись. Очевидно, мечта любого христианина заключается в том, чтобы грязный язычник спросил его об Иисусе и попросил помочь обратиться в новую веру.
Мне казалось, что если секс – это плохо, то ублажать себя – плохо вдвойне, но остановиться я не мог.
О мастурбации я не говорил, потому что никто из ребят никогда об этом не заикался. О ней мне стало известно из справочника скаута. Его авторы ясно заявляли: мастурбируют только плохие люди, и Бог хочет, чтобы скаут не занимался сексом до свадьбы.
Чистюли за столом рассказали мне о собраниях христианской молодежи в школе при Норотонской пресвитерианской церкви. Они проходили вечерами по понедельникам.
– Меня там крестили! – заявил я. – Это моя церковь!
Я ощутил одновременно зов судьбы и прикосновение указующей руки Господа.
– Так ты уже спасен? – спросила одна из девочек-чистюль.
Я не понял, что она имеет в виду, но улыбнулся и ответил:
– Да.
В ближайший понедельник вечером я подъехал на своем зеленом десятискоростном велосипеде «Schwinn» к Норотонской пресвитерианской церкви. Школа для молодежи, расположенная за ней, когда-то была старым сараем. Но год назад прихожане под руководством служителей храма отремонтировали и покрасили строение. С тех пор оно обрело более-менее приличный вид.
Молодой священник, похожий больше на двадцатидвухлетнего тренера по теннису, чем на спасителя душ, встретил меня на пороге школы и проводил к столу. За ним сидели подростки – не меньше двух десятков человек! – и раскладывали по бумажным тарелкам спагетти и кочанный салат айсберг. Я тут же подумал, что прийти на это христианское собрание было хорошей идеей.
В компании юных христиан были и чрезвычайно красивые девочки из моей школы. Нежные феи с сияющей кожей, от которых мне порой так трудно было отвести глаза. Мы никогда не общались, хотя некоторых из них я знал с детского сада. Они попросту меня не замечали. Но здесь, в церковной школе, эти красавицы охотно улыбались мне. Долгие годы я желал, чтобы они обратили на меня внимание, и не знал, что делать. А оказалось, что нужно было всерьез озаботиться отношениями с Богом.
Я считал себя христианином только потому, что был крещеным белым мальчиком.
Мы съели спагетти, угостились мороженым и стали играть в христианские игры. Они были очень похожи на обычные – салочки, утка-утка-гусь, – но, поскольку проводились в церковной школе, понял я, считались религиозными. Мне с трудом удавалось сдерживать эрекцию, когда во время игры девочки касались меня или брали за руки.
Потом мы сели послушать рассказ молодого священника об Иисусе.
Я всегда считал себя христианином. Я был крещен в церкви, и все мои знакомые – за исключением чернокожего мусульманина, с которым в течение одного месяца встречалась мама, – были христианами. Но я ничего не читал об Иисусе и не слышал, чтобы кто-то о нем говорил. Я считал себя христианином только потому, что был крещеным белым мальчиком.
Молодой священник говорил, что Иисус – мой друг и что он любит меня. Я поднял руку и спросил:
– А если мы делаем что-то, что Иисусу не нравится?
Священник улыбнулся:
– Христос простит тебя.
Что?! В голове не укладывалось, что учение Христа было частью той же религии, о которой я читал в Ветхом завете. В ней Бог представлялся мне скорее злым мэром, чем другом, который умеет прощать. Но если молодой пастырь, который явно учился в колледже или семинарии, говорил, что я прощен, то почему мне нужно было впадать в сомнения?
После беседы мы взялись за руки и помолились. Священник спросил:
– Вы принимаете Иисуса как Господа своего и Спасителя?
Мой живот был наполнен спагетти и мороженым, голова кружилась от близости божественно красивых девочек. Я был вдохновлен ответом на мой вопрос. И, окрыленный знанием того, что мастурбация мне прощена, радостно ответил:
– Да!
Я поехал домой и поставил свой велосипед рядом со старой косилкой в гараже. Почистив зубы, пожелал спокойной ночи маме, которая курила на диване и смотрела телевизор.
Чувство вины ушло, на душе стало легко. Я по-прежнему понимал, что секс и мастурбация – это грязно и неправильно. Но верил тому, что сказал мне священник: я уже прощен.
Я лег в постель и мастурбировал, думая о красивых девочках-христианках из церковной школы.
Нью-Йорк
(2002)
Странное дело: скандальное расставание в день открытия «Teany» не поставило точку в наших отношениях с Келли. Мы снова сблизились. И за несколько дней до начала тура по США в поддержку Play решили устроить пикник в парке на берегу пролива Ист-Ривер.
Я отправился в «Teany», чтобы забрать Келли и ее собаку по имени Ананас – симпатичного метиса чихуа-хуа и золотистого ретривера. Прихватив с собой сэндвичи, торт и термос персикового холодного чая, мы отправились к проливу. Парк был пуст, как обычно, если не считать нескольких пожилых людей, ловивших рыбу, и группы пуэрториканцев, катавшихся на прихотливо украшенных велосипедах.
В первые два года после знакомства с Келли мне удавалось поддерживать в ней веру в то, что я нормальный, неиспорченный человек. Но в последнее время она неоднократно получала свидетельства моей пьяной распущенности. И мне стало казаться: Келли продолжала встречаться со мной, чтобы дать понять, как она меня презирает.
Один мой друг, психотерапевт, однажды спросил, почему я поддерживаю отношения с женщиной, которая почти ненавидит меня.
– Иногда бывает так, что невозможно уйти, – ответил я.
– Ты ей ничем не обязан, и она не твоя мама, – сказал он тогда.
Мы с Келли расположились на лужайке возле скульптур тюленей. Был прекрасный весенний день. С Ист-Ривер дул соленый бриз, шумела пронизанная солнцем ярко-зеленая листва деревьев. Мы съели веганские сэндвичи и выпили персиковый чай со льдом. Потом отведали шоколадного торта с арахисовым маслом. И тогда Келли мягко сказала:
– Мне кажется, что ты алкоголик, Моби.
Я ответил ей той же самой беззаботной фразой, которой много лет отвечал обеспокоенным друзьям и маме:
– Я не алкоголик, а любитель алкоголя!
Келли нахмурилась:
– Хорошо, тогда не пей один месяц.
Я внутренне засуетился. Месяц без спиртного?! С чего бы мне по собственной воле целый месяц обходиться без алкоголя – моего лучшего друга, возлюбленного бога, который приводил ко мне за руку Музу? К тому же я собирался в турне. Мы с Келли снова встречались, но моногамными наши отношения по-прежнему не были. Гастроли означали водку, наркотики и беспорядочные связи. Я не хотел бросать пить.
А еще мне не хотелось признаваться ни Келли, ни самому себе, как сильно пугала меня мысль о месяце без алкоголя.
Поэтому я бодро сказал:
– Хорошо! Я не буду пить месяц.
* * *
Первая неделя трезвости на гастролях была трудной, но зато у меня появилась новая тема для обсуждения. «Я не пью!» – мог заявить я очередной кучке пьяниц, с которыми проводил вечер, и развязывал дискуссию о вреде пьянства.
Шел двенадцатый день моего «трезвого эксперимента». В Далласе выдался свободный вечер, и я отправился на сольный концерт ударника Томми Ли из группы Mötley Crüe. После его выступления прошел за кулисы. Поздоровался с несколькими техниками, когда-то работавшими со мной, и постучал в дверь гримерной. Томми, мокрый насквозь после долгого концерта, по-медвежьи обнял меня, окропив своим священным рок-н-ролльным потом.
Когда я собрался уходить, появились музыканты группы Pantera, Винс Пол и Даймбэг Даррелл, в компании своих приятелей из «Ангелов Ада»[122].
Я не был знаком с коллективом Pantera, но мне нравились записи этих ребят. Когда Келли первый раз была у меня в 1999 году, я поставил для нее песню «The Great Southern Trendkill», пока готовил ужин. Потом она слушала «Belle and Sebastian» и «Fairport Convention», они ей понравились. Но когда Фил Ансельмо[123], исполняя песню «War Nerve», завопил «fuck the world for all it’s worth»[124], она посмотрела на меня и спросила:
– И ты это слушаешь?
– Я люблю Pantera! – с энтузиазмом ответил я.
Она бросилась к CD-плееру, вытащила из него диск и поставила вместо него запись альбома Smiths.
И вот теперь я встретился с ребятами из Pantera, моими грув-метал-героями. Даррелл и Винс, как и все их друзья, были здоровыми и бородатыми, одетыми в черные кожаные штаны и куртки мужиками.
– Моби! – возопил Даррелл. – Это ты! Мы слушаем твой Play, и вот ты здесь! Ты гений! – И протянул мне руку. Я пожал ее, а потом бегло перезнакомился со всей компанией. – Нам нужно заснять тебя на видео!
Кто-то направил камеру на Даррелла, Винса, Томми Ли и меня, и мы начали петь «We All Made of Stars». Рыжебородый здоровяк из «Ангелов Ада», шести футов восьми дюймов росту, открыл бутылку виски «Crown Royal» и сунул ее мне в руки.
Что я должен был ему сказать? «Понимаешь, моей девушке Келли кажется, что у меня проблемы с алкоголем, и из уважения к ней мне необходимо месяц воздерживаться от спиртного»?
Вместо этого я взял бутылку и отхлебнул виски из горлышка.
– Кажется, трезвенник во мне сдался, – заметил я, возвращая бутылку здоровяку.
Он посмотрел на меня с неожиданно обеспокоенным видом.
– Ты трезвенник?! – пророкотал он.
– Уже две недели.
Он засмеялся и снова протянул мне бутылку.
– На хрен! Пей, мужик!
После того как мы прикончили бутылку, Винс крикнул:
– Мы должны поехать в «Clubhouse»! Моби, рванули!
Я слышал о «Clubhouse», стрип-клубе, принадлежащем Pantera, и тут же принял приглашение. В середине 90-х, когда мы с Дэмиеном начали ходить по стрип-клубам, меня мучили вина и стыд. Но эти чувства быстро пропали, как только я понял, что могу знакомиться с жутко сексуальными стриптизершами, а они не прочь встречаться со мной.
Я не был знаком с коллективом Pantera, но мне нравились записи этих ребят.
Мы вошли в клуб шумной компанией и сели в центре зала. Вскоре на столе появилась куча бутылок водки и виски, и нас окружили стриптизерши. Одна из них, стройная блондинка с короткой светлой прической, села рядом, застенчиво глядя на меня. На ней были только крохотные серебристые плавки от раздельного купальника.
– Привет, я Кэсси, – сказала она, пожимая мне руку.
– Привет. Моби, – сдержанно представился я.
– Я узнала тебя! – сверкнула она глазами. – Слушай, твоя музыка помогла мне выжить в очень трудные времена!
Рыжебородый здоровяк, с которым мы пили виски, уселся между нами и сунул мне бутылку водки «Ketel One».
– Эй, – крикнул он. – Моби трезв!
Я лихо хлебнул из горлышка и заорал:
– Уже нет!
Вся компания одобрительно взревела в ответ. Водка обожгла горло и наполнила желудок мягким огнем.
– Моби! – воскликнул Даррелл. – Нам стоит собрать группу!
– Стоящая идея! – поддержал его Томми, у которого на каждом колене сидело по стриптизерше. – Эта группа людям мозг взорвет!
Играть вместе с Дарреллом, Винсом и Томми? Гениально! Мы могли бы ездить на гастроли, постоянно пить и быть самыми страшными и аморальными рок-звездами на всей планете!
– Отлично! – воскликнул я. – Как назовемся?
– «Sober Fucks»![125] – сказал Даррелл. Мы рассмеялись и выпили за «Трезвых придурков».
Я огляделся в поисках Кэсси, но она исчезла. Две стриптизерши, сидевшие рядом со мной, начали целоваться. Одна из них повернулась ко мне, погладила по щеке и заявила:
– Парень, сегодня ты едешь со мной!
Другая сделала большой глоток водки из бутылки и сказала:
– Милая, если тебе нужна будет помощь, дай мне знать.
Дариен, Коннектикут
(1979)
Лучшей вещью в моей средней школе была библиотека. А лучшей вещью в библиотеке была подписка на «Rolling Stone»[126].
Я не мог позволить себе покупать журнал, поэтому каждые две недели старался получить пришедший на абонемент свежий номер первым. Если этого сделать не удавалось, «Rolling Stone» пропадал, его воровали. Правда, журнал был полон длинных и довольно скучных статей о таких известных рок-группах, как Kinks, Rolling Stones и Who, но иногда проскакивали небольшие заметки о коллективах, играющих панк-рок и «новую волну».
Услышав по радио несколько песен Clash[127] и Элвиса Костелло[128], а еще увидев, как Сид Вишес[129] исполняет «My Way» в комедии «Видео Мистера Майка Мондо», я решил, что мне нравятся «новая волна» и панк-рок. Но нужно было держать эту зарождающуюся любовь при себе. Крутые ребята из школы коллективно решили, что любая новая музыка, которую делают музыканты с короткими волосами, «странная» и «гейская». Если по радио в кафетерии звучала песня Гари Ньюмана[130] или Talking Heads, они начинали скандировать: «Выключи!»
В начальной школе от других детей я узнал, что Дэвид Боуи особенно «странный» и «гейский». Когда мама купила Changesonebowie – один из двенадцатипенсовых альбомов лейбла звукозаписи «Columbia», – я влюбился в этого гениального рок-певца, но знал, что слушать его могу только в приватной обстановке.
В последнем перед летними каникулами выпуске «Rolling Stone» была размещена рецензия музыкального журналиста и критика Грейла Маркуса на новый альбом Дэвида Боуи Lodger. Альбом был описан так красочно, что мне захотелось его купить. Моя коллекция музыки была скромной: семидюймовая пластинка «Convoy», первый альбом Aerosmith (подарок в прошлый день рождения) и сборник лучших хитов Beatles (подарок на Рождество). У меня не было пластинок «новой волны» или панк-рок-групп, имелась только неполная запись «I Fought the Law» Clash с радио на дедушкином диктофоне.
В летние каникулы заняться было нечем, и я решил, что главная моя цель в следующие три месяца – скопить денег и купить Lodger.
За день до окончания девятого класса я сидел в кабинете биологии с напарником по лабораторным работам Мэттом. Он рассказывал одному из своих друзей о вечеринке на катере, которую собирался вскоре устроить, и вдруг заметил, что я внимательно его слушаю.
Мы вместе делали лабораторные работы по биологии, но не дружили. Мэтт был крутым, а я нет. Но он небрежно сказал мне:
– А, Моб, у меня вечеринка. Можешь прийти, если хочешь.
Это было то, что надо!
Всю неделю перед вечеринкой Мэтта я думал, что надеть и как себя вести. Если я правильно оденусь, буду правильно стоять и придержу растущую любовь к «новой волне», думалось мне, то меня станут приглашать на вечеринки к крутым парням. Я даже надеялся, что, возможно, заведу себе девушку – хотя и понимал, что такое вряд ли случится.
Моя одежда по большей части была куплена в сэконд-хенде, но на Рождество бабушка подарила мне новую футболку для регби от «Izod». Я решил, что Мэтт и его друзья могут надеть что-то подобное. Накануне вечеринки я облачился в футболку и джинсы Wrangler и перед зеркалом в маминой спальне репетировал, как буду стоять на палубе катера среди ребят.
Если я правильно оденусь, буду правильно стоять и придержу растущую любовь к «новой волне», думалось мне, то меня станут приглашать на вечеринки к крутым парням.
Я попробовал стоять с руками в карманах. Было неплохо, но мне показалось, что это недостаточно круто. Я попробовал стоять с руками на боках. Выглядело тоже хорошо, но несколько амбициозно. Наконец было решено, что надо весь день держать руки скрещенными на груди.
В день вечеринки я оделся, еще раз постоял в правильной позе перед зеркалом и поехал на своем зеленом велосипеде к частному доку семьи Мэтта. Док был абсолютно новый, сделанный из сияющего алюминия. И в нем не было ни катера, ни ребят.
Вдыхая запах водорослей и щурясь на солнце, я посмотрел на воду. Вдали плавали несколько яхт и катеров. Какие-то ребята, похожие на Мэтта и его друзей, катались на водных лыжах. Я хотел помахать им, позвать, но понял, что проще будет сесть на велосипед, поехать домой и посмотреть телевизор.
* * *
Неделю спустя мой друг Роб позвонил мне (мы подружились давно: оба страстно любили научную фантастику) и сказал, что «Уи Берн», самый дорогой и эксклюзивный загородный клуб Дариена, набирает кэдди[131]. Роб не нуждался в работе – его отец был вице-президентом в «Exxon», – но знал, что в ней нуждаюсь я. Работа кэдди казалась многообещающей. Правда, я никогда не был в гольф-клубе и ничего не знал о гольфе.
Но я хотел купить Lodger, и мне нужна была работа. Мама давала мне 50 центов в неделю за то, что я косил траву на нашем газоне и убирался в доме. Но с таким доходом я смог бы накопить на альбом только через три месяца. Найти официальную работу я не мог, потому что мне было всего 13 лет. А вот на должность кэдди, сказал Роб, брали и таких подростков, как я.
Сразу же после разговора с Робом я на велосипеде доехал до «Уи Берн», припарковал велосипед у домика кэдди – рассыпающейся хижины, стоящей по соседству с парковкой для автомобилей сотрудников вдали от взглядов посетителей. Я постучал в дверь и услышал сдавленное: «Что?»
Я открыл дверь. Внутри было жарко и душно. Шарообразный человек в голубой футболке для гольфа, сидевший за обшарпанным столом, поднял на меня глаза. Он обильно потел.
– Да?
– Я хотел бы получить работу кэдди, – неуверенно сказал я.
Он оглядел меня с ног до головы.
– Ты когда-нибудь был кэдди?
– Нет, – пришлось признаться мне.
– Ты хоть в гольф играть умеешь?
– Нет, – уныло повторил я.
Он закатил глаза и тяжело вздохнул.
– Ладно. Найди кого-нибудь из кэдди, он покажет тебе, что тут и как. Потом жди вместе со всеми. Если на поле понадобится работник, я тебя вызову.
Сбоку от хижины за столом сидела группа кэдди и играла в карты. Все они были старшеклассниками 16–17 лет. Собравшись с духом, я как можно более кротко обратился к ним:
– Привет! Тот парень в доме велел мне попросить кого-нибудь показать мне окрестности.
Двое ребят задумчиво посмотрели на меня и снова уткнулись в свои карты.
– Том, – сказал один из них, не поднимая головы, – иди, твоя очередь.
– Черт! – сказал светловолосый парень. Он бросил карты на стол, взял с него планшет с прикрепленными к нему листами бумаги и встал. На нем были новенькие кроссовки Adidas.
– Мне нужна работа, чтобы купить пластинку, – ответил я.
– Ладно, иди за мной, – сказал он и пошел прочь от стола. Я побежал за ним.
– Ты когда-нибудь был кэдди? – спросил Том.
– Нет.
– Ты играешь в гольф? Твой отец играл в гольф?
– Нет, – ответил я. – Мой отец умер.
Он остановился и сочувственно посмотрел на меня.
– Ох, прости. Ладно, впиши здесь свое имя, – протянул он мне планшет с бумагой. – Когда будет твоя очередь, тебя позовут.
Он прошел к небольшой лужайке для гольфа и поднял с земли старую сумку с клюшками.
– Вот, надевай, – сказал он, протягивая мне сумку. Я чуть покачнулся от ее немалого веса, но все же нацепил на плечо.
– Тут нет ничего сложного, – сказал Том. – Ты носишь сумку и подаешь этим придуркам клюшки. Ты еще маленький, так что тебе дадут старперов. Они ходят медленно, у них не так много клюшек, и они дают чаевые ни за что.
Он помолчал и вдруг спросил:
– Зачем тебе это?
– Мне нужна работа, чтобы купить пластинку, – ответил я. – Lodger Дэвида Боуи.
– Ты мог бы стричь газоны.
– У нас нет косилки.
Я видел, как он что-то быстро прикидывает. У меня нет отца, и мне нужна работа, чтобы купить пластинку, но у моей семьи нет газонокосилки. Очевидно, я беден.
Наконец он улыбнулся мне.
– Ладно, я помогу тебе разобраться с этим, – сказал он.
Я испытал к нему благодарность:
– Спасибо!
В тот день меня не позвали носить клюшки. Но я пришел на следующий день, вписал свое имя в список и сел с другими кэдди играть в червы – единственную карточную игру, в которую они умели играть. Каждого из ребят шарообразный человек из хижины вызывал на поле по нескольку раз, а я просто сидел и играл в червы, попивая из пластикового стакана тепловатую воду.
Я пришел и на третий день. И около полудня человек из хижины прочел мое имя на листке.
– Моби?
– Это я, – сказал я.
– Хорошо, вы с Филом возьмете следующих двоих.
Фил был самым младшим среди кэдди, если не считать меня. Мы отошли от стола и встретили «наших» гольфистов, супружескую пару 80-летних старичков, с ног до головы одетых в белую одежду для гольфа. Мы подхватили их сумки и последовали за ними.
– Фил, ты можешь объяснить, что мне делать? – спросил я, когда мы подошли к первой лунке.
– Подавай им клюшки – именно те, которые они просят. Старайся не потерять сознание от жары и не убить их, – сказал он себе под нос.
Я шел позади старой женщины. Они с мужем медленно обходили поле. У девятой лунки я уже пропотел насквозь. Более молодые и быстрые игроки были близки к завершению игры. Их кэдди ухмылялись, глядя на то, как мы возимся с нашими стариками. Когда через четыре с половиной часа мы, наконец, добрались до восемнадцатой лунки, я был весь в комариных укусах и падал с ног от жары и усталости.
– Благодарю вас, молодой человек, – сказала мне старая женщина. – Вот, возьмите.
Она протянула мне четыре четвертака.
Когда я вернулся к хижине кэдди, ребята за столом стали мне насмешливо аплодировать.
Мы с ней ходили по полю почти пять часов. Зато теперь я был почти на середине пути к покупке пластинки!
– Тебе достались Уилсоны, – сказал Том, отрывая взгляд от карт в руках и с жалостью глядя на меня. – Они самые медленные. Самые дешевые. Самые плохие игроки в гольф, какие только могут быть.
Но у меня в кармане появился доллар! Я покрыл пятую часть пути по дороге к Lodger!
На следующий день мне снова выпало обслуживать Уилсонов. Но в этот раз старушка дала мне 1 доллар и 50 центов!
– Я запомнила тебя вчера, – сказала она, отсчитывая шесть четвертаков.
– Спасибо, мэм, – ответил я. Мы с ней ходили по полю почти пять часов. Зато теперь я был почти на середине пути к покупке пластинки!
Назавтра зарядил дождь, и на работу пришли всего несколько кэдди. К двум часам дня я остался сидеть под навесом хижины один. Неожиданно появился шарообразный человек.
– Моби, – сказал он, – я отправляю тебя к мистеру Лэндону. Не облажайся. Он настоящий гольфист.
Мистер Лэндон был похож на всех отцов, которых я видел в Дариене. Высокий, подтянутый, с военной выправкой, он выглядел так, словно ему было привычнее командовать полком, а не ходить в желтых слаксах по полю для гольфа. Он отдал мне сумку с клюшками – своими, личными, а не взятыми напрокат. Они весили вдвое больше, чем клубные. Сумка Лэндона сильно давила на плечо.
Мы шли под изморосью, ноги скользили по траве. Он периодически протягивал руку и говорил, какая клюшка ему нужна. Я поспешно срывал с плеча сумку.
На восьмой лунке он спросил меня: «Как думаешь, мне сыграть на вуде или на айроне[132], чтобы попасть с фервея на грин?» Я уже, конечно, знал, что такое вуд и айрон – клюшки различной конфигурации. Но вот какой из них бить по мячу, чтобы он попал с одной части гольф-поля, «центральной аллеи», фервея, на другую, «зеленую лужайку», грин, – я не знал.
– На айроне, – наугад выдал я.
Он кивнул, и я протянул ему клюшку айрон. Он ударил по мячу – тот лег точно на грин.
– Хороший выбор! – сказал он, наградив меня легкой улыбкой.
После игры мистер Лэндон дал мне пять долларов чаевых. Целую пятидолларовую купюру! Я поблагодарил его, пошел прямиком в хижину кэдди, взял велосипед и поехал под дождем к «Пластинкам Джонни».
Несколько лет назад мелкий предприниматель Джонни открыл в Дариене табачный магазин. И продавал сигареты, табак, спички, а также принадлежности для курения. Но потом обогатил ассортимент пластинками популярных солистов и рок-групп. И не пожалел об этом: продажи пластинок давали намного больше, чем торговля табаком. Ему даже пришлось расширить торговый зал и переименовать магазин.
Я вошел в «Пластинки Джонни» и направился к стеллажу под буквой Б. И вот он, Lodger, за 4,99 доллара! Я посмотрел другие записи Дэвида Боуи и понял, что могу купить еще и Heroes. Пластинка стоила всего 2,99 долларов. Я ничего не знал об этом альбоме, но был уверен: он не может быть плохим.
Я принес покупки на стойку. Джонни дружил с моей мамой в старших классах. На большинство покупателей он ворчал, но ко мне всегда был добр, даже если я только глазел на пластинки и ничего не покупал.
– Ты знаешь, что это мексиканский пресс? – показал он на пластинку Heroes.
– А что это значит? – спросил я.
– Винил очень тонкий, – объяснил он.
Я собирался слушать пластинку на мамином проигрывателе, которому было лет двадцать, и решил: качество воспроизведения настолько низкое, что толщина винила никак не может на него повлиять – ни улучшить, ни ухудшить.
Под мелкой моросью я целых полчаса ехал на велосипеде домой, сжимая бумажный пакет с пластинками в правой руке. Они не могли намокнуть – были надежно упакованы в пленку.
Дома я сначала послушал Lodger. Я ничего не понял в этой музыке, но она мне понравилась. Больше всего впечатлила песня «Look Back in Anger». Она была величественной и прекрасной.
Я ничего не знал об этом альбоме, но был уверен: он не может быть плохим.
Я сидел перед маминым проигрывателем в гостиной нашего маленького дома, стоящего у шоссе. Дождь прекратился, и в просвете между темными облаками показалось солнце. У меня в ногах на полу спал кот Такер, а на диване лежала наша собака Квини. Я слушал «Look Back in Anger», и мне казалось, что я летаю с огромными печальными ангелами где-то далеко отсюда, возможно, в горах.
Несколько лет назад мама встречалась с музыкантом, и, когда они расстались, он оставил у нас гитару. Недавно я начал учиться играть на ней у Криса Рисолы[133]. Однажды мама познакомилась с ним в супермаркете. Он учил меня аккордам, гаммам и основам музыкальной теории, но я не мог даже помыслить о том, что когда-нибудь смогу исполнить такую песню, как «Look Back in Anger».
Дослушав Lodger, я поставил «Heroes». Зазвучала «Joe the Lion», и гостиная с ее старой мебелью и спящими животными исчезла. Я оказался в темном баре, полном невыразимо печальных людей. Музыка казалась потусторонней, созданной тонкими бледными музыкантами, живущими в тоннелях метро.
А затем началась «Heroes». Я слышал ее однажды поздно вечером по радио, на нью-йоркской волне WNEW. Обычно эта радиостанция транслировала классический рок. Я слушал и не мог себе представить, какие инструменты дают такое необычное, космическое звучание. Гитары? Синтезаторы? Неожиданно музыка вызвала у меня, подростка, одержимого научной фантастикой, странный вопрос. Как человечество будет жить через тысячу лет?.. Я рос с убеждением, что будущее будет стерильным и безопасным. «Heroes» звучала так, словно будущее будет другим – полным красоты и тихой печали…
На внутреннем конверте я прочитал текст: «We can beat them, just for one day»[134]. И музыка обрела иной смысл. Зло всегда одерживает победу. Жестокость всегда побеждает. Но на короткий миг мы можем обрести любовь и тихое счастье.
Песня закончилась, и я переставил иглу проигрывателя, чтобы послушать ее снова. Это была самая прекрасная песня, которую я слышал. Почему на радио 20 раз в день звучала «Devil Went Down to Georgia», а «Heroes» была записана на дешевом виниле?!
Потом я перевернул пластинку, чтобы послушать оборотную сторону сингла. Помимо «The Secret Life of Arabia», на ней была только тихая музыка без ударных и вокала, похожая на саундтрек фантастического фильма. Я никогда прежде не слышал, чтобы почти целая сторона пластинки была заполнена инструменталкой. Но Дэвид Боуи был моим новым кумиром, и я решил, что он знал, что делал. Он был инопланетным музыкантом, космическим гением. Он выпустил кучу альбомов, его песни звучали на радио, он выступал на ТВ. Так что, размышлял я, если мне непонятна его «фоновая» музыка, то в этом лишь моя вина.
От меня требовалось только слушать оборот «Heroes», пока я не начну его понимать.
Нью-Йорк
(2002)
– Так почему Eminem вас так ненавидит?
В каждом интервью так или иначе поднимался этот вопрос. Меня воспитывали прогрессисты, с раннего детства я твердо знал, что нетерпимость и дискриминация устарели и ошибочны. У 60-х и 70-х годов были свои недостатки, но они вслух говорили о толерантности.
В начале 90-х президентом был избран Билл Клинтон, вверх рванул альтернативный рок. Nirvana и R.E.M. c неожиданной силой провозгласили: расизм – это плохо; антисемитизм – это плохо; женоненавистничество – это плохо; гомофобия – это плохо.
А затем случилось что-то странное. В конце 90-х музыканты начали бесцеремонно прославлять в клипах и текстах песен женоненавистничество и гомофобию. Мне казалось, что толерантность оттесняется в прошлое. Я, продукт воспитания хиппи, не мог молчать. И полагал, что другие музыканты, воспитанные в прогрессивных семьях, также выскажутся. Но ошибался. Вскоре стало ясно, что о гомофобии и женоненавистничестве я говорю в одиночестве.
Я критиковал некоторые тексты Eminem, хоть и было очевидно, что он талантлив. Его женоненавистничество и гомофобия были в какой-то степени позой. И он давал это понять. Но фанаты Eminem – в основном школьники – не улавливали нюансов в его текстах. Они слышали только то, что их платиновый герой призывает в своем рэпе к насилию над женщинами и геями.
В начале 2001 года я давал интервью в студии MTV на Таймс-сквер. Я сидел в знакомом черном кресле с подушками, и знакомый звукорежиссер прицепил микрофон-петлицу на мою куртку. В сотый или, возможно, пятисотый раз прозвучал вопрос: «Почему Eminem вас ненавидит?»
Где-то в глубине души я все еще был панк-рокером. Поэтому с усмешкой сказал:
– Не знаю. Возможно, Eminem – гей, и я ему нравлюсь.
Вскоре я понял, что эти слова подлили масла в костер моей потихоньку разгоравшейся войны с Eminem. Он прочел интервью, пришел в ярость и в клипе «Without Me» оделся так, как обычно одевался я. А потом на сцене «меня» жестоко избили. Он изготовил куклу «Моби» в человеческий рост и на каждом концерте стрелял в нее из револьвера.
Поначалу мне казалось, что это смешно. Мне даже немного льстило то, что поп-звезда так сильно одержима ненавистью ко мне. Но на всякий случай взял на полтона ниже и теперь говорил в интервью: Eminem – не единственный и не худший из женоненавистников и гомофобов. И действительно, бесчисленные музыканты и рэперы, казалось, стремились перещеголять друг друга в выражении нетерпимости. Я даже слышал о том, что гомофобия распространяется в танцевальном сообществе. И пришел в ужас – ведь хаус-музыка появилась на свет и развивалась именно в гей-клубах!
Находясь на гастролях в Детройте, я давал интервью местному журналисту в эфиопском ресторане. Мы ели пряную еду с губчатым эфиопским хлебом, и он спросил:
– Но почему вы конфликтуете с рэперами Eminem, Кидом Роком и им подобными?
Я нервно сглотнул.
– Потому что нетерпимость неправильна и опасна! Как бы люди отреагировали, если бы Eminem, Кид Рок и все эти ню-металлические парни начали вместо унижения женщин и геев призывать к насилию над черными и евреями? Почему одну нетерпимость MTV и звукозаписывающие компании принимают, а другую – нет? Разве не любая нетерпимость должна быть уничтожена?
Он помолчал, потом сказал:
– Да, но многие женщины – сучки…
Я онемел. Это был журналист, наверняка с университетским дипломом, представитель четвертой власти в XXI веке.
– Что?
– Понимаете, Eminem и Кид Рок имеют дело со множеством золотоискательниц и стерв.
Возможно, Eminem – гей, и я ему нравлюсь.
Теперь я был в ужасе.
– И это оправдание женоненавистничества?!
Я хотел, чтобы мир был прогрессивным и инклюзивным, как телешоу, которые мы с мамой смотрели во времена моего детства. Нетерпимость не могла быть вопросом этики и культуры поведения. Она стояла за самыми страшными злодеяниями в истории человечества. Ведь геноцид – это та же нетерпимость, только в промышленных масштабах.
* * *
За день до церемонии вручения наград MTV Video Music Awards 2002 года мне позвонил Роберт Шмигель. Он был известным голосовым актером, работающим с куклами, комиком, юмористом и писателем. Шмигель несколько раз брал у меня интервью, и, хотя был резок со мной, я восхищался его комедийным гением. Мне нравился созданный им персонаж – язвительный пес-кукла по кличке Триумф. С этой куклой-марионеткой он постоянно выступал.
У Роберта появилась идея. Посреди шоу я должен был сесть позади Eminem и его свиты. А затем Триумф показался бы на сцене и начал задирать нас обоих. Я с радостью согласился.
Перед церемонией сотрудник MTV проводил меня к креслу посреди первого ряда. Позже я получил награду за «We All Made of Stars» и пересел – на место позади Eminem.
Он повернулся и уставился на меня. Посмотрев в его глаза, я понял, что все очень серьезно. Похоже, он действительно меня ненавидел. Его тексты задевали меня, но в глубине души я считал, что мы – две публичные фигуры и наша вражда была наигранной частью шоу-бизнеса. Но нет. Он посмотрел на меня и тихо, жестко сказал:
– Ты труп.
Я почувствовал себя уязвимым. Несмотря на то, что нас окружали тысячи людей, страх закрался в мою душу. Его окружала свита из здоровенных и очень злых парней, а я был один.
И все-таки… Несмотря на наше противостояние, я чувствовал странное родство с Eminem. Мы оба росли в бедности. У нас были матери-одиночки с непростыми характерами и судьбами. Мы оба нашли убежище в музыке. И оба не отличались высоким ростом.
Появился Роберт со своей собакой-куклой, а вслед за ним – команда операторов с камерами. Голосом Триумфа Шмигель задал мне несколько саркастических и остроумных вопросов, откровенно оскорбляя перед миллионами людей.
– Я бы не дал тебе запрыгнуть мне на ногу, – сказал он. Я засмеялся, потому что это было действительно смешно.
Затем Триумф переключился на Eminem. И тот ударил куклу. Шмигель с ужасом посмотрел на рэпера. За все годы существования язвительного пса-комика никто не пытался его бить!
Во время рекламной паузы Eminem со злостью сунул мне в руки листок бумаги. На нем был карандашный набросок: он и я; он душил меня. Должен признать, рисунок был хорош, и я удивился: когда Eminem успел его сделать?
Шоу после рекламы возобновилось, и мой неприятель встал с места, чтобы получить награду из рук Кристины Агилеры. Он поднялся на подиум, заметно возбужденный.
– Йоу! – воскликнул он. – Эта девчонка Моби на минутку вывела меня из себя!
Толпа начала свистеть, но я не знал, кому адресован свист – ему или мне. Eminem забрал у Кристины свою статуэтку и пообещал со сцены:
– Я дам по морде этому чуваку в очках!
Зал взорвался хохотом. Меня затрясло. Он самым грубым и оскорбительным образом угрожал мне перед миллионной аудиторией! Все это время я считал, что Eminem на самом деле не так уж зол на меня, что однажды мы встретимся и по-дружески поговорим, и он скажет, что на самом деле он не женоненавистник и не гомофоб. Мы поговорим о бедном и трудном детстве, о том, что мы оба пережили, и, возможно, даже подружимся. Вместо этого я стал объектом публично демонстрируемой ненависти величайшего и злейшего рэпера в мире. Меня шокировало и то, что публика посмеялась надо мной. Люди были не на моей стороне. В мире что-то изменилось. Я вдруг подумал о рейтинге 18. Как ни трудно было это признать, но многие рецензии на альбом были негативными. И критиковали не только музыку, но и меня. Кое-кто из журналистов даже не утруждал себя рассуждениями о моей работе, а просто обливал меня грязью.
Несмотря на наше противостояние, я чувствовал странное родство с Eminem. Мы оба росли в бедности.
Я знал: продажи билетов на мои концерты были не самыми лучшими. Я надеялся, что 18 и последующий за ним тур укрепят мою позицию в мире музыки и принесут новую славу. Но, как ни страшно это было признавать, 18 и близко не подошел к успеху Play.
Я покинул зал, чувствуя на себе взгляды 5000 человек. В вестибюле меня окликнули Джулиан Касабланкас[135] и еще кое-кто из Strokes. Они собирались выступать на частной вечеринке и позвали меня с собой. Мы поехали в лофт, где они должны были играть. Там я выпил столько водки, сколько мог.
Я мог бы ненавидеть Strokes: они хорошо выглядели, они были успешными, к тому же они выросли в богатстве и с привилегиями. Но в последние годы мы сдружились. И мне нравилась их музыка, полная фанатских заимствований у Velvet Underground и групп из Хобокена, таких как Feelies и Bongos.
Они вышли на сцену в полночь. Я стоял сбоку от сцены, пил шампанское из бутылки и подпевал «Is This It».
– Моби, знаешь, ты мне нравишься, но тебя сейчас слишком многие ненавидят.
Я познакомился с Джулианом за год до этого, когда мы оба напились ночью в баре в районе Ист-Виллидж. Я рассказал ему, как люблю альбом The Strokes «Is This It» и как он напоминает мне о жарких пьяных летних ночах в Нижнем Ист-Сайде. Они были волшебными: казалось, что все в Нью-Йорке пытается тебя удержать. Теплый августовский воздух, бар, полный дружелюбных пьяниц. И прекрасная женщина, которая ведет тебя к себе домой, пешком на четвертый этаж, по лестнице старого многоквартирного дома…
Тогда, после моих прочувствованных пьяных речей, Джулиан обнял меня и сказал:
– Ты нас понял.
Когда Strokes начали играть новую песню, я увидел, что за сценой стоит Андре из хип-хоп-дуэта Outcast с группой друзей. В 2001 году мы ездили в совместный тур, и у меня были планы поработать вместе с ним над моим новым альбомом. Я подошел и попытался обнять его, но он отшагнул назад.
– Что такое, Моби? – нахмурившись, спросил он. Все-таки, наверное, я здорово напился.
– Я пишу музыку и хотел предложить тебе поработать вместе над парой песен.
Он покачал головой и грустно улыбнулся:
– Моби, знаешь, ты мне нравишься, но тебя сейчас слишком многие ненавидят.
Часть третья
Во снах я все время умираю
Барселона, Испания
(2002)
Сквозь зеркальные окна высотой в двадцать футов я видел Средиземное море – сияющий серо-голубой ковер, простирающийся до горизонта. Я был в Барселоне, в коротком отпуске во время европейского тура в поддержку 18. Мне предстояло выступить на церемонии вручения наград европейского MTV. В шикарном отеле, в котором я остановился, моими соседями по пентхаусу были Мадонна, Джон Бон Джови и Пи Дидди[136].
Чтобы попасть в свой номер, мне каждый раз следовало пройти контроль у входа в отель, еще один кордон охраны стоял перед первым рядом лифтов. У отдельного лифта, который вез меня в пентхаус, дежурили вооруженные сотрудники внутренней службы в штатском. Когда я заселялся в отель, добраться до номера мне помог начальник охраны Мадонны.
– Я слышал, ты знаешь Эдди? – спросил он у меня.
Эдди, личный тренер Мадонны по йоге, в 80-е был одним из моих лучших друзей. Мы познакомились, когда смотрели в баре «Розовых фламинго» Джона Уотерса. В то время он только что бросил школу и продавал студентам Нью-Йоркского университета дешевые наркотики. А теперь стал тренером по йоге у Мадонны и Гвинет Пэлтроу[137] и организовывал мастер-классы по духовному самосовершенствованию с Дипаком Чопрой[138].
В моем пентхаусе была оборудованная кухня, столовая на десять человек, парадная гостиная с роялем и еще три спальни на втором этаже, куда вела широкая стеклянная лестница. Церемонию MTV Awards назначили на завтра, и я решил устроить в номере вечеринку для моей группы, технического персонала и нескольких сотрудников звукозаписывающей компании. Должно было прийти пятнадцать-двадцать человек, и мой помощник заказал три ящика пива, ящик шампанского, два литра водки, литр виски, клубную содовую и лаймы. Прямо перед моим приходом персонал отеля расставил все это на буфете в гостиной, вместе с хрустальными стаканами для коктейлей и бокалами-«флейтами» для шампанского.
Я поднялся на лифте в отдельное SPA на крыше и за 200 долларов получил сеанс массажа у молчаливой женщины из Восточной Европы. Я не любил массаж – меня от него тошнило, – но считал, что мне, как рок-звезде, следует тратить деньги на то, что нравится другим звездам.
У меня оставалась еще пара часов до прибытия гостей, и я постучал в дверь Пи Дидди. Открыл его телохранитель.
– Привет, я Моби. Шон здесь?
– Подождите, – ответил он, закрывая дверь. Я остался стоять на толстом сером ковровом покрытии, разглядывая светильники и ореховые панели холла.
Дверь открыл Пи Дидди.
– Моби? Заходи.
Я вошел в его номер, который выглядел как зеркальное отражение моего.
– Мы соседи, хотел поздороваться! – беспечно сказал я.
– Привет. Как оно?
Я встречал Пи Дидди несколько раз в этом году, в разных клубах и на разных церемониях. Мы не были близко знакомы, но он всегда доброжелательно ко мне относился.
– У меня сегодня будут гости. Присоединяйся! – предложил ему я.
– Благодарю, Моби, но я иду обедать с Боно и Джеем, – ответил он. – Можешь заглянуть потом ко мне на вечеринку. Я снял виллу недалеко от города. Начало примерно в час ночи.
– Хорошо, спасибо. Может быть, увидимся.
Я пожал ему руку, вышел и направился к номеру Мадонны. Дверь открыл уже знакомый мне начальник охраны звезды.
Я не любил массаж – меня от него тошнило, – но считал, что мне, как рок-звезде, следует тратить деньги на то, что нравится другим звездам.
– Привет, Мадонна здесь? – приветливо спросил я.
– Занимается прической, – улыбнулся он. – Могу чем-то помочь?
– Ох, у меня вечеринка, если вдруг она захочет прийти, буду рад ее видеть!
– Я передам ей. Во сколько?
– В девять…
Я внезапно запаниковал. Правильно ли было приглашать Мадонну? Не нарушил ли я предписания табели о рангах? Но я знал ее много лет, а два года назад из ее рук получил свою третью или четвертую награду MTV на церемонии в Швеции.
– Хорошо, спасибо, – сказал охранник и закрыл передо мной тяжелую деревянную дверь.
Я не был знаком с Джоном Бон Джови, хоть мы оба и выступали на церемонии закрытия зимней Олимпиады в Солт-Лейк-Сити. Поэтому решил не ломиться в его номер. На гостиничном листке бумаги я написал записку: «Привет, не хотел беспокоить, но в девять вечера у меня будет небольшая вечеринка. Если хочешь, приходи. Твой сосед Моби» – и подсунул ее под дверь.
Вернувшись в номер, я пошел в кухню и приготовил себе бурый рис с черной фасолью и брокколи на пару. Взяв тарелку, устроился в гостиной с книгой Харлана Кобена[139]. Сидя за столом, обшитым кленовым шпоном, я ел и читал, пока солнце над Барселоной клонилось к закату.
* * *
Скотт, мой ударник, и Стив, звукорежиссер, пришли первыми, ровно в девять вечера.
– Ух ты, красота какая! – сказал Стив, подойдя к стеклянной стене и разглядывая неяркие огни Барселоны и чернильно-темное Средиземное море.
После питательного ужина мне пришла в голову мысль выпить перед приходом гостей пару крепких коктейлей из водки и содовой. От них уже кружилась голова.
– А ведь когда-то я жил на заброшенном заводе и ссал в бутылку![140] – сказал я, прижимая ладонь к стеклянной стене.
– Это круто, – с уважением сказал Скотт.
В дверь позвонили. Я встряхнулся, открыл и обнаружил за дверью Мадонну в сопровождении телохранителя и нескольких прихлебателей.
– Привет, Моби! – тепло улыбаясь, сказала она.
– Привет! – воскликнул я, пораженный тем, что Мадонна, несмотря на мои сомнения, все-таки пришла. – Заходи!
– Нет, у меня дела. Просто зашла поздороваться.
Я был расстроен:
– Увидимся завтра?
– Надеюсь! – засмеялась Мадонна. – Ведь завтра я объявляю одну из твоих наград!
– Это классно!
Секунду мы смотрели друг на друга, а потом Мадонна сказала:
– Хорошего вечера! Увидимся на шоу.
Она повернулась и пошла по мягкому серому ковру к лифтам, сопровождаемая своей свитой и ароматом дорогого парфюма.
Я вернулся в номер и налил себе еще выпить.
– Это была Мадонна, – значительно сказал я друзьям.
– Правда? – недоверчиво спросил Скотт.
– Она, Бон Джови и Пи Дидди – мои соседи!
В дверь звонили еще много раз, и к половине десятого в номере уже было пятнадцать человек. Все пили и глазели в двадцатифутовое окно. В комнате легко могло поместиться полсотни гостей или даже больше. Поэтому, несмотря на то, что мои ребята были пьяны, громко смеялись и шарахались из угла в угол, она казалась пустынной.
Во время тура 18 я останавливался в дорогих гостиницах в одиночку. Мне вспоминались те времена, когда моя музыкальная карьера только начиналась.
Около полуночи тур-менеджер Sandy собрался уходить.
– Завтра много дел, – сказал он. – Пора возвращаться в свою гостиницу для бедных.
Мои музыканты и техники устроились в недорогом отеле на окраине Барселоны.
– Как там живется?
– Без проблем, – ухмыльнулся Sandy. – Если не считать крыс и дыр в стенах.
– Ты шутишь? – испугался я.
Он весело рассмеялся:
– Шучу, конечно! Все отлично.
Во время тура 18 я останавливался в дорогих гостиницах в одиночку. Мне вспоминались те времена, когда моя музыкальная карьера только начиналась. Тогда все мы заваливались в «Holiday Inn» или «Motel 6», иногда в один номер. Но теперь я стал рок-звездой и был обязан выбирать отели с номерами стоимостью не менее трех тысяч долларов за ночь.
Остальные ребята потянулись вслед за Sandy. Я закрыл дверь за последним гостем и представил себе мой номер, полный рок-звезд, их поклонников и прекрасных женщин, весело пьющих и танцующих до рассвета. Сегодня всего этого не было. Я остался один с кучей непочатых бутылок алкоголя и пустых стаканов на столах.
Меня одолевал страх: если эта жизнь, полная сбывшихся желаний, не приносит мне счастья, то что же тогда принесет?
Я смешал еще водки с содовой, завел на стереосистеме «Protection» Massive Attack и пошел к ноутбуку проверить почту. Мне написали тети, отчим Ричард и несколько нью-йоркских друзей. Я не мог сосредоточиться ни на одном из писем. Слишком расстроился от того, что вечеринка не удалась.
На глаза попалась открытая бутылка шампанского, и она тут же оказалась у меня в руках.
Я говорил себе: «Ты рок-звезда и живешь в номере с тремя спальнями и окнами на Средиземное море. Ты получил в тысячу раз больше всего того, о чем когда-либо мечтал. В прошлом году ты заработал больше 10 000 000 долларов, и в твоем лофте в Нью-Йорке стены коридора увешаны золотыми и платиновыми пластинками. Одна неудавшаяся ночь и то, что ты остался один, на фоне всего остального ничего не значит!»
Эти слова мне не помогали.
– На хер все, – сказал я вслух, поливая кожаную спинку дивана шампанским.
– На хер! – сказал я небу над морем, своей мертвой матери, пустоте.
Мне полегчало, и я повторил «На хер!» еще громче.
В последнее время получать удовольствие от жизни становилось все труднее. Чтобы напиться, мне приходилось пить больше. Чтобы чувствовать себя уверенно, мне нужно было спать с большим количеством женщин. Чтобы ощутить свою «звездность», нужно было давать все больше и больше интервью и читать о себе не в одном-двух журналах, а в десяти.
Я открыл еще одну бутылку шампанского и поднялся наверх. На стеклянной лестнице споткнулся и упал. Сел на ступеньку, сделал большой глоток из бутылки и заплакал. Все было совсем не так, как ожидалось. Взрослея, я точно знал: если бы Вселенная подарила мне успех как музыканту, я был бы самым счастливым человеком на свете. А если добавить к этому богатство, славу, награды, секс и алкоголь, то моим восторгам не было бы предела. Простая математика!
Но сейчас я был несчастен и полон жалости к себе. И меня одолевал страх: если эта жизнь, полная сбывшихся желаний, не приносит мне счастья, то что же тогда принесет?
В старших классах я слушал Joy Division и думал о самоубийстве. Оно казалось красивым, полным впечатляющего трагизма действом. Убив себя, я сделал бы сразу несколько важных вещей:
– объявил бы всему миру, что был несчастен;
– покончил бы с этой жизнью, полной печали и бед;
– вступил бы в ряды уважаемых людей, таких как Иэн Кертис, Альберт Камю и Эрнест Хемингуэй – все они покончили с собой.
В последние годы ко мне пришел успех, и я почти не думал о самоубийстве. Но теперь депрессия вновь стала мне нашептывать о нем.
Я встал, все еще плача, и спустился по стеклянной лестнице обратно к буфету. Налил себе выпить, снова вернувшись к водке. Прошептал:
– Я должен умереть. Я один. И я должен умереть.
Интересно, гордилась бы мама моими успехами? Я вспомнил, как дал ей послушать запись какой-то моей музыки; мне было тогда лет шестнадцать. Она сидела на коричневом поролоновом диване, который неизменно следовал за нами, где бы мы ни жили, и прижимала к ушам дешевые наушники. Когда музыка закончилась, она широко и удивленно раскрыла глаза, улыбнулась мне и сказала:
– Ух ты!
Она хотела этого для меня: чтобы я прожил жизнь артиста, чтобы создавал музыку и повидал мир. Я заплакал еще сильнее, потому что получил все, чего она для меня желала, и я все испортил.
Я понятия не имел, как стать счастливым. Никчемный неудачник…
Едва держась на ногах, я подошел к окну. Я мог только смотреть сквозь двадцатифутовые окна: их нельзя было открыть.
Я вернулся наверх. Может быть, мне удастся выброситься из маленького окна спальни? Но нет, оно открывалось, создавая просвет между рамами всего в несколько дюймов.
Я лежал на толстом ковре в спальне, рыдал и просил у моей покойной мамы и Господа Бога прощения за то, что стал разочарованием для них.
Дариен, Коннектикут
(1979)
Мы с мамой заключили сделку: если я усердно работаю по дому и выполняю все домашние обязанности, она выплачивает мне не 50, а 75 центов в неделю. Поэтому в одну из октябрьских суббот я в течение двух часов сгребал в кучу опавшие листья и складывал их в пластиковые мешки, которые выставлял в ряд у гаража.
После смерти деда бабушка продала дариенский дом с семью спальнями. Она плакала, уезжая из него: в нем прошли несколько десятилетий ее счастливой семейной жизни. На вырученные деньги она купила два небольших коттеджа. Один – в соседнем Норуолке – для себя, а другой – рядом с железнодорожным вокзалом Дариена – для нас с мамой. Наконец у нас появился собственный дом с хорошей системой отопления и небольшой прилегающей территорией с лужайкой и деревьями. Уборкой на участке должен был заниматься я. Все-таки мне уже исполнилось 14 лет.
Сгребание листьев я считал приятной работой. Она не шла ни в какое сравнение с утомительной летней стрижкой газона с помощью старой ручной косилки, которую нам подарили новые соседи. Я с силой вонзал зубья грабель в хрупкие сухие листья, и звук удара напоминал мне бой малого барабана в джазовой композиции на старой маминой пластинке.
Я закончил складывать листья в мешки, и мы с мамой поехали к хозяину большого яблоневого сада в конце нашей улицы, чтобы купить яблоки и сидр. На обратном пути зашли в круглосуточный магазин – за сигаретами. Когда вернулись в машину, я сказал как бы невзначай:
– Сегодня вечером я иду на вечеринку с Дэйвом и Джимом.
Мама закурила и ничего не ответила – значит, не возражала.
Я познакомился с Дэйвом и Джимом годом раньше. У них были папы, и они жили в домах получше, чем мой. Но, несмотря на это, мы плыли в одной лодке: их семьи не могли похвастаться большим достатком. К тому же в школе начался компьютерный бум: большинство ребят только и говорили о программных кодах и «операционках». Но мы ничего не смыслили в компьютерах, потому что их не имели. И поэтому нас не замечали.
Так что мы тусовались вместе и развлекались, как умели: смотрели телевизор и катались на своих десятискоростных «Schwinn»; ездили в «Пластинки Джонни» – поглазеть на альбомы, которые хотели бы когда-нибудь купить.
Ни меня, ни Дэйва, ни Джима на вечеринку никто не приглашал. Просто-напросто мои друзья подслушали, как кто-то говорил о ней на уроке английского языка.
На ужин мы с мамой ели мясной рулет с яичной лапшой и смотрели телевизор. Потом я отведал на десерт шоколадного мороженого и поднялся наверх – послушать радио и одеться для вечеринки. Теперь я отдавал предпочтение исключительно WNEW: это была единственная нью-йоркская радиостанция, на которой иногда ставили «новую волну» и панк-рок.
Я хотел нормально выглядеть на вечеринке, поэтому заранее обдумал свой наряд: темно-синяя рубашка поло из «Гудвилла», джинсы Lee из норуолкского магазина Армии Спасения и ветровка Penguin, которую бабушка купила для меня в комиссионном магазине Общественной ассоциации Дариена. Кот Такер и собака Квини последовали за мной в ванную, где я долго разглядывал свое отражение в зеркале над раковиной. Они были добрые животные и любили меня безоговорочно. На вечеринке такого отношения ожидать не приходилось. Крутые ребята, которые должны были на нее прийти, вели себя как дикари. Я знал, что они будут омерзительно хохотать, если кто-нибудь из них догадается, что вся моя одежда куплена в сэконд-хенде. Наконец, я решил, что выгляжу вполне нормально, оторвался от зеркала и направился вниз.
– Мам, мне пора, ухожу! – крикнул я в сторону гостиной. – На вечеринку!
– Ладно, развлекайся! – был ответ.
– Не знаю, когда вернусь!
– Только не задерживайся допоздна!
Я подумал, что она, должно быть, шутит. Я никогда в жизни не задерживался допоздна. Иногда летом катался на велосипедах с друзьями до тех пор, пока не темнело, но только до девяти часов вечера. А иногда задерживался у моего друга Роба – у него был цветной телевизор и видеомагнитофон, – но возвращался домой никак не позднее 22.00.
Мы тусовались и развлекались, как умели: смотрели телевизор и катались на своих десятискоростных «Schwinn»; ездили в «Пластинки Джонни» – поглазеть на альбомы, которые хотели бы когда-нибудь купить.
Я сел на велосипед и поехал к Дэйву. Его дом был маленьким по меркам Дариена, но не меньше моего, и стоял в большем отдалении от вокзала, нежели мой.
Дверь открыла мама Дэйва.
– Он наверху, в своей комнате! – весело сообщила она. – Джим тоже там!
– Спасибо, миссис Марден!
Я поднялся наверх. В комнате Дэйва звучала песня Элвиса Костелло, а сам он сидел на полу, держал в руках обложку альбома This Year’s Model и благоговейно на нее смотрел.
– У тебя есть пластинка Элвиса Костелло?! – изумленно спросил я.
– Да, – небрежно ответил Дэйв. – Мы с мамой купили, когда ездили в Нью-Йорк.
Мы с Джимом с завистью посмотрели на него: нам не приходилось бывать в Нью-Йорке, хотя он располагался от Дариена не очень далеко. Он был для нас неизведанной землей, которая изобиловала всем, что мы любили.
Мы уже давно слушали «новую волну». Но крутые ребята в школе все еще злобно высмеивали эту музыку, как и панк-рок. Поэтому в школе мы помалкивали о том, что нам нравятся Элвис Костелло и Clash.
Звучала песня «Pump It Up». Я несколько раз слышал ее на WNEW, и мне она понравилась. Музыка была энергичной и очень необычной – будто гудел улей с растревоженными пчелами. Я весь обратился в слух – не понимал, что говорит Дэйв; забыл, зачем пришел. Песня была быстрой и до абсурда захватывающей. Мне хотелось прыгать вверх-вниз, крушить мебель и кричать в окно на весь Дариен: «Да пошли вы!»
Но песня закончилась, я пришел в себя и спросил:
– А к кому мы идем?
– К Синтии Корсилья, – ответил Дэйв.
Синтия училась в моем классе, и я страстно желал ее. Она, само собой, была моей ровесницей, но я выглядел как ребенок, а она – как итальянская кинозвезда. И мы с друзьями собирались пойти к ней домой! Я тут же представил: вот она танцует со мной, потом ведет в свою комнату, целует и становится моей вечной любимой подругой…
– Ну, годится, – небрежно сказал я.
Мы посовещались и решили не садиться на велосипеды. Отправились на вечеринку пешком. Я был рад, что мы были одеты почти одинаково. Это утверждало меня в мысли, что наряд из джинсов, рубашки поло и кроссовок выбран правильно.
Мы прошли мимо моего дома. Я увидел свет в окне гостиной, где мама смотрела телевизор. При мысли о том, что она сидит в одиночестве, у меня стало тяжело на душе. Мне захотелось отказаться от своих планов и пойти домой, чтобы быть рядом с ней. Но все-таки я отвернулся от светящегося окна и продолжил свой путь.
Через несколько минут мы встали возле дома Синтии Корсилья. Было слышно, как за его стенами громко играет музыка. Звучала песня «Casey Jones» группы Grateful Dead.
– Ну что, заходим? – храбро спросил Джим.
– Ну, – неожиданно тихо и вяло ответил Дэйв, – я только слышал об этой вечеринке…
Да, подумал я, мы явно сделали что-то не так. Нас не приглашали, и мы были не теми ребятами, которые могли просто так войти в дом и налить себе пива.
Я увидел свет в окне гостиной, где мама смотрела телевизор. При мысли о том, что она сидит в одиночестве, у меня стало тяжело на душе.
– Может, сначала посмотреть, что там да как? – неуверенно предложил я.
Мы тихонько прокрались за угол дома и поставили под окном кухни на попа металлическое ведро. Джим смело встал на него.
– Там Том Рэнд. И Чаз Уокер. И Маффи Чайлдресс. И Скутер Борден, – доложил он. – Пьют пиво.
– А девочки есть?
– Мэтт Порретта целуется с Джеком Иканом у задней двери.
Это было захватывающе. Мы, по существу, присутствовали на вечеринке! Хотя фактически находились на улице и слушали репортаж с перевернутого ведра. Джим, правда, красноречием не отличался. Через пять минут мы перенесли ведро к другому окну. На этот раз корреспондентом в прямом эфире стал Дэйв.
– Там Марк Палмер, он разговаривает с Синтией! По телевизору идет «Би Джей и Медведь». Билл О’Нил сидит на диване с Эрин Банч и Скоттом Макбрайдом. О, и Стив Ларкин тоже там!
У меня кровь застыла в жилах. Стив Ларкин был моим заклятым врагом. Я никогда не дрался по-настоящему, а он ударил меня кулаком в живот на игровой площадке. С тех пор я его ужасно боялся. Мои сладкие грезы о поцелуях Синтии Корсилья сменились паническими мыслями о том, что Стив Ларкин и его приятели-футболисты разорвут меня на части. Стараясь казаться спокойным, я спросил:
– Может, хватит? Пойдем отсюда?
Дэйв слез с ведра. Мы прокрались через двор и вернулись на улицу. Мое настроение сразу улучшилось. Я чувствовал себя отважным искателем приключений – как будто пришел с друзьями на вечеринку и плюнул в сторону Стива Ларкина. Пусть Синтия Корсилья не стала моей вечной любимой подругой. Но Дэйв рассказывал мне о ней с ведра. Я находился рядом с желанной девушкой! И этого было достаточно.
– Хотите пойти послушать другую сторону пластинки Элвиса Костелло? – спросил Дэйв.
Нью-Йорк
(2002)
«Teany» недостатка в посетителях не испытывало. Но первые месяцы после открытия кафе мы с Келли почему-то терпели убытки. Потом друг, владевший рестораном на Ладлоу-стрит, сказал мне: «Если ты тратишь больше, чем получаешь, отпимизируй расходы. Прежде всего закупки и уровень сервиса».
Ох. Так вот в чем решение!
Я рассказал об этом Келли, и она энергично взялась за оптимизацию нашего малого бизнеса. У нее это хорошо получалось, и вскоре дела пошли на лад. При этом количество посетителей не уменьшилось. Это было замечательно. Это означало, что «Тeany» не придется закрывать.
Закрытие кафе разбило бы мне сердце. Оно стало мне вторым домом. Каждое похмельное утро я приходил туда за выпечкой с веганским крем-сыром. Днем я проводил там встречи и интервью, а по вечерам встречался с друзьями, и мы играли в скрабл, а потом шли куда-нибудь и напивались. К тому же в «Тeany» было светло, тихо и чисто – в отличие от темных гастрольных автобусов, в которых я провел большую часть времени за последние несколько лет.
В день празднования Хэллоуина я находился дома: в туре образовался короткий перерыв. Мне нужно было идти на вечеринку, но сначала хотелось заглянуть в «Тeany» – съесть кусок шоколадного торта, а заодно похвастаться своим маскарадным костюмом. Я считал, что оделся как клавишник из группы Journey или Loverboy, хотя понятия не имел, как выглядел клавишник из Journey или Loverboy. На мне были красные брюки, белые ботинки, красная футболка без рукавов, длинный темный парик, большие солнечные очки и красная куртка со множеством молний, как у Майкла Джексона.
Чуть раньше я позвонил Келли и рассказал о костюме. Спросил: «А ты одета ведьмой? Посетители не разбегутся?» Она засмеялась и ответила, что работает в обычной одежде, только нацепила на нос пластиковый свиной пятачок и наложила кое-какой грим.
Соглашаясь на психотерапию для любовных пар, я предполагал, что врач поздравит меня с тем, что я прекрасно осознаю свои потребности, а затем вежливо скажет Келли, что она сумасшедшая.
Наши близкие отношения, что восстановились после разрыва в день открытия «Teany», продолжались. Но вот праздники почему-то мы теперь вместе не отмечали.
Добравшись до «Тeany», я, минуя зал, сразу спустился в подвал, где располагался офисный кабинет Келли.
– Это ты? – спросил я, указывая на свиной пятачок на ее носу и раскрашенные розовым щеки.
– Это ты? – засмеялась она, снимая с меня черные очки и дергая за густые космы парика. Потом спросила: – Ты был в зале?
– Еще нет.
– Тебе стоит зайти. Там Дэвид Боуи, Иман и их маленькая дочь.
– Ух ты! – обрадовался я. – Тогда побегу к ним!
Но Келли остановила меня.
– Подожди. Мы можем поговорить?
– Да, – ответил я, внезапно встревожившись. Вопрос «Мы можем поговорить?» всегда приводил меня в ужас, потому что обычно это означало, что человеку от меня что-то нужно или я сделал что-то не так.
Келли нахмурилась, взяла меня за руку и вывела из кафе. Мы пошли на запад по Ривингтон-стрит и присели на скамейку в скверике, разбитом возле старого кирпичного здания.
– Я больше так не могу! – решительно заявила Келли.
– Как?
– Быть в полигамных отношениях!
После того как мы снова начали встречаться, договорились, что ничем не обязаны друг другу в том, что касается интимных отношений. «Измены» позволялись – и мне, и ей. Но Келли ни с кем не встречалась и продолжала тяжело переносить мои разгульные похождения. Она настояла на том, чтобы мы стали вместе ходить на сеансы психотерапии для любовных пар.
Соглашаясь на это, я предполагал, что врач поздравит меня с тем, что я прекрасно осознаю свои потребности, а затем вежливо скажет Келли, что она сумасшедшая. Но этого не случилось.
Наш первый сеанс был довольно приятным – 45 минут знакомства с деликатным и чутким психотерапевтом. Но во вторую встречу я рассказал ему о своем детстве и о том, что все романтические отношения, которые у меня были в жизни, вызывали изнурительные приступы паники. И тогда он мягко сказал:
– Знаете, Моби, возможно, вам стоит подумать о том, чтобы приходить на терапию одному, без Келли. И несколько раз в неделю.
Я был ошарашен и сразу же отказался от его предложения. Во мне жила уверенность: мое душевное здоровье в порядке; парализующие приступы паники случались из-за того, что я встречался не с теми людьми.
Мы с Келли еще несколько раз ходили на сеансы, но они становились все более неприятными: моя женщина кричала, а мне хотелось убежать. Я все больше пил, принимал все больше наркотиков и все более неразборчиво занимался сексом.
И вот теперь Келли дошла до критической точки. Она смотрела на меня с ненавистью.
– Я слишком долго терпела это дерьмо! – резко и гневно сказала она. – С меня хватит!
Я растерянно взмолился:
– Но пойми ты меня, наконец! Моногамные отношения вызывают у меня приступы паники!
– Это чушь собачья! – отрезала она.
– Это не так, и ты это прекрасно знаешь! Я хочу постоянства, но паникую.
Ее взгляд был полон презрения. Она не верила мне.
– Мне очень жаль, Келли, – сказал я. – Но мне не дано стать другим.
Теперь меня никто не любил и не пытался вытянуть из грязи. Я остался один и мог продолжать жить как хочу.
За годы наших отношений Келли научилась справляться с болью, которую я причинял ей. Она встала со скамейки, выпрямила спину и процедила сквозь стиснутые зубы: «Иди на хер!» – и почти побежала вниз по Ривингтон-стрит к «Teany».
Мы расставались множество раз, но сейчас все было по-другому. Я знал, что мы уже не помиримся, не сойдемся, никогда не будем заниматься сексом в ее кабинете и на крыше над моей квартирой. Это был конец. Мне было грустно. Но неожиданно я почувствовал облегчение. Я был свободен. Я мог забыть о чувстве вины перед Келли. И мог больше не ходить к психотерапевту, который пытался заставить меня спуститься в мой внутренний ад, честно взглянуть на свою панику и вступить с ней в борьбу.
Теперь меня никто не любил и не пытался вытянуть из грязи. Я остался один и мог продолжать жить как хочу.
Солнце уже зашло. Зажглись уличные фонари. Я покинул сквер и направился в ближайший знакомый бар.
В обнимку со своей паникой, алкоголизмом и распущенностью.
Нью-Йорк
(2003)
Побывав в рок-клубе «У Дона Хилла» в Сохо впервые, я сломал лодыжку. Случилось это давно, в 1995 году. Под конец вечера мне, абсолютно пьяному, пришло в голову забраться на сцену и потанцевать под «I Wanna Be Your Dog» группы Stooges. Весело попрыгав минут пять, я свалился со сцены.
Женщина из «Elektra», моего звукозаписывающего лейбла, отвезла меня на такси домой и вызвала «скорую». Неделей позже я вернулся к «Дону Хиллу» на костылях и с того времени стал там завсегдатаем.
Сегодня я пришел сюда посмотреть на группу Satanicide. Двое моих друзей, талантливый вокалист Фил и гитарист-виртуоз Дейл, в шутку собрали коллектив рок-музыкантов, который, по замыслу, пародировал бы глэм-метал-группы 80-х годов. Но, сыграв несколько концертов, они поняли, что исполняют хороший глэм-метал-рок. И вычеркнули из своих афиш слово «пародия».
К полуночи я выпил шесть или семь порций водки с содовой и был на полпути к тому, чтобы напиться. Фил и Дэйл, выйдя на бис, вытащили меня на сцену и дали гитару, чтобы я мог сыграть с ними «Whole Lotta Love» группы Led Zeppelin. Эта песня с музыкой из трех нот была идеальным кавером для дешевого бара в полночь: ее все любили, и пьяные музыканты – вроде меня в тот час – могли не заморачиваться техникой исполнения.
Фил жил в Челси с женой и сыном и работал в юридической фирме. Дэйл был успешным модным фотографом. Но на концертах Satanicide Фил пел без рубашки и скакал по сцене в крохотных серебряных шортах, а Дэйл с подведенными глазами и в длинном черном парике был похож на вампира. Пока я играл соло, они осыпали меня блестками, а потом держали у моего рта бутылку «Jack Daniel’s», чтобы я мог пить и играть одновременно.
Выступление закончилось, и я пошел к бару. Незнакомцы хлопали меня по спине. Молодая привлекательная женщина, стоявшая у стойки, посмотрела на меня взглядом, который говорил: «Я знаю, кто ты, и ты мне нравишься!»
– Купить вам выпить? – просто спросил я. Звучало банально, зато искренне.
– Да. Я буду то же, что и вы.
Мы взяли напитки и пошли к одной из черных виниловых банкеток. Я представился.
– Я знаю, кто вы, – кокетливо улыбнулась она. Ее звали Пэм; она была высокой, светловолосой и выглядела как русская стюардесса. Через несколько минут, выпив водку и не пытаясь больше разговаривать, перекрикивая Satanicide, мы стали целоваться.
– Хочешь, пойдем ко мне? – спросила она. – Я живу недалеко.
– Конечно!
Мы вышли через заднюю дверь как раз в тот момент, когда группа на сцене начала играть металлическую версию «Total Eclipse of the Heart».
Квартира Пэм находилась в двух кварталах от клуба, на четвертом этаже старого многоквартирного дома на Салливан-стрит, и это было самое миниатюрное жилище, в котором мне доводилось бывать. Маленькая комнатка с кроватью и креслом, ободранная ванная и крошечная кухня, больше похожая на шкаф с плитой.
Пэм закрыла входную дверь, и мы без всяких предисловий избавились от одежды и стали заниматься сексом на ее узкой кровати. Потом она открыла окно, закурила и сказала:
– Я рада, что мы снова встретились.
Снова?! Мне казалось, что мы только познакомились!
Я внимательно всмотрелся в ее лицо и вспомнил: в конце 90-х, когда провалился мой альбом Animal Rights, мы пару раз встречались и переспали по пьяни. Мне было стыдно оттого, что я не узнал Пэм. Правда, этим вечером я познакомился с блондинкой, а в то время она была брюнеткой.
А еще я тогда беспробудно пил. Впрочем, и сейчас тоже.
Громкий писк дверного звонка не дал мне произнести слова оправдания. Пэм не пошевелилась. Через пять секунд он снова запищал. И опять. Пэм, казалось, не слышала.
– Ты не будешь открывать? – осторожно осведомился я.
– Это мой бывший, – скривила она губы и ткнула окурок в пепельницу. – Он чокнутый.
Звонки продолжались, а потом раздался грохот: в дверь ударили кулаком.
Пока я играл соло, они осыпали меня блестками, а потом держали у моего рта бутылку «Jack Daniel’s», чтобы я мог пить и играть одновременно.
– Пэм! – рычал ее бывший, молотя по металлической двери. – Открой гребаную дверь!
Мы лежали без движения и без слов. Квартира была настолько мала, что кровать стояла всего в метре от входной двери. Стук и крики продолжались:
– Пэм! Открой эту чертову дверь!
– Ш-ш-ш-ш, – шепнула мне Пэм, как будто я нуждался в напоминании о том, что нужно молчать.
Потом крик сменился плачем.
– Пэм, – стонал «бывший», – ну же, впусти меня!
Еще через несколько минут он сдался. Мы слышали, как он уходит, каблуки ботинок застучали по ступенькам лестницы.
– Почему он пришел, если вы расстались? – спросил я.
– На самом деле, – ответила Пэм, – он не бывший. Он все еще мой бойфренд. Он полицейский.
«О, бойфренд-полицейский! – ужаснулся я. – Он, наверное, сейчас выжидает за углом с пистолетом в руке! И легко убьет того, кто по пьяни переспал с его девушкой!»
– Надо позвонить ему, – сказала Пэм. Она включила свет, и я увидел: повсюду на постели была кровь – на простынях, на одеяле. И на мне тоже.
– Что это?! Ты в порядке?! – испугался я.
Она посмотрела на простыни.
– А, это… Иногда, когда я занимаюсь сексом, у меня во влагалище лопаются кисты. А может, месячные начинаются, – сказала она обескураживающе спокойно.
Крови было больше, чем мне когда-либо в жизни приходилось видеть. Это было ужасно. И в то же время меня стало распирать от гордости. Когда-то я был трезвенником и изучал Библию, а теперь, пьяный и перемазанный в крови, лежал в крохотной квартирке в постели с молодой женщиной, а на улице озлобленный коп поджидал меня, чтобы пристрелить. Мне показалось, что в кресле у кровати сидит призрак Чарльза Буковски[141] и шепчет мне: «Молодец!»
Пэм позвонила своему бойфренду.
– Привет, я не дома, – сказала она. – Ладно, милый. Иду… Нет, не приходи сюда.
И повесила трубку.
Я хотел заметить, что сказать «я не дома», а потом «не приходи сюда» – было нелогично. Но решил, что это не мое дело.
Пэм села в кресло и безмятежно стала глядеть на меня.
– Наверное, мне пора идти, – сказал я, выбираясь из кровати и натягивая одежду на измазанное в крови тело.
– Выходи спокойно, – проинструктировала она. – Если увидишь его, не обращай внимания.
Она пожала мне руку, словно мы прощались после деловой встречи за обедом с холодным чаем и салатом.
– Рада была еще раз встретиться, Моби.
– Я тоже был рад.
Я спустился по лестнице, освещенной флуоресцентными лампами, и вышел на Салливан-стрит. Посмотрел по сторонам: никакие злые копы меня не поджидали.
Стояла ночь. Я посмотрел на часы: они показывали 2.30. С вечера я уже здорово напился, исполнил на сцене кавер-версию песни Led Zeppelin, имел кровавый секс, но мне все было мало. Я купил в какой-то ночной забегаловке пива и решительно зашагал к «Lit» на Второй авеню.
Когда-то я был трезвенником и изучал Библию, а теперь, пьяный и перемазанный в крови, лежал в крохотной квартирке в постели с молодой женщиной, а на улице озлобленный коп поджидал меня, чтобы пристрелить.
«Lit» был одним из последних рок-клубов в Ист-Виллидж. Удивительно, что его еще не закрыли, потому что он работал скорее как супермаркет наркотика, чем как заведение, предназначенное для отдыха любителей крутой музыки. Единственным, кто там не торговал, был владелец клуба. В этом я был с ним солидарен.
Я достиг клуба, вошел в бар на нижнем этаже и заказал два шота текилы. Быстро выпил их и стал слушать хипстерскую группу, игравшую кавер-версии песен Pixies. Потом заметил в одной из кабинок своего приятеля Фэнси. Мы с ним были собутыльниками-дегенератами все последние десять лет. Но с тех пор, как настали времена успеха Play, потеряли друг друга из виду. Я заказал еще две текилы и пошел к Фэнси и его друзьям. Мы пили, и я рассказывал историю своих сегодняшних похождений: про миниатюрную квартирку, кисты во влагалище и бешеного копа. Но умолчал о том, что все еще перемазан в засохшей крови.
Я взял себе еще текилы и, едва стоя на ногах, стал танцевать под каверы Pixies. А в четыре часа утра заметил, как три человека подошли к незаметной, почти потайной, черной двери в дальнем конце зала и исчезли за ней. «Неужели в «Lit» есть VIP-зона, которую от меня скрывали?! – с пьяным возмущением подумал я. – Или это суперэксклюзивная дегенеративная комната для суперэксклюзивных дегенератов?» Я считал себя в «Lit» и VIP-персоной, и суперэксклюзивным дегенератом. Поэтому, шатаясь, пробрался сквозь зал, полный танцующих наркозависимых хипстеров, и вошел в потайную черную дверь.
Я оказался в маленькой тихой комнате, в которой три человека сгорбились над столом.
– Эй! – рявкнул на меня один из них. – Вам сюда нельзя!
Я едва стоял на ногах. Но с обидой невнятно рявкнул:
– Вы что, не знаете, кто я такой?
И замер. Я никогда прежде такого не говорил. И даже сквозь пьяный туман осознал, что перешел черту. Вопрос «Вы что, не знаете, кто я такой?» был боевым кличем неудачников. Я знал, что в тот момент, когда человек произносит эти слова, слава и удача его покидают.
Однажды я выходил из ночного клуба, в котором шла вечеринка Уайклифа Джина[142], и вокалист из успешной в 80-е годы группы «новой волны» пытался попасть на нее. Его лицо исказилось яростью оттого, что ему не позволяли войти. И он закричал в лицо невозмутимому охраннику у дверей: «Вы не знаете, кто я такой?!» Я тогда печально покачал головой и поздравил себя с тем, что пока остаюсь не потерявшей популярности знаменитостью.
И вот сейчас я сказал те же самые глупые слова.
Трое у стола в замешательстве посмотрели на меня.
– Нам все равно, – сказал один из них. – Это офис. Мы считаем чеки кредитных карт.
Дариен, Коннектикут
(1979)
Работая на участках соседей, я накопил 70 долларов и купил подержанную электрогитару и старый усилитель «Fender» по объявлению на обороте «Стамфордского адвоката».
К тому времени я уже год как брал уроки игры на гитаре у Криса Рисолы. Был конец 70-х, расцвет золотой эпохи гитарных виртуозов, и мой учитель хотел, чтобы я стал вторым Стивом Хау[143] или Джими Хендриксом. У Криса были длинные черные вьющиеся волосы, и он давал уроки в своей комнате – в доме, который принадлежал его матери и стоял по соседству с пожарной частью Дариена. Он был отличным музыкальным педагогом, а еще у него была сестра – самая красивая девушка, какую я только видел. Иногда она улыбалась мне, когда я встречал ее после занятий с Крисом.
Я очень хотел научиться хорошо играть. Поэтому каждый день практиковался на купленной гитаре дома: играл гаммы, старался делать это как можно быстрее и даже пытался выучить «Eruption» рок-группы Van Halen. Но у меня было два «грязных» секрета, которыми я не мог поделиться с учителем. Во-первых, мне не нравилась сложная гитарная музыка, которую он любил. Я знал, что гитарные соло Эдди Ван Халена[144] впечатляют техникой исполнения; их было трудно играть, но они оставляли меня равнодушным. Вторым секретом была моя любовь к «новой волне» и панк-року. Я пытался полюбить сложную музыку, которую любил Крис, но, когда я слушал по радио Гари Ньюмана и Clash, они впечатлили меня намного больше, чем Эдди Ван Хален и Ларри Карлтон[145].
В конце одного из уроков я прощупал почву, спросив у Криса, что он думает о Talking Heads.
– Видел их в «Saturday Night Live»? – спросил он с досадой. – Соло у того странного парня, их лидера, – всего одна долбаная нота!
Так что я учил гаммы, версии джазовых стандартов и кантат Баха для гитары и соло Дэвида Гилмора[146]. Но мне хотелось сидеть в своей комнате и играть «новую волну» и панк-рок.
У меня появился новый друг – мой ровесник и сосед по улице Пол. Он вырос в Англии и вел себя, словно молодой Эррол Флинн[147]. Однажды Пол сказал, что у его старшего брата Саймона есть пластинка Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols.
Саймона я боялся: он был высоким и обычно тусовался со здоровенными приятелями, которые выглядели так, словно могли без усилий раздавить меня одним мизинцем. Но я тут же набрался храбрости и спросил, не может ли Пол попросить у брата альбом Never mind the Bollocks для меня, на несколько дней.
Винил в те времена считался ценностью. Я никогда не слышал, чтобы кто-то одалживал другому пластинку. Но отчаянно хотел послушать панк-рок, воспроизводимый маминой стереосистемой, а не звучавший по радио.
Пол ушел в комнату Саймона и через полминуты вернулся с Never Mind the Bollocks.
– Вот, держи.
Он просто отдал мне пластинку, как будто одолжить кому-то панк-рок-альбом было совершенно обычным делом!
– Спасибо! – дрожащим голосом сказал я, бережно прижимая к груди яркий розово-зелено-желтый конверт, словно это был сияющий тотем.
Саймона я боялся: он был высоким и обычно тусовался со здоровенными приятелями, которые выглядели так, словно могли без усилий раздавить меня одним мизинцем.
Дома я поставил пластинку на мамину вертушку и опустил иглу на «Holidays in the Sun». Песня была злой и уверенной. И быстрой. Я не мог поверить, что слушаю ее на той же стереосистеме, на которой мама слушала Дэйва Брубека[148]. Казалось, что я смотрю порнографию в церкви. И мне это нравилось.
Я прослушал весь альбом The Sex Pistols от начала до конца. Потом прослушал снова. После этого подключил свою новую гитару стоимостью 30 долларов к усилителю стоимостью 40 долларов и весь следующий час учился играть «God Save the Queen», стараясь изо всех сил.
Я никогда не задумывался, что буду делать с обретенным умением играть на гитаре. Но теперь знал: мне нужно было создавать свою музыку в рок-группе. И не в какой-нибудь, а в той, которую я соберу сам.
* * *
Оказалось, что в нашей семье я был не единственным, кто хотел выступать на сцене! Мама познакомилась с музыкантами из Коннектикута. Они создали группу под названием Shakedown Street и пригласили ее к себе играть на клавишных. Она согласилась и сказала им, что у нас в гостиной можно репетировать. Трое музыкантов – Рон, Тед и Шон – появились ближе к вечеру субботы с барабанами, бас-гитарой и басовым усилителем.
– Моби! – обратилась ко мне мама. – У Шона нет гитары и усилителя. Можно позаимствовать твои?
Я посмотрел на Шона, на его грязные вельветовые штаны и полинявшую футболку хиппи. Он хотел взять мою гитару с усилителем и играть на ней старый кантри-рок. Я не знал, друг он маме или они встречаются, но хотел отказать. Четко и громко сказать «нет». «Нет, ты не можешь взять мои усилитель и гитару, самые ценные для меня вещи в этом мире, и осквернить их своими сальными, провонявшими травкой пальцами хиппи!»
Я хотел громко сказать «нет» столько раз, сколько мог.
Я не мог заниматься, потому что вонючий хиппи осквернял отвратительной игрой две любви моей жизни – мою гитару и мой усилитель.
Но я уже считал себя рок-музыкантом, а разве рок-музыканты не должны быть крутыми и расслабленными? И щедрыми? В тот момент во мне не было ничего крутого, расслабленного или щедрого. Но я сказал Шону и маме «да». И добавил кротко:
– Только будьте с ними аккуратнее, ладно?
На следующий день у меня был тест по математике, поэтому я пошел к себе в комнату готовиться. Сел за свой фанерный стол, открыл учебник и услышал: мамина группа начала репетировать. Они играли в гостиной, прямо под моей спальней. Исполняли что-то похожее на музыку Grateful Dead, но неумело и слишком громко.
Мама брала уроки фортепиано с 5 или 6 лет и играла мастерски. У нас в гостиной стояло старенькое пианино, которое подарила ей бабушка. Я любил слушать, как вечерами она нежно, прочувствованно исполняет музыку Баха. Но сейчас звучание пианино тонуло в грохоте барабанов Рона, бас-гитары Теда и моей прекрасной гитары, подключенной грязным хиппи Шоном к моему чудесному усилителю.
Это была не музыка, а бардак. Я запаниковал. Под такую какафонию не представлялось никакой возможности подготовиться к тесту по математике и сделать домашние задания. После первой песни я спустился вниз. Каким-то образом всего за несколько минут, что прошли с начала репетиции, вся гостиная заполнилась дымом от сигарет и марихуаны.
– Мама, а долго вы будете репетировать? – спросил я, паникуя, но пытаясь казаться спокойным.
– Всю ночь, парень! – захохотал Шон. Мама осуждающе посмотрел на него и сказала:
– Еще немного, Мобс.
Я поднялся к себе и сел за стол. И тут они начали играть вторую песню. Она была еще громче, чем первая. Аккорды Шона звучали неуместно звонко и резко, а он, глухой бездарь, этого не слышал. Я не мог заниматься, потому что вонючий хиппи осквернял отвратительной игрой две любви моей жизни – мою гитару и мой усилитель. Причем исполнял он ту самую старую хиппи-музыку, которую я ненавидел. Вплоть до этого момента я считал, что Talking Heads и Sex Pistols смогут примириться во мне с теми песнями, что любили мамины друзья. Но сейчас мне захотелось побрить голову и сделать на лбу татуировку «Я ПАНК-РОКЕР, ИДИ НА ХЕР, ШОН!».
Эта группа подражателей Джерри Гарсиа[149] в моей гостиной олицетворяла всех долбаных хиппи, с которыми когда-либо встречалась мама, всех членов мотоциклетных банд, которых я всегда боялся, и всех длинноволосых парней в школе, из-за которых я ощущал себя более слабым, чем был на самом деле. Они были моим скверным прошлым, и я хотел их уничтожить.
Громкий, яростный стук в дверь нашего дома прервал репетицию. Я подбежал к лестнице и посмотрел вниз.
Один из наших соседей, Билл Сэнфорд, стоял на пороге – бледный, пьяный и с пистолетом в руке. Он кричал:
– Гребаные хиппи, какого хрена вы тут делаете?! У меня стекла в доме звенят от вашего грохота! Сегодня же суббота, выходной, мать вашу!
Мои паника и ярость, по-видимому, передались нашему пожилому мирному соседу. Билл Сэнфорд, который каждый вечер обычно болтался у себя на заднем дворе в старых мадрасских шортах и потихоньку пил джин с тоником, превратился в монстра из фильма «Запретная планета»!
– Извини, Билл, – сказала мама. И добавила, пытаясь успокоить его: – Мы заканчиваем.
– Я звоню в полицию! – заявил он, пьяно размахивая пистолетом.
Шон шагнул вперед.
– Чувак, просто расслабься, ладно?
Билл Сэнфорд был столь пьян и столь зол, что стал издавать звуки, напоминающие что-то среднее между криками орла и лаем таксы. Так и не сумев ничего сказать, он рявкнул на Шона и маму, развернулся и, яростно топая, пошел прочь.
Я вернулся в свою комнату и открыл учебник математики. Мне не понравилось, что пьяный сосед пришел к нам, размахивая пистолетом. Но теперь, по крайней мере, было тихо.
Север штата Нью-Йорк
(2005)
Я находился на севере штата Нью-Йорк, в своем загородном поместье, и пытался медитировать.
Был холодный январский день, пятница. К вечеру я ожидал прибытия 20 или 30 гостей. Они приедут, думалось мне, мы приготовим ужин, поиграем в какие-нибудь игры, начнем пить, потанцуем на дискотеке, залезем в SPA-салон с джакузи часа в три ночи, а потом, скорей всего, в моей постели появится кто-то, с кем я раньше не был знаком.
В 2002 году я увидел на обороте журнала «The New York Times» рекламное объявление. Оно было простым, но убедительным: «12 000 кв. фут. дом с двумя гостевыми коттеджами, 60 акров земли, в 70 минутах езды от Манхэттена. $1,250,000». Я купил все это. Дом был в ужасном состоянии, но спустя 18 месяцев (и миллион с лишним долларов, потраченные на ремонт) у меня появился собственный «оздоровительный комплекс» площадью 60 акров, созданный специально для многолюдных декадентских вечеринок.
Самым большим строением и главным зданием в поместье было пятиэтажное шале – десять спален, дискотека, SPA-салон с джакузи на восемь человек, лифт… И никаких соседей на много миль вокруг, только сотни акров заповедных охраняемых лесов. Отсутствие соседей было очень важно, так как в помещении для дискотеки стояла внушительная система усилителей и мощных колонок. Я все еще помнил беснование Билла Сэнфорда 25 лет назад на пороге нашего с мамой дома в Дариене.
На моих вечеринках происходило много всего, что связано с употреблением запрещенных препаратов и чего не терпела полиция. Поэтому в начале подъездной дороги длиной в полмили я установил металлические ворота. Для того чтобы визиты представителей органов правопорядка не были для меня неожиданностью.
Это поместье я купил не только для того, чтобы предаваться в нем разврату. Мне казалось, что моей душе присуща глубина и тяга к Божественному. И полагал, что уединение в лесной тиши будет способствовать моему духовному развитию, а медитация ускорит движение вперед и вверх. Поэтому я читал все больше и больше статей о пользе сосредоточения и созерцания в воскресном «Таймс».
Когда мне было шесть лет, мама пыталась научить меня медитировать. Но безуспешно. В поместье же я собирался заняться этой достойной и полезной практикой по своей воле. Меня не покидала уверенность в том, что стоит начать практиковать повторение мантры «Ом», и очень скоро я стану просветленным. А значит, божественные тайны Вселенной откроются мне сами собой.
Я сидел в винтажном кресле Eames в спальне и смотрел на длинный балкон, засыпанный снегом. Дом стоял в самой высокой точке округа Путнам – из окна во всю стену открывался вид на 50 миль вокруг: все белое, чистое, красивое. Если где-то когда-то и существовало идеальное место для медитации, то оно было именно здесь. Я закрыл глаза и начал размеренно произносить мантру «Ом».
Через 30 секунд медитации меня одолело беспокойство – по поводу того, что моя помощница не заказала на выходные достаточно спиртного. Обычно Фабьен занималась организацией вечеринок, которые устраивались после концертов. Но теперь, когда я устроил небольшой перерыв в гастролях, ее главной обязанностью стал заказ лимузинов – на них я ездил на вечеринки в Нью-Йорке – и отслеживание того, чтобы в моих домах было достаточно алкоголя. Я еще несколько раз повторил «Ом», а потом снова подумал с неожиданной силой: «Хватит ли нам водки?! Принесет ли кто-нибудь экстази?!»
Я решил, что медитация пойдет лучше, если сначала удостовериться, что гостям хватит горячительных напитков. Спустившись вниз, я вошел в винный погреб. Прежний владелец поместья задумывал его как кладовую для продуктов. Но для меня постоянное наличие алкоголя в доме было важнее обеспечения бесперебойного питания. Поэтому я разместил свои спагетти, овсянку и изюм в кухне, в шкафах над раковиной. А в погребе устроил склад алкогольной продукции. Сейчас у меня имелось восемь ящиков «Столичной» водки, десять ящиков красного вина, десять ящиков белого вина, десять ящиков шампанского «Вдова Клико», шестнадцать ящиков пива, восемь ящиков содовой и два ящика тоника.
Мне казалось, что моей душе присуща глубина и тяга к Божественному.
«Такого количества алкоголя хватит, чтобы убить армию, – подумал я, – все в порядке!» Теперь можно было спокойно медитировать. Я вернулся наверх и сел в кресло.
После того, как с моих губ несколько раз слетело слово «Ом», в голову снова пришла неожиданно сильная мысль: «Горячая вода в ванне! Достаточно ли она горяча?!» Я спустился вниз и заглянул в SPA-салон, выложенный белой плиткой и отделанный кедровыми панелями. Светодиодный индикатор нагрева воды в ванне показывал 104 градуса по Фаренгейту. Теперь я был уверен, что в SPA мои гости будут чувствовать себя комфортно.
Я хотел было снова начать медитацию, но понял, что сначала нужно проверить электронную почту: убедиться, что приедут все гости. Я поставил ноутбук на обеденный стол, купленный у разорившейся фирмы. Его резная столешница длиной в 22 фута была сделана из цельного куска розового дерева. Фирма потратила на покупку этого произведения искусства 75 тысяч долларов, а я смог купить его для своего нового дома всего за 10 тысяч!
Я получил множество посланий. Люди писали, что они выезжают, везут с собой водку, наркотики, еду и друзей.
Ладно, теперь, когда для вечеринки все было готово – алкоголь, наркотики, друзья, горячая вода в джакузи, – я мог вернуться к медитации.
Закрыв ноутбук, я вошел в спальню и огляделся. Помещение площадью 1500 квадратных футов было больше, чем дом, в котором мы с мамой жили, когда я учился в средней школе. А на территории 60-акрового комплекса мог уместиться весь район Дариена, в котором я рос. Несколько недель назад мы с друзьями гуляли по лесной части поместья, и я сказал без всякой иронии, что никогда раньше не видел этих чащоб.
У меня были деньги, статус и огромный участок нетронутой земли. Но теперь вся правда заключалась в том, что если я не был пьян или не занимался сексом с незнакомыми партнершами, то не был счастлив. И хотя считал, что мне присуща духовность, никогда не делал ничего духовного. Я никогда никому не помогал и не ставил нужды других людей выше собственных. Какая духовность?! Известность и деньги сделали меня еще одной титулованной самовлюбленной знаменитостью.
Я снова сел в кресло и закрыл глаза. Если мне удастся научиться медитировать, это будет доказательством того, что со мной не все кончено. И, может быть, я найду счастье, которое от меня ускользает.
Я произнес «Ом».
Мне захотелось съесть сэндвич. Я не мог усидеть на месте. Может быть, стоит сходить прогуляться перед просветлением, а потом поесть? И тогда, наконец, я буду готов к медитации?
Я надел ботинки, перчатки, толстое пальто, шляпу и шарф и вышел на улицу. В северной части штата Нью-Йорк зимой тихо (особенно когда у вас нет соседей!) и очень холодно. Сегодня вечером мы с друзьями заполним ледяную тишину грохотом музыки и пьяным ором. В какой-то момент, совершенно обдолбанные, мы выйдем на балкон моего пятиэтажного шале и будем смотреть в темно-синее небо. Мы увидим свое дыхание в ночном воздухе и тысячи звезд высоко над головой. И закричим в бесконечную пустоту. Задует ледяной ветер, хлестнет нас по щекам. Мы поспешим обратно в дом, дрожа от холода и поздравляя себя с тем, что у нас хватило смелости пьяно кричать в черную бездну.
* * *
Я спустился с крыльца и направился в северо-восточную часть своих владений. Бывший хозяин поместья говорил, что там есть ручьи; мне хотелось их увидеть. Прошагав 20 минут по хрустящему снегу, я наткнулся на останки какого-то мертвого животного. Какого – определить было невозможно. Крупная туша лежала на снегу без головы, большая часть шкуры была содрана, застывшие внутренности вывалились на снег.
Это животное стало чьей-то жертвой, но чьей? Охотника? Пумы?..
Я огляделся в панике, но никого не увидел. Лес вокруг стоял недвижимо и молчаливо. Я слышал только свое лихорадочное дыхание. Хотелось скорей уйти отсюда, вернуться в свой уютный дом и затаиться в нем. Глядя на лес из окон спальни, я любовался им. Но сейчас он пугал меня: казался глухим, мрачным, таящим угрозу.
Я поспешил вверх по склону холма, снежная корка ломалась под ногами. Пыталось ли то животное сопротивляться своему убийце или убежать? О чем оно думало, умирая? Какие чувства и образы покидали его, когда оно делало последний вздох?..
Я побежал быстрее и через десять минут вернулся на подъездную дорожку. В конце ее высилось мое пятиэтажное шале. Только теперь тревога и страх покинули меня.
Стоя в ванной под двумя швейцарскими душами, вмонтированными в потолок, я окончательно успокоился. Пугающий лес, в котором с животных сдирали кожу и выворачивали им внутренности, остался за прочными стенами моего жилища. И мне следовало забыть о нем – для своей же пользы. Недаром Ницше говорил: «Если долго глядеть в бездну, то однажды она заглянет в тебя».
Сегодня я наполнюсь водкой и спагетти. Я буду смеяться и кричать в пустое небо. И найду с кем переспать.
А бездна будет терпеливо ждать, как всегда ждала.
Норуолк, Коннектикут
(1980)
За неделю до начала учебного года я сорвал в норуолкском отделении Армии Спасения настоящий джекпот. Мы с мамой покупали одежду, и мне удалось найти практически новую рубашку бренда «Fred Perry». Я не верил своим глазам и даже поскреб пальцем вышитый на рукаве лавровый венок, удостоверяясь, что он настоящий.
У меня было две рубашки поло. Одну, с трафаретным рисунком наградного кубка слева на груди, мне подарили бабушка и дедушка, а другую, с вышивкой изображения лисицы J. С. Penny на рукаве, мама купила мне в «Гудвилле». Хоть я и был начинающим панк-рокером, по-прежнему мечтал о новой стильной рубашке «Izod». А еще – о паре джинсов Levis и настоящих кроссовках Adidas. Можно даже не новых, но хотя бы таких, чтобы не стыдно было надеть их в школу.
– Мам, можно мне эту? – спросил я, держа в руках рубашку «Fred Perry». Мама рылась на полке с поношенными свитерами и уже нашла два по вкусу – они висели у нее на левой руке. Один был коричневый с золотой нитью, а другой – темно-зеленый.
– Сколько она стоит?
Я посмотрел на этикетку.
– Полтора доллара.
Она нахмурилась.
– Дороговато для рубашки. Она тебе так нравится?
– Да, – сказал я, переживая и надеясь. Мне очень хотелось иметь эту рубашку.
– Ладно, давай ее возьмем.
* * *
В конце лета я поехал в Нью-Йорк на поезде вместе с Джимом и Дэйвом. Мы хотели попасть на выступление Talking Heads в Центральном парке. Мне было 14 лет, и я никогда еще не ездил в большой город без мамы или дедушки. Мы пешком дошли от вокзала до катка в Центральном парке и встали в очередь вместе с тысячей поклонников «новой волны» и панк-рока, глазея на удивительно красивых девушек с розовыми волосами и космически крутых юношей в штанах с леопардовым узором.
Я одевался так, чтобы в школе особенно не отличаться от других. Поэтому мне и нравились рубашки поло и «Fred Perry». Я был трусом.
Мы ждали, что на сцену выйдут только четверо участников Talking Heads, но они вывели за собой еще одного басиста, несколько перкуссионистов и афроамериканских бэк-вокалистов. Когда группа исполняла «Life During Wartime», я в экстазе слился с прыгающей и вопящей толпой зрителей. Я стал обращенным – фанатом, адептом «новой волны».
В последний вечер перед началом учебного года Джим позвонил мне и сказал, что собирается остричь волосы и надеть футболку Talking Heads за 5 долларов, которую он купил после концерта. Я хотел убедить его в том, что крутые ребята в школе после этого ему прохода не дадут. Но он не стал слушать.
Перед первым уроком я увидел Джима. Он гордо шел по коридору с коротко остриженными волосами и в черной футболке, на которой сияла ярко-голубая надпись «TALKING HEADS». Мне стало стыдно. Я одевался так, чтобы в школе особенно не отличаться от других. Поэтому мне и нравились рубашки поло и «Fred Perry». Я был трусом.
К обеду Джима уже называли «уродом» и «гомиком», и в раздевалке крутые ребята швыряли его на шкафчики. Я спрашивал себя: «Когда и при каких обстоятельствах ты наберешься храбрости обрезать волосы и надеть в школу черную футболку?» И не находил ответа.
С тех самых пор, как мне удалось впервые сыграть на гитаре «God Save the Queen», я мечтал создать панк-рок-группу. Если бы у меня такое получилось, мы с моими музыкантами могли бы исполнять каверы песен Clash, Sex Pistols и Voidoids. Джим смог обрезать волосы, думал я, а мне по силам основать группу. Я предложил Джиму быть вокалистом. Он пришел в восторг и тут же согласился.
Среди моих знакомых был только один музыкант – ударник по имени Чип. Его семья жила в красивом коттедже у пролива Лонг-Айленд-Саунд и принадлежала к среднему классу. А это означало, что его папа, скорей всего, был членом одного из недорогих загородных клубов. В перерыве между уроками я подсел к Чипу за парту и спросил, есть ли у него барабанная установка. Он ответил, что есть. Тогда я задал более важный вопрос, стараясь выглядеть как можно более спокойным:
– Тебя нравится «новая волна»?
– Типа Talking Heads? – сказал он. – Да, ничего так.
Пока все получалось лучше, чем ожидалось. «Ничего так» звучало обнадеживающе. И я пошел напролом:
– Хочешь собрать группу?
– Конечно, – ответил он так обыденно, словно я попросил у него карандаш.
В обед я встретился в кафетерии с Джимом и возбужденно рассказал ему о том, что у нас есть ударник. У него тоже были новости. Он тихо прошептал:
– У одного парня в старшей школе на блокноте написано «The Clash!».
О, еще один поклонник «новой волны»!
– Ты знаешь, как его зовут? – спросил я.
– Джон.
– Поговори с ним!
На следующий день Джим выяснил пять важных вещей:
1. Джону нравятся Clash и Гари Ньюман, и он действительно любит «новую волну».
2. Он жил в Лондоне с родителями, и у него есть пластинки, купленные в Англии.
3. Ему 16 лет, и у него есть водительские права.
4. Он умеет играть на гитаре, и у него есть гитара и усилитель.
5. Он не прочь попробовать играть в нашей группе.
Джим пригласил Джона, Чипа и меня к себе после школы, чтобы мы все перезнакомились. Джон был на год старше остальных в нашей компании, но среди нас не выделялся ни ростом, ни комплекцией. Мы ели печенье, смотрели телевизор и разговаривали о группах.
С тех самых пор, как мне удалось впервые сыграть на гитаре «God Save the Queen», я мечтал создать панк-рок-группу.
– Тебе нравятся B-52? – спросил у Джона я.
– Тебе нравится Devo? – спросил у Джона Джим.
– Ты слышал Sex Pistols? – спросил у Джона Чип.
Он ответил «да» на все наши вопросы, а потом ошарашил нас своим:
– Вы слушали WNYU?
Мы не знали такую радиостанцию.
– Что это? – спросил я.
– Это радио на волне 89.1, и у них есть передача «Новое шоу после полудня», – стал объяснять он. – Транслируется каждый день с трех до шести, и там играет только «новая волна»! У них даже есть программа с панк-роком под названием «Шоу Нойза». Идет вечером по вторникам.
Мне захотелось помчаться домой, запереться в комнате и прижаться ухом к радиоприемнику. На следующий день с 15.00 до 18.00 я записывал все песни от WNYU на кассеты «Radio Shack», которые украл из лаборатории изучения иностранных языков старшей школы Дариена. За эти три часа мой мир расширился, стал богаче и ярче. Я впервые услышал Damned, Joy Division, Bauhaus, Bad Brains, Misfits и Depeche Mode.
Неделю спустя наступил мой день рождения. Родственники (мама, бабушка, дяди и тети) подарили мне то, что я попросил: первые альбомы групп B-52, Gang of Four и Madness. Так что утром 11 сентября 1980 года я мог считать себя обладателем целой коллекции записей «новой волны»: три новых альбома, два альбома Дэвида Боуи и растущая стопка ворованных получасовых кассет с музыкой от WNYU.
Второй раз наша будущая группа собралась в полном составе снова дома у Джима. После апельсинового сока с печеньем мы стали составлять список ее возможных названий. Посыпались предложения:
– The Banned!
– UXB.
– Dicky Hell and the Redbeats…
– SS and the Daryans! – выдал я. В школе у нас с Джимом и Чипом был один общий враг по имени Стив Смит – высокий блондин, похожий на нациста. Поэтому мне показалось, что назвать группу в его честь будет забавно.
– The Darien Defamation League.
Остановились на UXB. Благодаря каналу PBS мы узнали, что это загадочное сочетание букв значит «неразорвавшаяся бомба». Звучало круто и по-британски. Я начал писать панк-роковые песни, которые мы могли бы играть, и одна из них называлась «Danger! There’s a UXB»[150]. Припев у нее был такой:
- Danger! There’s a UXB!
- It’s underground where no one can see[151].
Втайне я гордился этими строчками.
Родители Джима разрешили нам репетировать в подвале их дома, и 23 сентября 1980 года после школы состоялась первая репетиция нашей группы. Оборудования у нас было немного: ударная установка Чипа, мои гитара и усилитель, гитара и усилитель Джона и микрофон AV Club, который Джим где-то украл. Когда все оборудование было подключено, мы смущенно посмотрели друг на друга: никто из нас до сих пор не играл в коллективе.
Мне хотелось сыграть что-то из моих собственных песен, но не хватало храбрости вынести на суд друзей то, что я написал.
– Ну, давайте что-нибудь из Sex Pistols? – предложил Чип. Он четыре раза ударил палочками по тарелке, и мы начали «God Save the Queen».
Звучание гитар заглушалось боем барабанов. Вокала я не слышал. Но было замечательно! Кошмарно. И замечательно. Мы закончили песню, горя от застенчивого восторга, не смея смотреть друг другу в глаза.
– Сыграем еще раз? – предложил Джим. И мы сыграли. И еще раз.
В тот день мы выучили три песни Sex Pistols: «God Save the Queen», «I’m So Bored with the USA», «Anarchy in the UK». И еще одну – «Love Comes in Spurts» группы Voidoids. Мне хотелось сыграть что-то из моих собственных песен, но не хватало храбрости вынести на суд друзей то, что я написал.
Никто из нас не занимался спортом, ни у кого не было девушки, и мы репетировали в доме Джима так часто, как позволяла его мама. Через месяц состоялось официальное собрание группы. За печеньем «Nutter Butter» и шоколадным молоком мы решили, что пришло время для первого концерта. Дом Джона стоял рядом с полем площадью в один акр, на котором иногда летом паслись лошади. Мы выяснили, что в октябре лошадей там нет. И решили, что впервые сыграем на этом поле в ближайший выходной.
В полдень воскресенья мы погрузили оборудование в фургон мамы Джима и поехали на место выступления. До дома Джона было всего пять миль. Когда мы проезжали по центральной площади города, я посмотрел в окно, воображая себя старым, пресыщенным музыкантом, который так много гастролировал, что воспоминание о том, как он вез два усилителя, стереосистему и ворованный микрофон в потрепанном «Универсале», давно не волновало его.
Оказавшись на пустом поле, мы разгрузились и протянули удлинитель из гаража Джона к аппаратуре. Расставили барабаны и усилители. Когда все было готово, я показал друзьям футболку, которую сделал для первого концерта. Через две недели существования группы мы сменили ее название с UXB на Vatican Commandos[152]: нам показалось, что это смешно. Накануне вечером я взял рубашку «Fred Perry» и красным маркером написал на ней сзади «VATICAN COMMANDOS». Получилось кривовато, поэтому Джим, Чип и Джон не очень-то впечатлились.
Мы исполнили все песни, которые разучили. А там, где должна была стоять публика, сидел Спарки, маленький терьер Джона.
Для первого выступления нам нужна была аудитория, так что мы пригласили двадцать ребят, которых знали по школе. К трем часам никто не пришел, и мы сыграли «Frisbee». К четырем часам никто не пришел, и солнце начало клониться к закату. Я предложил:
– Может, просто поиграем?
Мы начали с «God Save the Queen», и у меня волосы на затылке встали дыбом от восторга. Я играл на своем первом живом концерте – и это было не ужасно, у нас неплохо получалось! Мы исполнили все песни, которые разучили. А там, где должна была стоять публика, сидел Спарки, маленький терьер Джона.
Наш концерт мы закончили «Космическим Джемом». Это значит, что мы просто молотили по струнам и барабанам, производя как можно больше шума, а Джим вопил в микрофон: «Космический джем!!!»
Спарки этот номер не понравился, и он убежал в дом.
Когда мы грузили инструменты и аппаратуру в фургон, Чип сказал:
– Наш первый концерт был сыгран для одной собаки.
– Которая ушла, не дослушав нас, – добавил Джим.
Но у нас была группа. И мы выступили. Пусть даже на голом осеннем поле, где летом паслись лошади, и для одного зрителя – маленького терьера Спарки.
Лондон, Англия
(2005)
– Каждый день я хочу убить себя.
Эти слова произнес один из руководителей EMI. Его компания недавно купила «Mute», мой европейский лейбл с 1992 года. Мы стояли в туалете рядом и мочились в писсуары. Я впервые услышал, как он что-то говорит. И удивленно взглянул на него, ожидая продолжения.
Представительный господин с серебристыми волосами, он был пьян. Его дорогой костюм пропитался под мышками потом. Я тоже уже здорово напился в тот вечер. Он печально покачал головой, застегнул ширинку и сказал:
– Ладно, пошли назад.
Руководители EMI организовали частную вечеринку в честь моего альбома Hotel[153] в богатом частном клубе в Лондоне. Они были довольны мной и моим новым детищем. Выпустив сингл «Lift Me Up», они попали в точку, и альбом стал лидером продаж в Европе.
Но не в Америке. В США Hotel провалился еще до выпуска. «New York Times» опубликовал ругательную рецензию на альбом, которая упрямо висела на главной странице целую неделю. Это была худшая рецензия из всех, что я когда-либо читал. Тот, кто написал статью, ненавидел меня и мой альбом настолько сильно, что назвал его «концом музыки».
Я был в растерянности. Одно дело, когда на тебя яростно нападает маленький музыкальный журнальчик, но если это делает «New York Times» – стоит задуматься.
До начала работы над Hotel я записывал и сводил все свои альбомы в маленькой домашней студии – бывшей спальне. Но потом решил, что пора начинать работать, как настоящие рок-звезды, которые создают записи своих песен в специально созданных для этого огромных студиях с профессиональными инженерами.
В результате я потратил десятки тысяч долларов в разных топовых студиях Нью-Йорка, записывая, перезаписывая и сводя Hotel.
После того как альбом был сведен, я внимательно прослушал его и понял: моя музыка обрела дорогой лоск профессионализма. Единственной проблемой было то, что Hotel не отзывался во мне сильными эмоциями, как все мои предыдущие записи. По-настоящему мне нравилась из него только одна песня – «Slipping Away»[154], печальная и беззащитная.
Одно дело, когда на тебя яростно нападает маленький музыкальный журнальчик, но если это делает «New York Times» – стоит задуматься.
У меня был запланирован гастрольный тур в поддержку Hotel длиной в год. Он начинался в Европе, продолжался в Северной Америке, Азии, Южной Америке и завершался в исходной точке. Билеты на европейские концерты были уже распроданы, но с американскими возникли сложности. В США мне предоставили для выступлений небольшие залы. Они были намного меньше тех, в которых я играл во время предыдущих гастролей. Но даже на эти «урезанные» концерты билеты продавались не слишком хорошо. Все говорило о том, что в Штатах моя слава не просто меркнет – она увядает.
Я был в ужасе. Моя слава должна была оставаться при мне! Оставаться на том же уровне, что и в 2000 году. Чтобы, выходя из дома на Мотт-стрит, я видел, как прохожие улыбаются мне и указывают на меня друг другу пальцами. Чтобы все смотрели на меня, когда я прихожу на вечеринку.
Мне для счастья нужно было совсем немного – вечная любовь и поддержка.
Все изменилось. Когда-то мне нравилось приходить в магазин журналов на углу Принс-стрит и Салливан-стрит и искать упоминания о себе на глянцевых цветных страницах гламурных изданий. Я почти всегда находил там свое имя. Но теперь оно пропало с этих страниц. После ежедневного чтения новостей и статей, которые мне выдавал Google по запросу «Моби», я впадал в ярость. Меня либо игнорировали, либо очерняли. Журналисты и составители программ на радио и TV, все эти долбаные хипстеры, не понимали, что стоит на кону! Они не понимали, что моя популярность падала, а значит, тянула меня в бездну. Им почти ничего не стоило написать обо мне что-то хорошее, иногда ставить на своих радиостанциях мою музыку, приглашать меня на вечеринки…
Мне для счастья нужно было совсем немного – их вечная любовь и поддержка.
* * *
Я вышел из туалета, где мочился вместе с депрессивным боссом EMI, и поднялся по лестнице, чтобы присоединиться к общему веселью. Вечеринка в частном клубе Лондона была в разгаре. Ко мне подошел другой босс моего лейбла, Дэвид Маннс, и хлопнул по плечу. Я настороженно относился к нему. Он был похож на красивого злого пирата и обычно улыбался, но было ясно: чуть что пойдет не так – и он превратится в твоего злейшего врага. Пока я приносил EMI деньги, он был добр ко мне.
– Отличная первая неделя, Моби! – весело оскалясь, заявил Маннс.
– Да, но не в Америке, – пожал плечами я.
– А, на хрен их! – отмахнулся он. И ушел.
Я собирался остаться на вечеринке, выпить еще и найти кого-то из женщин, с кем можно было пойти домой. Но мрачные мысли не оставляли меня. Неужели рецензия в «New York Times» была верной? Я выпустил плохой альбом? Мне нужно было послушать Hotel еще раз и понять, прав ли тот борзописец, что так плохо отозвался о моей работе. Я тайком вышел через одну из боковых дверей, сел в ожидавший меня лимузин и через некоторое время вошел в 5-звездочный отель «Landmark London». Там я занимал президентский номер.
Впервые я остановился в «Landmark» в 1992 году со своим бывшим лучшим другом Полом[155]. На тот момент я не бывал в гостиницах лучше этой. Наш номер устилали мягкие ковры; ванная комната была отделана розовым мрамором с серыми прожилками. Мы с Полом ходили в гостиничный бассейн и кинотеатр, бегали друг за другом по просторным коридорам, ели веганскую выпечку, купленную в ресторане на втором этаже. Я отправил маме открытку с видом на отель с надписью: «Здесь потрясающе!»
А теперь моя мама была мертва, а с Полом я не общался с 1999 года.
Несколько месяцев назад я поссорился с Дэмиеном, еще одним моим лучшим другом. Он назвал меня эгоистичным алкоголиком – в ответ я обозвал его замкнутым мизантропом. Мы оба были правы, но спор вышел настолько яростным и язвительным, что мы перестали общаться.
– Тебе стоит быть со мной повежливее, – сказал мой старый друг Ли, когда я рассказал ему о ссоре с Дэмиеном. – У тебя из друзей остался только я.
Он говорил чистую правду. Меня окружала компания постоянных собутыльников, но настоящим – и теперь единственным – другом был только он.
Я жгуче возжелал мгновенно выкупить эти горы пластинок, похоронить их в Неваде и перезаписать все песни на дешевой технике в маленькой студии на Мотт-стрит.
Оказавшись в своем шикарном президентском номере, я надел наушники и стал ходить взад и вперед по устланным коврами комнатам, слушая свой новый альбом. Если говорить о записи, сведении и продюсировании, Hotel был безупречен. Но, прослушав три песни, я понял, что многое в плохих отзывах об альбоме были правдой: в нем чего-то не хватало. Я обменял свою потрепанную студию в спальне на дорогие апартаменты, полные лучшего в мире оборудования, а получил в результате сомнительный альбом. В нем было несколько удачных находок, но в целом он мне не нравился.
Я продолжал слушать и все больше утверждался в мысли, что выпуск Hotel был ошибкой. Ошибкой, которая разлетелась по миру миллионами копий. Которую услышат миллионы людей. Я жгуче возжелал мгновенно выкупить эти горы пластинок, похоронить их в Неваде и перезаписать все песни на дешевой технике в маленькой студии на Мотт-стрит.
Мне вдруг понадобилось выпить еще, поговорить с людьми, чтобы удостовериться: я все еще что-то значу и мой мир не рассыпается. Я выбежал из отеля, снова сел в лимузин и вернулся в клуб. Вечеринка все еще продолжалась, и никто не заметил, что виновник торжества ушел, чтобы побыть наедине со своей неудачей.
Диджей играл ремикс песни Робби Уильямса[156], а руководство лейбла и немногие британские знаменитости вели громкие, подогретые наркотиком беседы. Я подошел к бару и заказал водку с содовой.
Рядом оказался депрессивный босс EMI с серебристой прической. Он едва стоял на ногах, держась за винтажные пивные краны. Глаза у него были расфокусированы: он допился почти до полного забытья.
– Видишь это? Видишь это все?! – рявкнул он, обводя мутным взглядом зал, полный шумных пьяных людей. – Какое дерьмо!
Он попытался плюнуть, но плевок не улетел далеко – слюна упала ему на грудь.
Он склонился ко мне и значительно прошептал:
– Но ты делаешь важное дело! Это искусство. Вот что ценно. А не это все!
Несколько долгих секунд мы молча смотрели друг на друга.
– А, на хер! – устало сказал он и ушел, шатаясь.
Я прикончил коктейль и пошел в гущу веселья, высматривая красивого пирата из EMI, который еще раз скажет, как хорошо продается Hotel.
Стамфорд, Коннектикут
(1982)
У меня наконец появилась драм-машина фирмы «Mattel Synsonics». Мама накопила денег и купила мне ее за 75 долларов на Рождество. Трудновато было принять тот факт, что электронный музыкальный инструмент, предназначенный для создания «роботизированных» ритмов, изготовила компания, выпускавшая кукол Барби и игрушечные машинки «Hot Wheels». Но это все же была драм-машина. И, если не считать подержанной камеры Nikon F, которую в прошлом году подарил мне дядя Джозеф, она была лучшим подарком, который я когда-либо получал.
Многие мои музыкальные кумиры, начинавшие как панк-рокеры, к примеру, музыканты New Order или Killing Joke, в последнее время стали использовали синтезаторы и драм-машины, и я жутко хотел последовать их примеру.
Мы с мамой вместе с нашими многочисленными дядями и тетями обычно отмечали наступление Рождества в доме бабушки. Утром все рано вставали и находили под кроватями небольшие подарки в носках. Потом шли – все еще в пижамах и ночных рубашках – завтракать в бабушкину столовую. А после завтрака спешили в гостиную – открывать коробки с большими подарками.
Обычно рождественское утро было шумным и веселым, но, когда мама вручила мне неожиданно маленькую и легкую коробку, обернутую красно-зеленой бумагой, дяди, тети и бабушка замолчали и стали весело смотреть на меня. Я аккуратно освободил коробку от бумаги и… Увидел на крышке слова «драм-машина»! Мои глаза загорелись, я счастливо вскрикнул и обнял маму. Она широко улыбнулась и закурила.
Мне хотелось тут же начать что-то записывать с моей новой драм-машиной, но в Рождество мы попадали домой не раньше десяти часов вечера. Зато на следующее утро я встал с постели очень рано, спустился в подвал и расставил музыкальное оборудование.
Помимо новехонькой драм-машины «Synsonic», у меня были гитара, педаль эффектов, пара наушников, синтезатор «Korg M500 Micro-Preset», который я купил на распродаже за 20 долларов, и микрофон, который я стащил, как когда-то аудиокассеты, из лаборатории иностранных языков старшей школы Дариена. А еще я взял на время из школьного актового зала новый четырехдорожечный кассетный магнитофон. Не раз возникало желание оставить его у себя навсегда, то есть просто украсть, но он был в школе очень нужен – меня бы загрызла совесть.
Многие мои музыкальные кумиры, начинавшие как панк-рокеры, к примеру, музыканты New Order или Killing Joke, в последнее время стали использовали синтезаторы и драм-машины, и я жутко хотел последовать их примеру.
Я вставил в магнитофон кассету и начал изучать инструкцию по использованию драм-машины. Быстро разобрался, как следует подключать к аппарату гитару, синтезатор и микрофон. И через несколько минут превратил подвал в маленькую студию для записи электронной музыки.
Я отошел от оборудования и огляделся.
Когда мне было четыре года, мы вместе с бабушкой и дедушкой в их доме смотрели «Звездный путь» по телевизору. Поначалу я не знал, что знакомлюсь с научной фантастикой, к тому же до этого транслировали высадку американских космонавтов на Луну. Я считал «Звездный путь» такой же хроникой достижений нашей астронавтики, как и телесюжеты об «Аполлон-11». NASA показало, как выглядят космические корабли снаружи, и я думал, что «Звездный путь» показывает, как они выглядят изнутри.
Мне нравились в этом сериале пришельцы и битвы в космосе, но больше всего я любил мистера Спока и его банк научного оборудования: диоды, испускающие свет, осцилляторы, сложные приборы и разноцветные пластмассовые кнопки. Несколько лет спустя, когда я ходил в начальную школу, взрослые иногда спрашивали, кем я хочу стать. Я без колебаний отвечал: «Ученым». В моем представлении ученые походили на мистера Спока. Они работали с важными кнопками в открытом космосе.
Наш подвал не был открытым космосом. В его углах в свете тусклой лампочки под потолком блестели лужи, росла плесень; вдоль стен валялись кривобокие стопки мокрых старых журналов. Но в центре этого сумрачного помещения стояла музыкальная и звукозаписывающая аппаратура и мигала красными и зелеными огоньками. Она была светла, чиста и прекрасна. Она делала плесень и грязь вокруг незаметной. Даже если бы мне нельзя было трогать драм-машину и кассетный магнитофон, я все равно был бы счастлив.
Я вздохнул и нажал одну из серых пластиковых клавиш драм-машины. Из динамиков раздался звук, похожий на удар деревянной лопаточки по коробке хлопьев. Не очень приятный, да. Но это был необычный, новый звук и – электронный!
На гитаре я играл уже несколько лет, но чем дальше, тем больше мне не нравилось то, что нельзя заставить ее звучать не как гитара. Гитары – это здорово. Как и барабаны, и синтезаторы. Но мне нужны были инструменты, которые могут издавать звуки, не существующие в реальном мире.
Я запрограммировал на драм-машине простой барабанный рисунок и нажал на четырехдорожечном магнитофоне «Запись». Через две минуты перемотал кассету и проиграл ее. Сработало – я записал игру ударника! У меня закололо кожу на голове: я делал электронную музыку!
До этого момента я понятия не имел, как Kraftwerk, New Order, Depeche Mode или Heaven 17 достигают в своих композициях сложной полифонии и совершенно нереального звучания. А теперь я шел за ними вслед.
Мой аналоговый синтезатор «Korg» мог играть только одну ноту за раз, поэтому и стоил дешево. Я нажал «запись» и сыграл простую синтезированную басовую линию поверх простого барабанного паттерна, который только что записал. И чудесным образом все получилось!
Я подключил гитару к педали эффектов, аналоговой педали, которую купил за 25 долларов, подаренные мне бабушкой и дедушкой в день рождения в сентябре. И наложил партию гитары в стиле New Order поверх искусственных барабанов от «Mattel» и синтезированного баса «Korg».
Я был один, но всего за несколько минут создал композицию, в которой звучали три инструмента!
Мне нужны были инструменты, которые могут издавать звуки, не существующие в реальном мире.
Пришло время что-нибудь спеть. Микрофон был подключен к четвертому входу, но звук почему-то не проходил. Я начал было паниковать, но, пролистав инструкцию, разобрался, в чем дело: для записи микрофона его следовало подключить к микрофонному входу.
Я записал поверх только что записанного трека свой голос. Просто экспромтом пропел первые пришедшие на ум грустные слова о потерянной любви, изо всех сил стараясь звучать похоже на Иэна Кертиса или Иэна МакКаллоха.
Потом решил проиграть все четыре дорожки аудио. И заметил, что на магнитофоне были три резиновые ручки, меняющие звучание. Я понимал, что означают написанные на них слова «bass» и «treble», но не знал, что делает регулятор «pan». Повернув его, я заметил, что звук ушел в левый наушник. При повороте регулятора в другую сторону звук сместился к правому уху. Теперь все было ясно.
Я менял частоту звучания записи и слушал то, что получилось. Получалось сухо, плоско и тихо, но интересно. Ведь я сам, один, смог создать звучание целого музыкального коллектива с вокалом! Мне нравилось играть в группе, но друзья-музыканты не всегда были рядом. И как бы хороши ни были другие исполнители, они всегда оставались людьми: уставали, ошибались. А оборудование, с которым я теперь имел дело, могло их заменить. В студии у меня была возможность работать над музыкой в любое время. Более того, синтезаторы и драм-машины позволяли создавать звучание, которого никто никогда не слышал. Которое нельзя было получить от музыкальных инструментов: гитар, клавишных, ударных. То есть я мог писать суперсложные и экстраординарные «космические» композиции – под стать тем, которыми восхищался, слушая своих рок-кумиров.
Я перемотал ленту магнитофона, чтобы еще раз прослушать только что созданный трек. И понял, что здорово переволновался и нужно сделать паузу. Присел на стул рядом с магнитофоном и снова оглядел подвал.
Как бы хороши ни были другие исполнители, они всегда оставались людьми: уставали, ошибались. А оборудование, с которым я теперь имел дело, могло их заменить.
За деревянной лестницей, ведущей наверх, гудел старый бойлер. На нем сидел кот Такер и загадочно смотрел на меня. Было слышно, как по трубам течет вода: мама в кухне, наверное, наливала в чайник воду. Почти все в подвале – размокшие картонные коробки, деревянные полки с ветошью, пустые банки из-под краски – источало запах плесени. Но мои инструменты и аппараты пахли новеньким пластиком, теплой электроникой и… научной фантастикой.
Я подмигнул Такеру и нажал клавишу «Воспроизведение».
Санкт-Петербург, Россия
(2005)
В Санкт-Петербурге стояли белые ночи. Поздним вечером я закрыл в номере все окна толстыми шторами и собрался лечь в постель, как вдруг мой телефон зазвонил.
– Моби! Это Джонни Ноксвилл!
Голос на заднем плане добавил:
– И Стив-О!
Джонни и Стив-О были родом из Дариена и тоже, подобно мне, являлись ярыми адептами веганства. Я немного знал их по мероприятиям, посвященным правам животных, на которых мы с ними вспоминали старшую школу Дариена: все трое в ней учились.
Я хотел провести эту ночь тихо, но все равно оделся и спустился в вестибюль гостиницы, где меня уже ждали Джонни и Стив-О. Мы начали пить еще в вестибюле, а затем побывали в нескольких техно-клубах. Я отключился где-то в пять утра, после 15 или 20 стопок водки, но перед этим успел увидеть, как Стив-О танцует на сцене без штанов.
Урвав 30 или 40 минут сна в номере после встречи с бывшими однокашниками, я поехал в аэропорт, откуда вылетел в Москву – выступать на хоккейном стадионе перед 15 тысячами человек. Концерт прошел хорошо, несмотря на то, что мне понадобилось три порции эспрессо, чтобы выйти на сцену.
За кулисами меня встретила группа из пяти человек – очень высоких, очень стильно одетых, возможно, имеющих отношение к организованной преступности и очень русских. Они хотели отвезти меня в лучший московский клуб, и я, проспавший за последние двое суток всего около часа, был рад такой идее. Десятилетиями я боролся с бессонницей и выяснил, что иногда лучший способ с ней справиться – пить водку и кофе, пока алкоголь, кофеин и усталость не свалят тебя с ног.
Мы проехали по городу в черном пуленепробиваемом лимузине «Мерседес». Когда же прибыли на место, клубный промоутер встретил меня у машины и, держа под локоть, проводил в клуб, чтобы я смог познакомиться с удивительной, по его словам, особой. А именно с дочерью Владимира Путина.
Промоутер подвел меня к черному кожаному дивану, на котором сидела красивая и скромная молодая женщина, похожая на светловолосую студентку Принстона. Я сел рядом и пожал ей руку. Ее отец Владимир Путин, президент России, в прошлом служил в КГБ. И, поскольку мне не хотелось оказаться в тюрьме или умереть, я решил вести себя как можно предусмотрительней.
– Моби, я рада познакомиться с вами, – произнесла она по-английски почти без акцента.
Она рассказала, что ей нравится моя музыка, спросила, как мне Россия, а затем вежливо выслушала мой пьяный рассказ о том, как я люблю русскую литературу XIX века, и о том, что считаю Льва Толстого одним из святых покровителей веганства. Она улыбалась и кивала, но я не понимал, слышит ли она меня сквозь громыхающее в клубе техно.
Я пытался как можно громче высказать ей свои поверхностные мысли о России: о том, что Россия – это не Запад и не Восток. И что даже после прочтения Достоевского и Пушкина человек с Запада не сможет полностью понять эту страну. Пока мы разговаривали – точнее, пока я кричал, – высокая стройная женщина в золотом сверкающем комбинезоне подошла к дивану и встала передо мной.
– Вы Моби? – крикнула она.
– Да, – ответил я.
– Распишитесь у меня на киске, – с изумительной непосредственностью попросила женщина и расстегнула молнию комбинезона. Он упал к ее лодыжкам, и она предстала передо мной голой.
– Прошу прощения, – сказала дочь Путина, быстро встала и ушла в сопровождении телохранителя.
– У вас есть ручка? – спросил я у обнаженной дамочки.
Она улыбнулась и протянула мне маркер Sharpie.
– В России есть маркеры Sharpie?! – удивился я.
– Дa! – громко ответила она. Ее глаза сияли, как у кошки, убившей садового крота.
Я нарисовал мультяшного персонажа справа от ее половых губ и подписался.
– Никогда раньше не подписывал киску, – сказал я, не уверенный, получится ли у меня что-нибудь сделать. Я расписывался на руках, ногах, животах, грудях, шеях, лбах, кистях, ступнях, на драм-машинах, на библиях, на туфлях, куртках, автомобилях и экземплярах «Моби Дика», но ни разу – на гениталиях. Я надеялся, что дамочка не очень вспотела: на влажной коже маркер не очень хорошо пишет.
– Я сказала твоей охране, что я проститутка, – прокричала она сквозь ремикс моей песни «We Are All Made of Stars». И продолжила, словно втолковывала клиническому идиоту: – Но я не проститутка!
Я нарисовал мультяшного персонажа справа от ее половых губ и подписался.
– Готово, – сказал я, радуясь, что маркер меня не подвел.
Она натянула комбинезон, села рядом со мной, жестом подозвала официанта и заказала бутылку водки. Когда мы выпили, я выдал с большим трудом по-русски:
– До сви-да-ни-я.
Я знал русские слова «до свидания» и «спасибо». Но не более. Женщина засмеялась.
– Чисто говоришь! Как будто родился в России! – Потом что-то заметила в зале, огляделась и воскликнула: – Смотри, Моби! На нас все смотрят!
Она была права. Большинство посетителей клуба в открытую глазели на нас.
– А мне нравится! – задорно сказала моя странная собеседница и налила нам еще водки. – До свидания, – произнесла она краткий тост по-русски, и мы выпили.
Она прижалась ко мне и прошептала на ухо:
– От этого автографа у меня на киске мой парень взбесится от ревности!
– Правда?
– А знаешь, из-за чего он будет ревновать еще больше?
– Из-за чего?
Она пристально посмотрела на меня.
– Если ты меня трахнешь.
Мне предлагали секс и раньше, но никогда – настолько откровенно. Я считал себя распутным. И все-таки, находясь в обществе настоящих дегенераток, каковой явно была эта «не проститутка», нервничал.
– У тебя есть номер в гостинице? – просто спросила она, наливая себе еще выпить.
– Да, – ответил я, неловко улыбаясь.
– Тогда пошли!
Она опрокинула в себя стопку водки, взяла меня за руку и по-русски что-то рявкнула окружавшей нас охране. Ее, видимо, выставили те стильно одетые мафиози, что привезли меня сюда. Охранники обступили нас и провели к выходу из клуба. Через тридцать секунд мы оказались на заднем сиденье пуленепробиваемого лимузина «Мерседес».
– Где находится твоя гостиница? – спросила моя спутница. Я объяснил ей, и она по-русски приказала что-то водителю и сидевшему впереди широкоплечему человеку в штатском. Мы тронулись с места, и машина, что ехала впереди нас, включила мигающие огни и сирену.
– Полиция? – удивился я.
– Ты – VIP! Не задавай глупых вопросов, – прозвучал категорический ответ. Теперь я не знал, что думать о «не проститутке». – Она сказала водителю еще что-то, и в лимузине зазвучал джаз. – А это Билли Холидей[157].
– О, а как тебя зовут? – спохватился я.
Она обдумала вопрос, кивая в такт музыке. Наконец, определилась с ответом:
– Билли. Меня зовут Билли. Хочешь порошка?
Мне предлагали секс и раньше, но никогда – настолько откровенно.
– Нет, спасибо, – сказал я, глядя сквозь тонированное стекло на русские аптеки и супермаркеты. Они были закрыты, потому что над городом еще только занимался рассвет. Я по-прежнему не принимал порошок. К тому же мне казалось, что вдыхать белый порошок, проехавший восемь тысяч миль из Южной Америки в Москву, было или опасно для жизни, или напрасной тратой денег.
Моя новая знакомая пела.
Ее клоунада не раздражала меня. В нашем общении было столько же абсурда, сколько и в поездке на заднем сиденье пуленепробиваемого лимузина, который в сопровождении полиции мчался по Москве в пять часов утра.
Мы доехали до гостиницы и поднялись в мой номер.
– Ух ты! – восхитилась «Билли», оглядывая богато обставленную гостиную. – Ты и вправду VIP!
Она открыла окно, выходящее на Красную площадь. Небо уже посветлело, стало голубым. Над кремлевскими башнями вставало солнце.
Она повернулась ко мне и снова расстегнула свой золотой комбинезон.
– А теперь трахни меня! – низким голосом попросила она.
Я снял одежду. «Билли» вышагнула из комбинезона и встала передо мной голая, уперев руки в бока, и потребовала:
– Музыку.
Я протянул ей свой айпод и пару наушников.
– Включи свою «Lift Me Up», – расслабленно попросила она и начала петь эту песню, словно я мог забыть то, что сам же и написал. Я нашел нужный трек на айподе. Она надела наушники и выкрутила громкость на максимум. Потом мы легли на кровать, она сжала мою голову ладонями и пристроила ее себе между ног. На меня зловеще уставился нарисованный мною мультяшный персонаж.
Я подошел к открытому французскому окну и посмотрел на Красную площадь. Небо было розово-голубым, как стены в яслях. Кремль походил на сказочную тюрьму.
Я начал делать комикс-рисунки «маленького идиота» – неказистого, печального и немного нервного человечка – в середине 80-х, когда жил в доме матери и работал в «Пластинках Джонни» в Дариене. Моя работа в магазине заключалась в том, что я не только пополнял запасы бонгов и пиратских записей Grateful Dead на полках, а должен был в обязательном порядке сделать какой-нибудь «фирменный» рисунок на каждом пакете, покидающем магазин в руках покупателя. Тогда я и придумал своего человечка. Позже мои рисунки появлялись на футболках, на чайных кружках и в моих клипах, например, в «Why Does My Heart Feel So Bad?».
Я вспомнил об этом, разглядывая размазанный на гениталиях «Билли» рисунок «маленького идиота» в дюйме от моего лица. Она вдруг бесцеремонно потянула мою голову вверх и направила другую часть моего тела внутрь себя. Ее глаза были закрыты, она громко пела под не слышную мне музыку.
После секса я пытался быть нежным, хотел поцеловать ее в губы. Но она оттолкнула меня.
– Нет! – строго сказала она, словно отчитывая свою провинившуюся собаку. – На это имеет право только бойфренд.
Она встала, натянула комбинезон и пошла к двери.
– Спасибо, что трахнул меня. Мой парень движется во мне так хорошо только тогда, когда ревнует, – сочла необходимым пояснить она. И ушла.
Я хотел пойти поспать, но через час мне нужно было ехать в аэропорт, чтобы вылететь в Украину. Я был полон водки и кофе, у меня только что был секс с высокой волчицей-аристократкой, которая исчезла, словно бледный вампир, прежде чем ее коснулось солнце. Я чувствовал себя безымянным, беспутным шпионом.
Я подошел к открытому французскому окну и посмотрел на Красную площадь. Небо было розово-голубым, как стены в яслях. Кремль походил на сказочную тюрьму.
Дариен, Коннектикут
(1982)
Казалось, я никогда не расстанусь с невинностью. У меня была девушка в начале летних каникул, после того как я окончил среднюю школу и перешел в старшую. Но мы расстались до того, как дело дошло до секса. Как бы то ни было, мне хотелось не просто стать мужчиной – я хотел быть в близости с той, кого полюблю.
Я даже написал об этом в сочинении на уроке английского языка. Оно начиналось с описания моей прекрасной подруги – поклонницы «новой волны». Она была канадкой и оказалась в старшей школе Дариена из-за того, что ее отца, работавшего в сфере финансов, перевели из Торонто в Нью-Йорк. Она любила Joy Division, «Рембо» и «Звездный путь», и мы полюбили друг друга чистой любовью – благодарные Вселенной за то, что она свела нас вместе.
У ее придуманных мною родителей была крутая квартира в центре Манхэттена, и в одну октябрьскую субботу мы с ней на поезде поехали в Нью-Йорк, чтобы купить пластинки и сходить на выступление Echo & the Bunnymen. После концерта мы пешком дошли до квартиры ее родителей в Вест-Виллидж, подарили друг другу невинность и заснули, обнявшись. А где-то за стеной играла музыка New Order.
Учитель поставил мне за сочинение четверку с минусом.
* * *
Целый год я изнывал от всепоглощающей страсти к Лоре Смит-Стаффорд. Она была яркой блондинкой, имела необычные верования – практиковала дзен-буддизм – и жила со своей обеспеченной семьей в большом поместье на Лонг-Айленд-Саунд. Мы познакомились во время поездки на Блок-Айленд, организованной Клубом отдыха старшей школы Дариена. С того времени я мечтал о ней, но она была на два года старше, осенью должна была поступить в университет и совершенно не интересовалась отношениями со мной. Я написал ей прочувствованный акростих, в котором первые буквы строк составляли ее имя. Когда она прочла его при мне, набрался храбрости и спросил:
– Я тебе нравлюсь?
– Ну, – сказала она, раня мое измученное сердце, – мне кажется, ты хороший друг.
Мне хотелось, чтобы мы полюбили друг друга и всю оставшуюся жизнь были вместе. Но поставил на этих отношениях крест: и дурак бы понял, что она не поможет мне расстаться с невинностью.
* * *
Была середина августа; через две недели заканчивались каникулы. Мне предстояло отучиться в старшей школе Дариена до получения диплома всего лишь один год. Все лето я писал песни и стихи, репетировал с Vatican Commandos и зарабатывал стрижкой газонов бензиновой газонокосилкой, которую взял напрокат.
Мама на выходные уехала из города, и впервые весь дом был в моем распоряжении. Без надзора мне захотелось почувствовать себя взрослым. А значит, заниматься «взрослыми» делами – например, напиться на вечеринке. Но вечеринок никто из моих знакомых не собирал.
На закате субботы, после того, как я целый день попеременно играл на гитаре, слушал Joy Division и сочинял песни, мне пришло в голову проехаться на велосипеде к дому моего друга Дункана. Он был на год старше меня и через несколько недель уезжал в Боудин-колледж в штат Мэн. Он был высоким, играл в лакросс и жил по соседству с загородным клубом. Подружились мы благодаря тому, что он внезапно открыл для себя English Beat и XTC, а я и мои друзья были единственными в школе из тех, кто открыто признавал, что любит «новую волну».
Я приехал к Дункану как раз в тот момент, когда он наполнял большой кувшин водкой, льдом и смесью для коктейля «Том Коллинз» – его родители тоже уехали. Мы вместе с его старшим братом устроились с бокалами в гостиной, слушали записи «новой волны» и пили.
Каждый раз, проводя время с Дунканом, я ждал, что он поймет, что на самом деле дружба со мной ему не нужна. Он был высоким, красивым парнем, спортсменом, а ни я, ни мои панк-роковые друзья ничем на него не походили. Когда Дункан тусовался с нами, он выглядел человеком среди хоббитов. И осуждающе смотрел на нас сверху вниз, пока мы яростно спорили о том, кто лучше – Dead Kennedys или Black Flag.
У Дункана была настоящая девушка, и он неожиданно засобирался к ней. Поэтому, после прослушивания двух пластинок и употребления пяти коктейлей, я покинул поместье его родителей и на велосипеде поехал домой. В пустом доме я, наполненный сладкой мешаниной «Тома Коллинза», в конце концов почувствовал себя взрослым. А взрослые мешают коктейли.
Я поставил на мамин проигрыватель альбом Birthday Party и налил себе водки с апельсиновым соком. Сидя на диване и слушая музыку, я пил и думал о кондиционере. У всех моих друзей были кондиционеры, но мы с мамой никогда не могли себе позволить этой роскоши. Обычно летняя жара в Дариене донимала нас ужасно. Но сейчас, когда в моей крови курсировал алкоголь, я ее не замечал. И это еще более укрепляло мое ощущение «взрослости».
Я допил коктейль и вдруг понял, что никогда прежде в этом доме не был так счастлив. Впереди была целая жизнь, полная чудесных возможностей и радостей. И моя коллекция музыки – панк-рок и «новая волна» – выросла до 15 альбомов!
Неожиданно зазвонил телефон. Я услышал в трубке возбужденный голос Джима:
– Моби, где ты был?! Здесь шикарная вечеринка, всех приглашают! Приходи скорее! – И он назвал адрес.
Вот это да! Меня пригласили на вечеринку! На настоящую вечеринку, на которую мне можно будет просто прийти, а не пробираться тайком во двор чужого дома и подглядывать в окна, стоя на перевернутом ведре. Воистину, желания исполняются!
Я допил коктейль и вдруг понял, что никогда прежде в этом доме не был так счастлив.
Выпив еще бокал коктейля, я на велосипеде поехал на вечеринку. Незнакомые мне хозяева обширного поместья собрали ее для множества самых разных людей. Гости: и солидные дамы и господа, и молодые люди, и ребята, и девушки из старшей школы Дариена гуляли по поместью, пили коктейли и пиво из прозрачных пластиковых стаканов, смеялись и весело разговаривали. На заднем дворе у бассейна расположилась музыкальная группа, игравшая песню Doors «Break on Through».
Я заметил своих друзей: Джима, Дэйва, Джона и Чипа. Они собрались в углу двора, не зная, как влиться в компанию на вечеринке для «нормальных» людей. Мы умели гулять по Нижнему Ист-Сайду и тусоваться в панк-клубах. Мы умели прыгать со сцены на концертах Black Flag, не ломая при этом нижних конечностей. Но, когда дело доходило до общения с незнакомыми взрослыми или девушками, мы были беспомощны.
Я подошел к друзьям и отобрал у Чипа пиво. С воплем «Я пьян!» опорожнил бутылку одним долгим глотком. Подошел еще один мой друг, Пол, – в компании четырех незнакомых мне девушек. Я знал Пола давно, еще с восьмого класса. Мы с друзьями относились к нему почти как к королевской персоне: он жил в Лондоне, и в его произношении еще сохранились следы британского акцента. А еще он был выше всех нас ростом, поразительно уверен в себе и спал с девушками с 15 лет.
Трое из спутниц Пола были милыми и чистенькими, но вполне обычными. Четвертая же выглядела неординарно и впечатляюще. Очень высокая, бледная и притягательно женственная, она носила примечательную прическу: ее короткие осветленные волосы были выбриты по бокам. Взглянув на нее, я замер в восхищении. Можно ли было мечтать о том, чтобы встретить красавицу, которая не скрывала, что она поклонница «новой волны», на вечеринке в Дариене? Я был мгновенно покорен ею.
Мы были на концертах Black Flag, Bad Brains, Mission of Burma и Misfits, прыгали со сцены в зал до десяти вечера, чтобы потом за полчаса добраться до Дариена и совсем не поздно предстать перед родителями.
– Привет, меня зовут Моби, – сказал я, храбро представляясь этой высокой сияющей богине.
Она приветливо улыбнулась.
– Виктория.
– Принести тебе выпить? – спросил я. Так спрашивали мужчины в телешоу.
– Нет, спасибо, – ответила она, продолжая улыбаться, теперь уже кокетливо.
Я сходил к кегам, налил два стакана пива и поспешил обратно, пытаясь казаться взрослым и уверенным.
– Откуда ты? – спросил я у Виктории.
– Из Фэрфилда[158], – ответила она.
«Живет недалеко», – отметил я.
– Учишься там в старшей школе?
– Закончила в июне.
Значит, она была старше меня. И выше меня. Она была одета и имела прическу по моде «новой волны» Поэтому я спросил, бывала ли она в «Pogo», единственном панк-клубе в Коннектикуте.
– Нет, – ответила она. Виктория оказалась немногословна, а у меня кончились вопросы.
– А где ты любишь бывать? – спросил я.
– В Нью-Хэйвене[159].
Да уж! В Нью-Хэйвене было два больших клуба «новой волны», но покупать спиртное в них можно было только тем, кому исполнился 21 год. У подростков бармены проверяли документы. К тому же билеты на концерты в этих клубах были слишком дороги. Мы с друзьями никогда даже не пытались попасть туда. Однажды, когда в одном из них выступали Echo & the Bunnymen, мы подъехали ко входу на велосипедах и просто болтались поблизости в окружении парней в черных джинсах и с короткими стрижками.
Нашим панк-роковым раем стал клуб «Pogo». Он находился в близлежащем Бриджпорте, и там у нас никогда не спрашивали документы. Так получилось, что он стал перевалочным пунктом для панк-групп, переезжающих в своих гастрольных турах из Нью-Йорка в Бостон. Мы были на концертах Black Flag, Bad Brains, Mission of Burma и Misfits, прыгали со сцены в зал до десяти вечера, чтобы потом за полчаса добраться до Дариена и совсем не поздно предстать перед родителями.
– Пойду возьму еще пива, – сказал я. Мой язык уже заплетался. – Хочешь?
Никогда прежде я не был так уверен в себе. Хотя разговаривал с девушкой, которая определенно была не из моей лиги. Высокая, красивая, любящая «новую волну», она притягивала меня, как магнит.
К часу ночи веселье стало затихать. Я был очень пьян, поэтому задал Виктории немыслимый для меня вопрос.
– Тебе и твоим друзьям есть где переночевать? У меня мама уехала из города.
– Я спрошу.
Виктория отошла к своей компании. Я, пошатываясь, допивал последний стакан пива. Она вернулась и просто сказала:
– О’кей.
Мы загрузились в фургон ее друзей. Я хотел спросить, можно ли мне положить в кузов велосипед. Но слишком велико было желание выглядеть крутым и взрослым. Крутые взрослые парни не ездят по городу на ярко-зеленых «Schwinn».
Когда мы с Викторией и ее друзьями вошли в мой дом, мне вдруг стало страшно. Это все невозможно, думал я. Может быть, она призрак? Может быть, она явилась, чтобы забрать у меня душу? И убеждал себя, что я дурак и по пьяни думаю бог знает о чем.
Я никогда не видел обнаженных девушек, не считая нескольких бессознательных голых хиппи у нас дома.
Я провел своих новых приятелей в гостиную и налил всем водки с апельсиновым соком.
– Вы можете расположиться на диванах, – радушно сказал я. А потом посмотрел на Викторию: – Если хочешь, можешь спать в моей комнате.
Она кивнула и тихо сказала:
– Ладно.
Она была спокойна, а меня одолевал страх. Я никогда не приводил девушек домой, и теперь высокий, прекрасный и желанный призрак держал меня за руку, поднимаясь по устланной оранжевым ковром лестнице.
Оказавшись в своей комнате, я включил музыку и указал Виктории на свою постель. Как и несколько лет назад в нашем с мамой старом доме, я спал на том же покрытом простынями в цветочек тонком матрасе. Он лежал прямо на полу, рядом с пластмассовым вентилятором Sears. Виктория села на матрас и разулась. Зазвучала песня группы The Cure.
– О, Cure, – одобрительно произнесла она.
– Тебе нравится эта группа? – спросил я, пытаясь разговорить ее и найти к ней подход.
– Ничего так, – скупо ответила она. И тогда я решился.
– Давай ляжем? – предложил я, не зная, что еще спросить, что сказать, что сделать.
– Хорошо.
Мы забрались в постель прямо в одежде, несмотря на то, что стояла теплая ночь, в доме было жарко.
– Может, разденемся? – спросил я, думая больше об удушающей жаре, чем о сексе.
Виктория, ничего не говоря, выскользнула из платья и избавилась от нижнего белья. Я потянулся к ней, дотронулся до кожи. Моя рука скользнула вниз, я прикоснулся к ее бедру. В моей постели была девушка. В моей постели лежала обнаженная девушка. Только что я был пьян, но вдруг стал трезв как стеклышко.
Я сбросил одежду как можно быстрее и склонился над Викторией, чтобы поцеловать ее. Вокруг нас сгущался влажный воздух. Через открытое окно доносился грохот грузовиков, проезжавших по шоссе I-95. Зазвучала песня «Tears for Fears», Виктория обняла меня, и я вошел в нее. Она выдохнула тихо и нежно:
– О-ох…
Я никогда не видел обнаженных девушек, не считая нескольких бессознательных голых хиппи у нас дома. А теперь я был внутри обнаженной девушки. Я занимался сексом.
А потом все закончилось.
Я перекатился на спину, вспотевший от жары, а не от усилий. Мы лежали рядом на матрасе. Музыка смолкла. Она была записана на тридцатиминутную кассету, с 15 минутами звучания на каждой стороне. Все, что произошло в моей комнате, заняло всего четверть часа.
Я замечал все. Слышал тихое дыхание лежащей рядом Виктории. Ощущал прикосновение ее пальцев к моей руке. Мы не говорили – а потом я проснулся, яркое солнце заливало комнату. Виктория стояла, надевая платье, и смотрела на меня.
– Надо же, заснул, – пробормотал я.
Она бесстрастно сказала:
– Нам пора.
Я оделся под простыней, стесняясь. Мы спустились вниз. Ее друзья уже проснулись и сидели на коричневом поролоновом диване в комнате с телевизором.
– Привет, – сказал я, не зная, как следует себя вести. – Хорошо спали?
Вопрос был глупый: у нас не было кондиционера, и им пришлось лежать на продавленных диванах из Армии Спасения, от которых пахло котом Такером.
– Неплохо, – соврал из вежливости один из них.
Когда все уходили, Виктория обернулась ко мне и мягко сказала:
– Прощай, Моби.
Я не знал, что мне нужно сделать. Меня мучило похмелье, но прошедшей ночью я отдал свою невинность высокой призрачной богине. Мне нужно был обнять ее или поцеловать?
Я просто придержал перед ней дверь открытой и сказал:
– Осторожно на дороге.
Она отвернулась и вместе с друзьями села в фургон.
Вернувшись в дом, я упал на поролоновый диван. Было всего семь утра, но солнце уже разлилось по дому, словно яростный горячий желтый сироп. И меня стало тошнить.
Я помчался в туалетную комнату. Меня вырвало в унитаз. Я лег на пол, ощущая виском холод кафельной плитки. И чувствовал себя взрослым.
Нью-Йорк
(2006)
Я указал на пять верхних этажей Эль-Дорадо, огромного жилого здания в виде замка с двумя башнями, возвышающимися над Центральным парком. И сказал:
– Здесь я живу.
Девушка Лиззи, с которой у меня было свидание, удивленно взглянула на мой внушительный дом. И спросила:
– На каком этаже?
– Я занимаю весь верх южной башни.
Она недоверчиво посмотрела на меня.
Мы прошли через западную часть Центрального парка, и я, немного нервничая, провел Лиззи через холл Эль-Дорадо. Я потратил на покупку и ремонт новой квартиры семь миллионов долларов наличными, но мне все еще казалось, что охрана в вестибюле может принять меня за курьера и направить в сторону служебного входа.
Я купил квартиру около года назад. И сегодня, после долгих месяцев ремонта, настанет первая ночь, которую мне можно будет провести в новой спальне.
Мы с Лиззи собирались войти в лифт, когда из него вышел бас-гитарист Адам Клейтон из «U2».
– Адам? – удивленно спросил я.
– Моби? – ответил он, не менее удивленный.
– Ты живешь здесь?
Я знал, что в Эль-Дорадо живут Боно, Алек Болдуин и Рон Ховард[160], но об Адаме не знал.
– Да! – радостно ответил он.
– Ну, надеюсь, еще увидимся! – приветливо сказал я и потянул Лиззи за собой в лифт.
Мы поднялись на 29-й этаж, потом прошли вверх по лестнице к двери моей квартиры.
– Поверить не могу, что живу здесь, – сказал я, отпирая массивную металлическую дверь. Щелкнул автоматический выключатель, зажегся свет. Нижняя лестничная площадка-прихожая в моей пятиэтажной квартире была устлана ковром с нежным темно-синим узором, стены – обшиты дубовыми резными панелями. Мы поднялись в гостиную с витражными окнами и мраморным камином.
– Хочешь выпить? – спросил я у Лиззи.
– Нет, я не пью, – ответила она. Я удивился. Мы познакомились неделю назад, в баре в три часа утра, и мне казалось, что к этому времени все посетители напились, как я сам.
Лиззи была родом из Олбани. Невысокая, стройненькая, с золотистыми локонами, спадающими на плечи, она походила на прекрасную эльфийку. Мы целовались в баре в четыре утра, когда он уже закрывался. И я спросил тогда, не пойдет ли она со мной. И получил отказ. «Я не пойду к тебе сразу после знакомства, это легкомысленно», – объяснилась она. И добавила, что будет рада встретиться, если я позвоню и приглашу ее на свидание.
Я позвонил ей на следующий день, и мы полчаса болтали о музыке, политике и вспоминали детство. Она была умна, очаровательна и сама предложила мне встретиться. Я, конечно же, с радостью согласился. Положил трубку и сразу же озаботился.
В последнее время тревожность, связанная с интимными отношениями, усилилась. Иногда она была настолько сильной, что мне приходилось отказывать женщине даже в первом свидании.
Два месяца назад я позвонил своему психиатру и спросил о препаратах, снимающих тревожность. Он спросил:
– Вы пробовали когнитивно-поведенческую терапию?
– Нет, знаете ли! И не думал об этом, – ответил я раздраженно. Мне нужны были только лекарства – для починки поломанного мозга.
– Я выпишу вам лекарства, – успокаивающе сказал он. – Но сначала попробуйте КПТ, ладно?
Он дал мне телефон психотерапевта – доктора Барри Любеткина.
Я рассказал доктору о свой проблеме. Он сделал вывод: решение только одно – экспозиционная терапия. Или, попросту говоря, мне нужно ходить на свидания, сближаться с людьми и не убегать.
– Со временем тревожность уйдет, – пообещал Любеткин.
– Но вы не представляете, как это больно! – воскликнул я.
Он посмотрел мне в глаза и сочувственно улыбнулся.
В последнее время тревожность, связанная с интимными отношениями, усилилась.
– Милый мой, я занимаюсь терапией почти полвека. Поверьте, я знаю, насколько это больно. Чтобы было легче, вы должны приходить ко мне на сеансы.
Перед свиданием с Лиззи на меня накатила паника, и я хотел все отменить. Но мне следовало бороться с недугом, и я заставил себя встретиться с ней в веганском ресторане на Амстердам-авеню. Тревожность во время ужина утихла. После ужина мы пошли прогуляться по Центральному парку, и я привел ее в свою новую квартиру.
– Пойдем, покажу кое-что! – я взял Лиззи за руку и увлек на балкон гостиной.
– О, Боже! – воскликнула она восхищенно. С 33-го этажа открывался чудесный вид на город: внизу свободно раскинулась пышная зелень Центрального парка; стрела Пятой авеню пронзала массивы жилых зданий и офисных небоскребов Манхэттена и устремлялась к проливу Гарлем-Ривер; вид спокойного синего неба над океаном оживляли самолеты, взлетевшие в аэропорту Кеннеди.
Я потянул Лиззи в гостиную, но она отстранилась.
– Подожди, дай мне еще секунду.
Она подошла к краю и посмотрела прямо вниз, на западную часть Центрального парка, с высоты в 400 футов.
– Ну, я не знаю. Прямо как… – тихо сказала она и запнулась.
– Как в кино? – предположил я.
– Как в кино – это слишком просто сказано.
Мы вернулись в гостиную и поднялись на третий этаж. Отсюда с балкона открывался вид на реку Гудзон. Мы несколько минут смотрели на последние отблески заката. Лиззи глубоко вздохнула:
– Невероятно!
– Тут есть еще многое, на что можно посмотреть, – с гордостью сказал я и провел ее по металлической винтовой лестнице в обшитую дубом библиотеку, а оттуда – на панорамный балкон четвертого этажа.
– Балкон номер три!
– Черт побери! – растерянно высказалась она. – Так не бывает. Тебе няня не нужна?
– Может быть, – ответил я. И проводил ее к балкону номер пять, что располагался под крышей здания. Здесь дул ветер, зато шум Манхэттена не сильно давил на уши.
– Здорово? – спросил я.
– Можно поставить тут альпинистскую палатку? – пошутила Лиззи в ответ.
За ужином она рассказала, что занимается музыкой. Я тут же попросил:
– Сыграй мне что-нибудь!
– Конечно! – обрадовалась она. – У тебя есть пианино?
– Рояль на втором этаже.
– Этажи в квартире!.. – Она покачала головой. – Моби, ты крут.
Мы спустились на три этажа вниз, в гостиную.
– Все равно не верю, что здесь можно жить, – сказала она, оглядывая гостиную с турецким ковром XIX века, мраморным камином и книжными полками во всю стену. – Все такое… нереальное!
– Я рос в бедном районе Дариена, мы с мамой жили на пособие. – Не понятно почему, но мне захотелось довести это до сведения Лиззи. – И после того, как я ушел из дома, первое время жил на заброшенной фабрике в наркоманском районе.
– А теперь тут.
– А теперь тут, – улыбнулся я.
Лиззи села за рояль.
Я не был пьян и не паниковал. И это мне нравилось.
– Хочешь, спою что-нибудь из своего? – неожиданно предложила она.
– Ты сочиняешь песни?! – изумился я. – Я весь внимание!
Я опасался, что она разочарует меня. Но ее исполнение было безупречным, она играла завораживающую музыку, лирическая песня волновала чувства, а ее голос был низким, но сильным.
– Это здорово! – воскликнул я, когда она закончила. – У тебя есть договор на запись?
– Я работаю с менеджером, но ты знаешь, каково это, – с грустью ответила она.
– Ты собираешься издавать музыку под своим именем? Лиззи Грант?
– Не зна-аю, – неуверенно протянула она. – Звучит как-то незамысловато.
– Прекрасное имя, мне кажется.
Я сел рядом с ней за рояль и начал ее целовать. Она ответила – но вдруг отстранилась.
– Что такое? – озаботился я.
– Ты мне нравишься. Но я слышала, что ты занимаешься этим со многими.
Мне захотелось соврать – наплести что-нибудь про наветы, завистливые сплетни и свою пуританскую строгость. Но я промолчал.
– Давай снова встретимся. Я позвоню, – сказала она, вставая из-за рояля.
– Хорошо.
Я проводил ее вниз, на 29-й этаж, и у лифта поцеловал на прощание.
Не так я представлял себе окончание вечера. Я думал, что мы освятим мое новое жилище водкой и сексом. Но, к моему удивлению, сорванные планы не вызывали у меня сожаления. Я не был пьян и не паниковал. И это мне нравилось.
Миллионы, потраченные на покупку и ремонт этой безусловно прекрасной квартиры, ничего во мне не изменили.
Вернувшись в квартиру, я ходил вверх и вниз по лестницам, смотрел, как мягкий свет торшеров ложится на дубовые панели и дорогую рубчатую обивку диванов. Потом поднялся на самый верхний балкон и долго любовался простирающимся подо мной Манхэттеном.
Мне вдруг захотелось ощутить гармонию своей жизни. Ведь она была мною достигнута, создана – разве не так?
Но я ее не ощущал.
Новая квартира казалась мне совершенной. Элегантный, роскошный, респектабельный дом. Здесь было все, о чем я мечтал в детстве. Так почему я не чувствовал счастья?
Я спустился вниз, и вниз, и еще вниз по множеству лестниц в гостиную и сел за швейцарский рояль ценой в 20 000 долларов, на котором играла Лиззи. Снял обувь, поставил босые ноги на турецкий ковер и начал играть «Гимнопедию» Эрика Сати[161]. Перед переездом я говорил друзьям и членам семьи, что состарюсь в этой квартире и умру счастливым, сидя за роялем.
Я резко встал и вышел на балкон.
Меня охватила паника. Я имел все, в миллион раз больше, чем все. Но не был счастлив. Миллионы, потраченные на покупку и ремонт этой безусловно прекрасной квартиры, ничего во мне не изменили.
Я пошел на кухню и налил себе полстакана водки. Выпил ее, словно воду. Налил еще. Когда я начал пить в средней школе крепкое спиртное, оно вставало мне поперек горла, и его приходилось разбавлять газировкой или соком. А теперь водка проваливалась в меня без всяких проблем.
Спиртное немного утихомирило панику. Но совсем чуть-чуть.
Зазвонил телефон. Первый звонок стационарного телефона в новой квартире!
– Мо! Это Фэнси! Мы идем в «Sway», давай с нами!
Когда Лиззи ушла, я тут же представил, как проведу тихий, спокойный вечер в кресле возле камина, с книгой в руках, под музыку Генделя. Но вместо этого мой желудок был полон теплой водки, и квартира казалась такой же маленькой и ничтожной, как я сам.
– Да, Фэнси, – сказал я. – Выхожу, скоро увидимся.
Дариен, Коннектикут
(1982)
Мои друзья выгнали меня из группы. За то, что я стал невыносим.
Мы начинали с кавер-версий Clash, Sex Pistols и Voidoids, но в последний год стали писать свои хардкор-панковые песни. Например, «Hit Squad for God»[162], «Housewives on Valium»[163] или «Wonder Bread»[164] – о белом хлебе, которым отравился целый город, а потом его стали использовать как строительный материал.
В последние несколько месяцев я срывал репетиции Vatican Commandos, ругал музыку, которую мы играли, оскорблял Джима, Чипа и Джона. Я был несносен с ними. И совершенно не понимал, почему вел себя как невыносимый идиот.
За этот год я организовал еще две группы: AWOL[165] и Image. С AWOL мне лучше всего удалось добиться звучания как у Joy Division. А Image я собрал только для того, чтобы побольше времени проводить с Сарой, красивой вокалисткой: она мне нравилась. Я любил эти проекты, но большую часть времени уделял Vatican Commandos.
Каплей, переполнившей чашу терпения моих друзей, стал инцидент на конкурсе «Битва групп», который проходил в кафетерии старшей школы Дариена. Я опоздал, оделся не так, как подобает панк-рокеру, а так, чтобы выглядеть клоуном. На мне были ярко-синие штаны, желтый вязаный жилет поверх розовой футболки и пушистые тапочки. Я нарочно играл плохо, а после концерта сразу ушел, оставив за сценой свое оборудование. Поэтому Джиму, Чипу и Джону пришлось заботиться о моих гитаре и усилителе.
Мои друзья выгнали меня из группы. За то, что я стал невыносим.
На следующий день Джим позвонил и сказал, что общим голосованием группы я из нее исключен. И добавил:
– Приходи и забирай свои инструменты, иначе я оставлю их на улице.
Я знал Джима и Чипа с восьмого класса, в Джона – с десятого. Мы вместе ездили в Нью-Йорк – за пластинками и на концерты Talking Heads и Black Flag. Последние два года мы почти все время были вместе – сочиняли музыку, говорили о музыке, спорили о том, как играть музыку. Они были моими лучшими друзьями. А я стал отталкивать их. И не знал почему.
Я взял мамин седан «Шевроле Шеветт» и поехал к Джиму за гитарой и усилителем. Он сидел на диване в компании своих братьев и смотрел телевизор.
– Твоя аппаратура на улице, – сказал он, не отводя взгляда от экрана.
Я затащил усилитель в машину. Гитару положил на заднее сиденье. Нужно было вести себя достойно, поэтому пришлось вернуться в дом.
– Джим, – сказал я, стоя в дверях комнаты, – хочу извиниться за то, что не забрал вчера оборудование.
– Ладно, Моби, – равнодушно ответил он, даже не повернувшись в мою сторону. Я надеялся, что он примет мои извинения и пожмет мне руку. Или спросит, почему я стал плохим другом. В общем, даст понять, что наши отношения не разорваны, все еще можно исправить.
Он смотрел телевизор.
– Ты еще тут? – оскорбительным тоном спросил меня его старший брат Майк.
– Ладно, увидимся, Джим, – тихо сказал я. И ушел.
Вернувшись домой, я позвонил Джону. Он был старше и умнее, чем Джим. Во мне теплилась надежда на то, что он захочет со мной поговорить.
– Джон?
– А, привет, Моби.
– Кажется, Джим на меня зол.
– Ну, вчера ты повел себя как козел.
– Понимаю.
– Что происходит?
Ответа у меня не было.
– Я не знаю.
Он ничего не сказал, молчал.
– Джон?..
Он не издавал ни звука.
– Ладно, мне пора, – выдавил я из себя. – Надеюсь, мы все еще друзья.
Он засмеялся и положил трубку.
На следующий день я попал в пробку на шоссе I-95 и увидел на заднем бампере машины впереди множество наклеек с разными высказываниями. «Полегче на поворотах!», «Живем один раз», «Не спи – замерзнешь!» – и все такое. Но одна прочитанная фраза запала мне в душу – «Поврежденные люди вредят людям». Смысл этих неказистых слов заключался в том, что те, кому причинили боль, склонны причинять боль другим.
Это знание, неожиданно понял я, скрытно и вопреки моей воле вело меня к разрыву с Джимом, Чипом и Джоном.
Да, я все понял.
Подсознание диктовало мне: «Рано или поздно кто-то из твоих друзей будет сильно травмирован. От этого не уйти, такова жизнь! И тогда он начнет причинять тебе боль! Все они люди, а ты уже много раз убедился, что людям доверять нельзя». Мои друзья не сделали мне ничего плохого, но глубоко внутри меня таилась уверенность: они могут это сделать. Сделают рано или поздно. И я должен был их оттолкнуть, прежде чем они мне навредят.
Вот таким образом исказился мой внутренний мир. Мне было семнадцать лет.
Я не хотел оставаться дома, поэтому вставил в стереосистему машины кассету с альбомом Echo & the Bunnymen и поехал на Лонг-Айленд-Саунд – посмотреть на красивые дома у воды. Когда у меня не было водительских прав, я ездил с плеером по Дариену на велосипеде, слушал британскую музыку и смотрел на богатые огороженные поместья и особняки. Но в черте города их было немного. Теперь же благодаря маминому «Шевроле» я мог ездить в другие близлежащие города и любоваться красотой больших домов и обустроенных частных территорий там.
Я припарковался у любимого особняка на Лонг-Нек-Пойнт. Он представлял собой внушительное каменное строение XIX века, похожее на Монтичелло – центральная постройка в знаменитой усадьбе Томаса Джефферсона[166]. «Каково это – расти в таком доме? – думалось мне. – Каково это – чувствовать себя в безопасности? Не знать унижений? Не ощущать себя ничтожеством из-за того, что ты беден? Не причинять боль другим – из-за того, что бедность и унижения исказили твое естество?..»
Альбом Echo & the Bunnymen закончился. Я перекрутил кассету на начало и стал слушать запись снова. Зазвучала «Show of Strength», первая песня альбома. Я смотрел на кучевые облака, что медленно плыли над особняком. И думал о том, как его обитатели видят мир из витражных окон.
Нью-Йорк
(2006)
Я мог бы отправиться в любую точку мира ради выступления Донны Саммер. Но этого не потребовалось: она пела на благотворительном мероприятии в Бальном зале отеля на Таймс-сквер. В конце 80-х мы с Полом, моим бывшим другом, пробрались на крышу этой респектабельной гостиницы – тогда самого высокого здания в округе – и снимали там сюрреалистичные короткометражки, в которых скакали голыми и размахивали своими вялыми пенисами над Нью-Йорком[167].
Я позвал на это мероприятие своего друга Фэнси, потому что он тоже любил слушать Донну. Когда нас проводили к нашему столу в зале, я заметил, что вокруг полно известных богатеев: Блумберги, ЛеФраки, Трампы, Кляйны, Сульцбергеры… Все миллиардеры Нью-Йорка заявились сюда для того, чтобы под пение «королевы диско» пожертвовать деньги на проект актрисы Бетт Мидлер по защите рек и водных ресурсов их города.
– Разве в Нью-Йорке есть реки? – поинтересовался Фэнси, заглянув в программку.
Идея защиты водных ресурсов мне нравилась, но я пришел увидеть Донну Саммер. Я вырос на диско 70-х, которое слушал по радио. В 80-е эта музыка умерла, но по-прежнему вдохновляла всех – от New Order и Duran Duran до Kraftwerk. А потом, несколько лет спустя, диско вернулось во всем блеске, породив хаус-музыку, техно, рэйв-культуру и даже значительную часть хип-хопа. И никого из певцов в этом жанре танцевальной музыки не было выше Донны Саммер.
Я читал историю о том, как Брайан Ино[168] открыл для себя сингл Донны Саммер «I Feel Love» и принес его в студию в Берлине, в которой вместе с Дэвидом Боуи работал над альбомом. Он заставил всех сесть и прослушать песню от начала до конца. И пророчески провозгласил: «Я услышал звучание будущего».
Мы с Фэнси пили водку; я болтал с Андре Леоном Талли[169], а Фэнси пытался флиртовать с Анной Винтур[170].
– Анна, – сказал он, – вы красивая женщина. Вы одиноки?
Она вежливо улыбнулась и представила Фэнси своего бойфренда Шелби. Уставшие официанты принесли мне невнятное веганское блюдо – овощи на пару и белый рис. Я проигнорировал его и еще больше налег на водку.
Бетт Мидлер поприветствовала публику, начался аукцион, и все миллиардеры в зале стали соревноваться в размерах и упругости своих финансовых пенисов. После событий 11 сентября жители Нью-Йорка боялись краха мировой экономики и Уолл-стрит. Но рынок с рычанием вернулся назад, и теперь миллиардеры швырялись деньгами, словно грязным конфетти.
– Ужин на четыре персоны в «Rao». Раз! – провозгласил аукционист. – Два!.. Продано за 100 тысяч!
Публика вежливо захлопала.
Фэнси повернулся ко мне.
– Купить спагетти за сотню тысяч?! Кто эти люди?
– Горожане. Жители Нью-Йорка, – ответил я, пытаясь привлечь внимание официанта и заказать еще водки.
Фэнси, по всему было видно, завидовал миллиардерам. И напрасно. Я провел с нью-йоркскими богатеями достаточно времени, чтобы понять, что они несчастны. В ином случае им не нужно было упиваться вусмерть и тратить десятки тысяч долларов в неделю на таблетки, любовниц и терапию. А еще я знал, что их богатство было пустым – результатом присвоения плодов труда других людей. Но этот мир принадлежал им, и мне было ясно, что они никогда не сомневались в своем праве покупать в нем спагетти за сто тысяч доларов.
Аукцион закончился, и Бетт Мидлер торжественно представила Донну Саммер. «Королева диско» поднялась на сцену.
И никого из певцов в этом жанре танцевальной музыки не было выше Донны Саммер.
Я ходил почти на все манхэттенские благотворительные встречи и мероприятия, поскольку хотел, чтобы нью-йоркская элита любила и уважала меня. Но когда на сцене появилась Донна, подхалимское стремление к тому, чтобы манхэттенские плутократы меня признали, испарилось. Миллиардеры и их раздутые друзья заказывали напитки и громко разговаривали, игнорируя появление диско-богини. Я сказал: «К черту!» – и побежал к сцене.
Еще несколько человек присоединились ко мне, мы стали прыгать на месте и громко приветствовать певицу. Кое-кто при этом оглядывался, словно спрашивая: «А так можно?»
А потом Донна Саммер запела, и мы лишились разума.
Обычно я слишком стеснялся танцевать на публике, но сейчас ничего не смог с собой поделать. В нескольких футах от меня вживую исполнялись «Our Love», и «Bad Girls», и «MacArthur Park». К нам стали присоединяться другие поклонники Донны. И вскоре перед сценой образовалась восторженно скачущая потная толпа.
«Королева диско» закончила петь, выкрикнула «Спасибо!», и те, кто был перед сценой, бешено захлопали ей. Она была прекрасна.
Я вернулся к своему месту, счастливый, взмокший и пьяный. Один из организаторов мероприятия подошел к столу.
– Моби, вы не хотите встретиться с Донной? – спросил он.
– Да! – ответил я и вскочил на ноги. – Фэнси, пойдем познакомимся со звездой!
Организатор провел нас в маленький офис рядом с залом. Донна Саммер пришла туда вместе с мужем. Встречаясь со своими кумирами, я всегда старался вести себя спокойно и сдержанно, не выражать своих чувств. Но перед «королевой диско» я рассыпался в восторженных комплиментах.
Обычно «звездные» женщины в общении со мной вели себя довольно высокомерно. Но Донна Саммер была само обаяние. Она держалась приветливо и скромно, мы оживленно поговорили, ее муж сказал несколько приятных слов о моих записях, и они ушли наверх в свой номер.
– Фэнси, нам нужно куда-нибудь пойти, – сказал я, пьяный от водки и от Донны.
– Куда?
– Ты был в стрип-клубе на Таймс-сквер?
– Нет.
– И я не был.
Мы повернулись спиной к миллиардерам и покинули роскошную гостиницу ради стрип-клуба. Был вечер вторника, холодный и дождливый. На пустых улицах пищали мокрые крысы, искавшие в кучах мусора корочки от пиццы. Таймс-сквер стала в тысячу раз чище, чем была в 70-е и 80-е годы, но по-прежнему оставалась помойкой.
Мы отыскали вход в клуб под мигающей вывеской «Crazy Girls», заплатили и оказались в грязноватом, но просторном зале с большими зеркалами, стенами, окрашенными в черный цвет, низкими банкетками с тканевой обивкой и липкими коктейльными столиками.
Мы сели и заказали водку. В зал потянулись стриптизерши, радуясь, что в дождливый вечер вторника появился кто-то помимо преступников или дальнобойщиков с сифилисом. У Фэнси зазвонил телефон. Он взглянул на экран и с досадой сказал:
– Черт, это Пенни! Мне нужно идти.
Через секунду его и след простыл.
Я не почувствовал себя одиноким, потому что был пьян и сразу же разговорился с одной из стриптизерш под песню «Ja Rule», которую поставил диджей.
Я провел с нью-йоркскими богатеями достаточно времени, чтобы понять, что они несчастны.
– Ничего страшного, спасибо, – вежливо ответил я. И почувствовал, что мне нужно в уборную. Очень нужно. Немедленно. Пришлось бежать изо всех сил через зал. Я ворвался в ту же кабинку, где прикончил пакет наркоты, и немедленно избавился от всего, что, казалось, съел за весь последний год.
И вот в этот момент, когда я сидел на грязном унитазе, наркотик начал действовать. У меня закатились глаза, судорожно сжались челюсти, а по коже словно побежали электрические разряды. Я откинул голову к расписанной граффити стене, дергаясь и скрипя зубами. И начал смеяться.
– Когда-то я изучал Библию! – громко сказал я, ударяясь потной лысой головой о стену. И засмеялся еще громче. Снова выкрикнул: – Учил других вере в Бога!
И подумал: «Наконец, после долгих лет стараний, мне, кажется, удалось потерять – или продать? – душу!» Это было дьявольски забавно.
Кто-то резко постучал в дверь кабинки.
– Охрана. У вас все в порядке?
Я хихикнул.
– Все отлично!
Меня снова разобрал смех. Большую часть жизни я думал о себе, как об ужасном, неадекватном, низком человеке. Но скорее рисовался, чем серьезно оценивал себя. Теперь же пришло понимание: я и есть ужасный, неадекватный, низкий человек. Мои философские изыскания и духовность были сплошным притворством. Эта грязная плитка возле загаженного унитаза – символ моей истинной жизни.
Мне открылась правда. И эта правда освободила меня.
Часть четвертая
А затем все рассыпалось
Лондон, Англия
(2006)
– Привет, Моби! – сказал Дэвид Линч[171] своим высоким громким голосом. Я восхищался им с начала 70-х годов, когда мальчишкой посмотрел его полнометражный режиссерский фильм-дебют «Голова-ластик». И вот сейчас впервые встретился с Линчем лично.
Я приехал в Лондон выступать как диджей. Хизер Грэм[172] позвала меня послушать выступление-интервью Дэвида на церемонии вручения наград Британской академии кино и телевидения BAFTA. Хизер была кинозвездой, но больше всего среди ее актерских работ меня впечатляло ее краткое появление в «Твин Пикс». Она играла девушку агента Дэйла Купера. Когда я впервые встретился с ней, то завопил, словно фанат, неспособный себя контролировать:
– Вы играли Энни в «Твин Пикс»!
С тех пор мы стали друзьями.
Хизер забрала меня из гостиницы. В тот день она надела тонкое простое платье в цветочек и собрала свои чудесные волосы в хвост. Каждый раз, видя ее, я вспоминал, что она считается одной из самых красивых женщин в мире.
Мы доехали до театра, немного попозировали перед папарацци и нашли свои места.
На сцене включилось освещение. Дэвид Линч вышел, улыбаясь публике, в черном костюме и застегнутой на все пуговицы белой рубашке, с дымящейся сигаретой в руке. Интервью вел эрудированный журналист с кембриджским образованием. Он задал длинный путаный вопрос о творческом процессе, ожидая услышать такой же длинный ответ. Но Дэвид только покачал головой, воздел руки и воскликнул:
– Слушайте, творчество – это прекрасно!
Его слова нашли во мне неожиданно сильный отклик. Когда я начал писать музыку, я не думал о славе, а реагировал на простую магию нот, на способность мелодии заставлять меня плакать, петь и танцевать. Музыка давала мне утешение. Она дарила мне самые глубокие и сильные чувства, которые я больше ни от чего в жизни не испытывал.
Журналист продолжал донимать Дэвида умными вопросами, а я думал о том, что в последние несколько лет пытался принести творчество в жертву популярности. Мне стало стыдно.
После шоу мы с Хизер прошли за кулисы к Дэвиду.
– Привет, Хизер! Привет, Моби! – прогремел он, держа в руке бокал красного вина и улыбаясь. Мы были знакомы с ним лишь заочно, и мне польстило, что он сразу назвал меня по имени.
Я выразил свое восхищение его интервью. Мы поговорили о его фильмах и моих песнях, а потом обменялись адресами электронной почты. Через неделю он пригласил меня на «Уик-энд Дэвида Линча» в университете управления Махариши в Фэрфилде, штат Айова. Я понятия не имел, что такое университет Махариши, но тут же отменил все планы на выходные и ответил на письмо обещанием приехать. Я относился к Дэвиду Линчу с таким почтением, что, если бы он попросил меня пешком сходить в Аргентину за чашкой кофе, я бы ответил: «Есть, сэр!» – и собрался бы в путь.
В пятницу вечером я вылетел в Айову, и в аэропорту Седар-Рапидс меня встретила невысокая миловидная женщина из университета Махариши.
Небо было холодным и полным звезд, а я был в восторге: ведь мне предстояло провести выходные с Дэвидом Линчем! В последнем электронном письме Дэвид обещал, что в течение уик-энда я научусь медитировать.
– Вы медитируете? – спросил я свою сопровождающую.
Она рассмеялась:
– Мы тут в основном этим и занимаемся!
Небо было холодным и полным звезд, а я был в восторге: ведь мне предстояло провести выходные с Дэвидом Линчем!
Мы сели в такси, и по дороге она рассказала мне, что все постройки в Фэрфилде размещены по принципам аюрведы – смотрят фасадами на восток.
– А что такое аюрведа? – спросил я.
– Ну, в двух словах сложно изложить, – ответила она. – Вы узнаете об этом учении на занятиях медитацией.
Женщина высадила меня у маленькой гостиницы, стоявшей на холме рядом с кукурузным полем. Распаковывая вещи в номере, я услышал стук в дверь. Открыл – на пороге стоял Дэвид Линч в своем черном костюме и белой рубашке, с подносом еды в руках.
– Моби, привет! Я принес суп! – прогудел он.
Я онемел от удивления. Дэвид прошел в номер, словно счастливейший в мире коридорный, и поставил поднос на стол. Затем горячо пожал мне руку:
– Спасибо, что приехал!
– А когда меня будут учить медитировать? – неожиданно для себя спросил я.
Дэвид засмеялся.
– Бобби скоро научит тебя! Съешь суп. Он веганский, как ты любишь!
Дэвид знал, что я веган, и учитывал это! Он был удивительным человеком!
– Да, Моби! – спохватился он. – На уик-энд приедут Донован и Криста Белл[173]. Ты не мог бы в воскресенье вечером выступить вместе с ними перед гостями?
Я с радостью согласился, и мы обсудили программу будущего концерта.
* * *
Еще до моего отъезда в Фэрфилд мы с Дэвидом договорились, что в субботу вечером я проведу на его уик-энде акустический сет. Мне нужны были помощники, поэтому мои друзья, супруги Лора и Дэрон, прилетели выступить со мной. Лора была политической активисткой и пела, как Большая Мама Торнтон[174]. Ее муж работал редактором музыкального журнала и играл на гитаре. Проснувшись утром в субботу, я позвонил в их номер, мы встретились в вестибюле гостиницы и отправились на экскурсию по Фэрфилду.
Экскурсоводом у нас была та самая миловидная женщина, которая встретила меня в аэропорту. Она возила нас по городу и рассказывала, что Фэрфилд – не только мировой центр трансцендентальной медитации, но и фермерский город. Лора была родом из Айовы и все не могла поверить, что в ее родном штате находился город, полный фермеров и поклонников аюрведы.
– А что фермеры думают о медитации? – спросил я нашего экскурсовода.
– Поначалу, в 70-е, были некоторые сложности, – сдержанно ответила она. – Но потом все уладилось. Сейчас даже мэр медитирует!
Мы выехали на главную улицу. Представительство компании «Джон Дир», производящей тракторы, расположилось по соседству с магазином аюрведических трав, камней, специй и благовоний.
– Тут так… – Я запнулся, пытаясь подобрать подходящее слово.
– Чисто? – подсказала Лора.
– Странно? – спросил Дэрон, потому что так и было.
– Да. И спокойно, – добавил я. – Очень спокойно.
Наш гид рассказала, что в городе есть центры духовной практики, в которых люди медитируют по 24 часа в сутки.
– Они делают это ради мира и гармонии на всей Земле, – пояснила она. – Поэтому вы и сказали, что здесь спокойно. Непрерывные коллективные медитации создают в городе особую атмосферу.
Тут же мне вспомнились его слова: «Творчество – это прекрасно!»
Это звучало, как фантастический вымысел. Но я чувствовал: миловидная женщина из университета Махариши была права. Здесь что-то происходило. Здесь дышалось легко и отдыхала душа.
Мы созвонились и встретились с Дэвидом и Донованом за обедом в ресторане рядом с городской площадью.
– Махариши нужно было куда-то уйти в 70-е годы, – увлеченно рассказывал Дэвид Линч. – Поэтому он купил старый колледж в Фэрфилде и переехал сюда с 10 тысячами последователей. А теперь город стал магическим центром, который спасет мир!
Загадочная успокаивающая атмосфера Фэрфилда, чистый воздух Айовы, присутствие друзей и речи Дэвида – я чувствовал себя чудесно.
* * *
Я решил не пить в эти выходные, поскольку Фэрфилд был духовным местом, к тому же мне хотелось научиться медитировать и проводить как можно больше времени с Дэвидом. Когда он подошел к микрофону, чтобы объявить о начале моего акустического сета, кто-то из публики выкрикнул:
– Дай мне идею!
Дэвид без промедления ответил:
– ШАР ДЛЯ БОУЛИНГА, ПОЛНЫЙ КРАСНЫХ МУРАВЬЕВ, ПЛАВАЕТ В ОТКРЫТОМ КОСМОСЕ!
Тут же мне вспомнились его слова: «Творчество – это прекрасно!»
После акустического сета я собирался уйти из концертного зала и отправиться к себе в гостиницу, но ко мне подошла красивая женщина с короткими светлыми волосами.
– Привет, я Софи, – сказала она. – Хотите пойти выпить?
«Уик-энд должен быть трезвым и духовным, – тут же подумалось мне. – Но вреда в том, чтобы пойти выпить с привлекательной особой и посмотреть, как живут простые люди Фэрфилда, не будет!» К тому же мне стало интересно, смогу ли я пить как обычный человек, в магическом городе, который спасет мир. Обычные люди употребляют одну или две порции спиртного или одну-две кружки пива и возвращаются к себе в номер.
Софи отвела меня в один из немногих баров Фэрфилда, и я заказал нам по пиву. Бар был таким же чистым и тихим, как и город, в котором он находился. Я уселся рядом со своей новой знакомой на виниловую банкетку, и ко мне вдруг потянулись посетители. Они говорили, что им нравятся мои песни, и спрашивали, что я думаю о Фэрфилде. Эти поклонники медитации были очаровательны: они знали меня в лицо.
Раздав автографы, я повернулся к Софи, и мы стали мило болтать. Я взял второе пиво, как делают обычные люди в обычных барах. Потом подумал, что можно было бы выпить и третье, ведь вечер субботы только начинался, и до моего концерта с Донованом и Кристи Белл была куча времени, почти сутки. Потом я взял четвертое, потому что особой разницы между тремя и четырьмя нет. А потом кто-то купил мне стопку текилы. И еще одну стопку текилы. А подросток в футболке Tool спросил:
– Не хотите пойти на рэйв?
Меня это застало врасплох. Рэйв? В Фэрфилде?!
– Да! – ответил я, мой язык уже немного заплетался. – Да, хочу!
Я сел в машину вместе с Софи и подростком. По дороге он раскурил косяк с подмешанной к нему ангельской пылью, протянул мне, и я затянулся.
Через полчаса поездки по сжатым полям мы добрались до заброшенного зернохранилища на окраине города. Внутри него было нечем дышать от дыма самокруток. Несколько сотен подростков пили пиво и танцевали. Мне показалось, будто машина времени доставила меня в 1991 год. Я притянул к себе Софи и сказал:
– Мы на рэйве в Айове!
Ко мне подошел белый парень с длинными дредлоками на голове.
– Вы Моби? – спросил он.
– Ага.
Он обнял меня. Потом полез в карман и достал таблетку.
Диджей поставил «Porcelain». Софи потянулась ко мне. Мы стали целоваться.
Казалось, что ангар полон сияющих птиц. Янтарные и желтые отблески медленно двигались по стенам. Я сказал Софи, что только что получил откровение: мы оба – звезды и своей нежностью, испытываемой друг к другу, создаем новые светила.
– Мы все сделаны из звезд, – ответила она, улыбаясь.
Мне виделось золотое сияние вокруг ее головы. Я приехал в Айову за духовностью и медитацией, но достиг просветления, сидя рядом с прекрасной женщиной в куче мешков на рэйве.
Софи удалилась за выпивкой, а ко мне подошли несколько подростков-рэйверов.
– Ух ты, вы же Моби! – сказал один из них. – Здорово, что вы здесь.
Я улыбнулся.
Я обнял рэйверов и поплелся в ангар.
Софи подошла и протянула мне пиво.
– Где ты был? – спросила она.
Память отказала мне. Где и с кем я тусовался? Гулял в полях? С какими-то ребятами? Мне казалось, что это было очень давно.
– Искал тебя, – пробормотал я.
Мы снова сели на мешки, взялись за руки и стали целоваться. Потом завороженно смотрели на мигание огоньков цветомузыки. В течение часа. Или трех?..
Музыка умолкла. Огоньки погасли.
– О, не-ет! – протянул я, ощущая холод и отчаяние. – Все кончилось…
Софи печально улыбалась.
– Поедешь со мной в гостиницу? – спросил я. Меня вдруг затрясло от страха остаться одному.
– Моби, я живу с женихом, – с нежностью ответила она.
– Но ты же меня целовала…
– Ты такой грустный! – коснулась она моего лица.
– Ты можешь бросить его?! – с отчаянием спросил я. – Прямо сейчас! Позвони с моего телефона. Пожалуйста, не оставляй меня!
– Нет, мне пора. – Софи решительно встала и ушла.
Я выбрался на улицу и увидел, что почему-то уже наступило утро. Нашел дорогу к полю, служившему парковкой, и обратился к подросткам, что собирались садиться в микроавтобус:
– Я Моби. – Меня трясло, язык заплетался. – Вы меня не подвезете?
По дороге в город один из ребят предложил мне косяк.
Я сидел на заднем сиденье микроавтобуса, дрожа от холода и отчаяния, обхватив себя руками.
Подростки довезли меня до гостиницы. Там постояльцы уже собирались в ресторан на завтрак.
– Моби! – приветливо сказал один из них, подумав, что я вернулся с утренней прогулки. – Давайте к нам!
Я чувствовал себя демоном со сломанными зубами, поэтому только улыбнулся, приветственно помахал рукой и пошел к себе в номер. Там немного полежал на кровати, потом пошел в душ и попытался смыть с себя остатки алкоголя и наркотиков. Я стоял под струями горячей воды, дрожал и без конца повторял: «Что я делаю? Что я делаю?!»
Тихо всхлипывая, я лег на кровать и надел наушники, чтобы послушать «Bryter Later» Ника Дрейка[175]. Мне казалось, что мои тело и мозг необратимо повреждены, но голос Ника успокаивал. Я заснул.
* * *
В дверь стучали. Где я? Да, в Айове!
На мне все еще была вчерашняя одежда, и я не помнил, когда лег спать. Тогда было светло, а сейчас темно. Я умер? Вроде нет… Каждая клеточка моего тела стонала, и мозг, казалось, плавал в бассейне нашатыря.
– Кто там? – спросил я. Голос прозвучал глухо и слабо.
– Моби, это Дэрон! Ты в порядке?
Я с трудом поднялся с постели и открыл дверь.
– Сколько времени, Дэрон?
– Семь, – ответил он. – Тебе на сцену в восемь.
Он присмотрелся ко мне.
– Ты под кайфом?
– Не знаю.
Я покачал головой и тут же пожалел об этом, потому что чуть не упал. Пытаясь создать впечатление, что чувствую себя нормально, спросил:
– Как день прошел?
Дэрон рассказал, что они с Лорой сходили на аюрведический массаж, медитировали в группе, гуляли и осмотрели сад пряных трав.
– А ты чем занимался? – спросил он.
– Я только проснулся. Долгая ночь была… Танцевал на рэйве.
– В Айове бывают рэйвы?
– Бывают…
На микроавтобусе мы доехали до концертной площадки. За сценой я сел на белый пластиковый садовый стул и попытался перезагрузить мозг с помощью эспрессо. Театр был полон, пришло около тысячи человек. Неожиданно я вспомнил сон, который приснился мне перед самым пробуждением в гостинице. Он был особенным. Важным. Очень важным для меня. С неколебимой решимостью рассказать о нем зрителям я вышел на сцену.
Я стоял под струями горячей воды, дрожал и без конца повторял: «Что я делаю? Что я делаю?!»
Мне удалось сыграть и спеть несколько песен. И после «Natural Blues» я обратился к Дэвиду, сидевшему в первом ряду.
– Ладно, прежде всего мне нужно, чтобы меня научили медитировать, – сказал я в микрофон. Публика засмеялась. – А еще, Дэвид, вчера вечером, или, точнее, сегодня, я понял, кто такой Боб.
Я говорил о демоне из телесериала «Твин Пикс», который Дэвид Линч снял почти двадцать лет назад. В фильме Боб вселялся в тела других персонажей и творил зло.
Дэвид и остальная публика уставились на меня во все глаза.
– Мне приснился сон о Бобе. И вот что я понял: он не хотел быть злым.
Я снова посмотрел на Дэвида, наблюдая за его реакцией. Он улыбался, но явно был озабочен.
– Дэвид, – сказал я, – Боб плохой, он воплощение злого начала в нашем мире. Но он не хочет быть таким. Он страдает от самого себя. Ему больно от того, что он плохой.
Я замолчал. Потому что сказал о себе все, что хотел сказать.
Дариен, Коннектикут
(1983)
Я все-таки добился снисхождения Джима, Чипа и Джона. После моих настойчивых извинений они снова приняли меня в Vatican Commandos. За рождественские каникулы мы записали шесть песен для семидюймового сингла и теперь собирались на первые гастроли с несколькими молодежными рок-группами Дариена. Наш маршрут был таким: пиццерия в Огайо, старшая школа в северном Коннектикуте, а потом «Anthrax», маленький панк-рок-клуб в Стамфорде.
Состав Vatican Commandos немного изменился. Джон ушел из группы, чтобы посвящать больше времени своей потрясающей новой девушке Линдси. Чип по-прежнему оставался ударником, а вот Джим переключился с вокала на бас-гитару. Поэтому у нас появился новый вокалист, Чак. Он носил прическу «синий ирокез» и осенью собирался поступать на медицинский факультет Бостонского университета.
Вечером четверга вокалист «Reflex from Pain» – одной из групп, с которыми мы гастролировали, – забрал нас на фургоне своего отца. В кузове не было ни окон, ни сидений, так что всем пассажирам – нашей четверке, пятерым парням группы под названием «CIA», еще троим из «Reflex from Pain» и двум нашим друзьям-панкам из школы – пришлось все 12 часов дороги до Огайо сидеть на трясущемся металлическом полу.
Наш друг Шон написал о Vatican Commandos статью для «Neirad», газеты старшей школы Дариена. Когда мы выехали на I-95, Джим вручил мне один ее экземпляр. На первой странице я увидел нашу фотографию – выступление в «Pogo» на разогреве у Agnostic Front. Под ней размещалась небольшая хвалебная заметка. Это была первая публикация, в которой шла речь о нашей группе, и мы по очереди снова и снова перечитывали ее.
В четыре утра мы добрались до панк-сквота в Акроне и улеглись спать прямо на полу гостиной заброшенного дома – кучка подростков-панков, свернувшихся в клубочки и укрытых кожаными куртками. Долгая дорога измотала меня, но я лег спать счастливым: о Vatican Commandos написали в газете, и мы ехали на гастроли!
Через три часа я проснулся от того, что облезлый пес с повязанной на шею банданой обнюхивал мое лицо. Улыбающийся панк с ярко-зеленым «ирокезом» весело объявил:
– Мы приготовили чечевицу и бурый рис!
Это была первая публикация, в которой шла речь о нашей группе, и мы по очереди снова и снова перечитывали ее.
Я удивился выбору блюд на завтрак. Зеленоволосый панк увидел мое вытянутое лицо и стал подробно объяснять, что такое веганство. «Это полезно для здоровья!» – завершил он свою долгую тираду. Моя «диета» состояла из хлопьев в глазури, пиццы, хот-догов и еды из «Бургер-кинг». Так что не было никаких шансов, что я соглашусь есть на завтрак что-то «полезное для здоровья». Особенно чечевицу и бурый рис.
– Нужно добыть нормальной еды, – вполголоса сказал я Джиму. Мы надели кожаные куртки и долго шли по Акрону, пока не набрели на ресторан фастфуда.
– Мне приснился очень странный сон, – сказал Джим, когда мы стояли в очереди, чтобы сделать заказ. – Ты играл на стадионе перед сотней тысяч людей. И не просто так. Ты стоял на танке.
– Дикость какая, – ответил я. – С Vatican Commandos?
– Нет, ты был один. Без рубашки.
– Как Фредди Меркьюри?
Он засмеялся. Мы взяли на завтрак гамбургеры и шоколадные коктейли. Джим усмехаясь, сказал:
– Ты знаешь, ведь эти коктейли можно назвать веганскими. Потому что в них нет молока.
* * *
На наше выступление в пиццерии по билетам ценой в пять долларов пришло несколько человек – точнее, семеро. Это были обитатели сквота и парни из других групп. Мы быстро соорудили сцену: отодвинули несколько столов и установили оборудование между входом и музыкальным автоматом.
Выступление Vatican Commandos открывало концерт. Мы сыграли «Hit Squad for God»[176], и после этого у входа в пиццерию стали толкаться зрители. Кое-кто из них покупал билет и проходил за стол. Мы спели все двенадцать наших песен за двадцать пять минут и уступили место на сцене другой группе.
К десяти вечера концерт закончился. Мы погрузили инструменты в фургон, поели пиццы и вернули на место сдвинутые столы и стулья.
Утром мы заехали в «Макдоналдс» купить еды в дорогу и начали долгое путешествие назад в Коннектикут. В начале пути мы все уплетали бургеры. А через час у меня неожиданно прихватило живот.
– Ребята, – жалобно сказал я, – кажется, мне нужно в уборную.
– Ладно, – сказал из-за руля вокалист Reflex from Pain, – я поищу заправку.
Через несколько минут я запаниковал.
– Мне нужно сейчас! – объявил я.
– Эй, мы черт знает где! Потерпи немного!
– Нет! – истерически закричал я. – Мне очень надо!
Фургон резко остановился, и я выпрыгнул из кузова, стягивая на ходу штаны. Едва успел отбежать на несколько футов от машины, как меня прорвало.
– О, гадость! – застонал Джим. Ребята высунулись из фургона и стали кидать в меня пустые пивные банки. А мой кишечник бурно исторгал свое содержимое на землю.
Я был рад, что сумел вернуться в группу.
– Хватит! – кричал я, пытаясь уворачиваться от летящих в меня банок, сидя со спущенными штанами.
– Быстрее, Моби! – кричали парни. – Мы уезжаем!
– Ладно, отстаньте от него, – стал успокаивать ребят Джим. И заслужил этим мою вечную благодарность.
Через пять минут кишечник опорожнился, и я вернулся в фургон. Но нам пришлось останавливаться еще несколько раз. Меня рвало и несло. Мой дом находился по дороге к той школе, где должен был проходить наш концерт. Ребята решили завезти меня домой, чтобы я пришел в себя, а потом заехать за мной. К моему дому в Дариене мы подъехали в полдень. Меня лихорадило и трясло. Но я старался не терять мужества, держаться – нельзя было сорвать наши гастроли!
– Заедем за тобой через два часа, – сказал Джим, и фургон, фырча, отъехал от моего дома.
Я посидел на унитазе сколько положено, рухнул на постель и уснул. Разбудили меня гудки фургона, подъехавшего к дому. Я прислушался к себе. Мне стало намного лучше. Видимо, жгучее желание не подвести своих друзей на гастролях исцелило меня. Фургон продолжал сигналить – я быстро почистил зубы и выбежал из дома.
Мы направились в Чоут Розмари Холл, одну из самых чистых и красивых подготовительных школ в Коннектикуте. Один из тамошних старшеклассников стал ярым поклонником панк-рока и, однажды увидев в «Anthrax» выступления Vatican Commandos, Violent Children и Reflex from Pain, захотел познакомить с ними Чоут. Он предложил всем нам сто долларов за концерт наших коллективов в школе. Мы согласились.
Единственной проблемой были названия групп, слишком жесткие для рафинированного и чувствительного Чоута. И Vatican Commandos превратилась в Velvet Calm, Reflex from Pain – в Reflections from Poetry, a Violent Children так и осталась Violet Children.
Мы играли в актовом зале. Солнце садилось за поросшие плющом кирпичные здания. «Толпу зрителей» составляла пара десятков чистеньких учеников. Наш промоутер, поклонник панк-рока и организатор концерта, стоял у входа в зал, зазывая проходящих по коридору школьников.
Когда мы играли «Point Me to the End»[177] – одну из самых наших мрачных и быстрых песен, стиль которой больше напоминал спид-метал, чем панк-рок, – я посмотрел на своих Vatican Commandos и подумал: «А вообще мы хороши!» Чип стал быстрым и сильным ударником. Джим – безумным и яростным бас-гитаристом. А Чак был маленьким крикливым демоном, орущим на пределе дыхания и взвинчивающим публику. Я был рад, что сумел вернуться в группу.
После концерта Джим с Чипом и Чаком выпили на парковке легкого пива, а так как я по болезни не мог составить им компанию, меня назначили водителем. По дороге они продолжали пить, а я слушал подборку «Flex Your Head».
– Не вздумай гадить в машине, Моби! – крикнул Джим.
Я засмеялся:
– Ничего не обещаю!
Нью-Йорк
(2007)
Мне был нужен хит.
Моя слава увядала: несколько лет назад о моем участии в музыкальных фестивалях объявляли в первую или вторую очередь, а теперь я стоял в ряду участников четвертым или пятым. На некоторых фестивалях мне даже приходилось играть днем. А выступать днем перед 50 тысячами человек, изнывающими под палящим солнцем, – смерти подобно для того, чья карьера не в лучшем состоянии.
Угасающая популярность приводила меня в ужас. Несколько лет назад меня постоянно приглашали на вечеринки. Вечеринки рок-звезд. Вечеринки кинозвезд. Вечеринки чиновничьей элиты. А теперь приглашения приходили все реже, и сами празднества были не столь престижными, как те, в которых я участвовал после выхода Play.
Я боялся, что если потеряю популярность, то никогда не найду ту, кто наконец полюбит меня.
Но сегодня все должно было сложиться иначе: меня пригласили на празднование дня рождения миллиардера. Я собирался поехать на вечеринку, закончив работу над песней.
Последние несколько дней я не вылезал из студии. Потому что задался целью создать хит, который вернул бы мне славу – под стать той, что была у меня после Play. В песне, над которой я работал, был приятный диско-припев с повторяющейся фразой для женского голоса «I love to move in here»[178]. Я хотел добавить диско-ударные, перкуссию и немного клавишных в стиле старого хауса, но понимал, что этого недостаточно. Трек в его нынешнем состоянии не мог стать тем, что мне нужно. С минуты на минуту в мою студию должен был прийти Грандмастер Каз[179], и я надеялся, что его вокал все изменит. Песня зазвучит иначе и избавит меня наконец от проклятия дневных выступлений на фестивалях.
Грандмастер Каз был хип-хоп-легендой. Он создал большинство знаковых рэп-треков конца 70-х и начала 80-х годов. Многие считали, что он, собственно, и изобрел рэп. Я связался с ним неделю назад и спросил, не согласится ли он исполнить несколько куплетов на моей новой пластинке. К моему удивлению, Каз согласился.
Я боялся, что если потеряю популярность, то никогда не найду ту, кто наконец полюбит меня.
Нью-йоркское хип-хоп-сообщество все еще любило меня. Я делал ремиксы со многими своими рэп-кумирами, например, с Public Enemy, MC Lyte, Busta Rhymes и Nas. И большая часть нью-йоркских исполнителей хип-хопа и их продюсеров обычно очень тепло относились ко мне. Они всегда вставали на мою сторону, говоря что-то вроде: «К черту Eminem, Моби, мы прикроем тебе спину!» Это было приятно, но положения вещей не меняло. Eminem был самым успешным музыкантом на планете и с каждым годом продавал все больше записей, а я – все меньше.
Грандмастер Каз прибыл, я установил микрофон, и он безупречно записал свою вокальную партию за несколько минут. Мне всегда было неуютно, когда в моей маленькой студии находился кто-то еще – обычно я работал один. А Каз был крупнее и выше даже нехилого Лу Рида, или Дэвида Боуи, да и всех других музыкантов, бывавших в моей студии. Поэтому после записи вокала мы переместились в гостиную. Я налил нам по чашке чая, и мы беседовали, вспоминая Нью-Йорк 80-х, обсуждали новые популярные хип-хоп-записи.
После того как Каз ушел, я собрал песню, добавив больше перкуссии и клавишных. К семи вечера она была готова. Я проиграл ее, и мне все понравилось. Песня получилась необычной – медленной и сильной. Но она не была хитом.
Я почувствовал злость, тревогу и стыд. Злость на себя, потому что я не мог написать хит. Тревогу – из-за того что моя карьера катилась по спирали вниз. И стыд – потому что в своей среде я стал «грустной шуткой» – угасшей звездой, забытым кумиром прошлых лет, который по-прежнему выходит в свет, напивается и тащит домой любую женщину, которая согласится с ним идти.
На самом деле – и в этом невозможно было себе признаться – я ненавидел себя за то, что извратил свою собственную музыку.
В последние годы основным критерием оценки музыки, которую я писал, стал для меня ответ на вопрос: «Поможет ли созданное моей карьере?» Я надеялся, что сумею освободиться от подхалимской жажды славы и вернусь к написанию музыки ради самой музыки, ради создания гармонии. Не беспокоясь о том, будет ли эта гармония продаваться. Но вот он я: осудил прекрасную песню из-за того, что она не хит! Моя натура унижала меня…
Я выключил оборудование, испытывая отвращение к тому, чем я стал, и надел лучший костюм. Меня пригласили на вечеринку в честь дня рождения миллиардера-застройщика Ричарда ЛеФрака. Видимо, кто-то из его помощников, организаторов праздника, считал, что я по-прежнему молод и хорош.
Мне хотелось позвать с собой кого-нибудь из друзей. Но многих я потерял, а те, кто остались, были счастливо женаты и жили в пригородах. Я бы остался дома. Какое это удовольствие – идти на празднование дня рождения человека, которого ты не знаешь? Но Ричард ЛеФрак арендовал Бальный зал Хаммерштейн и нанял Earth, Wind & Fire, а я никогда не видел их живого выступления.
Я доехал на такси до Бального зала, одного из самых красивых старых театров Нью-Йорка, и немного постоял перед парадными дверями. Здесь проходил мой концерт в 2000 году. Сначала я арендовал зал на один вечер, но все билеты быстро разошлись, и я организовал второй концерт, а за ним – третий…
У меня защемило сердце – от сожаления, от тоски по безмятежным дням, когда все было так просто.
На самом деле – и в этом невозможно было себе признаться – я ненавидел себя за то, что извратил свою собственную музыку.
Зал вмещал 3500 человек, но сегодняшняя вечеринка собрала всего две сотни гостей. Перед сценой были расставлены столы и стулья. Меня посадили между одной из дочерей Херста и наследником фармацевтической компании Саклера. Я осмотрелся. Тут был Трамп. Тут был Майкл Блумберг. Еще кое-кто из недавно разбогатевших миллиардеров.
– Можно взять их всех в заложники и на их деньги основать новую страну, – сказал я дочери Херста, сидящей рядом.
Она побледнела, а меня затопил стыд: я вспомнил, что ее мать в 70-е годы похитили и держали как заложницу.
– Простите, я идиот. Это было глупо, – сказал я, искренне раскаиваясь.
– Ничего страшного, – ответила она, но отвернулась от меня, беседуя с управляющим инвестиционного фонда, сидевшим справа от нее.
Я заказал водку, и еще водку, и тихо пил, пока официанты приносили блюдо за блюдом, которые меня не интересовали. После ужина отряд персонала отодвинул столы к краям танцпола, свет померк, и на сцену вышли ребята Earth, Wind & Fire. Несколько человек захлопали, но большая часть миллиардеров продолжала болтать со своими друзьями или, как Дональд Трамп, разговаривать по телефону.
Концерт был не выдающимся, но группе заплатили за выступление, и они нормально играли. Я уже выпил шесть или семь стопок водки, поэтому, когда зазвучала «September», встал и пошел на танцпол. Ко мне присоединились несколько миллиардеров со своими накачанными ботоксом любовницами.
«September» была одной из тех песен, которые кажутся легкими и веселыми, но по своей сути глубоко меланхоличны. Я посмотрел на огромный зал театра: слова «Помни, как звезды украли ночь» отдавались эхом от рядов пустых кресел. Всего семь лет назад я наполнял этот театр счастливыми людьми.
Вокалист Earth, Wind & Fire казался уставшим. Последний слова песни – «Колокол звонил, наши души пели, ты помнишь?» – звучали, словно причитание.
Потом ребята сыграли «Shining Star», и почти все, кто был на вечеринке, наконец вышли танцевать. Некоторые молодые гости улыбались, но у большинства зрелых и пожилых выражение лица было таким же, как у могильщика в городе, где никто не умирает. «Зачем нужно неприличное богатство, если ты настолько несчастен?» – недоумевал я.
Миллиардеры без всякой радости поднимали ноги, с трудом попадая в такт музыке. Но на другой стороне танцпола я увидел официантов. Парни стояли у стены, пританцовывая и подпрыгивая на месте. Они получали совсем небольшую зарплату, но не унывали и сейчас улыбались и радостно двигались под музыку Earth, Wind & Fire. А миллиардеры… Да что там говорить!
И я понял: эти мешки с деньгами не просто маялись в танце – они были злы. Мир принадлежал им, а их раздражало все вокруг. Что во мне сломалось, если я захотел жить так же, как они?!
Среди них был Дональд Трамп. У него было больше денег, чем можно мечтать, он стал звездой собственного реалити-шоу. Но, тыкая в телефон коротким, поросшим оранжевым волосом пальцем, он казался самым озабоченным человеком на планете.
Безрадостная вечеринка меня доконала. Я покинул зал и вышел на улицу. Накануне я начал работать над песней[180] с певицей по имени Сильвия, и мне захотелось прослушать то, что у нас получилось.
Сильвия появилась в моей студии неожиданно. Она пришла и сказала, что написала на мою музыку стихи. Я прослушал ее, и мне понравился и голос девушки, и текст песни. В тот же день мы сделали запись. Но мне все не хватало времени закончить ее обработку.
Вернувшись на такси в студию, я включил оборудование, открыл сессию программно-аппаратного комплекса «ProTools» с голосом Сильвии и стал слушать записанный трек. На нем пока были только вокал и клавишные.
Я собирался стилизовать песню под дип-хаус, но после сегодняшней лихорадочной погони за хитовостью музыка во мне не звучала.
Голос Сильвии струился вокруг меня:
- If this be my last night on Earth
- Let me remember this, for all that it’s worth[181].
Я гнался за позолоченными химерами мира, хотя все, что мне действительно было нужно, пребывало здесь. Искренний, глубокий голос Сильвии; несколько простых повторяющихся аккордов; мелодия, проникающая в душу. Неважно, как именно я разрушал себя, предавал свой талант и убеждения. Неважно, как яростно торговал собой. Музыка все еще терпеливо ждала меня.
Я сидел в одиночестве в крохотной студии и слушал голос Сильвии.
- If this be our last night on Earth
- Remember us, for all that we were[182].
Нью-Йорк
(1983)
В конце последнего учебного года в старшей школе я ездил в Нью-Йорк на поезде или на машине вместе с друзьями – на концерты Fear в «Mudd Club», Echo & the Bunnymen в «Peppermint Lounge», Depeche Mode и Cure в «Ritz», Bad Brains в «CBGB», Kraut и Agnostic Front в «A7» и Minor Threat в «Great Gildersleeves». До сих пор мы не были только в «Danceteria» – четырехэтажном ночном клубе. Я видел его рекламу в «Village Voice» и «New York Rocker», и, судя по ней, это место было лучшим на Земле.
До выпуска оставалась неделя, занятия в школе закончились. Осенью я собирался поступать в Коннектикутский университет, а до того мне нечем было заняться – разве что играть музыку, слушать музыку и зарабатывать, ухаживая за соседскими участками, деньги на новые пластинки.
Накануне школьной церемонии прощания с выпускниками я, Дэйв, Джим и Чип позаимствовали фургон мамы Дэйва и поехали в «Danceteria» на концерт Mission of Burma и Bad Brains. Выезжая из Дариена, мы слушали кассету, на которую я записал песни этих групп. Под навязчивое гитарное соло из «Banned in DC» мы вырулили на шоссе 278, и впереди показался Манхэттен. Коннектикут остался позади, наша машина приближалась к Нью-Йорку.
Мы припарковались у «Danceteria», и каждый из нас требовательно себя оглядел. В лучший ночной клуб мира нужно было одеться соответственно. Поэтому Джим был в футболке Misfits и кожаной куртке. Дэйв надел фланелевую рубашку поверх футболки Devo. И даже Чип, который никогда не носил ничего, кроме старых однотонных мужских сорочек, принарядился в футболку с изображением Мика Джаггера в образе Франкенштейна. На мне была зеленая рубашка с короткими рукавами, на которой я маркером написал «ALIEN NATION», и красно-золотой полосатый галстук из благотворительного магазина, повязанный на голову.
Осенью я собирался поступать в Коннектикутский университет, а до того мне нечем было заняться – разве что играть музыку, слушать музыку и зарабатывать, ухаживая за соседскими участками, деньги на новые пластинки.
Мы не знали, сможем ли войти в клуб, – никто из нас не достиг совершеннолетия, – и поэтому я решил притвориться перед контролером недовольным британцем. Я подошел к нему и с ужасным акцентом, которого нахватался у комик-группы «Монти Пайтон» и Бенни Хилла, спросил:
– Да, Mission of Burma сегодня играют?
Контролер настороженно посмотрел на меня, сказал: «Угу!» – и открыл дверь. И мы вошли.
Внизу у первого пролета лестницы висело расписание: Mission of Burma играли в подвале в одиннадцать вечера, а Bad Brains – на главной сцене в полночь. На третьем этаже можно было посмотреть видео с лаунж-музыкой «новой волны», а на четвертом и пятом – соответственно, с диско и хип-хопом. Создавалось ощущение, что мы нашли четыре выигрышных билета!
Было десять вечера, и мы решили посетить видеосалон с лаунж-музыкой. Подростки в темно-сером и черном бродили по помещению, сидели на дешевых барных стульях, а видеожокей крутил клип Bauhaus. Мы видели несколько клипов «новой волны» и панка в музыкальном магазине «Rocks in Your Head» на Принс-стрит и в «Ritz» перед концертами рок-групп, но в Коннектикуте ничего такого пока не было.
Мы сидели и смотрели «Third Uncle», и «Kick in the Eye», и «She’s in Parties». А потом виджей поставил «Love Will Tear Us Apart». Я всегда любил Joy Division, но понятия не имел, что у них есть клипы. Мы в молчаливом восторге слушали, как Иэн Кертис поет одну из красивейших песен, когда-либо написанных. Сценарий видео была простой: группа просто играла в длинном пустом помещении. Но я в первый раз увидел, как Кертис поет. И к концу песни готов был заплакать.
Потом мы спустились по узкой лестнице в подвал, где стали ждать выхода Mission of Burma. Я пошел искать уборную. В конце темного коридора, рядом с «комнатой для мальчиков» была дверь с надписью «Гримерная». Vatican Commandos несколько раз играла в клубах, но никогда прежде не пользовалась настоящей гримерной. Я набрался храбрости и осторожно открыл дверь. За столом в дальнем конце помещения сидели шесть или семь человек. Я сразу узнал среди них гитариста Mission of Burma Роджера Миллера, ударника Питера Прескотта и басиста Клинта Конли.
Это была гримерка группы, и я явно пересек священную черту!
– Добро пожаловать в штаб-квартиру Burma! – махнул мне рукой Роджер Миллер.
– Что? Ой, простите… – смущенно сказал я, пытаясь сдать назад.
– Эй! – окликнул меня Питер Прескотт. – Заходи!
Я подошел к столу. И, наверно, выглядел как испуганная мышь.
– Я Роджер, а это Burma, – приветливо сказал Миллер, показывая на своих друзей.
– Привет, я Моби, – робко представился я. Мне хотелось быть крутым, но никак не получалось. Поэтому я выпалил: – Я просто хотел сказать, что очень люблю вас и очень хочу увидеть вас на сцене!
– А что, у нас концерт? – шутливо округлил глаза Клинт Конли.
– Черт, спасибо, что напомнил, – засмеялся Питер Прескотт.
Они говорили со мной. Они были добры и смеялись. Мог ли я тоже засмеяться или ответить им?
– Ладно рад был встретиться спасибо увидимся на концерте спасибо! – выпалил я без пауз по дороге к двери.
Подбежав к сцене, где стояли мои друзья, я крикнул:
– Я только что видел Mission of Burma!
– Что?!
– Правда! Я зашел в гримерку и поговорил с ними!
Группа вышла на сцену под аплодисменты четырех десятков человек, собравшихся в подвальном зале.
Мы в молчаливом восторге слушали, как Иэн Кертис поет одну из красивейших песен, когда-либо написанных.
– Вот они! – показал я на музыкантов пальцем. – Я только что говорил с ними!
– Успокойся, Моби, – сказал Чип. – Они обычные люди.
Он ошибался. Они не были обычными людьми – они были героями: записывали пластинки и ездили на гастроли. Обычными людьми были Чип, Джим, Дэйв и я. Поэтому именно мы слушали музыкантов Mission of Burma, а не они нас.
Их выступление было прекрасным – эмоциональным, звучным, ярким. Они завершили его песней «Academy Fight Song» и ушли со сцены. Я вопил и стучал по барьеру рампы, а вся остальная аудитория уважительно хлопала.
Мы с друзьями бегом поднялись по лестнице, успев в главный зал как раз к моменту выхода Bad Brains.
– Привет, мальчики и девочки, – сказал H.R., вокалист группы. И музыканты начали играть «I». Зал взорвался, сотня бритоголовых и панков стала толкаться и радостно колошматить друг друга. Мы бросились в толпу, падали, поднимались, толкались и получали пинки, пока Bad Brains играли песню за песней.
Когда группа ушла со сцены, мне стало ясно, что это был лучший вечер в моей жизни.
– Поедем домой? – спросил Дэйв, когда зал опустел.
«Нет, не поедем! Мы должны поселиться в «Danceteria»!» – восторженно подумал я. И предложил:
– Сходим наверх?
Мы поднялись по лестнице, миновав видеосалоны с лаунж-музыкой, и оказались в хип-хоп-клубе. Мы любили хип-хоп (потому что один из наших богов, Джо Страммер, отзывался о нем с восхищением), но были здесь чужими. Мы не знали ни одной песни, поэтому скромно стояли у стены и смотрели на танцующую толпу.
В подвале на выступлении Mission of Burma было всего 40 человек. Сотня человек бесновалась под Bad Brains. Но в этом душном зале было еще больше людей, которые бурно приветствовали каждую новую песню. Тут были черные, белые и азиаты, мужчины и женщины, гетеросексуалы и геи. Диджей поставил «The Message» Грандмастера Флэша[183], и я пришел в восторг, потому что слышал ее по радио.
– Это «The Message»! – крикнул я друзьям. – Я знаю эту песню!
– Может, поднимемся на четвертый этаж? – спросил Чип.
Над залом хип-хопа работала дискотека для гомосексуалистов. Слабо освещенное помещение было заполнено людьми и туманом. Мы ничего не знали о культуре геев. Мужчины и женщины танцевали и прикасались друг к другу. Диджей завел «I Feel Love» Донны Саммер, и толпа – может быть, человек двести – завопила. Я никогда прежде не слышал, чтобы люди так громко и счастливо кричали.
– Пойдем, – сказал Чип.
Я не слышал его и прошел в зал, ближе к музыке и стробоскопам. Было поздно, мои друзья устали и хотели назад в Дариен, домой.
Но мне не нужно было никуда ехать. Я был дома.
Нью-Йорк
(2007)
За несколько недель до Дня святого Валентина я познакомился с замечательной женщиной по имени Николь. И, как обычно, после первого свидания начал паниковать. Я хотел покончить с этим и сбежать, но мой терапевт, доктор Любеткин, запретил мне это делать.
– Если вы не останетесь и не проработаете панику, то вам так и не станет лучше! – строго сказал он.
Я продолжал посещать терапевта, но, похоже, особо не продвинулся в борьбе с паническими атаками. Доктор Любеткин мне нравился, потому что он был добродушным и не боялся резко высказаться, если я шел вразнос. Поэтому я посещал его сеансы уже почти год. Но мне не нравилось, когда он заставлял меня противостоять страху, от которого шарахалась каждая часть моей натуры.
– Если бы вы не сходили с ума и не паниковали, как бы вы поступили? – требовательно спросил он.
– Провел бы День Валентина с Николь, – честно ответил я.
– Так и сделайте.
Мы с Николь отметили праздник в ресторане, а потом она провела ночь в моем «небесном замке» над Центральным парком в Эль-Дорадо. Утром она ушла, а на меня накатил яростный приступ паники, от которого болели мышцы и скрипели зубы. Мне было хорошо известно, что все это прекратится, как только я приму решение порвать со своей женщиной. Но доктор Любеткин был против. И весь день 15 февраля я пытался бороться с паникой. Но боль усиливалась. И наконец 16 февраля я сдался.
Я позвонил Николь, объяснил ей, что у меня жуткие панические атаки, и поэтому, несмотря на то, что у нас было всего два свидания, нам нужно прекратить встречаться. Она расплакалась. А я чувствовал себя самым дрянным человеком в мире и просто повторял: «Прости!» – снова и снова. Она положила трубку, и меня захлестнула ненависть к себе. Но мой поломанный мозг добился своего, и паника ушла.
Этот цикл продолжался десятилетиями: сходить на свидание, получить в ответ паническую атаку, прекратить отношения, избавиться от страха. После этого я страдал. Иногда, чтобы почувствовать себя лучше, я рассказывал о своей личной жизни Иванке Трамп, если удавалось увидеть ее. Мы не были близко знакомы, но в последние несколько лет часто встречались на благотворительных мероприятиях и вечеринках, и она всегда вела себя со мной благожелательно. Вот и сейчас, после разрыва с Николь, я столкнулся с Иванкой на ежегодном балу Музея города Нью-Йорка. И стал рассказывать о своем Дне святого Валентина. Я никогда не говорил ей о панических атаках. Поэтому болтал об ужине в «Candle 79», о коктейлях в баре «Angel’s Share» на Девятой улице и вечерней прогулке по городу.
Она любезно улыбалась, но я понятия не имел, смеется она надо мной или ей действительно интересна моя отредактированная история. Когда я замолчал, Иванка поведала, что ее бойфренд уехал из города и она провела Валентинов день в одиночестве.
Подошедший высокий стройный мужчина взял ее за руку.
– О, Моби, это Джаред, мой парень! – воскликнула она.
Я встречал Джареда раньше. Он издавал «New York Observer» и устраивал вечеринки, на которых мне приходилось бывать. Они с Иванкой ушли к своему столу, за которым сидел ее отец, похожий на раздутого массажиста в смокинге.
Оказавшись в одиночестве, я подошел к барной стойке, заказал водки с содовой и оглядел зал.
Это мероприятие, ежегодный сбор средств для Музея города Нью-Йорка, считалось среди городской элиты одним из самых значительных событий года. Здесь были все нью-йоркские миллиардеры. Они беседовали, сидя за богато сервированными столами.
Высокая и привлекательная молодая женщина в черном платье, шатаясь, подошла к бару и заказала «буравчик» с водкой.
– Суки они!.. – пробормотала она.
– Что? – спросил я, хотя не был уверен, что незнакомка обращалась ко мне.
Этот цикл продолжался десятилетиями: сходить на свидание, получить в ответ паническую атаку, прекратить отношения, избавиться от страха.
– Все они суки, – повторила она, обводя рукой зал. – Год назад эти стервы были моими лучшими подругами. – Она явно имела в виду жен или любовниц присутствующих здесь богатеев. – А теперь они со мной даже не разговаривают!
– Почему?
– Я развелась, и они боятся, что я начну спать с их мужьями.
– Сочувствую… – Мне больше нечего было ей сказать.
– Ты милый. – Женщина смотрела на меня, словно на заблудившегося ребенка. – Что ты здесь делаешь?
– Я здесь с друзьями.
– Знаешь, все отношения – фальшивка! – решительно выдала незнакомка. – Женщины боятся сказать, а мужчины все импотенты. – Она залпом допила коктейль. – К черту их.
Я промолчал, потому что ее сентенция была спорной. Она заказала себе водку с содовой.
– Мой муж стрелял в меня, – продолжила разговор женщина, показывая шрам на руке. – Я изменяла ему, и, когда он узнал, запер меня в комнате в нашем доме в Амагансетт и стал стрелять. Но не попал. Твое здоровье.
Мы чокнулись.
Я был на десятках подобных мероприятий, но никогда прежде разговоры не заходили дальше обсуждения цены какой-нибудь картины на аукционе или того, кто куда собирается поехать на выходные. Я не мог определить, старше меня эта женщина или младше. Но в момент ее появления отметил, что она симпатичная. Теперь, во время ее откровенного краткого монолога, увидел, что она по-настоящему красива.
– Хотите уйти отсюда? – спросил я.
– Я должна остаться, – ответила она, опрокидывая в себя порцию водки с содовой. – Или нет. К черту их, пойдем.
Мы покинули зал и прошли по длинным музейным коридорам, полным мундиров времен Революции, бальных платьев XIX века, напудренных париков, ливрейных жилетов.
– Почему родители дали тебе такое странное имя, Моби? – спросила моя новая спутница.
– Ну, мое настоящее имя Ричард Мелвилл Холл, но родители решили, что Моби – милое прозвище для ребенка, который приходится родственником Герману Мелвиллу, автору «Моби Дика».
– Ричард Мелвилл Холл, – сказала она, словно пробуя мое имя на вкус. И засмеялась.
Мы вышли на улицу, продуваемую холодным осенним ветром, и сели в ожидавший меня лимузин. Я попросил водителя отвезти нас в «Box», потому что не знал, куда еще можно было пойти с дамой из высшего круга Нью-Йорка.
– Ты крутой музыкант. Зачем ты пришел на этот дурацкий спектакль? – вдруг спросила она.
Мне нравилась эта женщина и ее неподдельная честность. Поэтому я ответил искренне, как мог:
– Я родился в Гарлеме, но рос в Коннектикуте как «белый мусор», мне было стыдно за бедность моей семьи. А теперь иногда красивые и богатые люди, которые в старшей школе со мной не стали бы говорить, приглашают меня на вечеринки. И я хожу на них, потому что тогда чувствую, что наконец что-то значу.
– Поверь мне, – сказала она, – не нужно дружить с ними. У тебя намного больше прав, чем у них. Ты создаешь вещи. А они – просто пиявки. Я знаю, я сама пиявка.
– Нет, – возразил я. – Насчет себя ты ошибаешься.
– Спасибо, Моби. Но единственное, что я могу сделать, чтобы сотворить что-то красивое, как ты в музыке, – это нанять дизайнера или декоратора.
– Ты крутой музыкант. Зачем ты пришел на этот дурацкий спектакль? – вдруг спросила она.
Мы доехали до «Box» и, пройдя мимо длинной очереди, тянувшейся ко входу, вошли в бар. Это заведение несколько недель назад открыл мой друг Саймон, и я стал одним из инвесторов в его проекте. «Вох» располагался в арендованном помещении бывшего магазина автозапчастей. После того как на ремонт и обустройство фасада здания, зала и подсобок было потрачено несколько миллионов долларов, на месте невзрачного торгового предприятия появился маленький и красивый театр с внешним архитектурным убранством, исполненным в стиле XIX века. Интерьер бара – искусственно состаренные обои и мебель, венские стулья, кожаные диваны – полностью соответствовал его внешнему оформлению.
В архитектуре и дизайне помещений Нью-Йорка захватила власть мода на ретро. Я заметил, что застройщики центра прикладывали все усилия, чтобы новые здания выглядели так, будто им уже сотня лет. В начале улицы высился отель «Bowery»; он был похож на переоборудованную двадцатиэтажную швейную фабрику 1905 года. Истина заключалась в том, что четыре года назад на этом месте стояла двухэтажная автозаправка.
Официант провел нас к столику у сцены. Мы заказали коктейли по 35 долларов. Хоть я и был инвестором, но за коктейли по-прежнему приходилось платить.
– Что это за хрень? – поинтересовалась моя спутница, глядя на сцену, где артист-альбинос отсасывал сам себе, а карлик открывал рот под фонограмму Бритни Спирс. Управляющие хедж-фондов за столиками вокруг нас веселились, покоренные обаянием уличного искусства.
– Это конец мира, – спокойно ответил я, допивая коктейль.
Мы заказали еще коктейлей и досмотрели представление до конца: танцовщицы топлес; артистка бурлеска, занимавшаяся сексом со статуей; певец в серебряных стрингах, поющий «Stairway to Heaven» и крутящий сальто назад; и, наконец, мой старый друг Мюррей Хилл, комедиант-трансвестит старой школы, безжалостно оскорбляющий публику, смеющуюся в ответ и кидающую на сцену деньги.
– Ну, это… хм, – сказала моя спутница.
– Именно, – согласился я.
Позже мы поднялись наверх, в кабинку с занавесками, чтобы побыть наедине и, возможно, начать целоваться. Но за нами увязалась танцовщица из Невады, с которой я не так давно познакомился здесь, на вечеринке, посвященной открытию бара. Она села между нами и раскинула руки в стороны; они упали нам на колени. У этой довольно миленькой девушки были короткие рыжие волосы, на лице блестели приклеенные стразы. В своем леопардовом трико с оборками она словно вышла из водевиля 80-х годов.
Танцовщица жалобно попросила:
– Возьмите меня с собой домой!..
В половине четвертого утра мы стали спускаться из кабинки, пьяно спотыкаясь на узкой лестнице. Вышли на тихую и холодную Кристи-стрит.
– Пойдемте ко мне, – сказала моя подруга, которую я знал всего три часа. – Дети с нянькой в Бедфорде, и я одна.
Она жила в огромном престижном доме на Парк-авеню, и швейцар впустил нас, не моргнув глазом. Я подумал, что он, работая в Верхнем Ист-Сайде, повидал всякое, и трое пьяных людей, еле-еле плетущихся по вестибюлю, его не удивили.
Мы поднялись на лифте в квартиру, и у танцовщицы захватило дух, когда мы вошли в отделанное мрамором фойе, в котором поместился бы слон.
– Давайте покажу, что тут как, – сказала хозяйка квартиры. Она провела нас в парадную гостиную с роялем; оттуда мы попали в отделанную ореховым деревом библиотеку, затем посетили отлично оборудованный спортзал и кухню, такую же большую, какие бывают в крупных ресторанах.
– Я и не знала, что есть такие хоромы! – очарованно протянула танцовщица, проводя пальцами по мрамору в ванной с джакузи. – Можно, я останусь тут жить?
Хозяйка потянула нас за собой на огромную кровать «Hästens», и мы стянули друг с друга одежды.
В моей жизни было время, когда разнузданный секс втроем был пределом мечтаний. Но сейчас все казалось неправильным и было нежеланным.
Женщины были прекрасны, и они хотели заняться со мной сексом втроем. Но мне не нравилось наше трио. Испорченный музыкант; леди с Парк-авеню, заливающая горе коктейлями и водкой; танцовщица из маленького городка в штате Невада, жадно принимающая все блага, что мог предложить ей большой и развратный город.
В моей жизни было время, когда разнузданный секс втроем был пределом мечтаний. Но сейчас все казалось неправильным и было нежеланным. Хозяйка квартиры, казалось, хотела секса, но в ее глазах была печаль. А танцовщицу больше возбуждала окружающая ее роскошь, чем партнеры – двое одиноких стареющих людей.
Я вдруг почувствовал, что ужасно устал. Хотелось спать. И я закрыл глаза.
Меня разбудил звук собственного храпа. Женщины разочарованно смотрели на меня. Они обещали мне воплощение моих давних мечтаний – секс втроем. А я заснул – потому что перестал быть прежним.
Дариен, Коннектикут
(1983)
Я познакомился с Мередит на весенних танцах в старшей школе Дариена. Тогда я упросил диджея поставить «Blue Monday» New Order. Эту песню нельзя назвать приятной во всех отношениях, и поэтому к концу трека танцевали только мы с Мередит. Посмотрели друг другу в глаза и рассмеялись. Так и познакомились.
Она собиралась осенью поступать в Дартмут. У нее были рыжевато-светлые волосы, и она была похожа на Молли Рингуолд[184]. Мы начали встречаться сразу после выпускного бала. А всего через несколько недель, в июле, уже расстались.
Я не занимался сексом год, с того дня, когда подарил невинность призрачной Виктории. Когда Мередит стала моей девушкой, мне казалось, что это подразумевает какую-никакую половую жизнь. Но за те три с половиной недели, что мы с ней встречались, только и делали, что ходили в кино, ели пиццу и держались за руки. Правда, несколько раз целовались, но Мередит при этом не позволяла мне многого.
Так что я грустил и маялся половой неудовлетворенностью. И в конце концов перестал звать Мередит на свидания.
В выходные после Четвертого июля я встретил в «Пластинках Джонни» своего друга Пола, и он поведал мне о предстоящей вечеринке. Она должна была состояться вечером того же дня рядом с охотничьим клубом «Окс-Ридж».
– Пойдем, у нас же нет подружек, а сейчас лето! Напьемся и замутим с девчонками! – весело говорил он.
Пол обещал заехать за мной в восемь вечера, поэтому в семь я поставил кассету Ultravox и начал собираться. Недавно я полюбил эту группу и «новую романтику», хоть мои друзья-панки и смеялись надо мной: «Тянешься к гейскому синт-попу!» Я по-прежнему с удовольствием слушал Black Flag и Circle Jerks, но Ultravox, OMD и другие «новые романтики» писали прекрасную музыку. Они носили старые костюмы и пели о красотах Европы и разбитых сердцах.
Почти все мои любимые синт-групы были европейскими. И я начал с помощью штатива и таймера делать свои фотопортреты возле старых церквей и на кладбищах. Я снимался на фоне каменных крестов и замшелых ангелов и всячески старался, чтобы фото выглядели так, будто сделаны в Германии или Шотландии.
Я никогда не выезжал из США и сомневался, что когда-нибудь смогу себе позволить поездку в Европу. Но знал, что, если однажды попаду в Англию или в Нидерланды, буду чувствовать себя как дома. Ведь я столько времени слушал европейскую музыку и мечтал о серых небесах над древними соборами.
* * *
Вечеринка проходила в поместье 1920-х годов, что раскинулось на границе с Новым Канааном. В усадьбе за центральной постройкой – большим и красивым каменным домом – располагались теннисный корт, бассейн и гостевой коттедж. У парадного входа в дом была установлена кирпичная арка – порт-кошер.
В начале учебы в выпускном классе у меня появился новый друг, Люк, отец которого работал в «Shell» и только что перевелся в Нью-Йорк из Хьюстона. У нового дома Люка тоже стоял порт-кошер, и я, когда приехал к нему впервые, спросил:
– Можно оставить велосипед под порт-кошером?
– Под чем? – переспросил Люк с сильным техасским акцентом.
– Под порт-кошером, – указал я на арку перед домом.
– Откуда ты вообще знаешь, как эта штука называется? – Люк был удивлен, что каменный навес у входной двери имеет французское название.
Я рос на продуктовых талонах и социальном пособии, но по-прежнему был белым англосаксонским протестантом из Коннектикута. Выражения вроде «порт-кошер», «выездка» и «паддл-теннис» были генетически прописаны в моем лексиконе.
Вечеринка проходила на открытом воздухе; мы с Полом миновали порт-кошер и обогнули дом. Вокруг бассейна гуляли, сидели и лежали на шезлонгах несколько десятков старшеклассников. Мы наполнили пластиковые стаканы пивом и встали в отдалении, разглядывая присутствующих.
Большую часть ребят я знал с детского сада или первого класса. Все последние двенадцать лет они избегали меня или смеялись надо мной. Сначала из-за того, что я был беден, а потом – из-за того, что полюбил панк-рок. Их было видно насквозь. Большинство из них, думал я, поступят в университеты Лиги плюща, окончат их, вернутся в Дариен, женятся на своих школьных возлюбленных и почтительно займут в офисах Нью-Йорка места своих родителей.
Пол ушел искать уборную. Я остался в одиночестве, попивая пиво, и ко мне неожиданно подошел Кайл Лэпем. Светловолосый атлет шести футов роста, он был звездой лакросса и осенью собирался уехать в Дьюк. Мы вместе учились в подготовительном классе, но с тех пор не общались.
– Моби, – мягко обратился он ко мне, – наверное, я тебе не особо нравлюсь. Но я хотел сказать, что знаю, каково тебе приходилось в Дариене, и что действительно тебя уважаю.
Его слова застали меня врасплох.
Я рос на продуктовых талонах и социальном пособии, но по-прежнему был белым англосаксонским протестантом из Коннектикута.
– Спасибо, Кайл, – растерянно пробормотал я. – Не думал, что ты помнишь обо мне.
Он внимательно и оценивающе глядел на меня.
– Знаешь, Моби, ты и твои друзья напугали нас всех.
– Напугали?
– Ни у кого из нас не хватило бы смелости делать то, что делаете вы. Я просто хотел сказать, что уважаю тебя.
Кайл смеялся надо мной? Неужели сейчас он вернется к своей банде высоких парней и красивых девушек и скажет: «Ха, купился! Ну и болван!»? Я тоже оценивающе посмотрел на него. Он говорил серьезно. И как минимум на мгновение поколебал мое стойкое презрение к себе.
– Спасибо, Кайл! – ответил я искренне. – Это для меня много значит.
Мы пожали друг другу руки, и он ушел.
В домике у бассейна играла микшерная лента, на которой за группой Steely Dan следовали Kinks и Grateful Dead. Мы с Полом подошли к стереосистеме узнать, нет ли в куче альбомов, лежащих рядом с ней, пластинок Police или English Beat. Это были группы, исполнявшие новую музыку, которая была по вкусу всем – не только нам, но даже врагам панк-рока.
Пока мы рылись в пластинках, в домик вошла Лорен, которую я знал по школьным факультативным урокам писательского мастерства. Она много читала, блистала эрудицией, походила на Одри Хепберн[185] и всегда была очень доброжелательной.
– Привет, Моби! Что вы делаете?
– Пытаемся сменить музыку.
Мы вышли из домика поговорить, а Пол поставил на проигрыватель пластинку Special Beat Service. Лорен рассказала, что скоро уезжает в Европу и осенью поступит в Йель. Мои планы были, конечно, другими. Я никуда не собирался уезжать из дома до конца лета. А в сентябре планировал поступить в Коннектикутский университет.
– Можно, я кое-что скажу? – спросила Лорен, смущаясь.
– Конечно.
Она нервно засмеялась.
– Глупо себя чувствую сейчас, но я всегда считала тебя милым!
Она покраснела и опустила глаза.
Я смутился. В основе моего отношения к себе лежало убеждение, что я – бедный, невзрачный, неказистый, неинтересный – недостоин ничьих симпатий. Но в этот день что-то пошло не так. Сначала Кайл, почитаемый всеми крутыми парнями король лакросса, сказал, что уважает меня. А теперь красивая умная Лорен говорит, что считает меня милым?
– Правда?.. – жутко стесняясь, промямлил я. – Почему же ты ничего не говорила мне раньше?
– Не знаю, – серьезно ответила она. – Боялась? Наверное. И я слышала, у тебя есть девушка.
– Нет, мы расстались.
– Правда? – спросила Лорен, лучисто улыбаясь.
– Правда, – ответил я, улыбаясь ей точно так же. – Хочешь еще пива?
Она засмеялась: у нас обоих в руках было по полному стакану «Золота Рейна».
Мы вернулись в гостевой домик и сели на коричневый вельветовый диван. Кто-то поставил Нила Янга. Мне не нравилась большая часть классического рока, звучавшего на радио, но Нила я любил. Приходилось скрывать это от друзей, потому что у него были длинные волосы, и он походил на хиппи, которых панк-рокерам полагалось ненавидеть.
Лорен спросила, что я собираюсь изучать в университете.
– Философию, наверное.
– Почему философию?
До этого никто не задавал мне этот вопрос. Но я знал на него ответ.
– Звучит глупо, но я хочу знать, что на самом деле происходит во Вселенной. Кто мы такие и почему мы делаем то, что делаем.
– Разве на такие вопросы не отвечают религия и антропология?
– Ладно, буду изучать философию, религию и антропологию! – засмеялся я. – Закончу в пятьдесят лет и никогда не найду работу!
Она улыбнулась. И тут я, хоть и не был пьян, поцеловал ее. Она ответила на поцелуй. У ее губ был вкус пива и клубничного блеска для губ. Через пару минут я почувствовал себя увереннее: просунул руку под ее рубашку и дотронулся до груди. Я ждал, что она ударит меня или велит прекратить, но она тихонько застонала мне в ухо.
В основе моего отношения к себе лежало убеждение, что я – бедный, невзрачный, неказистый, неинтересный – недостоин ничьих симпатий.
Альбом Нила Янга закончился.
– Подожди, – нежно прошептал я Лорен, подошел к стереосистеме и поставил новую пластинку Дэвида Боуи «Let’s Dance».
Поначалу мне не понравился этот альбом. В нем не было неземной атмосферы «Heroes» и «Low» или темного измененного попа «Lodger» и «Scary Monsters». Но чем больше я его слушал, тем больше он мне нравился.
Я вернулся к Лорен, сел рядом с ней на диван и снова стал целовать ее. Потом мы откинулись на диванные подушки и полулежали, обнявшись.
Зазвучала песня «Let’s Dance». Она казалась попсовой, но в ней скрывались желание и печаль. Лорен положила голову мне на грудь, и я неожиданно осознал, насколько эта девушка отчаянна и романтична.
Я покидал Дариен – этот странный, ненавистный мне, маленький, слишком благополучный для меня город. Я ненавидел его за то, что жил в нем бедняком по соседству с 15 тысячами миллионеров. Но вот в чем дело. Дариен казался тихим и скучным, но до шумного Нью-Йорка, открывающего тебе море возможностей, отсюда было меньше часа езды. Тут царил устоявшийся порядок вещей, но все мои учителя были прогрессистами, они поддерживали мое стремление писать стихи, читать Достоевского и Артура Миллера. Я бы никогда не признался в этом крутым друзьям-панкам, но к Дариену я питал скрытую, необычную и нежную любовь. И был благодарен судьбе за то, что вырос здесь.
А теперь я уезжал.
«Let’s Dance» закончилась. Мы с Лорен все еще обнимали друг друга, лежа посреди больших и мягких диванных подушек. Я хотел жить в Нью-Йорке, писать музыку и играть на концертах, изучать философию и писать книги. Но прямо сейчас все, что мне было нужно, – это тепло девушки, которой я восхищался; ее объятия, наша сопричастность.
– Как ты? – спросил я.
Лорен ответила улыбкой, сияя, словно яркая летняя луна.
Лондон, Англия
(2007)
Я приблизил руку к лицу, но не смог разглядеть пальцев. Потянувшись, нащупал тканевую обивку над головой и вспомнил, что нахожусь в гастрольном автобусе.
Накануне мы играли на фестивале где-то во Франции. После долгой дороги и переправы на пароме через Ла-Манш оказались в подвальном гараже под стадионом Уэмбли в Лондоне. В нашем гастрольном автобусе ночью обычно постоянно горели несколько маломощных ламп. Раньше мне не доводилось просыпаться в нем в полной темноте.
Я достал из кармана смартфон «BlackBerry», включил его и, подсвечивая дорогу горящим экраном, прошел к лестнице. Автобус был двухэтажный, с 12 койками и большой комнатой отдыха на втором уровне; на нижнем размещались туалет, кухня и маленькая комната отдыха. Я вышел из автобуса и, следуя указателям, прошел по гаражу к нашему офисному помещению. В нем сидел Sandy, устроив свой ноутбук на складном столике.
– Sandy, почему в автобусе не горел свет? – спросил я скорее с любопытством, чем с недовольством.
Он оторвал взгляд от монитора:
– Черт, я и не знал, что ты все еще в автобусе! Генератор сломался, и какие-то ребята забрали его чинить.
– Сейчас день?
Мой смартфон показывал 14.00, но я сомневался в том, что это так. Потому что проснулся в кромешной тьме автобуса, стоящего в подземном гараже, прошел по бетонному лабиринту туннелей под трибуной стадиона Уэмбли и попал в офис, в котором не было ни одного окна.
– У меня не спрашивай, – ответил Sandy. – Наверное, где-то далеко есть дневной свет.
Мы с Sandy ездили на гастроли вместе уже почти 10 лет. В первые годы он был улыбчив и добродушен, даже когда мы опаздывали на самолеты или сценическое оборудование выходило из строя. Но по мере того, как росло количество употребляемых в наших поездках алкоголя и наркотиков, он становился все более измученным и усталым.
– У тебя есть расписание на сегодняшний вечер? – спросил я.
Он протянул мне листок бумаги. Сверху было написано: «МОБИ/СТАДИОН УЭМБЛИ». На стадионе я никогда не был. Но играл раньше «Уэмбли Арене», даже два раза. Крытый концертно-спортивный комплекс вмещал 15 тысяч человек, и в 2000 и 2002 годах мои концерты в поддержку Play и 18 были аншлаговыми. После первого концерта мы устроили за кулисами вечеринку на несколько сотен человек. Британские звезды кино и телевидения выпрашивали приглашения, Питер Хук из New Order был диджеем, а я не ложился спать до восьми утра, пил, танцевал и купался в славе.
Сегодня же мне предстояло играть на стадионе. Он вмещал 90 000 человек. Там выступали самые крупные рок-звезды в истории: Queen, Guns N’Roses, Rolling Stones. Сегодня вечером я впервые буду стоять там, где стояли Фредди Меркьюри и Мик Джаггер. Но у меня не было ощущения триумфа: нам заплатили за 30-минутный корпоративный сет для нескольких сотен сотрудников компании «Nike» и их друзей-спортсменов.
Мне захотелось позавтракать, поэтому я вернулся в автобус и, подсвечивая себе смартфоном, поел хлопьев с соевым молоком. Потом задумался, чем бы занять следующие несколько часов: мы выходили на сцену в семь вечера, и день был свободен. Я подумывал выйти на улицу, посмотреть, появляется ли солнце в начале сентября в Англии. Но меня все еще тяготило похмелье, поэтому более привлекательным казалось поспать до начала концерта.
Койки в туристических автобусах называют «гробами», потому что они маленькие, темные и холодные. Я свернулся калачиком под одеялом и подумал: «Может быть, однажды мне доведется вот так лечь в «гроб» и не проснуться». Эта простая мысль утешила меня, и я задремал.
В семь часов вечера мы вышли на сцену и сыграли получасовой сет под дождем. Мне хорошо платили, но стоять под темно-серым небом перед 89 тысячами пустых и мокрых пластиковых кресел было неуютно. Мы сыграли последнюю песню, и я с изрядным облегчением громко сказал: «Спасибо!» Девять сотен порядочно промокших зрителей неорганизованно похлопали и поспешили к выходу с трибуны.
Я свернулся калачиком под одеялом и подумал: «Может быть, однажды мне доведется вот так лечь в «гроб» и не проснуться».
На концерте присутствовали несколько сотрудников звукозаписывающей компании и кое-кто из моих друзей-британцев. После выступления они пришли за кулисы отметить мое первое появление на сцене стадиона Уэмбли. После седьмой или восьмой порции спиртного я попытался сделать вид, что Уэмбли – это для меня очень важно.
– На этой сцене играли Фредди Меркьюри и Эксл Роуз[186]! – сказал я Дэну, своему директору по освещению.
– Людей у них было побольше, – сухо заметил тот.
В полночь Sandy подошел ко мне и сказал:
– Мо, нам пора ехать.
На следующий вечер мы должны были выступать на танцевальном фестивале под Манчестером. Водитель автобуса планировал ехать ночью, чтобы избежать пробок.
– Эй, – сказал я друзьям и знакомым из фирмы звукозаписи, – поехали с нами в Манчестер!
Они колебались, пока кто-то из моей команды не крикнул: «Соглашайтесь, у нас есть наркотики!»
В результате в автобус вслед за группой и техниками ввалились семеро мужчин и пять женщин. Гэри, наш немногословный водитель-немец, оторвал взгляд от журнала, закатил глаза и завел мотор. Мы выкатились из гаража и выехали на автостраду, ведущую в Манчестер. Я включил альбом Physical Graffiti группы Led Zeppelin.
Я посмотрел на свое обнаженное тело. На ногах и животе у меня было дерьмо.
Перед началом веселья я посмотрел на свой «BlackBerry» и увидел электронное письмо от тети Джейн. Под ним подписались мой отчим Ричард и тетя Энн. Письмо было коротким: «Привет, Мобс, надеюсь, что у тебя все в порядке».
Я отправил растерянный ответ: «Да, в порядке, а что случилось?»
Когда мы выехали на автостраду, на экране смартфона возникло сообщение о том, что пришло послание от тети. Но я уже пил водку, слушал Led Zeppelin и флиртовал с женщинами. Поэтому не стал открывать почту. Мы извели несколько пакетов наркоты, и в три часа ночи я поднялся наверх с бутылкой водки и двумя сотрудницами звукозаписывающей компании. Мы прошли в комнату наверху, и я поставил альбом Felt Mountain британского дуэта Goldfrapp.
– О, нет, только не это! – воскликнула одна из женщин.
– Тебе не нравится Goldfrapp? – с удивлением cпросил я. Мой пьяный язык заплетался на твердых согласных в названии дуэта.
– Я люблю их, но мы недавно выпускали этот альбом, и он ужасно надоел, – пояснила она.
Вместо Goldfrapp я поставил диск группы Massive Attack.
Я говорил себе: даже если количество моих зрителей уменьшится, а мои пластинки станут продаваться все хуже и хуже, все равно у меня будут моменты счастья – пока я имею то, что есть у любой рок-звезды: секс, наркотики, двухэтажные гастрольные автобусы, дорогие номера в гостиницах. Возможно, мне не удастся возродить свою угасающую карьеру. Но деньги, которые я заработал, всегда обеспечат меня наркотиками и спиртным. И всегда кто-то будет тусоваться со мной. И я смогу притворяться, что 2000 год еще не кончился.
Через какое-то время за окнами автобуса над зелеными полями со стадами английских коров взошло солнце. И тогда я отключился.
* * *
Я проснулся один. Автобус стоял на парковке отеля «Lowry» в Манчестере. Женщины ушли, было холодно, и я чувствовал себя так, словно уже умер. На полу валялись пустые бутылки из-под водки и использованные презервативы. И чем-то ужасно пахло.
Я посмотрел на свое обнаженное тело. На ногах и животе у меня было дерьмо. Либо я занимался анальным сексом, которого не помнил, либо кто-то – может быть, я, а может быть, одна из женщин – обделался прямо на диване. Воняло, как в открытом канализационном коллекторе, и меня чуть не вывернуло.
Я натянул одежду, хотя мои ноги и живот были покрыты высыхающим дерьмом. Мне нужно было как можно быстрее добраться до гостиничного номера, чтобы привести себя в порядок и проблеваться. Я выбрался из автобуса, вбежал в отель, остановился у стойки регистрации и попросил ключ от забронированного для меня номера. Ясноглазая секретарша протянула его мне и сказала:
– Увидимся вечером на фестивале!
Я попытался улыбнуться, но еще более убедительно ощутил себя трупом.
На третий этаж пришлось подниматься по лестнице: не хотелось, чтобы кто-то в лифте понял, что от меня несет дерьмом. Оказавшись в своем номере, я побежал в уборную, где меня вырвало в унитаз так сильно, что был забрызган пол. Опорожнив желудок, я достал из холодильника две бутылки воды и бутылку грейпфрутового сока. И выпил их под душем, оттирая дерьмо с ног и волос на животе.
Я отмывался десять минут и чувствовал себя так, будто меня отравили. В принципе, так оно и было. Выйдя из душа, я снова почувствовал запах дерьма. Ох, одежда! Я хотел сжечь ее или выбросить в окно. Но вместо этого взял пластиковый пакет для прачечной, сгреб загаженные вещи и бросил их в мусорное ведро.
Я взял «BlackBerry» и, сидя голым на полу ванной, отправил Sandy электронное письмо: «Слишком сильное похмелье, отмени все интервью на сегодня. И еще: мне нужна новая одежда. Можешь привезти мне джинсы и футболку из «Gap»?»
Просматривая в почтовом ящике папку «Входящие», я обнаружил вчерашнее письмо от тети Джейн. Она написала: «Ох, Мобс, мы думали, ты помнишь. Сегодня десятая годовщина смерти твоей мамы. Мы надеемся, что ты в порядке».
Сторс, Коннектикут
(1983–1984)
Весь первый семестр в университете я был занят поисками девушки. Но они были безуспешными. Я учился вместе с 25 тысячами студентов, и среди них умных и красивых девушек было очень и очень много. Но либо я их не интересовал, либо слишком стеснялся заговорить с ними. Мне оставалось внимательно изучать работы Канта и Бертрана Расселла. А вне занятий тусоваться с несколькими панками, которых нашел в кампусе.
Среди них была невзрачная, но умненькая девушка Бетани. Она жила в южном Коннектикуте и в конце семестра пригласила меня на ужин, который ее родители – преподаватели колледжа – устраивали по поводу наступления рождественских каникул. Большую часть гостей составляли их коллеги, но Бетани разрешили пригласить двоих друзей. Ее выбор пал на меня и школьную подругу Дженни.
Мы уселись за большим обеденным столом, пили красное вино, ели пасту и салат из шпината.
– Моби, – обратился ко мне один из гостей, преподаватель Манхэттенского колледжа, – ты ведь поступил в университет Коннектикута? Прошел первый семестр – удалось определиться со специализацией?
– Я хочу изучать философию, – скромно ответил я.
Тот беззлобно рассмеялся.
– Хочешь разбогатеть? – насмешливо спросил отец Бетани.
– Ты знаешь, что нет направления бесполезнее, чем философия? – включился в беседу преподаватель Нью-Йоркского университета, озабоченно глядя на меня.
– Я могу писать книги и преподавать, – смущенно сказал я. Они хором рассмеялись и в унисон воскликнули:
– О, нет!
Напротив меня сидела Дженни. Она была красивой блондинкой с мягкими чертами лица и ямочками на румяных щеках. Я улыбнулся ей. Она улыбнулась в ответ, и мое сердце пропустило удар. После ужина, осмелев от красного вина, я спросил, не хочет ли она завтра вечером сходить в кино. Она согласилась – мне показалось, с удовольствием.
Я пришел на остановку за полчаса до ее приезда и ждал ее с цветами и подарком – сорокапятиминутной кассетой, на которую записал для нее песни, которые считал лучшими.
Я зашел за Дженни в дом ее родителей, элегантный особняк в Гринвиче. Мы решили посмотреть «Большое разочарование», и по дороге к кинотеатру не прекращали болтать. Я узнал, что она хочет изучать писательское мастерство и любит музыку Cocteau Twins.
Дженни рассказывала о себе, а я украдкой поглядывал на нее. Она была красива той спокойной красотой, которая наводит на мысли о выцветших домашних свитерах, детском смехе в гостиной и собаках, спящих перед камином. Когда началось первое превью – трейлер «Охотников за привидениями» – я подумал, что, возможно, нашел своего человека.
В следующие две недели мы встречались так часто, как могли. Ходили в кино, посещали книжные магазины и целовались перед камином в гостиной ее родителей, когда те уходили спать. После рождественских каникул, когда она вернулась в свой колледж, а я – в университет, мы переписывались и каждый день созванивались.
Мне пришлось поступить в университет Коннектикута, потому что это было государственное учреждение – с бесплатным обучением. Я ничего не имел против него, но мне больше нравился колледж Кенион в Огайо. К сожалению, стоимость обучения в нем была для нас с мамой слишком высокой: мы все еще жили на пособия и талоны.
Дженни училась в частном колледже Коннектикута. Он был очень дорогим, зато находился в Нью-Лондоне, в часе езды от Сторса – маленького городка, в котором располагался кампус моего университета. Ни у меня, ни у Дженни не было машины, и однажды в выходной в начале февраля она приехала ко мне на автобусе.
Я пришел на остановку за полчаса до ее приезда и ждал ее с цветами и подарком – сорокапятиминутной кассетой, на которую записал для нее песни, которые считал лучшими.
На стороне А звучали:
1. «Going Underground», Jam;
2. «Messages», Orchestral Manoeuvres in the Dark;
3. «The Killing Moon», Echo & the Bunnymen;
4. «Academy Fight Song», Mission of Burma;
5. «Heaven», Talking Heads.
А на стороне B были записаны:
1. «Heroes», David Bowie;
2. «Any Second Now (Voices)», Depeche Mode;
3. «Vienna», Ultravox;
4. «Ceremony», New Order;
5. «Atmosphere», Joy Division.
Я назвал этот сборник «Под голубой луной я встретил тебя…». Так звучала первая строчка в песне Echo & the Bunnymen.
Дженни вышла из автобуса, смахнула с глаз прядь светлых волос и улыбнулась. Я обнял ее. Мы пошли к моему общежитию, шагая мимо замерзших полей, окружавших кампус.
Мой сосед по комнате уехал на выходные к родителям в Ньютон. Мы с Дженни могли провести наедине все выходные. Перед ее приездом я потратил на уборку замусоренного двумя безалаберными студентами жилья три часа. И положил на пол два матраса, чтобы мы спали рядом. На следующие 48 часов это был наш дом, и я хотел, чтобы Дженни была счастлива. Может быть, думал я, через тридцать лет мы расскажем об этом детям: как мы лежали, обнявшись, на тонких матрасах на полу в общежитии – в комнате со стенами, выкрашенными в светло-зеленый цвет.
Мы вошли в комнату и стали немедленно срывать с себя все, что на нас было. На мою кровать летели верхняя одежда и нижнее белье. А потом мы упали на матрасы, и случилась любовь.
Пока наши потомки будут разворачивать рождественские подарки, я посмотрю на Дженни и скажу от всего сердца: «Я по-прежнему люблю тебя, счастье мое!»
Кампус Коннектикутского университета ничем не отличался от любого другого студенческого городка. Но мне все равно хотелось показать его Дженни. Когда мы насытились друг другом и привели себя в порядок, я повел ее в библиотеку, затем – в учебные корпуса, в которых изучал философию и антропологию, а под конец экскурсии – в столовую, где мы сели ужинать с моими друзьями. Среди них была Бетани. Она почему-то не удивилась, увидев Дженни со мной.
– Только посмотрите на них! – засмеялась она во время ужина, глядя на нас.
– Что? – не понял я.
– Вы все время улыбаетесь!
Это было правдой.
Я влюбился в Дженни. Она была так красива, что я не мог оторвать от нее глаз. Мы каждый день общались, и мне давно стало ясно, что она умна, начитанна, деликатна, добра. Не было причины, по которой я не мог бы провести с ней остаток жизни.
После ужина мы пошли в клуб посмотреть на выступление студенческой рок-группы, а потом танцевали под «новую волну», которую диджей включил после концерта. Звучал долгий ремикс «Temptation» New Order, и Дженни танцевала с закрытыми глазами, подпевая. Моя девушка знала все слова в «Temptation»!
«Вот оно! Мне больше ничего не нужно! – сказал я себе. – Она – моя, и она – мой человек!»
Позже, когда мы лежали в постели, засыпая, я задумался, какими могли бы стать наши дети. Дженни была потомком Дэвида Юма[187], а я – потомком Германа Мелвилла. Наши дети наверняка блистали бы незаурядными умственными способностями. Я представил себе наше будущее. Мы закончим колледж, мечталось мне, и переедем в Бостон или, может быть, в Нью-Йорк, получим степени магистров, а затем и докторские. Мы какое-то время поживем в большом городе, а потом переедем в университетский городок, где будем писать книги и преподавать. И через несколько лет у нас появятся несколько маленьких детей. Свободное время я стану посвящать сочинению музыки, но постепенно увлекусь игрой на рояле, стоящем у витражного окна. Я буду исполнять произведения Баха и Дебюсси, а Дженни – читать книги Уокера Перси[188] на подоконнике. И за окном будет идти снег.
Мы вместе состаримся. Когда у моей любимой появится первая седина, я напомню ей, что она – прекрасна. Наши дети подарят нам внуков. И, когда мне и Дженни стукнет 80 или 90 лет, мы соберем всю нашу большую семью на Рождество у себя в доме, в университетском городке. Огонь в камине, елка до потолка, увешанная разноцветными гирляндами, в комнатах полно собак, младенцев, детей и взрослых… Пока наши потомки будут разворачивать рождественские подарки, я посмотрю на Дженни и скажу от всего сердца: «Я по-прежнему люблю тебя, счастье мое!»
Все это казалось таким милым и таким реальным. Дженни пошевелилась во сне и что-то неразборчиво пробормотала. Я улыбнулся и крепче обнял ее.
Нью-Йорк
(2007)
Остров сломанных игрушек – это место, куда в мультфильме «Рудольф – красноносый олень»[189] отправлялись сломанные и надоевшие детям игрушки: игрушечный пистолет, стреляющий джемом; поезд с квадратными колесами. У меня не осталось близких родных – мама, бабушка и дедушка уже давно покинули этот мир, – но я не хотел куда-то ехать на Рождество. Поэтому решил устроить вечеринку «Остров сломанных игрушек» в своем «небесном замке».
Утром 25 декабря я рано встал и отправился на прогулку по Центральному парку. Мне нравилось Рождество в Нью-Йорке, это был единственный день в году, когда город затихал. Сквозь облетевшие кроны парковых деревьев я видел высотные дома на Пятой авеню и Сентрал-Парк-Вест. На стылых аллеях единственным звуком, достигавшим моих ушей, был хруст опавших листьев и ледяного крошева под ногами.
Я добрался до замка Бельведер и посмотрел через парк на свой «замок» в верхней части южной башни Эль-Дорадо. Он не решил ни одной из моих проблем. Но, несмотря ни на что, был удивительно прекрасен. Я повернул к дому, чтобы успеть прибраться до прихода гостей.
В 14.30 я включил на айподе рождественский альбом Джонни Мэтиса[190] и осмотрел квартиру. На улице становилось все холоднее, но в моем доме было тепло: сквозь витражные окна сияло солнце, и в старинном мраморном камине весело горел огонь. Джонни Мэтис пропел: «It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas»[191]. Посмотрев на сосновые ветви и листья остролиста, украшающие камин, я был вынужден согласиться с Джонни: приближение Рождества в квартире ощущалось все сильнее. В ней даже пахло праздником, потому что на плите побулькивал горшочек горячего сидра – с корицей, мускатным орехом и душистым перцем.
Мне нравилось Рождество в Нью-Йорке, это был единственный день в году, когда город затихал.
К трем часам начался стабильный приток друзей и родственников, поэтому я открыл несколько бутылок шампанского «Вдова Клико». На закате мы вышли на балконы с западной стороны квартиры – посмотреть, как солнце опускается за реку Гудзон.
Мне была ненавистна сама мысль о том, что кто-то в Нью-Йорке может провести Рождество в одиночестве, поэтому я разослал приглашения на «Остров сломанных игрушек» всем, кого знал. После захода солнца моя квартира продолжала наполняться людьми. Джонатан Эймс[192], который только что подписал с Джейсоном Шварцманом[193] контракт на съемки в сериале «Смертельно скучающий», явился с многочисленным отрядом распущенных звезд искусства. Несколько представителей организованной преступности из Восточной Европы, с которыми я подружился на гастролях, принесли подарки и наркотики. Пришли знакомые музыканты и красивая стриптизерша Эра, с которой я недавно познакомился в шальной компании ее подруг и нескольких наркоторговцев.
К семи вечера все пять этажей квартиры были заполнены до отказа. Мои утонченные гости, что пришли днем, вежливо удалились. И по мере того, как люди все больше и больше употребляли спиртного, с вечеринки постепенно, но уверенно сходил прежний лоск респектабельности Верхнего Вест-Сайда. А потом на сцене появились наркотики.
Эра росла хорошей девочкой в Уэстпорте, небольшом городке штата Коннектикут, но теперь с ног до головы была покрыта татуировками и в перерывах между выступлениями в стрип-клубе участвовала в перформансах с обнаженной натурой.
Мы распили бутылку шампанского, вспомнили, как встречали Рождество в Коннектикуте в детстве. А потом занялись сексом на гостевой кровати. Позже Эра вспомнила, что ей нужно было идти в стрип-клуб – в Рождество стриптизерши много зарабатывают, – поэтому быстро оделась и убежала.
Я вышел к гостям. Они энергично избавлялись от налета цивилизованности. Кто-то выключил Джонни Мэтиса и заменил его диджейским миксом из скрежещущих песен самых бездарных метал-рок-групп начала 90-х годов. «Боссы мафии» из Восточной Европы заказали стриптизерш. Мой друг Манджина, которому недавно ампутировали ногу, на кухне смешивал коктейль в верхней части своего протеза. Увидев меня, он заорал:
– Мешаем коктейли на пне!
Я увидел, что по лестнице поднимается моя подруга Саманта. Она плакала, сжимая в руках бутылку водки.
– Что случилось? – спросил я, радуясь, что язык еще не заплетается от наркотиков. – Почему ты не уехала с семьей?
Саманта – высокая респектабельная светловолосая дама – жила на Парк-авеню. Ее муж управлял хедж-фондом, три дочери-блондинки учились в частной школе. Мы с ней познакомились год назад на благотворительном вечере в Музее естественной истории и стали дружить. Я пригласил ее на свою рождественскую вечеринку, хотя предполагал, что она проведет каникулы в Вестчестере со своей семьей. Она, плаксиво сморщившись, оглянулась на гангстеров, стриптизерш и толпу танцующих дегенератов, заполнивших мою квартиру.
– Мы можем пойти куда-нибудь поговорить? – проглотив слезы, спросила она. Я отвел ее в спальню, где занимался сексом с Эрой. Закрыл массивную дубовую дверь, и шум вечеринки стал еле слышен.
Саманта рассказала, почему не поехала на Рождество в Вестчестер. Ее муж исчез три дня назад. И никак не давал о себе знать. В его хедж-фонде сказали, что он уволился.
Вчера в восемь утра, в канун Рождества, муж, наконец, позвонил.
– Я не могу вернуться, – тихо сказал он ей.
– Где ты?
– Я в Нью-Джерси, Сэм. Я больше не вернусь.
Он сказал, что теперь идентифицирует себя как женщину, влюбился в мужчину в Ньюарке и никогда больше не вернется ни к ней, ни к детям.
По мере того, как люди все больше и больше употребляли спиртного, с вечеринки постепенно, но уверенно сходил прежний лоск респектабельности Верхнего Вест-Сайда.
Саманта выросла в Верхнем Ист-Сайде. Она училась в колледже Спенс и Йельском университете. Ее муж окончил Гарвардскую школу бизнеса, прежде чем они поженились. Их супружеская жизнь выглядела идеальной, хотя, по ее признанию, после рождения третьего ребенка они перестали спать вместе.
Они проводили отпуск в Палм-Спрингс. Они отдыхали на острове Фишерс в летнем коттедже ее родителей. У них был собственный дом в Хэмптоне. В Манхеттене они устраивали благотворительные балы. Их старшая дочь готовилась поступать в Йель. А вчера утром Саманта узнала, что их счастливая жизнь рухнула: ее муж стал безработным извращенцем в мотеле в Нью-Джерси.
Саманта взяла себя в руки и провела Рождество с детьми дома у родителей, в особняке на 74-й улице. После того как дети легли спать, она взяла такси и поехала на мою вечеринку.
– Что я сделала не так? – жалобно спросила она. – Я все еще привлекательна?
– Ты великолепна, – честно признался я. Она была красива и вполне могла бы сойти за сестру Грейс Келли[194]. Саманта приняла еще наркотик и поцеловала меня.
В глазах стоял туман, мы разделись и занялись сексом на кровати, где несколько часов назад я трахался с Эрой.
Потом мы молча растянулись в постели. Я чувствовал себя ликующим демоном. Было Рождество, и я был пьян, и лежал голый рядом с обнаженной богиней. Саманта собрала свою одежду, нежно поцеловала меня и сказала:
– Мне нужно ехать к детям.
Я проглотил последние капли из принесенной ею бутылки водки, оделся и вернулся на вечеринку. Праздник не только продолжался, но стал еще более веселым, громким и разнузданным. Я взглянул на незнакомых людей, принимавших наркотики в моей квартире. Ко мне подошла моя давняя подруга Женевьева, недавно переехавшая в Нью-Йорк из Вены. Оглядевшись вокруг, она сказала с ужасом в голосе:
– Ты – хаос!
Я положил руки ей на плечи и улыбнулся:
– Это самое приятное, что мне когда-либо говорили.
– Ты услышал не комплимент, – сказала она с отвращением. И пошла прочь.
Нет, она сделала мне комплимент. Я гордился тем, что стал хаосом.
Мир был ужасен. Я был еще хуже.
На кухне я открыл еще одну бутылку водки. И вытащил из ящика разделочного стола длинный нож. За столом у окна сидел Джонатан Эймс с одной из стриптизерш на коленях.
– Джонатан! – крикнул я ему.
– Чего? – он поднял на меня глаза. И тут я бросил в него нож. С любовью, потому что я любил Джонатана.
Он вскрикнул и резко приблизил руку к лицу. Перед этим я услышал резкий звук, словно молоток ударил по маленькому гвоздю. Острие ножа отскочило от кольца Принстонского колледжа, которое носил Джонатан. Он посмотрел на меня с ужасом, кровь отхлынула от его лица.
– Нет, Джонатан, это было мило! – заорал я. – Это потому, что я люблю тебя!
Я гордился тем, что стал хаосом. Мир был ужасен. Я был еще хуже.
В моей руке оказался другой длинный нож. Эймс вскочил и выбежал из кухни. А через некоторое время в нее прихромал Манджина и сурово спросил:
– Ты что делаешь? С ума сошел?
– Ладно, – разочарованно сказал я. – Кладу нож обратно в ящик.
В полночь вернулась Эра в компании коллег-стриптизерш.
– Ты вернулась! – завопил я, перекрикивая песню группы Mötley Crüe[195]. Когда закончился плейлист гетто-баса, кто-то поставил подборку хаер-метала.
– Вот, – сказала она, надевая мне на голову грязную зеленую шапку Санта-Клауса, – я принесла тебе подарок.
Взяв за руки меня и свою подругу-стриптизершу, она повела нас в спальню.
Когда мы закончили, я вышел из спальни голый. На мне была только грязная зеленая шапка Санта-Клауса. Я хотел узнать, продолжается ли вечеринка и зол ли на меня Джонатан. Он не должен был злиться: Женевьева назвала меня хаосом, а какой смысл кому-то злиться на хаос? К тому же его спасло кольцо!
В другом конце коридора, на верхней площадке лестницы я увидел Рут, британскую журналистку. Она была одета строго и элегантно, как будто пришла на званый ужин. Наверно, когда она прочитала мое приглашение на рождественскую вечеринку в пентхаусе престижного Эль-Дорадо в респектабельном Верхнем Вест-Сайде, то предположила, что я собираю нечто вроде благотворительного бала с концертом звезд. С ней рядом стояли ее пожилые родители, одетые столь же строго, как и их дочь. Я никогда не ходил на свидания с Рут, но мечтал об этом. Она была эрудированной, доброй и симпатичной.
И вот она привела своих родителей в «сладкий ад», где проходила вакханалия стриптизерш, наркоманов и гангстеров. А теперь смотрела на меня, хозяина дома и распорядителя вечеринки. Я стоял абсолютно голый, если не считать шапки Санта-Клауса на голове, и тупо пялился на Рут и ее родителей.
Я закричал, сгорая от стыда, и побежал обратно в спальню. Там в темноте, ласково мурлыча, ждали Эра и ее подруга-стриптизерша.
Сторс, Коннектикут
(1984)
Полгода тому назад мой друг Дрю представлял собой скромного аккуратного первокурсника, который не мог определиться, какую специализацию ему выбрать – политологию или историю. Теперь же по выходным он, всклокоченный и полураздетый, сидел в своей неубранной комнате в общежитии и часами наблюдал за солнечными бликами на поверхности воды, налитой в глубокую тарелку.
Однажды днем я пришел в комнату друга, дал ему 5 долларов, проглотил наркотик, который он стал принимать каждый день, взял у него альбом Days of Future Passed группы Moody Blues и присел рядом. Прошло десять или пятнадцать минут, ничего не произошло, и я решил, что, возможно, мне досталась пустышка. Затем фигуры на обложке альбома начали медленно двигаться. Я широко улыбнулся и сказал Дрю:
– Работает.
Около восьми часов вечера Дрю отправился на свидание, а я вернулся в свою комнату. Мне стало страшно. С этим наркотиком было весело и интересно, но я хотел, чтобы мне вернули мой здоровый и трезвый ум. В три часа ночи я принял душ, надеясь, что смогу вымыть кислоту из организма, но каждая капля воды на коже ощущалась отдельно и сильно. В пять утра я решил, что это никогда не закончится. Свернулся калачиком на нижней койке двухъярусной кровати и на рассвете уснул.
Через несколько часов я проснулся, чувствуя себя почти нормально. Глубоко вздохнул, увидел за окном тающий снег, и что-то в моем мозгу щелкнуло. Мне показалось, что у меня отняли разум и заменили его чем-то твердым и чужим. Мозг не работал, мысли были жутко медленными и тягучими. Я почувствовал себя тупым зомби. И испугался, что сошел с ума. Весь день прошел в ожидании того, что я приду в норму. Но норма была недостижима. В десять часов вечера, в конце самого длинного и страшного дня в моей жизни, я в ужасе забрался обратно на нижнюю койку и впал в забытье.
На следующее утро я проснулся в панике: мой мозг по-прежнему был сломан.
После семи дней безрезультатного ожидания и страха я пошел к школьному психиатру. Он иронически смотрел на меня, шевеля длинными усами. Я пожаловался, что неделю назад принял кислоту, и с тех пор мой мозг не возвращается к нормальному состоянию. «Мне страшно, помогите!»
Я не сказал ему, что постоянно переживаю панические атаки. Потому что не знал, что такое панические атаки.
Психиатр, услышав слово «кислота», тонко улыбнулся и задал несколько вопросов о течении расстройства. Потом сказал: «Ну вот и еще одна жертва ЛСД! Вы пережили флэшбэк, а за ним – психотический срыв. Будем лечиться». Он выписал рецепт на мощное антипсихотическое средство и пообещал:
– Это должно помочь.
Я принял таблетки согласно предписанию и почувствовал себя еще хуже. Через неделю снова пришел к психиатру и сказал, что лекарство не помогает.
– Ладно, не волнуйся, – буркнул он, задумчиво шевеля усами. И прописал более сильную дозу.
Спустя еще неделю у меня появилась аллергия. Я проснулся утром, чувствуя обычное отчаяние и ужас. Но несколько часов спустя ощутил сильное напряжение и жжение во всех мышцах. К обеду мои связки превратились в горящие провода. К концу дня мне казалось, что объято пламенем все тело.
Я побежал в приемный покой больницы при колледже. Там мне дали успокоительное и отвели в палату. На следующее утро, проснувшись, я признал поражение. Я сломался. Мой мозг сломался. Антипсихотик сделал только хуже. И я по-прежнему не знал, что со мной не так. Врачи, похоже, не знали тоже. Они сняли аллергию, но не вернули мне здоровье ума.
Я ушел из больницы, собрал вещи и уехал домой.
В десять часов вечера, в конце самого длинного и страшного дня в моей жизни, я в ужасе забрался обратно на нижнюю койку и впал в забытье.
Через несколько дней после моего отъезда из университета мама отвела меня к психиатру в Стамфорде. Он говорил со мной около часа, добродушно улыбаясь и спокойно задавая вопросы, а потом поставил диагноз.
– У вас патологическая тревожность, – сказал он. – Если точнее, редкая и очень неприятная ее разновидность. Она называется «плато панического расстройства». По сути, это панические атаки, которые никогда не прекращаются.
– Значит, дело не в кислотных флэшбэках?
– Нет, не в этом, и вам определенно не нужны антипсихотики. – Он покачал головой. – У того, кто прописал вам перфеназин, следует отобрать лицензию.
Я заплакал.
– Вы не первый, кто плачет у меня в кабинете, Моби.
– Я просто не знаю, что делать! – всхлипнул я. – Я хочу, чтобы мой мозг снова стал здоровым.
– Он выздоровеет, Моби. Я обещаю. – Врач вздохнул. – Честно говоря, я не знаю, чем вызвано то, что вы испытываете. Эта разновидность крайней паники обычно вызывается скрытой травмой. Вам нужна серьезная терапия.
Из дома я каждый день звонил Дженни. Поначалу она искренне сочувствовала мне, но через неделю ее голос стал звучать отстраненно, в нем слышались нотки раздражения. Однажды, вернувшись домой от стамфордского психиатра, я отнес мамин телефон на деревянную лестницу в подвал, чтобы уединиться и снова позвонить Дженни.
Я был готов покончить с собой. Меня останавливало только одно. Я не желал, чтобы паника победила.
– Ты нужна мне, – сказал я. – Можешь приехать в эти выходные?
Она ничего не ответила.
– Дженни?
Она вздохнула и тихо сказала:
– Моби, мне жаль. Я не могу.
– О чем ты? – У меня закружилась голова.
Она заплакала.
– Я очень хочу быть рядом с тобой, но мне надо учиться. Я не могу приехать.
– Ты что, бросаешь меня?
Она заплакала еще сильнее.
– Похоже на то.
Я оцепенел.
– Моби? – спросила она. – Ты там?
Я все еще не мог говорить.
– Скажи что-нибудь!
Но я не мог.
– Моби? Поговори со мной!
– Мне нужно идти, Дженни, – выдавил я и повесил трубку.
Я взял свой десятискоростной велосипед – тот самый ярко-зеленый «Schwinn», который был у меня с шестого класса, – и поехал в захудалый местный бар у железнодорожной станции. Я не знал, куда еще пойти. Успокоиться мне помогал только алкоголь. После того, как у меня начались приступы паники, я стал пить ежедневно. Спиртное не излечивало мой мозг, но на некоторое время облегчало боль.
Я заказал пиво. Был будний день, и бар пустовал. Только несколько местных выпивох притулились за угловым столиком. По телевизору шел баскетбольный матч, но его никто не смотрел. Я допил пиво и взглянул на свое отражение в зеркале за стойкой бара.
Я походил на призрака. Никогда прежде мне не было так страшно. Мой мозг сломался почти месяц назад, и до сих пор никто не мог точно сказать, станет ли мне когда-нибудь лучше. Я допил пиво и заказал еще.
Все мои друзья учились в престижных и дорогих колледжах Новой Англии, изучая историю искусств и французскую литературу. Они встречались с чудесными женщинами, влюблялись и думали о том, какая захватывающая взрослая жизнь ждет их впереди. А я был безработным неучем и жил в доме матери. Я не имел никаких перспектив. У меня не было ни денег, ни девушки. Зато мне не давали скучать почти непрекращающиеся приступы паники.
Я был готов покончить с собой. Меня останавливало только одно. Я не желал, чтобы паника победила.
Нью-Йорк
(2008)
Со мной разговаривала Хиллари Клинтон, а у меня было слишком сильное похмелье, чтобы ей отвечать. Мы стояли на балконе 30-го этажа многоквартирного дома Сан-Ремо на Сентрал-Парк-Вест. Она была одета в темно-синий спортивный костюм, ее тщательно уложенные серебристые волосы поблескивали на солнце. Я стоял рядом, пошатываясь, небритый, в потертом сером свитере, надетом поверх старой футболки с надписью «Cramps».
Мы с Хиллари были знакомы уже несколько лет и вместе организовали несколько благотворительных акций. Одна из них проходила именно сейчас в нарядном зале за нашей спиной. Каждый раз, когда мы встречались, Хиллари очень доброжелательно относилась ко мне, а я никогда не понимал почему. Она была преуспевающим адвокатом и сенатором Соединенных Штатов. А я – музыкантом с подпорченной репутацией, теряющим былую популярность.
Сенатор Клинтон серьезно смотрела мне в глаза, пока я пытался сказать что-то умное о состоянии американской политики. Похмелье было настолько сильным, что мне с трудом удавалось сосредоточиться.
– О, забыла сказать! – воскликнула она, когда я решительно и надолго замолчал. – Вы знаете Дэррила из Run-D.M.C.? Он тоже придет.
Я не стал рассказывать ей о том, как в 1989 году выступал диджеем в клубе «Mars» после концерта Run-D.M.C. и познакомился там с Дэррилом. Это потребовало бы слишком много усилий.
– Да, я давно его знаю.
Она тепло улыбнулась, пожала мне руку и направилась в зал на благотворительное мероприятие.
Сан-Ремо был красивым зданием, построенным в стиле ар-деко. Он располагался в нескольких кварталах к югу от огромного престижного дома Эль-Дорадо. Свой пятиэтажный пентхаус в его южной башне я недавно продал.
Я посмотрел вверх по улице на свой бывший «небесный замок». Что же пошло не так? Я планировал жить там вечно. Думал, что на закате жизни поведу своих будущих внуков в Музей естественной истории. В своих фантазиях я показывал им гигантского синего кита и рассказывал, как, увидев его в 1968 году, будучи трехлетним малышом, долго стоял, открыв рот от ужаса и благоговения. Мама пыталась увести меня, но я не мог оторвать взгляда от гигантского чудовища.
Каждый раз, когда мы встречались, Хиллари очень доброжелательно относилась ко мне, а я никогда не понимал почему.
Неделю назад я продал пентхаус разведенной женщине из Техаса. Вот она, вероятно, и будет водить внуков в музей смотреть на кита. Помимо продажи «небесного замка» я за последний месяц избавился и от другой своей недвижимости. Продал поместье на севере штата (площадью 60 акров) управляющему хедж-фондом. Фарид Закария[196] купил у меня недвижимость, которую я приобрел в Доминиканской республике. Дом в Беверли-Хиллз достался богатой семье из Лос-Анджелеса. А чайную я просто подарил Келли.
Несколько лет назад я покупал все это, чтобы обрести счастье. И что?
Однажды вечером в кафе Трайбека я разговаривал со своим старым другом Эшли. Когда-то мы вместе посещали группу изучения Библии в Коннектикуте. Речь зашла о моей недвижимости, и я стал жаловаться на то, что испытываю большие трудности, связанные с владением и управлением всем этим добром. И тогда он задал простой вопрос:
– Ты счастлив?
Мне захотелось солгать, как обычно, и сказать: «Конечно, да!» Но Эшли был откровенен со мной всегда, даже когда переживал болезненный развод. Поэтому я ответил честно:
– Нет, я не счастлив.
– Так почему бы тебе не избавиться от этих домов и квартир, если они не приносят тебе счастья?
Я хотел объяснить, что эта недвижимость нужна, чтобы доказать всему миру, что мне удалось оседлать жизнь. Что я больше не тот бедный ребенок из Коннектикута, который сгорал от стыда всякий раз, когда его мама покупала еду в супермаркете на продуктовые талоны. Но опровергнуть простую логику Эшли было невозможно. Я действительно не был счастлив. И зачем тогда что-то кому-то доказывать?
На следующий день я позвонил своему адвокату. Кампанию по продаже своей собственности я мысленно назвал «MIGA» – «Make It Go Away»[197].
Теперь из недвижимости у меня остался только лофт на Мотт-стрит, в котором я обретался с середины 90-х годов. Я думал продать и его, но он был родным, теплым, удобным. В нем рождалась моя музыка. К тому же мне нужно было место для ночлега.
Моя жизнь не стала счастливой после того, как я избавился от бесполезного портфеля недвижимости. Но мне стало легче. И теперь я меньше напоминал Джея Гэтсби[198].
* * *
Официант, курсировавший по балкону на Сан-Ремо с серебряным подносом, предложил мне сосисок в тесте. Я мог растерять все идеалы и изменить принципам, но все еще оставался воинствующим веганом, поэтому вежливо сказал:
– Нет, спасибо. Не могли бы вы принести мне черный кофе и водку со льдом?
Официант посмотрел на меня с пониманием алкоголика и сказал:
– Я посмотрю, что можно сделать.
Несмотря на восемь часов сна под воздействием препаратов, я был измотан. От похмелья ныли зубы.
Я хотел объяснить, что эта недвижимость нужна, чтобы доказать всему миру, что мне удалось оседлать жизнь.
Хиллари Клинтон ушла с мероприятия в девять часов вечера, а я задержался еще на час, пытаясь флиртовать с сотрудницей Фонда Клинтона и попивая водку. В десять часов я доплелся до такси и поехал в центр города, в танцевальный зал и ночной клуб «Highline». Там мои знакомые веганы устроили благотворительный вечер в защиту прав животных.
Когда я приехал, на сцене был мой друг Джесси Малин[199], поэтому я вышел на сцену, прервал его песню на середине и взял микрофон.
– Если у кого-нибудь есть наркотики, – просто сказал я, глядя на растерянные лица пятисот человек, собравшихся в зале, – просто подойдите к сцене сбоку. Спасибо.
Вернув микрофон Джесси, я повернулся к группе и распорядился: «Продолжайте». Музыканты раздраженно и недоуменно смотрели на меня.
Я ушел к бару сбоку от сцены и заказал пиво «Porkslap», чтобы скрасить ожидание тех, кто подойдет с наркотиками. Пить пиво под названием «Свиная лепешка» на благотворительном вечере, посвященном защите прав животных, было забавно.
Меня захлестнул гнев. Кипя от злости, я вернулся на сцену. Выступавшая Дебби Харри[200] только что закончила исполнять песню. Я взял у нее микрофон и обратился к собравшимся:
– Вы меня очень разочаровали. Называете себя жителями Нью-Йорка, но ни у кого здесь не нашлось для меня наркотиков.
Несколько человек засмеялись, и я отругал их.
– Я серьезно говорю. Мне нужна наркота, а вы все меня подставили! Стыдитесь!
Покинув сцену, я направился к бару. Женщина, работавшая в «Angelica’s Kitchen», остановила меня.
– Смешно получилось! – сказала она.
– И не пытаюсь быть смешным, – отрезал я. – Мне нужны наркотики.
Чуть позже я поднялся наверх в гримерную и обнаружил там свою подругу Аврору, которая курила и пила пиво с несколькими музыкантами, игравшими на благотворительном вечере. Аврора, исполнительница бурлеска, была похожа на молодую Ширли Маклейн[201].
– Выглядишь расстроенным, Мо, – заметила она.
– Мне нужны наркотики, а их ни у кого нет, – пожаловался я капризным тоном, усаживаясь на грязный диван «Iкеа» и допивая вторую банку «Porkslap».
Мы расспросили барменов, зрителей и девушку из гардероба – наркотиков ни у кого не было. Но потом я подошел к техникам, курящим за сценой:
– У вас нет наркотиков?
– Идите за мной, – сказал один из них, гася сигарету о колонку. Мы с Авророй проследовали за ним. У техника были жесткие седые волосы, доходившие до воротника черной футболки, обтягивавшей пивной живот. Он проводил нас в чулан за сценой и плотно прикрыл за нами дверь.
Он вытащил из кармана пакетик порошка.
– Сто долларов.
Пакетик был очень маленьким. Но я не стал торговаться.
– Этот порошок – дерьмо! – сказала Аврора.
– Согласен, – ответил я.
Неожиданно в чулан вернулся техник.
– Моби, мне стыдно, что я так много с вас взял, – сказал он. – Вот еще один пакет.
– Большое вам спасибо, – сказал я. – Не разделите его с нами?
– Знаете, – посмотрел на меня техник. – В последний раз я видел вас в 1999 году в «Virgin Megastore».
– Вы были там?
– Да, я устанавливал акустику, – сказал он. – И как вы с тех пор?
Я рассмеялся. А потом засмеялся еще громче, хотя Аврора и техник недоуменно смотрели на меня.
А что я мог сказать? Как я с тех пор? Как после того выступления в музыкальном салоне торгового центра я продал десятки миллионов пластинок, объездил весь мир, встречался с кинозвездами, заработал миллионы долларов и умудрился все испортить – свою жизнь, карьеру, дружбу. Как теперь каждый день меня посещают мысли о самоубийстве.
– Ну, – сдержанно сказал я, – это были странные несколько лет.
Прикончив большую часть содержимого двух пакетиков, мы с Авророй вышли из чулана и направились к бару взять еще «Porkslap». Я увидел своего друга Джонни Динелла[202] и поспешил его обнять. Джонни выглядел как латиноамериканская поп-звезда 1950-х годов. В 80-х он был любимым диджеем Энди Уорхола[203]. Вместе с женой Чи Чи Валенти они устраивали лучшие вечеринки в Нижнем Манхэттене, от «Серых садов» до «Ночи тысячи Стиви».
– Моби! – сказал он, ухмыляясь. – Пойдем со мной! Ты должен познакомиться с хиппи!
Я был полон божественной любви и хаоса.
– Да, мне просто необходимо познакомиться с хиппи! – сказал я.
Джонни взял меня за руку, я взял за руку Аврору, и мы вышли на середину танцпола. На сцене выступала рок-группа дрэг-квин[204], а на танцполе длинноволосые хиппи с Burning Man стояли кругом и танцевали.
– Хиппи! – крикнул им Джонни. – Моби!
– Моби! – завопили они и потащили нас с Авророй в свой танцевальный круг.
– Подождите! – закричал я. – Мне нужно выпить!
Я побежал к бару и заказал две водки, одну для себя и одну для Авроры. Вернувшись на танцпол, я выпил свою порцию и закружился с хиппи, пока группа играла тяжелую металлическую версию «Queen of Hearts» Джуса Ньютона[205]. Я кричал: «Люблю эту песню!» Комната кружилась, вокруг меня были два десятка хиппи-дервишей, выглядевших так, словно они только что ушли с прослушивания кандидатов в участники бродвейского мюзикла «Волосы».
Моя детская неприязнь к хиппи прошла. Став старше, я решил, что большинство из них довольно безобидны и действуют из лучших побуждений. Песня закончилась, группа сказала: «Спасибо и спокойной ночи!» – и хиппи, Джонни, Аврора и я повалились на пол в кучу человеческой плоти, пахнущей водкой и пачули.
– У нас есть еще наркотики? – спросил я Аврору.
Она заглянула в свою сумочку и вытащила оттуда пластиковый пакет.
– Совсем чуть-чуть, – сказала она.
– Моби, это нельзя делать на людях, – сказал Джонни, и в зале клуба «Highline» зажегся свет. Сбор средств закончился, и зрители шли мимо нас по направлению к выходу.
– Но мне хочется, – сказал я.
– Ой-ой, – сказал Джонни, заметив охранника, направляющегося в нашу сторону. Тот был одет в черное с головы до ног и с моего наблюдательного пункта на полу выглядел как одиннадцатифутовый штурмовик.
Комната кружилась, вокруг меня были два десятка хиппи-дервишей, выглядевших так, словно они только что ушли с прослушивания кандидатов в участники бродвейского мюзикла «Волосы».
– Мне плевать, кто ты, черт побери, это дерьмо тут нюхать нельзя! – закричал на меня охранник.
Он указал на выход.
– Ты и твои друзья – уходите!
Он был в ярости, но мои вены пели от водки и пива.
– Хочешь, я тебя обниму? – искренне спросил я.
– Убирайся к чертовой матери! – заорал он прямо мне в лицо.
Когда мы шли к выходу, один из хиппи сказал:
– Моби, ты должен поехать с нами.
Мы завернули за угол. Там стоял ярко раскрашенный школьный автобус.
– Как в «Семье Партридж»! – засмеялась Аврора.
– Это наш Фуртур, – сказал хиппи. Мы забрались в автобус, и он начал ставить пластинки в импровизированной кабинке диджея в задней части автобуса. Сиденья в салоне были убраны, а потолок расписан иероглифами и карикатурами.
Когда мы ехали по Десятой авеню, диджей поставил мою песню «Go», и хиппи зааплодировали.
– Моби, «Go»! Отличная вещь!
Автобус остановился на красный свет около туннеля Линкольна, и все весело попадали на пол.
– А куда мы едем? – спросила Аврора.
– В Гарлем! – завопили хиппи.
– В Гарлем? Я родился там, – сказал я.
Автобус остановился перед заброшенным особняком на 160-й улице, рядом с Вест-Сайд-Хайвей. Я сказал хиппи:
– Спасибо, что подвезли, но нам пора идти. Мне нужна водка и настоящие наркотики.
Они явно расстроились, но обняли нас на прощание. Когда мы уходили от хиппи и их «безнаркотического» автобуса, пошел дождь.
– Ты родился в Гарлеме? – спросила Аврора.
– 168-я улица, недалеко отсюда. Пойдем посмотрим?
Мы пошли на запад, и начался дождь.
Я родился в Гарлеме, в Колумбийском пресвитерианском госпитале 11 сентября 1965 года. Еще раз я побывал там только в 1997 году, участвовал в исследовании панических атак. Я согласился на это, желая узнать, смогут ли психиатры помочь мне справиться с моими неумолимыми приступами паники. Первая часть исследования включала в себя десятистраничный опросник о тревожности и образе жизни. Я честно отвечал на все вопросы, кроме одного: «Сколько спиртного вы употребляете за месяц?» Я соврал, написав: «40–50 порций».
Просмотрев мои ответы, доктор покачал головой: «40 или 50 порций алкоголя в месяц? Вы можете быть алкоголиком». Я не сказал ему правду, которая заключалась в том, что я выпивал 40 или 50 порций в неделю или где-то около 200 порций в месяц. Это было десять лет назад – теперь я выпивал около 100 порций в неделю или 400 в месяц.
В конце исследования доктор подтвердил то, что мне говорили в 1984 году: у меня было тяжелое «плато панического расстройства». Это означало, что в какой-то степени я всегда паниковал. У меня также были эпизодические всплески паники, но он сказал мне, что на самом деле я тревожился постоянно.
– Этим можно объяснить ваше пьянство, – сказал он, явно обеспокоенный. – В какой-то момент вам может понадобиться помощь.
Мы с Авророй смотрели на готический фасад Колумбийского пресвитерианского госпиталя. Был час ночи дождливого вторника; улицы вокруг больницы были мокрые и пустые.
– Ты родился здесь? – спросила Аврора.
– Так написано в моем свидетельстве о рождении.
– Выглядит как тюрьма какая-то.
Моя детская неприязнь к хиппи прошла. Став старше, я решил, что большинство из них довольно безобидны и действуют из лучших побуждений.
Мы разглядывали больницу, и тут я заметил на пластиковом мусорном баке пару оранжевых туфель для стриптиза.
– Рык, смотри, – сказал я с благоговейным трепетом. Я взял туфли в руки. Они были ярко-оранжевыми, а каблуки блестели серебром. Хоть они и лежали в мусорке, не особенно испачкались.
– Это мой тотем, – сказал я, снимая кроссовки и надевая сверкающие оранжевые туфли. Ковыляя в них по тротуару, спросил:
– Может, нам стоит отправиться в центр, поискать секс и наркотики?
Аврора вдруг посерьезнела.
– Ты здесь родился. А что бы тебе сказал малыш Моби?
Я стоял, покачиваясь на высоких каблуках, и смотрел на громадное готическое здание, в котором появился на свет. Ночь только начиналась, но я уже выпил дюжину рюмок. Накануне я был у своего психотерапевта, доктора Барри Любеткина, и сказал ему, что избавляюсь от всего ненужного имущества.
– Вы собираетесь покончить с собой? – напрямую спросил он.
Вопрос меня ошеломил.
– Я не знаю, но почему вы так решили?
– Люди иногда избавляются от собственности, прежде чем закончить жизнь самоубийством.
Я знал, что психотерапевты должны сообщать в полицию, если им кажется, что пациент – потенциальный самоубийца. Поэтому рассмеялся и сказал:
– Посмотрите на меня, я отлично справляюсь!
Оказаться в психиатрической лечебнице мне не хотелось.
Я посмотрел на Аврору и серьезно обдумал ее вопрос. Что мог бы сказать малыш Моби мне, пьяному, обдолбанному, стоящему на тротуаре в оранжевых стриптизерских туфлях, раздираемому похмельем, депрессией и приступами паники?
– Не знаю… Наверно, «хватит делать мне больно»?
Дариен, Коннектикут
(1984)
Я любил животных. И есть их я тоже любил.
Во времена моего детства всегда в нашем доме было множество спасенных собак и кошек, мышей, песчанок, ящериц и даже лабораторных крыс. А еще в доме было предостаточно мясного рулета, гамбургеров, хот-догов, копченой колбасы и куриных наггетсов. Я безусловно любил всех спасенных животных, даже если они кусались или мочились на меня. Однажды мама сказала, что если песчанка кусается или мышь писается, то это от страха. Она объяснила:
– Ты бы тоже боялся, если бы тебя держало в руках существо в сотни раз больше тебя и с огромными зубами.
Я согласился с ней: да, боялся бы.
В 1975 году я шел мимо дариенской городской свалки, и вдруг сквозь шум дорожного движения и грохот мусоровозов послышался писк котенка. Я подошел к грязной картонной коробке, из которой доносился звук, и открыл ее. В коробке лежали три мертвых котенка и один – крохотный серый, размером чуть больше пальца – был едва жив. Кто-то облил их пивом, и котенок мяукал, несчастный и слепой, – у него даже еще не открылись глаза. Я поднял его как можно осторожнее, обернул своей футболкой и поспешил домой.
Мы с мамой отнесли котенка к местному ветеринару. Тот осмотрел его и печально покачал головой:
– Он очень слаб. Удивительно, что он еще жив. Я могу прописать лекарства, но не привязывайтесь к нему сильно: возможно, он не выживет.
Мы принесли котенка домой и устроили ему жилище из чистой коробки, в которую мама положила несколько старых футболок. Мы дали малышу теплого молока и почему-то – потом мы сами не могли вспомнить почему – назвали его Такером.
Джордж, старая и сварливая бабушкина такса, пришел посмотреть, что это за маленькое пищащее существо поселилось в его доме. Родные рассказывали мне, что, когда Джордж был щенком, он отличался добрым нравом. Но теперь он постарел, рычал на меня и маму и едва терпел бабушку.
Во времена моего детства всегда в нашем доме было множество спасенных собак и кошек, мышей, песчанок, ящериц и даже лабораторных крыс.
Сердитый Джордж посмотрел на крохотного пищащего Такера и лег рядом с ним. Такер перестал мяукать. Через минуту он начал тихонько, по-котеночьи мурлыкать. В этот момент старый и вредный Джордж стал Такеру мамой. В следующие несколько недель он не отходил от Такера, и котенок не умер.
Когда Такер подрос, он хвостом ходил за мной по дому и каждый день встречал меня, когда я приходил из школы. Словно младший брат, которого у меня никогда не было.
* * *
В детстве я знал только одну вегетарианку, девочку из школы, и мне казалось, что ее убеждения абсурдны. Однажды я поспорил с ней о вегетарианстве, и она спросила:
– Если ты любишь животных, почему ты ешь их?
Мне было нечего ответить, но сам вопрос, казалось, не имел смысла. Все ели животных. Насколько я знал, все всегда ели животных. Употребление животных в пищу было вплетено в саму ткань человечества, словно машины или телевидение. Так что, хоть я и любил животных сильнее, чем многие люди, я продолжал их есть.
* * *
После того, как я бросил университет, Такер понял: что-то не так – и пытался по мере своих сил заботиться обо мне. Но даже под его надзором в первый месяц после ухода из колледжа я чувствовал себя ужасно. Панические атаки начинались с самого пробуждения, и тревожность уходила только после того, как я выпью пива или водки. Все мои друзья разъехались по колледжам, и мне не с кем было общаться. К тому же страхи становились все сильнее и не давали искать работу.
Почти каждый день после завтрака я брал «Walkman» с кассетой Joy Division или Echo & the Bunnymen и на старом десятискоростном «Schwinn» ехал на пляж или в местный парк. Там я садился на скамейку и пытался вести дневник, думая о том, ослабнет ли паника хоть чуть-чуть. Но дни шли, а она по-прежнему терзала мой мозг, царапая его своими ужасными когтями.
Я нашел бар в Порт-Честере, штат Нью-Йорк, под названием «Beat». Он находился в двадцати минутах от маминого дома, и я начал большую часть вечеров проводить там. Это был дешевый бар, им управляли два местных художника. А еще это было единственное место в округе, где диджеи ставили «новую волну» и панк-рок. В этом баре я завел нескольких друзей, которые не учились в колледже по различным неблагополучным причинам.
Аллард, канадец, похожий на Иэна МакКаллоха[206], жил с родителями в Новом Канаане. Его выгнали из художественной школы за то, что он рисовал уши на стенах. «У стен есть уши! – сказал он мне, когда мы познакомились. – Понял?» Мелисса была девятнадцатилетней бас-гитаристкой «новой волны». Волосы она красила в нежно-голубой цвет. Она бросила Хэмпширский колледж, жила в Гринвиче и ухаживала за больной матерью. Брок, высокий торчок из Стамфорда, бросил Бостонский колледж ради великой цели – стать ударником.
В «Beat» я подружился еще с несколькими одинокими пригородными неудачниками, но Аллард, Мелисса и Брок стали моими самыми близкими друзьями. Поскольку Мелисса играла на басу, Брок – на ударных, а Аллард был похож на Иэна МакКаллоха, мы организовали группу. Все мы были одержимы грустной, полной жалости к себе музыкой, рожденной на севере Соединенного Королевства, и, хоть и были подростками из Коннектикута, прилагали все усилия, чтобы выглядеть и звучать как Smiths и Aztec Camera.
Страхи становились все сильнее и не давали искать работу.
Дружба и игра на гитаре в группе помогли мне ослабить путы тревожности. К началу лета я смог начать поиск работы. Я искал интересные предложения на страницах «Стамфордского адвоката», где публиковали объявления о поиске сотрудников. И однажды прочел: «Магазин искусств и ремесел ищет продавца на неполный рабочий день, креативность приветствуется». Я заполнил заявление, прошел собеседование, занявшее всего несколько минут, и был принят на работу в салон «Чудо глины» в торговом центре в Стамфорде – с оплатой 3,25 долларов в час.
Владел магазином Джимми, старый хиппи, который, казалось, был еще тревожнее меня – в основном из-за того, что в магазин никто не ходил. Был 1984 год, люди ходили в торговые центры за яркой одеждой, делавшей их похожими на Молли Рингуолд или Эдди Мерфи. Покупателям нужны были футболки с изображением Мадонны, а не пыльные традиционные барабаны из Руанды и вырезанные вручную шахматы из Эквадора. Джимми платил мне наличными, и я работал три дня в неделю, сметая пыль с рукотворных вещиц из Южной Америки и Африки, которые никто не хотел покупать.
Однажды Мелисса и Аллард пришли в торговый центр пообедать со мной в «Sbarro», в ресторанном дворике. Я заказал пиццу с колбасками и пеперони, а они – пиццу с перцем и луком.
– Худеть пытаетесь? – пошутил я. Они и так были тощими, как щепки.
– Вчера вечером мы посмотрели британский фильм о животных, – сказал Аллард.
– И теперь мы вегетарианцы, – добавила Мелисса.
Я замолчал, ожидая завершающей мысли. Но ее не последовало, и я спросил:
– Что?
– Мы вегетарианцы, – повторил Аллард.
– Что это значит?
Они были вегетарианцами первый день, и им пришлось подумать, как лучше ответить на этот вопрос. Мелисса пожала плечами и сказала:
– Никакого больше мяса, я думаю.
Я засмеялся и сказал, что не пройдет и недели, как они снова начнут есть мясо.
После работы я взял мамин «Шеветт» и поехал в «Бургер-кинг» в Норуолке, где заказал себе, как обычно, воппер, средний картофель-фри и шоколадный коктейль. Я устроился на парковке, жевал бургер и думал о вопросе, который мне давным-давно задала девочка в школе: «Если ты любишь животных, почему ты их ешь?» Я хотел сесть рядом с Аллардом, Мелиссой и этой девочкой и сказать: «Потому что все едят животных!» Но знал, что эти слова – жалкое оправдание.
В университете я собирался изучать философию и незадолго до отчисления ходил на вводные занятия по этому предмету. Профессор, доктор Финк, рассказал классу об ошибке описания и предписания, о принципе Юма. Если коротко, оправдание чего-то только потому, что оно было частью статус-кво в течение длительного времени, с точки зрения логики неверно. Он попросил нас привести примеры, и мы вспомнили рабство, детей, работающих на фабриках, отсутствие избирательного права у женщин, опрыскивание овощей ДДТ и свинцовую краску. Все это было неприемлемо в современном мире, но в определенное время защищено логикой, которая сводилась к тому, что «эта вещь существует, поэтому она должна продолжать существовать, даже если мы знаем, что это плохо и неправильно».
Воппер внезапно стал не таким вкусным, как обычно. Я поехал обратно к дому моей мамы, где на лестнице с оранжевым ковром меня поджидал Такер. Я сел играть с ним, водя ручкой вдоль края лестницы; он подкрадывался и нападал на нее.
В этот миг я осознал, что не могу участвовать в том, из-за чего страдают животные.
Я любил Такера. И был полностью уверен, что сделаю все возможное, чтобы уберечь его от боли и огорчений. Я смотрел на его серую полосатую мордочку, как тысячи и тысячи раз до этого. У него было два глаза, центральная нервная система, невероятно богатая эмоциональная жизнь и внутреннее стремление избежать боли и страданий. И, когда он охотился на ручку, я понял, что все животные с двумя глазами и центральной нервной системой живут невероятно богатой эмоциональной жизнью и обладают внутренним стремлением избежать боли и страданий.
В этот миг я осознал, что не могу участвовать в том, из-за чего страдают животные. Я позвонил Алларду.
– Алло?
– Не воображай себе ничего, но я теперь тоже вегетарианец.
Майами, Флорида
(2008)
В момент нашей первой встречи мой друг Мэтт был торчком и работал в «Beat» в Порт-Честере, штат Нью-Йорк. Я знал его несколько десятилетий, и все это время он был бездомным и наркозависимым. Наркотики привели к тому, что, когда ему было за двадцать, он укололся грязной иглой и в итоге потерял ногу. Он игнорировал распространение инфекции. К тому времени, как он добрался до больницы, гангрена зашла так далеко, что ногу пришлось ампутировать.
Но несколько лет назад Мэтт слез с героина. Он встретил прекрасную женщину и теперь был счастлив, свободен от наркотиков и женат. Он жил во Флориде с женой и тремя бостон-терьерами. У меня должно было проходить выступление в Майами в качестве диджея, и я собирался прилететь туда на выходные и поздравить Мэтта с сорокалетием.
Я любил его и гордился тем, что он победил зависимость и не умер.
Я планировал выступить в субботу вечером, хорошенько выспаться в гостинице, встать пораньше, сходить на празднование дня рождения Мэтта и улететь в Нью-Йорк. Я остановился в «Biscayne Bay», зарегистрировался в гостинице, пошел на маленький гостиничный пляж, чтобы попрыгать в воду, – и тут же наступил на медузу. Поначалу немного жгло. Потом появилось ощущение, что мою ногу окунули в кислоту и поджаривают огнеметом. Боль усиливалась, и я прыгал по горячему песку, думая, что же делать.
Где-то я читал, что ожог от медузы можно вылечить, помочившись на него, но на пляже посреди гламурных модников пописать на себя было невозможно. Я проковылял по пляжу до туалетов, поднял ногу над унитазом и помочился на стопу. Боль ослабла, превратившись из нестерпимой в просто мучительную.
Дохромав до номера, я встал перед выбором: пописать на ногу еще раз или вымыть ее в стильном, выложенном белой плиткой душе. В интернете я выяснил, что нужен какой-то крем с гидрокортизоном. Я отправил сообщение Sandy, своему тур-менеджеру, и он купил крем в ближайшей аптеке «Rite-Aid». Размазав крем по всему своему пульсирующему, раненому копыту, я плюхнулся в эймсовское кресло рядом с рабочим столом из оранжевого пластика и включил CNN, чтобы отвлечься от боли.
Мое выступление начиналось в полночь, и в одиннадцать мы с Sandy направились на площадку. Моя обмазанная гидрокортизоновым кремом ступня едва поместилась в кроссовку. Я с трудом мог ходить, но, чтобы диджеить, не нужно ни ходить, ни бегать. От меня требовалось лишь стоять за микшерным пультом «Pioneer» и время от времени махать руками. Мне пришло в голову, что от боли может помочь водка, и я открыл за сценой бутылку «Столичной», которую взял из гримерки.
Мое выступление следовало за сетом Princess Superstar[207], моей подруги, которая уже много лет не пила спиртного. Мы были знакомы с 2002 года, когда она записала рэп для одной из моих песен, но теперь, всякий раз, как мы встречались, она непременно давала мне понять, что я алкоголик и нуждаюсь в помощи. Princess Superstar пришла в мою гримерку, одетая в серебряные шорты и ярко-розовую рубашку, и увидела, что я сижу на складном сером металлическом стуле и пью водку в одиночестве. Она грустно посмотрела на меня и покачала головой.
– Ногу поранил, – сказал я, пытаясь объяснить происходящее.
– Мне все равно, – ответила она и ушла на сцену.
«Если бы я был трезвенником, – возникла в голове горделивая мысль, – как Princess Superstar, мне пришлось бы до сих пор прыгать на одной ноге».
Я вышел посмотреть на выступление подруги и на аудиторию. В начале 2000-х я выступал в Майами на больших площадках с аншлагом, вокруг залов стояли очереди. А сейчас, в 2008-м, маленький клуб был заполнен всего на треть. Несколько человек танцевали под сет Princess Superstar, но в остальном зал и аудитория смотрелись безжизненными. Я вернулся в гримерку выпить.
Я любил его и гордился тем, что он победил зависимость и не умер.
– Мо? – Sandy просунул голову в дверь. – Ты знаешь Константина?
Константина? Не знал я никаких Константинов.
– Он из Восточной Европы.
Ох. Тот Константин. Промоутер-мафиози, который чуть не угробил меня, когда я подхватил грипп во время тура Animal Rights.
– Он здесь? – осторожно спросил я.
Константин и его свита из четырех моделей, двух криминальных авторитетов и двух охранников в черных костюмах вошли в мою крошечную гримерку.
– Моби! – прогремел он. – Друг мой!
Он по-медвежьи обнял меня и познакомил с моделями и мафиози из Восточной Европы. Модели улыбнулись почти застенчиво, а мафиози только кивнули.
– После выступления ты пойдешь с нами! В мой клуб! У меня здесь свой клуб!
– Ладно, увидимся позже, – сказал я, пока они толпой выходили из гримерки.
Я был наэлектризован. И не мог дождаться, когда уже выйду на сцену. Клуб был заполнен всего на треть, и я еле ходил на распухшей, покрытой волдырями ноге, но сегодняшний вечер обещал быть потрясающим.
Я задумался, какие пластинки буду ставить. Наверняка альбомы современного золотого века танцевальной музыки – по крайней мере, я так решил.
Всякое время было золотым веком танцевальной музыки, думал я. Но этот, сегодняшний, был самым золотым. Или кастрированным. Нет, не кастрированным. Я задумался о золоте и кастрации – о том, как я любил одно и не любил другое.
– Пора на сцену, – сказал Sandy, прерывая мою «вечеринку». Я гордо прошествовал на сцену.
Встав рядом с Princess Superstar, я обнял ее за плечи.
– Здорово же! – крикнул я.
Она посмотрела на почти пустой клуб, подняла брови и уныло сказала:
– Все твое.
И отошла от оборудования.
Вечер был полуживым, но я знал, что спасу его. Константин со своей бандой преступников и манекенщиц сидел в баре рядом со сценой. Я слышал его возглас «Моби!» и помахал ему рукой, считая теперь, что он мой новый лучший друг.
Я начал сет с ремикса старого трека Fatboy Slim[208] и продолжил играть свои любимые записи 2008 года – «Loops of Fury», «Deadmaus», «Miles Dyson», – и даже поставил несколько ремиксов моих старых треков, таких как «Natural Blues» и «Porcelain». Нога была измазана жирным кремом, но не болела, так что я плясал за пультом, как безумный.
– Можешь принести бутылку водки из-за кулис? – крикнул я Sandy. Он принес ее, и я поднял бутылку высоко в воздух, а потом отпил прямо из горлышка. Скромная аудитория одобрительно загудела, и я почувствовал себя Ozzy Osbourne[209], который ставит чужие пластинки в маленьком клубе во Флориде.
Я хотел услышать «Born Slippy» Underworld, один из самых культовых и красивых танцевальных треков, когда-либо записанных.
Я поставил «Born Slippy». Аудитория завопила, и на мгновение все вокруг озарилось ярким светом. Я видел, как несколько старых рэйверов обняли друг друга. Я поднял руки, благословляя их, благословляя всех нас.
Всякое время было золотым веком танцевальной музыки, думал я.
Я перешел к «Good Life» Inner City и понял, что получил все, что мне нужно: центральная нервная система накачана, а мои любимые пластинки звучат так же громко, как взрыв «Boeing 747». Я танцевал с закрытыми глазами. Мне подумалось, что слово «добро» произошло от слова «Бог». Во многих языках «Доброе утро», «good morning», берет начало от «Божьего утра», «God morning».
И тогда я решил, что произошел от Бога. Или, возможно, был лучшей версией Бога. Поскольку Он дал нам способность чувствовать трансцендентную радость, я не узурпировал Его власть в космосе, а просто взял то, что Господь создавал, и стал помогать ему – оглушительным техно.
Я понимал, что не вечен. Музыка тоже была не вечна по определению – она представляла собой просто движение молекул воздуха, изменяющих свое положение в миллионные доли секунды. Потом я вспомнил, что нахожусь на сцене, выступаю диджеем в ночном клубе, и открыл глаза. Поставил ремикс песни «Infinity» Гуру Джоша[210]. Когда начался его великолепный инструментальный брейк и толпа зааплодировала, я почувствовал нечто за пределами радости.
За «Infinity» последовала новая запись Zodiac Cartel, и я закричал. На заре рэйва я постоянно кричал и вопил на сцене – бросал вызов пустоте, впечатывая в нее себя, пытаясь заполнить вакуум Вселенной радостью. Но теперь мы с ней кричали вместе. Я был частью оглушительной темноты. И мне это нравилось.
Мой сет закончился, и на сцену вышел следующий диджей, Вольфрам.
– Отличный сет, – признал он. Я обнял коллегу и сказал, что люблю его.
Константин со своей свитой из моделей, преступников и охранников ждал за сценой.
– Пошли отсюда! – крикнул я. И еще: – У тебя есть наркотики?
Мы забрались в длинный лимузин, который ждал Константина у выхода. Уютно устроившись на черном сиденье среди высоких моделей, неуклюжих восточноевропейских преступников и огромных охранников, я почувствовал себя приемным эльфийским ребенком. Кто-то включил обычный техно-микс и протянул мне бутылку водки.
– Отличный сет! – сказал кто-то. Я повернулся налево: это была Ясмин, одна из моделей. Она широко улыбалась. Ее зрачки были расширены.
Она все поняла. Она была афроамериканкой и красавицей, и мне сразу же захотелось провести с ней всю оставшуюся жизнь. Я взял ее за руку:
– Кажется, я люблю тебя.
Она весело рассмеялась.
Мы добрались до клуба Константина – темного, ничем не выдающегося и намного более людного, чем тот, где я только что играл. Константин отвел нас в VIP-зал, полный пожилых иностранцев и молодых тощих моделей. Выглядело это все ужасно, но я тоже был ужасен, да и кому какое дело? Мы все – человечество, а человечество всегда было именно таким – прекрасным и отталкивающим.
Этот клуб был хуже всех, где я когда-либо проводил время, здесь было все, что я, по собственным заявлениям, ненавидел, и мне здесь нравилось.
– Ты училась в школе? – спросил я у Ясмин, модели, в которую влюбился в лимузине. Мой язык уже сильно заплетался.
– В колледже? – невнятно переспросила она.
– Ага.
– Недолго. – Казалось, ей было неприятно то, что я спрашиваю о серьезных вещах. – А ты?
– Я изучал философию, – признался я. Ясмин рассеянно улыбнулась. – А это, – указал я на окружающий нас дорогой разврат, – моя диссертация.
На заре рэйва я постоянно кричал и вопил на сцене – бросал вызов пустоте, впечатывая в нее себя, пытаясь заполнить вакуум Вселенной радостью.
Пытаясь произнести слово «диссертация», я осознал, что оно трудное и забавное, если ты пьян и под кайфом. Поэтому пришлось повторить его снова, заплетаясь и спотыкаясь на свистящих: «Диссертация. Диссертация».
Склонившись к Ясмин, я без всякой необходимости признался:
– Я пьян.
Константин подошел и объявил:
– На рассвете мы пойдем на мою яхту!
– А когда это будет? – спросил я, потому что мы могли провести в герметично закрытом VIP-зале и 30 минут, и все три часа.
Он взглянул на часы.
– Ха! Сейчас!
Мы вышли на улицу, солнце уже взошло. В этом не было на самом деле ничего удивительного: я не мог вспомнить, когда в последний раз ложился спать до рассвета. Когда мы все вернулись в лимузин Константина, я сжал надушенную руку Ясмин своими костлявыми пальцами.
Яхта Константина была на удивление большой – со спальнями, столовой и джакузи в задней части. Она должна была выглядеть безвкусно, но почему-то казалась прекрасной.
– Можно мне порулить? – спросил я Константина, когда мы поднялись на борт.
– Ха-ха, нет! – ответил мой новый лучший друг и указал на охранника, сидевшего за штурвалом яхты. – Поведет он.
Я попытался выглядеть трезвым, чему мешало то, что меня изрядно покачивало.
– Яхты – моя стихия, – пробормотал я.
– Все в порядке, мы на вечеринке, – ответил Константин, обнимая меня за плечи.
Когда мы шли по палубе, я спросил:
– Она быстрая?
Константин улыбнулся и поднял вверх большой палец. Действительно, для яхты скорость его судна была очень приличной.
В лицо мне ударил мягкий розовый воздух Майами. Я сжал руку Ясмин, и она ответила мне тем же. Она была частью моей неблагополучной семьи. Как и Константин. Все люди на яхте были моими детьми, и я любил их всех.
Даже за пределами клуба мне казалось, что я лучшая версия Бога.
– А знаешь, что самое интересное? – спросил я Константина. И перепрыгнул через борт.
В воду я вошел жестко. А потом просто поплыл, глядя на нежно-голубое тропическое небо. Мир был нежным. Небо было нежным. Вода была нежной. Наверное, мой телефон перестал работать в воде, сломался. Но я улыбался, глядя в небо.
Я услышал, как яхта плывет ко мне. Константин и все модели стояли у перил, злые и обеспокоенные.
– Все в порядке! – крикнул я, отплывая прочь от яхты.
– Моби! – завопил Константин. – Залезай на борт!
– Нет, – засмеялся я, отплывая от яхты. – Просто оставьте меня здесь!
Я хотел плыть, а потом лежать на воде, а потом умереть. Я утону в море и наконец исчезну. «Просто дай себе умереть», – слышал я чьи-то слова. Но потом посмотрел на яхту. Все люди на ней казались очень озабоченными. Они были моей новой семьей, а я их новым отцом. И они выглядели обеспокоенными. Поэтому я поплыл обратно к яхте.
Я не был сумасшедшим. Просто хотел заявить о своем прирожденном праве на смерть.
Константин покачал головой:
– Черт, да ты псих.
Я не был сумасшедшим. Просто хотел заявить о своем прирожденном праве на смерть.
– Нет, я счастлив.
У моего отеля был причал, и нас с Ясмин высадили на нем. Мы проковыляли по пляжу в мой номер, разделись и залезли в душ.
– Эта вода на ощупь похожа на масло, – сказал я, потому что так оно и было. Я вытер Ясмин полотенцем, и она легла на кровать.
Я понимал, что секса у нас не будет. Мы устали, и мне было слишком плохо.
– Я хочу задать тебе один вопрос, – сказала Ясмин, забираясь под простыню. Она серьезно посмотрела на меня. – Ты знаешь Стивена Кольбера[211]?
И отключилась.
Я понял, что скоро у меня будет похмелье.
Телефон рядом с кроватью зазвонил. Сквозь белые занавески светило солнце, я был один, и мне казалось, что меня изнасиловали демоны. Но во мне еще теплилась жизнь, и это раздражало.
– Алло, – прохрипел я в трубку.
– Мистер Холл, – сказал Sandy, – машина прибыла.
Поначалу это сбило с толку, но потом я вспомнил, что приехал в Майами только ради позднего завтрака в честь дня рождения Мэтта.
– Хорошо, Sandy, спасибо, – сказал я, почти чувствуя себя виноватым за то, что за девять лет нашего сотрудничества он превратился из моего тур-менеджера в няньку. Я встал и обнаружил, что все еще достаточно пьян, чтобы меня качало, и уже достаточно трезв, чтобы чувствовать боль.
– Я волнуюсь за тебя, Моби, – сказал Мэтт.
На куче своей мокрой одежды я увидел записку от Ясмин. Она был краткой: «Пока» – вот так просто.
Я запихнул одежду и ноутбук в рюкзак и, пошатываясь, побрел в вестибюль. Вывалился из гостиницы, страдая от боли и надеясь умереть. Я не хотел того гламурного экзистенциального растворения в окружаюшем, к которому стремился в океане, а просто желал положить конец этой своей болезни, этой агонии.
Sandy ждал меня в вестибюле.
– Тяжелая ночь? – спросил он в пятисотый раз в моей жизни. Или, может быть, в тысячный.
И в пятисотый, а может быть, и в тысячный раз я просто утвердительно покачал головой.
Мы подошли к лимузину. Обычно Sandy был невозмутим, но сейчас выглядел сердитым.
– Я не уверен, что могу продолжать в том же духе, Моби, – сказал он.
Я понял. Я тоже не был уверен, что долго смогу продолжать в том же духе. Мне было трудно говорить. Прижавшись затылком к холодному черному кожаному подголовнику, я закрыл глаза. Наконец, лимузин подъехал к ресторану, где проходил завтрак в честь дня рождения Мэтта. Я кротко известил Sandy:
– Вернусь где-то через час.
Мэтт, его красивая жена и несколько друзей сидели за столиком на улице. С Атлантического океана дул мягкий соленый ветер; ресторан был полон счастливых людей, которые этим воскресным утром ели блинчики и пили коктейль «Мимоза».
– С днем рождения, – сказал я Мэтту, рухнув в кресло. А потом меня начало тошнить. Я устремился в туалет, но смог добежать лишь до конца веранды ресторана. Меня вырвало в какие-то растения, стоящие в горшках.
Я вернулся за стол, вытер рот и заказал водку с содовой и чашку черного кофе.
– Дикая ночь была, – сказал я Мэтту и его нервно улыбающимся друзьям.
Мой друг внимательно смотрел на меня. Он много лет был опустившимся наркоманом. Из-за этого он потерял все, включая свою ногу.
– Я волнуюсь за тебя, Моби, – сказал Мэтт.
Нью-Йорк
(2008)
Я решил, что моя проблема не в алкоголе и наркотиках. Она в дневном свете.
Продав «небесный замок» на Сентрал-Парк-Вест, я вернулся в лофт на Мотт-стрит, где жил с 1995 года. Годами я приобретал намного более впечатляющие объекты недвижимости, но лофт на Мотт-стрит был единственным местом, где я чувствовал себя как дома. Проблема заключалась в том, что на потолке было полно световых люков. Благодаря им лофт был красив – с игрой света и тени на пустых белых стенах. Но это мешало мне спать днем.
Я не бывал дома шесть ночей в неделю, бодрствуя до семи или восьми часов утра. Зимой все было прекрасно: я надевал маску для глаз и оставался в постели до пяти вечера, пока снаружи люди тащились по холодному и грязному снегу. Но сейчас, летом, когда солнце сожгло серые зимние облака, даже в маске мне мешал спать безжалостный дневной свет. Как бы сильно я ни любил свой лофт, мне казалось, что лучше найти подвальную квартиру без окон и жить в ней, полностью скрывшись от смены времен года и солнечных лучей.
Неделю назад я сидел в туалете бара на Ладлоу-стрит и принимал наркотики с несколькими лучшими друзьями, с которыми только что познакомился. Когда я рассказал им о своем плане жить в подвале и никогда не видеть солнца, один из моих новых лучших друзей сказал, что кое-кто из его знакомых продает бар в Бруклине. На самом деле, уточнил он, владелец продает не только бар – на продажу выставлено все здание. «И, – сообщил он мне с ухмылкой, – там есть подвал без окон».
На следующий день я позвонил продавцу и по линии метро L поехал в Бушвик лично осмотреть здание. Десять лет назад Вильямсбург был новой границей города, а Бушвик – неизведанным миром на краю карты. Но стерильное облагораживание Манхэттена толкнуло людей в скользкую диаспору периферийных районов.
Я решил, что моя проблема не в алкоголе и наркотиках. Она в дневном свете.
Можно было доехать до бара на лимузине, но я не был на линии L несколько десятилетий и хотел увидеть, насколько она изменилась. Когда я перебрался в Нью-Йорк в 1989 году и жил на 14-й улице, грязная линия L была моим спасательным кругом. Я ездил по ней на запад – в студию в «Instinct Records» на 8-й авеню. Я ездил по ней на восток – к друзьям, ставшим первыми поселенцами в новой хипстерской земле Вильямсбурга. В последний раз я был на линии L в 1992 году, когда спешил на рэйв в глубине Бруклина. Линия L 2008 года мало чем отличалась от самой себя в 1998 году. Но зато здорово изменился я.
Шестнадцать лет назад я был ясноглаз, трезв и влюблен в зарождающуюся рэйв-сцену. Теперь же потерял почти всех своих друзей, был склонен к самоубийству и хотел купить бар, где мог бы напиваться до смерти. В 1992 году я предполагал, что к 2008 году женюсь и буду жить на ферме где-нибудь на севере штата с доброй, любящей женой и множеством детей и собак. Сегодня же хотел только жить в подвале и избегать света, пока не умру.
Когда я разговаривал по телефону с владельцем бара, он прямо сказал мне, почему продает свой «рай без света». Он был кинопродюсером, оказался на дне из-за алкоголя и наркотиков и разорился из-за десятилетней кокаиновой зависимости. Он бросил пить и принимать наркотики. Но ему нужны были деньги.
Я задумывался о трезвости, и мне становилось все труднее и труднее отворачиваться от доказательств того, что мой образ жизни разрушает меня. Я даже пару раз для ознакомления побывал на собраниях АА – содружества Анонимных алкоголиков. Но, несмотря на истории участников этих собраний, в чем-то очень похожих на мою, я не утвердился в мысли о том, что страдаю зависимостью от спиртного. Я говорил себе и всем, кто слушал меня в барах в три часа ночи, что я – просто любитель алкоголя.
Водка, пиво, вино никогда не подводили меня. Алкоголь был вездесущим и надежным другом. Если пьянство меня убивало, то виновато был не спиртное, а весь мир. Мир так много обещал, но оказался жестоким и бесчестным.
Я сошел с поезда на станции «Бушвик», прошел несколько кварталов и встретился с владельцем бара. Он курил сигарету, ссутулившись в той пораженческой позе, которую я наблюдал у анонимных алкоголиков. Мы пожали друг другу руки, и он провел меня к своему дому. Открыл входную дверь бара.
– Я много дней провел здесь… – сказал он потухшим голосом.
Это был небольшой многоквартирный дом с двумя надземными этажами, баром на уровне улицы и подвалом, в котором хозяин употреблял наркотик. Я не желал показывать охвативший меня энтузиазм, но мне захотелось тут же купить это здание. Оно скрывалось в промышленном районе, было зажато между складами на улице, которая, как я знал, после шести вечера будет совершенно пуста. Здесь все было правильно. Нынешний владелец, возможно, и достиг дна, подумал я, но у него хороший вкус.
На верхних этажах размещались несколько хорошо отремонтированных помещений; я подумал, что могу даже позволить нескольким зоозащитным организациям, с которыми сотрудничал, использовать их в качестве офисов. Бар на уровне улицы был простым и со вкусом обставленным, со старой деревянной стойкой у одной стены и сделанными на заказ кабинками – у противоположной.
А подвальный коксовый притон оказался просто идеальным. Его стены были выкрашены в черный цвет, в нем стояла диджейская кабина – в одном углу, небольшой бар – в другом и мягкие диваны у стен без окон. Здесь можно было зависнуть на 12, 24 или 96 часов, полностью выкинув из мозга знание о существовании внешнего мира.
– Я плохо торгуюсь, – сказал я, – но действительно хочу купить ваш бар.
– Ну что ж, пойдемте поговорим.
Я задумывался о трезвости, и мне становилось все труднее и труднее отворачиваться от доказательств того, что мой образ жизни разрушает меня.
Мы вышли из его дома и направились в бар «Northeast Kingdom». Он был полон красивых хипстеров, которые жили в нищих городских кварталах на средства своих трастовых фондов. Я рос в бедности, полагая, что богачи хотят только одного – выглядеть богато и чувствовать себя богатыми. А теперь дети изобилия с помощью родительских денег старались выглядеть так, будто выросли на пособие.
Я заказал пиво, а продавец здания с баром и вожделенным мною подвалом – содовую с кусочком лайма.
– Мне любопытно, – сказал он, – почему вы хотите купить мой бар?
Я хотел рассказать ему о своих претенциозных и якобы возвышенных помыслах. Мне нужно было место, где можно было бы переждать, как выразился Э. М. Чоран[212], проклятие жизни. Мне нужна была приветливая темнота. Кафе «Тeany» было прекрасным, но слишком шумным для меня. В лофте было красиво, но слишком светло. Я не мог избавиться от мыслей о том, что жизнь в мире без света решит все мои проблемы.
Я даже придумал название своего бара. Я бы назвал его «Slow Dive», «Медленное погружение», но на неоновой вывеске буква «V» была бы намеренно выключена или закрашена. Получилось бы «Slow Di_e» – «Медленная смерть». Внутри все должно быть темным и мягким, считал я, словно материнская утроба. Все это будет отказом от реального мира сразу после рождения – мира, который оказался изломанным и шумным, требовательным и разочаровывающим.
Я был неадекватен и нелюбим. И пришло время перестать притворяться, что это не так.
Вместо того чтобы вываливать на дружелюбного, только что бросившего пить человека свои проблемы и мусор из головы, я просто сказал:
– Мне кажется, что собственный бар – это забавно.
– Знаете, поначалу это было очень, очень весело, – сказал он, глядя на свою содовую. – Но под конец стало совсем темно.
Я не стал говорить ему, что для меня наличие темноты – аргумент в пользу покупки.
За последние два десятилетия я заработал много денег и добился успеха. Но понимал, что был не сексуальной рок-звездой, а человеческим мусором. Я родился никчемным, иначе зачем бы мой отец покончил с собой и бросил меня? И я вырос бесполезным, иначе зачем бы моей матери бросаться в объятия ужасных людей? Вечеринки, распущенность и платиновые пластинки не изменили сути дела: я был неадекватен и нелюбим. И пришло время перестать притворяться, что это не так.
Нью-Йорк
(2008)
Было 11 сентября 2008 года, мой сорок третий день рождения. Я никогда не придавал особого значения дням рождения, а после 11 сентября 2001 года вообще на несколько лет перестал их праздновать. Но после тех ужасных роковых событий прошло уже семь лет, и я решил отметить свое сорокатрехлетие. Это должно было стать довольно приятным делом.
Отмечать я начал, отправившись выпить в Бруклине со своей бывшей девушкой Джанет и ее новым бойфрендом. Мы с Джанет познакомились на занятиях по изучению Библии в Коннектикуте и начали встречаться в 1989 году, когда она училась в Барнарде, а я был начинающим диджеем и жил на заброшенной фабрике. Мы восстановили связь несколько недель назад, после случайной встречи в кафе на Брум-стрит. У нее все еще были длинные вьющиеся волосы, и почему-то она выглядела такой же молодой и красивой, как и в конце 80-х.
После второй кружки пива я спросил:
– Как твоя вера, Джанет?
Она явно чувствовала себя неловко.
– Я не знаю, Мо. А как у тебя дела?
– Я тоже не знаю. Все еще молюсь иногда. Но не знаю.
– Ты ходишь в церковь?
Я рассмеялся. Помимо посещения нескольких собраний АА, пару раз проходивших в церковных подвалах, последний раз я был в храме на похоронах бабушки в 1998 году. Я хотел поговорить о равновесии духовного и светского, но новый бойфренд Джанет, похоже, этим совершенно не интересовался. Что вполне понятно, так как он был молодым модным писателем, а ни один уважающий себя эрудированный бруклинский хипстер не хотел говорить о Боге в баре с темными деревянными балками и модными открытыми лампочками.
Я расстроился. Не потому, что мы с Джанет не могли говорить о Боге. А потому, что вдруг понял: мое раннее жесткое христианство было догматическим и первобытным. Но по крайней мере оно было. В 1995 году, когда я признал, что больше не являюсь христианином, я перешел к тому, что считал агностическим секуляризмом: он охватывал пониманием сложность и непостоянство Вселенной. Проблема была в том, что я был влюблен в мир – особенно в секс, алкоголь и славу. И оттого, что они оказались невечными, мое сердце разбилось.
Поздними вечерами я говорил себе: жизнь так же мимолетна, как ницшеанская картина на песке. Но на самом деле мне хотелось, чтобы Вселенная восхваляла меня и мое существование вечно. За неделю до этого я был в Лос-Анджелесе. Когда я выходил из отеля, администратор спросила:
– Вам нужна проверка?
Она спрашивала, нужен ли мне штамп отеля на корешке парковки. Но на секунду я разволновался, думая, что она предлагает мне помощь в осознании смысла моей жизни.
– Хочешь еще выпить? – спросил бойфренд Джанет.
– Конечно, – ответил я.
* * *
Я согласился поработать диджеем на вечеринке в лофте за углом бара, в котором мы пили. Знакомые, Девы по гороскопу, решили, что будет здорово отпраздновать один большой день рождения Дев. А еще это был хороший способ бесплатно заполучить меня в качестве диджея для трехсот их друзей.
Я подключил USB-носители и сыграл несколько старых хаусных треков, и хипстерская аудитория приглушенно порадовалась миксу «Go (Woodtick mix)»[213]. Был 2008 год, а это означало, что «Go» вышла 18 лет назад. Я был старым. И пьяным. Я выпил еще пива и поставил еще один хаусный трек. Все вдруг стало плоским – хипстеры, свет, веселье. Словно жизнь была постановочной фотографией в плохом дизайнерском журнале. Мне было грустно, но в основе этой грусти лежали злость и разочарование. Я получил королевство и разорил его.
Поздними вечерами я говорил себе: жизнь так же мимолетна, как ницшеанская картина на песке.
Я остановил играющую запись. Люди завопили, желая чего-то большого и драматичного. Но я не хотел ничего большого и драматичного, мне нужно было что-то тихое и грустное. Через несколько секунд я поставил «Going to California» Led Zeppelin. Кое-кто из хипстеров обрадовался, думая, что за этим треком последует техно-ремикс. Но я хотел просто послушать «Going to California» – во всей ее полноте. Я слушал ее, закрыв глаза и прихлебывая пиво, – слушал эту нежную, полную тоски балладу перед тремя сотнями хипстеров, все меньше понимающих происходящее. Песня закончилась, и аудитория выжидающе замерла, смотрела на меня. Я включил песню снова.
Карим, один из присутствующих за сценой диджеев, подошел и постучал по моему плечу.
– Все хорошо? – спросил он.
Я улыбнулся ему со слезами на глазах:
– Эта песня прекрасна, верно?
Он посмотрел на недовольную аудиторию, у которой остановилась вечеринка из-за старого пьяницы, поставившего Led Zeppelin.
– Ты не против, если я продолжу вместо тебя? – спросил он.
– Пусть доиграет, – сказал я, закрывая руками кнопки на пульте, чтобы он не выключил печальную музыку. Закрыв глаза, я слушал, как Роберт Плант[214] поет: «Стоя на холме на горах мечты, / Говоря себе, что это не так уж сложно». Я чувствовал, как по моим щекам текут слезы.
Песня закончилась. Карим поставил одну из песен «LCD Soundsystem» – о том, как прекрасна была ночная жизнь Нью-Йорка в 80-е и 90-е. Меня хлопнула по плечу Кэрри-Энн, моя подруга. Она работала агентом по коммерческой недвижимости. У нее были короткие светлые волосы, и выглядела она, как прекрасная ведущая теленовостей. Мы познакомились несколько лет назад, когда я арендовал у нее коммерческое помещение на Элридж-стрит, собираясь сделать из него офис.
– С днем рождения? – полувопросительно произнесла Кэрри-Энн.
Я грустно улыбнулся:
– Песня же была прекрасна?
– Я не уверена, что они с этим согласны, – ответила она, указывая на публику на вечеринке.
– Пойдем, – сказал я. Мы вышли на улицу и на такси поехали в Манхэттен.
– Куда мы едем? – спросила она.
– В «Box».
«Box» так и не стал площадкой для эгалитарного содружества уличных артистов и «денежных мешков» с Уолл-стрит, хоть я и надеялся на это. Будучи владельцем миноритарного пакета его акций, я не забывал о нем: все еще заходил сюда почти каждый вечер. Мы прошли мимо очереди, что тянулась ко входу в бар. Оказавшись внутри, я осмотрелся в поисках знакомых.
Мне хотелось, чтобы «Box» стал моим домом – уютным вместилищем порока, полным креативных исполнителей. Но сегодня он был полон богатых финансистов. Мне хотелось, чтобы Нью-Йорк был моим домом, но он тоже был полон богатых финансистов. Я посмотрел на Кэрри-Энн и горько сказал:
– К черту это все.
– Хочешь уйти?
Я хотел уйти. А еще мне нужно было выпить. Очередь у бара стояла в три ряда, но я нашел просвет и попытался просочиться сквозь нее. Высокий молодой финансист в костюме за тысячу долларов болтал с другим высоким молодым финансистом в костюме за тысячу долларов и загораживал мне путь к стойке.
«Box» так и не стал площадкой для эгалитарного содружества уличных артистов и «денежных мешков» с Уолл-стрит, хоть я и надеялся на это.
Я вежливо прикоснулся к его плечу.
– Простите, можно пройти?
Он проигнорировал меня.
Я снова похлопал его по плечу, все больше раздражаясь.
– Эй, могу я взять себе выпить?
Он посмотрел на меня с явным презрением и сказал:
– Иди на хер.
И продолжил беседу.
Не стоило ему этого говорить. Я схватил его за плечо и дернул на себя. Теряя самообладание, заорал:
– Ты пришел в мой бар! – Возможно, я преувеличивал свое право собственности. – И шлешь меня на хер?!
– Да, иди на хер! – ответил он и толкнул меня.
Я отпрянул, моя жалость к себе превратилась в ярость. Внезапно я увидел в нем все, что ненавидел и чего боялся: уверенных в себе финансистов, захвативших Нью-Йорк; хипстеров, дерзнувших быть моложе и круче меня; ужасных мужчин, с которыми встречалась моя мама. И мой кулак полетел в его лицо.
Вообще, я не был склонен к насилию, но в течение последних нескольких лет периодически брал уроки кикбоксинга и (к сожалению) научился бить. Он рухнул на землю, люди у стойки быстро отошли от места драки, а к нам подбежали охранники. Его коллега-финансист попытался напасть на меня, но один из охранников удержал его.
– Моби, что случилось? – спросил меня начальник охраны.
– Этот хренов яппи напал на меня, – сказал я, несколько преувеличивая серьезность нападения.
Охранники подняли парня, которого я ударил, и он заорал:
– Идите на хер! Я, черт возьми, подам на тебя в суд! – Потом зарычал на охранников: – И на вас тоже! И на всех здесь! Я вас уничтожу, к чертовой матери!
– Ладно, американский психопат, вечеринка окончена, – сказал начальник охраны. Двоих парней с Уолл-стрит, не умеющих себя вести, вывели на улицу.
Когда они ушли, Кэрри-Энн спросила:
– Ты правда ударил этого парня?
Внезапно весь мой гнев и бравада испарились, как лопнувший воздушный шарик.
– Черт, – сказал я. – Мне очень жаль.
– Нет, это было потрясающе.
– Правда?
– Ну да.
Мы заказали выпивку и посмотрели на толпу у стойки бара. Возникло чувство, что перед тем, как парня, которого я ударил, выкинули на улицу, его клонировали, и появилось море чуваков в костюмах за тысячу долларов, которые говорили так громко, как могут только уверенные в себе финансисты. Те же люди, которые сделали меня несчастным в детстве, захватили «Box» и Нью-Йорк, заставляя взрослого меня чувствовать себя маленьким и никчемным.
Я допил свой стакан.
– Пойдем, – сказал я Кэрри-Энн. Мы пошли вверх по улице к «Club 205», где диджеями были мой новый помощник Алекс и несколько его друзей из «DFA Records». За последние несколько лет у меня было несколько помощников; как правило, они увольнялись, когда понимали, что их главная обязанность – следить за тем, чтобы у меня дома было достаточно алкоголя, и придумывать оправдания, когда мне приходилось отменять планы из-за похмелья.
Алекс и его друзья, высокие и красивые, выросли в Верхнем Вест-Сайде, слушая хип-хоп. Но несколько лет назад они открыли для себя старое диско и оставили прежние привязанности, став диско-евангелистами.
– Диско? – спросил я Алекса в самом начале его работы диджеем.
– Диско! – ответил он так, будто красивые 25-летние парни, которые в 2008 году слушают старые записи Sylvester, – это совершенно обыденная вещь.
Те же люди, которые сделали меня несчастным в детстве, захватили «Box» и Нью-Йорк, заставляя взрослого меня чувствовать себя маленьким и никчемным.
Мы подошли к дверям «Club 205», и Кэрри-Энн сказала:
– С днем рождения, Мо. Мне пора домой.
– Правда?
– У тебя такой грустный вид, – сказала она, касаясь моего лица. – Да, мне нужно вставать в семь. А сейчас уже два часа ночи.
Я обнял ее на прощание и вошел в клуб. Я уже выпил дюжину порций водки и едва держался на ногах, но двухсекундная драка в «Box» взбодрила меня. Алекс и его друзья из DFA диджеили в подвале, поэтому я направился вниз.
В баре я выпил рюмку водки, а потом заказал водку с содовой. Держа стакан в руке, пересек небольшой танцпол и вошел в диджейскую кабину.
– С днем рождения, Моби! – невнятно сказал я молодым крутым диджеям. Жак Рено пьяно обнял меня и вернулся к диджейским делам.
Я допил водку с содовой, заказал текилу и поднялся наверх, в более тихий лаунж. Наверху было заметно светлее, и я увидел, что все посетители – молодые и стильные, такие, каким я никогда не был. Мне стало неловко. Я пил текилу и надеялся, что кто-нибудь узнает меня и заговорит со мной. Но никто меня не узнал.
Заказав еще одну текилу, я спустился вниз и встал у задней стенки диджейской кабинки, надеясь, что получу немного молодости и привлекательности команды DFA. Но они были заняты диджейством, и толпа была слишком поглощена танцами, чтобы обратить внимание на меня, таящегося в тени.
Я лег на тротуар, покрытый собственной рвотой, и включил на телефоне песню Joy Division.
Я вернулся в бар, заказал еще одну текилу, тут же ее выпил и заказал еще одну. Бармен настороженно посмотрел на меня.
– Чувак, ты уверен?
– Сегодня мой день рождения! – невнятно ответил я, стараясь выглядеть счастливым.
С очередным стаканом я пошел на танцпол и понял, что выпил уже очень много – двенадцать порций до прихода в «Club 205» и не меньше шести за тот час, что провел в клубе. Я привык быть пьяным, но до такого состояния доходил редко. Перед глазами все плыло, ноги заплетались.
Я пытался танцевать с молодой красивой женщиной, но она меня проигнорировала. Я попробовал потанцевать с другой молодой красивой женщиной, которая тоже не обратила на меня внимания. Я попытался сказать ей, что сегодня мой день рождения, и смутно осознал, что прокричал несколько невнятных слогов сквозь громкую хаус-музыку. Стараясь говорить как можно понятнее, спросил:
– Поцелуешь меня?
– Фу, нет, – сказала она и отвернулась.
Я допил стакан – двадцатую порцию? – и упал. На полу было хорошо. Секунду я лежал с закрытыми глазами, чувствуя, как по спине лупят низкие частоты. Затем чьи-то руки настойчиво потянули меня вверх.
Руки были прикреплены к двум вышибалам, тащившим меня к лестнице.
Подбежал мой помощник Алекс.
– Эй, это же Моби! Он же мой босс!
Вышибалы смотрели на меня, как на пьяный мусор. Каковым я и был.
– И что с того? – спросил один из них.
– С днем рождения, Алекс, – пробормотал я.
Алекс стоял и беспомощно смотрел, как два бугая тащат меня вверх по лестнице и швыряют на тротуар. Мне хотелось поставить их на место, крикнув: «Вы знаете, кто я?» – как забытая всеми стареющая знаменитость, каковой я и являлся. Но они уже ушли внутрь, и я остался в одиночестве, лежа на тротуаре Стэнтон-стрит.
С огромным трудом я встал, в полной мере ощутив, насколько пьян. Мой дом находился всего в нескольких кварталах от меня. Поэтому я поплелся по Стэнтон-сити на запад. Пересекая Бауэри, я споткнулся на середине пешеходного перехода, упал и ободрал руки.
Подойдя к своему дому, я решил, что мне нужно послушать музыку и записать несколько идей для пластинки, над которой в последнее время работал. Я сел на тротуар, прислонившись спиной к кирпичной стене здания. Меня вырвало себе на колени. Я хотел войти в дом, привести себя в порядок, но подняться на ноги не смог.
Я лег на тротуар, покрытый собственной рвотой, и включил на телефоне песню Joy Division. Иэн Кертис запел, а я заплакал. Не тем тихим, сдавленным плачем, как раньше, когда с закрытыми глазами слушал «Going to California», а со всхлипываниями.
Услышав шаги прохожих, я отвернулся к стене, чтобы они не видели меня плачущим и перемазанным блевотиной.
Я поднес телефон к уху, Иэн Кертис пел мне из маленького динамика: «Мама, я пытался, поверь мне, я стараюсь изо всех сил, мне стыдно за то, через что мне пришлось пройти, мне стыдно за то, кто я».
Дариен, Коннектикут
(1985)
Банкомат не выдал мне денег, потому что на моем счете было всего 18 долларов.
Возможно, эта бедность была наследственной. Я не знал никого из родственников, кто не был бы беден, не считая дедушки. Мои предки приплыли в Америку на «Мэйфлауэре»[215], но никто из них не стал ни банкиром, ни губернатором. Теперь я отдавал должное своей наследственности – взрослый человек в 21 год с восемнадцатью долларами на счете. Было холодно, и начинался дождь. Шагая от банкомата к дариенскому вокзалу, я держал над головой газету.
Я начал работать диджеем в «Beat» в конце 1984 года. Том, один из владельцев бара, дал мне это место из жалости, потому что я посвящал «Beat» больше времени, чем любой из его штатных сотрудников. Сначала Том платил мне 20 долларов за работу диджеем с 10 вечера до 4 утра по ночам понедельников, но несколько недель назад меня повысили. Теперь я получал 25 долларов за ночь и выступал диджеем не только по понедельникам, но и по средам. Том также дал мне ключ от бара и предложил quid pro quo, «одно вместо другого»: если я буду чистить и обслуживать звуковое оборудование, он позволит мне хранить свои пластинки в диджейской кабине и разрешит практиковаться в диджействе днем.
До Порт-Честера было пять остановок по Северной линии. Чтобы не платить за проезд доллар с четвертью, мне нужно было всего лишь держаться подальше от кондуктора или прятаться в туалете. Местный поезд в середине дня был похож на лагерь беженцев – с измученными горничными, садовниками и, вероятно, безработными бедными белыми отбросами вроде меня. Все они сутулились и надеялись, что их не будут пристально разглядывать. Иногда я садился в поезд в час пик и сидел среди богатых деловых пассажиров, державшихся прямо и самоуверенно.
После того, как я бросил университет, это место стало моим вторым домом и убежищем.
Поезд въехал в Порт-Честер, я вышел из вагона на платформу – такую же мокрую и серую, как низкое небо над головой. Спустился по лестнице, прошел под старой металлической железнодорожной эстакадой и добрался до бара.
«Beat» был дешевым заведением с черным жестяным потолком и сколотой плиткой на полу. Его окружали сгоревшие дома, пустые парковки и бесхозные витрины. Внутри него, в зале, был длинный деревянный бар – с левой стороны, запачканные сигаретами панели – с правой и несколько старых столов и стульев. Когда новые владельцы, Том и Фред, приобрели «Beat», они добавили только маленький танцпол в глубине помещения и фанерную диджейскую кабину рядом с мужским туалетом. В помещении клуба пахло сигаретами, многолетней рвотой и пролитыми напитками. Но после того, как я бросил университет, это место стало моим вторым домом и убежищем.
Бар вмещал 45 человек, и все чудаки и недоучки, которые там ошивались, стали моей суррогатной семьей. Некоторые из завсегдатаев учились в художественной школе университета штата Нью-Йорк, расположенной в нескольких милях отсюда. Но большая часть обитателей бара нуждалась в сумрачном убежище, где можно было скрыться от нормального мира: музыканты, слишком стеснительные, чтобы выступать; художники, никогда не заканчивающие начатые картины; алкоголики и наркоманы, считавшие, что внешний мир причиняет им слишком сильную боль.
Помимо выступлений в «Beat» дважды в неделю, я также работал диджеем в клубе для всех возрастов под названием «The Café» – за 50 долларов в неделю.
Я, Аллард, Мелисса и Брок впервые выступили здесь две недели назад. Мы наконец-то определились с названием нашей группы – Caeli Train. Оно ничего не значило, но для наших коннектикутских ушей звучало чем-то смутно кельтским или шотландским. Оно вполне подошло бы группе бренда «Postcard Records». Мы установили все наше оборудование на крошечном танцполе перед фанерной будкой диджея. Все четверо были одеты в черное, а мы с Мелиссой надели еще и маленькие рыбацкие шапочки, как Ян МакКаллох и Родди Фрейм[216] на фотографиях. Пришли два десятка наших друзей, они вежливо хлопали в промежутках между нашими легкими альтернативно-роковыми песнями.
Мы закончили выступление, и я исполнил свой обычный диджейский сет вечера понедельника. Играя ремикс «Confusion» от New Order, я заметил, что он больше заинтересовал скромную аудиторию, чем любая песня нашей инди-роковой группы.
Помимо выступлений в «Beat» дважды в неделю, я также работал диджеем в клубе для всех возрастов под названием «The Café» – за 50 долларов в неделю. Поэтому и не понимал, почему у меня нет денег. Ведь мой заработок составлял сотню в неделю. Хоть я и давал маме некоторую сумму на продукты и коммунальные услуги, в банке должно было оставаться больше 18 долларов.
Я налил себе кока-колы из автомата с газировкой за стойкой бара и взял тряпки и чистящие средства, которыми протирал кабину диджея и звуковое оборудование. Тряпки почти сразу почернели, поскольку в кабине было полно пыли, пятен никотина, крысиного помета, а еще – невероятное количество дохлых тараканов. Уборка заняла полчаса, а потом я достал несколько своих хип-хоп-пластинок, чтобы попрактиковаться в диджействе.
Я все еще любил свои старые панк-рок-пластинки, обожал Smiths, Chameleons и другие подобные британские группы. Но чем больше я работал диджеем, тем больше меня привлекали продюсеры хип-хопа и танцевальной музыки, спешившие создавать саундтреки будущего. Я пытался поделиться радостью с друзьями-рокерами и ставил для них новые прекрасные двенадцатидюймовые синглы Mantronix и Schoolly D, а еще Doug E. Fresh[217], но они остались к ним равнодушны.
Я пытался даже выводить сократические силлогизмы о танцевальной музыке, убеждая друзей, что раз New Order любят танцевальную музыку, чему доказательством служат «Confusion» и «Blue Monday», а мы превозносим New Order, то не следует ли и нам открыться для музыки, которую почитают New Order? К моим доводам никто не прислушался, хотя Мелисса в личной беседе призналась, что ей нравится «P.S.K» Schoolly D.
Я взял два экземпляра «Sucker M.C’s» Run-D.M.C и поставил их на отмытые вертушки «Technics 1200». Я слышал акустические сеты хип-хоп-диджеев на Kiss-FM и WBL – они играли на двух копиях одной и той же пластинки, идеально исполняя скрэтчи и перемотки назад и вперед. Мне хотелось научиться это делать. Грандмастер Флэш в одном из своих интервью говорил о чтении записи «как часы». Я не понимал, что он имел в виду, но был полон решимости в этом разобраться.
Я запустил два экземпляра «Sucker M.C.» в одном темпе и попробовал переключиться между ними. На левой вертушке была инструментальная версия, а на правой я пытался с помощью скрэтча проиграть вступление к версии с вокалом. По большей части выходило похоже на крушение ржавого поезда, но время от времени получалось наполовину профессионально. Я гордился своим прогрессом. В прошлом году у меня не получалось попадать в ритм при микшировании двух записей, а теперь ритм успешно совмещался почти в половине случаев.
Мне нужно было, чтобы меня заметили.
Я оставил на левой вертушке инструментальную версию «Sucker M.C.» и поставил на правую вертушку пластинку T La Rock’S[218] «It’s Yours». Несколько минут ушло на совмещение темпа «It’s Yours» и «Sucker M.C.», но как только мне это удалось, я запустил трек T La Rock поверх инструментала Run-D.M.C., и все получилось. Пластинку T La Rock приходилось все время ускорять и замедлять вручную, чтобы два трека совпадали по времени, но когда они синхронизировались, то зазвучали так, будто их сводил настоящий диджей.
Я все еще не мог поверить своей удаче – тому, что смог найти работу диджея. В старших классах школы и с тех пор, как я бросил университет, мне приходилось заниматься множеством ужасной работы – набивать конверты в страховой компании, мыть посуду в ресторане «Macy’s», продавать изделия ручной работы, заниматься кэддингом, – но теперь мне платили 100 долларов в неделю за то, что я «играл» музыку.
Я достал из конверта пластинку с песней «Shout» Tears for Fears – у нее был такой же темп, как у многих хип-хоп-треков, – и поставил ее поверх инструментала «Sucker M.C.». Сочетание эмоциональной «новой волны» с электронными битами хип-хопа было немного странным, но почему-то работало. Затем я испробовал трюк, подслушанный у диджея на Kiss-FM, – скрэтч-части записи без перехода к определенному звуку. Делать это в рабочее время было нельзя, потому что существовала вероятность того, что все пойдет ужасно неправильно. Но сейчас, в середине дня, в холодном и пустом баре, меня никто не слушал. Пока «Shout» просто крутился, я поставил «It’s Like That» и скрэтчем проиграл рисунок из 16 нот на бас-бочке. Это звучало – и звучало отлично!
Я улыбнулся и оторвал взгляд от пластинок. Мне нравилось играть в два часа дня в пустом баре, или даже для 20 или 30 пьяниц, болтавшихся в «Beat» во время моих выступлений. Но все-таки мне необходима была аудитория, когда-нибудь потом. Необязательно большая. Мне нужно было, чтобы меня заметили.
Нью-Йорк
(2008)
Проведя на гастролях семнадцать лет, я наконец признался себе, что не получаю от них удовольствия. Конечно, я не стал бы жаловаться на это кому-либо из тех своих друзей, которые имели обычную работу. Потому что трудно испытывать сочувствие к тому, кто путешествует по всему миру и получает деньги за то, что стоит на сцене и играет.
В начале 90-х гастроли были в новинку, и я с восторгом нес миру благую весть о зарождающейся рэйв-сцене. Несколько лет после успеха Play и 18 на гастролях мне было потрясающе хорошо – постоянные путешествия с большими концертами, неуемным пьянством и беспорядочными связями. Но потом гастроли стали рутиной, и я выступал в маленьких залах перед маленькой аудиторией, которой нужны были только старые песни.
Я не хотел больше гастролировать, но по-прежнему хотел играть. И стал бас-гитаристом в барной группе вместе с друзьями: Аароном, ударником с дредами, мама которого была публицистом-популяризатором группы Led Zeppelin; Дэроном, красивым, образованным журналистом из Массачусетса, который играл на гитаре и гармонике; его женой Лорой, креативным директором политической организации «Moveon.org», певшей словно похотливый демон; и меняющимся трио прекрасных бэк-вокалисток. Я уже играл с Дэроном и Лорой (например, на уик-энде Дэвида Линча в Фэрфилде, штат Айова).
Вдохновившись Бертольдом Брехтом[219] и Жоржем Батайем[220], мы назвались The Little Death[221] и всячески стремились звучать словно блюзовая кабаре-группа из придорожной закусочной 1945 года. На выступления мы надевали старые черные костюмы и платья, становясь похожими на гангстеров и сутулых торговцев библиями из романа Флэннери О’Коннор[222].
Проведя на гастролях семнадцать лет, я наконец признался себе, что не получаю от них удовольствия.
В числе первых наших бэк-вокалисток была Лиззи Грант, с которой я за год до этого пытался встречаться. Позже она ушла от нас, занявшись собственной карьерой под именем Ланы Дель Рей. Мы собрали группу просто для развлечения, для того, чтобы иметь повод собираться и пить пиво в репетиционном помещении на Ладлоу-стрит. Но после нескольких выступлений в маленьких барах в Нижнем Ист-Сайде поняли, что вообще-то хорошо звучим. Дэвид Линч, побывав на одном из выступлений The Little Death, стал нашим поклонником. А Роджер Уотерс[223] при встрече с нами произнес фразу, которую мы высоко оценили: «Вы похожи на Айка и Тину Тернер[224], только без избиений».
* * *
Оставалось меньше месяца до выборов, и, поскольку мы с Лорой знали кое-кого из активистов прогрессивной политики, нас пригласили выступить на мероприятии по сбору средств для сенатора Кирстен Гиллибранд в Гудзоне, штат Нью-Йорк.
– Они вообще текст слушали? – поинтересовался я на репетиции группы. Рефреном в одной из наших песен звучала строка: «I’m a mean, mean woman / I like to argue, fuck, and fight»[225].
Дэрон засмеялся.
– Может, сменить текст на «Hug, vote and snuggle»?[226]
Все участники The Little Death, кроме меня, добирались до Гудзона на микроавтобусе. А я решил воспользоваться поездом «Amtrak»: мне хотелось проехаться по железной дороге вдоль реки Гудзон. Дома, на Мотт-стрит, я приготовил сэндвич с арахисовым маслом и джемом, положил его в бумажный пакет вместе с газетой «New Yorker» и в поезде сел с левой стороны, откуда было видно закат.
Я ехал на север, прочь из города. По мере того, как поезд отдалялся от Нью-Йорка, осенние листья окрашивались все ярче – в оранжевые, желтые и красные цвета. Накануне вечером я не пил и чувствовал себя прекрасно. Я вставил в плеер диск с записью музыки, которую писал для следующего альбома, и слушал ее, наблюдая, как последние капли дневного света растекаются по горам на другом берегу реки Гудзон. Среди песен была одна, написанная неделей раньше, «Wait for Me»[227], которая мне очень нравилась. Она была печальной и нежной, строилась вокруг одинокого фортепианного арпеджио. Я собирался сделать ее заглавным треком альбома.
Поезд прибыл на станцию Гудзон. Я чувствовал себя культурным человеком с ясной головой. Была середина октября, и в холодном, чистом воздухе ощущался запах опавших листьев и костров. До концерта оставался час. Я отправился на площадку, где за сценой пообщался с Кристен Гиллибранд и другими нью-йоркскими демократами.
– Как вы относитесь к выборам? – спросил я Кристен.
– С надеждой, – ответила сенатор с той же ноткой волнения, что слышалась в речах каждого из нас. После 200 лет правления белых президентов и восьми последних лет с Бушем и Чейни во главе государства сама мысль об умном молодом президенте-афроамериканце казалась похожей на сон. Но была отчаянно необходимой.
Я надел концертный костюм еще перед тем, как сесть на поезд. Дэрон и Аарон переоделись перед выступлением в черные костюмы в стиле южной готики, а Лора и бэк-вокалистки нарядились, как обычно, в траурные платья. В восемь часов вечера свет погас, и мы приготовились выйти на сцену.
– Дэрон, – сказал я, пристегивая ремень к бас-гитаре, – давай по пиву.
– Я не алкоголик, а любитель алкоголя.
Мы рассмеялись и выпили по банке «Bud Light», пробив их ножом, как парни из студенческого братства, которыми мы никогда не были.
– Классно, – сказал я, смял холодную алюминиевую банку и рыгнул. Я хотел продолжить пить во время выступления и взял упаковку пива на сцену. Мне нравилось играть с The Little Death мрачный ритм-энд-блюз, а еще нравилось то, что некоторые наши песни были достаточно просты, чтобы одновременно исполнять басовую партию и пить.
К последней песне нашего часового сета во мне было уже семь банок пива. Я взял у Лоры микрофон.
– Голосовать нужно всем, – пьяно сказал я, – потому что республиканцы – это гребаные недочеловеки и их нужно уничтожить.
Я взглянул на свою новую подругу, сенатора Кирстен Гиллибранд, ожидая, что она улыбнется, одобрит мою прогрессивную смелость и ненормативную лексику. Но она явно пришла в ужас и вместе со свитой поспешила выйти из зала.
Лора взяла микрофон.
– Извините, у Моби иногда бывает алкогольный синдром Туретта[228], – сказала она.
Я отобрал у нее микрофон и пояснил с притворной обидой:
– Я не алкоголик, а любитель алкоголя.
Мы вышли за кулисы, допили оставшееся пиво, а потом на микроавтобусе доехали до местного бара. Никто из моих друзей в него не пошел, всем нужно было возвращаться в Нью-Йорк, а мне промоутер забронировал номер типа «постель и завтрак» в местной гостинице, так что я остался в баре и стал пить текилу с местными жителями.
Выступавшая в баре группа исполняла ностальгические кавер-версии классики Гудзонской долины, например, «Rainy Day Women #12 & 35» и «The Weight». В полночь я выбрался на сцену, взял гитару и попытался сыграть с ними «Purple Haze». Эту песню я разучил еще в девятом классе под руководством моего учителя гитары Криса Рисола и даже пьяным мог исполнить ее от начала до конца, почти не ошибаясь. Я сыграл длинное, небрежное гитарное соло, а после песни взял микрофон солиста.
– Если у кого-то есть наркотик и вы можете дать или продать его мне, – сказал я, повторяя тактику, примененную в танцевальном зале и ночном клубе «Highline», – подойдите к краю сцены.
Когда я сошел в зал, бородатый парень в мотоциклетной куртке кивнул мне и повел в мужской туалет.
– 150 долларов, – сказал он, протягивая мне маленький пакетик. «Меня явно переоценивают», – подумал я, но горячо поблагодарил парня.
Я вышел из уборной, чувствуя себя супергероем. Попытался вскочить на сцену, где играла группа, но поскользнулся и упал на стол, заставленный стаканами и пивными бутылками. Стол перевернулся, я рухнул в кучу битого стекла, но вскочил целым и невредимым.
– Боги спиртного защитили меня! – крикнул я, торжествующе подняв руки над головой.
В пять утра, выпив еще текилы и вынюхав, я в сопровождении швейцара дошел до своего странного отеля с номерами типа «постель и завтрак», что располагался на главной улице Гудзона.
– Какая чудесная ночь! – крикнул я, подходя к небольшому зданию.
– Чувак, ш-ш-ш, – сказал швейцар. – Это маленький город.
– Может, мне переехать сюда? – спросил я серьезно.
– Для вас тут может быть слишком тихо, – ответил он и пошел прочь.
Стены моего номера были оклеены обоями в цветочек, а на прикроватном столике лежала книга Ф. Скотта Фицджеральда «Ночь нежна». Я лег и попытался читать, но строки прыгали перед глазами. От чтения пришлось отказаться. Порошок, пиво и текила бушевали в моем теле, словно разъяренная рыба, поэтому в течение нескольких часов я ворочался без сна.
К восьми утра алкоголь и наркотики покинули мой организм, и мне стало плохо. Бледный свет, пробивавшийся сквозь занавески, вызывал тошноту. Грубые простыни ощущались как жесткая бумага. Я не мог ни уснуть, ни даже устроиться поудобнее, поэтому надел свой старый черный костюм, пропахший после вчерашнего вечера пивом и чужими сигаретами, и пошел на вокзал.
Я страдал от похмелья тысячи и тысячи раз. В старших классах и колледже оно было несущественным – словно мягкий калифорнийский прибрежный туман, который рассеивается к полудню. В конце 1990-х и начале 2000-х годов похмелье казалось очаровательным и даже «литературным», чем-то связанным с героями-алкоголиками вроде Чарльза Буковски и Джона Чивера[229]. Но теперь я чувствовал, что отравляю свою ДНК. Теперь похмелье казалось неправильным. Причем слово «неправильное» следовало писать не строчными буквами, как оценивающее превышение скорости на несколько миль в час, а прописными – «НЕПРАВИЛЬНОЕ», – словно оно относилось к кормлению младенца бензином.
На вокзале я купил две бутылки воды и сел на поезд «Amtrak» до Пенсильванского вокзала. Первая поездка вышла спокойной и приятной, а теперь я страдал от похмелья, был одет в костюм гробовщика, прижимался всем телом к стене без окон и старался держаться как можно дальше от света. Я попытался отвлечься, читая газету, но не мог разобрать ни слова.
Я пил большую часть своих последних 33 лет – с тех пор, как мне исполнилось 10 лет в 1975 году.
Я был болен, я так устал. Опять. Я был болен, устал и страдал от похмелья большую часть прошедшей недели.
И предыдущей недели.
И месяца.
И года.
И многих лет.
Это был неумолимый, повторяющийся путь повреждений и тошноты, и я оказывался в таком положении всякий раз, когда пил. Я сбился со счета, считая попытки сократить потребление алкоголя, но каждый раз, когда пытался пить как нормальный человек, все заканчивалось тем же, чем и сейчас: я был болен, разрушен и хотел умереть.
Неделей раньше я пытался покончить с собой, завязав перед сном на голове полиэтиленовый пакет. Но, должно быть, мне помешали атавистические механизмы выживания. Я не помнил, как сорвал пакет с головы. Когда проснулся, он лежал рядом с подушкой.
Несмотря ни на что, я не хотел бросать пить и поэтому вспоминал те моменты в жизни, когда мог пить умеренно; искал доказательства, которые мог бы предъявить кому бы то ни было в пользу того, что я не алкоголик. И вспомнил: однажды в 1986 году я был на рождественской вечеринке и выпил там всего два бокала шампанского.
Я пил большую часть своих последних 33 лет – с тех пор, как мне исполнилось 10 лет в 1975 году. И мог вспомнить только один случай, когда смог употребить спиртное как нормальный человек.
Я не мог читать, поэтому достал CD-плеер и снова включил песню «Wait for Me». Вокал для демоверсии я записал сам, но понимал, что рано или поздно придется нанять для записи настоящего вокалиста[230].
- I’m gonna ask you to look away
- I loathe my hands and it hurts to pray
- The life I have isn’t what I’d seen
- The sky’s not blue and the field’s not green
- Wait for me
- I’m gonna ask you to look away
- This broken life I can never save
- I try so hard but I always lack
- Days are grey and the nights are black
- Wait for me[231].
Песня закончилась, и я тихо заплакал.
* * *
Поезд въехал в Нью-Йорк, и я, спотыкаясь, пробрался сквозь флуоресцентный ужас Пенсильванского вокзала. Выйдя на улицу, увидел, что день был прекрасен: на небе ни облачка, октябрьский воздух теплый и чистый.
На такси я доехал до своей квартиры, бросил сумку и пошел в единственный известный мне зал, в котором проводились собрания АА. Он находился в здании, стоящем на пересечении Первой авеню и Первой улицы.
В прошлом году я несколько раз был на этих собраниях, но каждый раз убеждался, что на самом деле не страдаю алкогольной зависимостью. Те, кого я видел в зале, были сломлены. Они не могли управлять своей жизнью. Именно такие люди нуждались в странном и старом культе Билла Уилсона[232].
Я всегда спотыкался о необходимость признания того, что я – алкоголик и что моя жизнь неуправляема. Я продал 20 000 000 пластинок и стоял на сцене перед миллионами людей. Я был знаком с главами государств и встречался с кинозвездами. Я работал вместе со своими кумирами, у меня были пентхаусы и недвижимость на океанском побережье, которую я даже ни разу не удосужился осмотреть. Поэтому мне было смешно: разве такая жизнь неуправляема?
Но нельзя было отвернуться и от других истин: я не мог сблизиться с женщиной, не испытывая изнурительных приступов паники; я не мог пойти в бар или клуб и выпить меньше 15 порций спиртного; большую часть прожитых дней я не мог встать с постели из-за похмелья и, ежедневно просыпаясь, был недоволен тем, что не умер во сне.
Наконец я признался себе: да, я не могу управлять своей жизнью.
Год назад на вечеринке я разговорился со старым популярным музыкантом, о котором всем было известно, что он трезвенник. Я страдал от похмелья, меня тошнило, а он был спокоен и раздражающе здоров.
– То есть, – спросил я, – вы ходите на собрания АА?
– В этом месяце будет двадцать лет. А что, вы считаете себя алкоголиком?
Во мне еще жила уверенность в том, что я – любитель алкоголя.
– Забавно вот что, – сказал он мне. – Считается, что быть алкоголиком – это значит пить. Это так, но в то же время и не так.
Я всегда спотыкался о необходимость признания того, что я – алкоголик и что моя жизнь неуправляема.
Я растерянно посмотрел на него. Мне хотелось сказать: «Конечно, быть алкоголиком – это значит пить. Что вы, вообще, черт возьми, имеете в виду?»
Он продолжал:
– До того, как я бросил пить, мне было страшно, и меня переполняла ненависть к себе. Очень сильная. Но после того как я протрезвел, узнал, что алкоголь – это только первый шаг. Дальше идет борьба со страхом и сломленностью, из-за которых и начинаешь пить. По сей день, называя себя алкоголиком, я имею в виду вот что: «Оставшись наедине с собой, я всего боюсь и хочу умереть».
Слов для ответа у меня не нашлось. Он улыбнулся и записал на салфетке свой номер телефона.
– Прости, что заболтал тебя, парень. Позвони, если вдруг захочешь прийти на встречу.
Мне было неудобно звонить ему, ведь я ходил на несколько собраний АА самостоятельно. И видел людей, сидевших, склонив головы, неспособных смотреть ни на что, кроме как на покрытие пола под ногами. Я был полон самодовольства и жалел их, сломленных. А теперь было 18 октября 2008 года, и я был одним из них: сидел на металлическом складном стуле на собрании анонимных алкоголиков и смотрел в деревянный пол. Мне хотелось поднять голову, увидеть других людей в комнате, но было слишком стыдно.
Присутствовать на собраниях АА в качестве зрителя было удивительно весело: я чувствовал себя этаким забавляющимся антропологом. Но теперь я был человеком, который не мог смотреть другим в глаза, который был наркоманом-самоубийцей, который и дня не продержался трезвым, который был больным и сломленным человеком, в венах которого еще текли пиво, водка и наркотик.
По сей день, называя себя алкоголиком, я имею в виду вот что: «Оставшись наедине с собой, я всего боюсь и хочу умереть».
Я тщетно искал хоть какие-то доводы, способные заставить меня покинуть эту комнату и вернуться в мир баров и дикой распущенности. Но не находил в себе ничего, кроме паники и тошноты. Когда-то я был рок-звездой. Когда-то я был королем. Слава и богатство когда-то защищали меня и придавали смысл моей жизни. Они должны были все излечить. Но у меня ничего не вышло. Слава не избавила меня от проблем, и даже моя последняя любовь – алкоголь и разложение – больше ничего не решала.
Я вжался в сиденье металлического складного стула и подумал: «Мне конец». Я признал свое поражение и начал плакать. И тогда напряжение ушло. Я поднял руку, все еще не находя в себе сил оглядеть комнату или встретиться с кем-нибудь взглядом.
Я не хотел произносить это вслух. Но, наконец, понял, что это правда.
– Меня зовут Моби, и я алкоголик.




















