Читать онлайн Загадка песков бесплатно
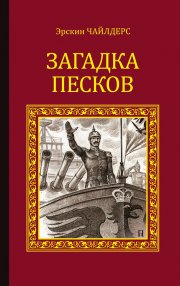
© Яковлев А.Л., перевод на русский язык, 2015
© ООО «Издательство «Вече», 2015
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2016
Сайт издательства www.veche.ru
* * *
Об авторе
Английский писатель Эрскин Чайлдерс – человек удивительной и трагической судьбы. Хитросплетения ее занимают многие поколения исследователей, выпустивших в свет более десятка полновесных работ, касающихся биографии автора «Загадки песков». Видный и успешный представитель английского общества, патриот Великобритании, Чайлдерс решил посвятить свою жизнь борьбе за независимость Ирландии от Англии. Уинстон Черчилль в одной из речей назвал его «большим патриотом и государственным деятелем», но затем выразился так: «Никто не причинил простому народу Ирландии столько вреда… как это странное существо, движимое смертельной и злобной ненавистью по отношению к породившей его стране». Английский писатель Джон Бьюкен написал на смерть Чайлдерса иную эпитафию: «Ни одна революция не порождала души благороднее и чище». Где же кроется правда? Доподлинного ответа нет и по сей день.
Роберт Эрскин Чайлдерс (1870–1922) был сыном известного английского ученого-востоковеда Роберта Цезаря Чайлдерса и ирландки Анны Бартон. Он родился 25 июня 1870 года в Лондоне. Рано лишившись родителей, воспитывался в Ирландии, у дяди и тети со стороны матери. Получил блестящее образование, закончив Тринити-колледж в Кембридже. С молодых лет Эрскин Чайлдерс увлекался хождением под парусом, чему не помешало даже поступление на государственную службу – с 1895 по 1910 год он исполнял должность клерка в палате общин английского парламента. В 1897 году Эрскин вместе с братом Генри предпринимает плавание на маленькой яхте к Фризским островам, расположенным на германском побережье Северного моря. Опыт этого путешествия сильно пригодится ему впоследствии при написании «Загадки песков».
Деятельный по натуре, а также обуреваемый сильным патриотическим чувством, Чайлдерс отправился в 1900 году добровольцем на Англо-бурскую войну, в результате чего на свет появился его первый литературный опыт – мемуары «В рядах волонтеров». Книга была встречена тепло, что подвигло автора к написанию полноценного романа. Вышедшая из печати в 1903 году «Загадка песков» сразу стала бестселлером, сделав писателя знаменитым, но Чайлдерс не стал развивать успех на литературном поприще. Его влекла политика.
В 1904 году, во время поездки в Америку, он повстречался с Мэри Олден Осгуд, ставшей вскоре его женой. В супруге он нашел не только подругу жизни, но и единомышленника, разделявшего крепнущую в нем идею борьбы за право народа Ирландии на самоопределение. В 1910 году Чайлдерс оставляет службу в парламенте и активно включается в движение ирландских патриотов. Отчаянный авантюрист не останавливался не перед чем – так, он на своей яхте перевозил контрабандой в Ирландию из Германии партию закупленных там винтовок. Но начавшаяся в 1914 году Первая мировая война изменила все. Эрскин Чайлдерс снова добровольцем поступает на военную службу и получает (по рекомендации Черчилля) ответственную должность в разведывательном отделе английского военно-морского флота. Его вклад в победу над Германией был оценен одной из главных наград Британии – Крестом за выдающиеся заслуги.
Но когда после окончания Первой мировой войны надежды на скорое освобождение Ирландии не оправдались, Чайлдерс с семьей окончательно перебрался в Ирландию и с новой силой включился в борьбу. Она увенчалась успехом, но твердые и бескомпромиссные убеждения Чайлдерса дорого обошлись ему. Молодое правительство охваченной гражданской войной Ирландской республики опасалось Чайлдерса, критиковавшего его по многим пунктам. Обвинив писателя в незаконном ношении оружия, власти стремительно вынесли ему смертный приговор, который и был приведен в исполнение 24 ноября 1922 года. Этот мужественный человек не дрогнул даже перед лицом смерти. Он пожал руку каждому из расстрельной команды и обратился к ним с советом: «Подойдите на пару шагов поближе, ребята. Так будет проще».
Эрскина Чайлдерса чтут в Ирландии как национального героя. В 1973 году его сын, Эрскин Гамильтон Чайлдерс, был избран президентом Ирландской республики. И уже более ста лет книги Эрскина Чайлдерса переиздаются на многих языках, ими зачитываются миллионы читателей по всем миру.
Александр Яковлев
ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ ЭРСКИНА ЧАЙЛДЕРСА
«В рядах волонтеров» (In the Ranks of the C.I.V, 1900)
«Загадка песков» (The Riddle of the Sands, 1903)
«Война и армия “белой кости”» (War and the Arme Blanche, 1910)
Предисловие
Несколько слов о том, как появилась эта книга.
В октябре прошлого, 1902 года один приятель – назовем его Каррузерс – заглянул в мое скромное жилище и, заручившись обещанием хранить тайну, поведал все как есть о том, что описано на страницах этой книги. Ранее об этом происшествии мне было известно не более, чем остальным нашим знакомым. Мы знали только то, что во время недавнего круиза на яхте в компании с неким мистером Дэвисом, Каррузерс оказался участником событий, которые стали причиной довольно ощутимых перемен в его характере и взглядах на жизнь.
Завершая рассказ, который не только совпал с темой моих интересов, но и сам по себе произвел на меня сильное впечатление, Каррузерс добавил, что важные сведения, добытые в ходе этого круиза, были незамедлительно переданы в компетентные органы. Последние, выразив поначалу явное недоверие, причиной коему, возможно, была прискорбная бесполезность их собственных секретных служб, приняли все же, как полагает Каррузерс, необходимые меры, способные предотвратить серьезную опасность, грозящую нашей стране. Я осторожно говорю «полагает», ибо, хотя угрозы удалось до поры избежать, у властей не возникло потребности вдевать ногу в стремя – выведанный секрет имел такое свойство, что и одной тени подозрения было достаточно для расстройства всего замысла.
Как бы то ни было, ничего до поры не произошло, и по причинам личного свойства, о которых читатель узнает далее, Каррузерс и мистер Дэвис искренне желали оставить все как есть.
Но ход событий заставил их пересмотреть решение. Создается впечатление, что сведения, с таким трудом и риском добытые ими в Германии и своевременно переданные нашему правительству, оказали на британскую политику не более чем мимолетный эффект. Вынужденные прийти к заключению, что безопасность страны весьма запущена, два друга задумали придать факты огласке. Именно поэтому Каррузерс обратился ко мне за советом. Загвоздка была в том, что в деле оказался замешан некий англичанин из благородной фамилии, весьма себя скомпрометировавший, и если не проявить должной деликатности, то люди, совершенно не повинные (а особенно одна юная леди), могли серьезно пострадать, будь их личности установлены. И без того уже неприятные слухи, содержащие в себе гран правды и тонны лжи, ходили вокруг да около.
Взвесив обе чаши весов, я однозначно высказался в пользу публикации. По моему мнению, подойдя с умом, можно было нейтрализовать угрозу личной репутации, тогда как с точки зрения общественных интересов придание делу широкой огласки не могло принести ничего, кроме пользы. Итак, публикация была предрешена. Следующим моментом стало то, что Каррузерс при поддержке мистера Дэвиса, выступал за простое изложение голых фактов, лишенное живых человеческих эмоций. Я решительно воспротивился этому. Во-первых, потому, что это лишь подстегнет, а не обуздает циркулирующих слухов. Во-вторых, изложенная в таком виде история покажется неубедительной и тем самым не достигнет поставленной цели. Люди и события связаны неразрывно: умолчите, опустите детали или говорите недомолвками, и у читателя создастся впечатление, что он имеет дело с банальной мистификацией. Поэтому я не сдавался, побуждая сделать рассказ насколько возможно обстоятельным и развернутым, откровенным и честным, способным заинтересовать и привлечь широкий круг читателей. Даже анонимность тут нежелательна. Однако без некоторых предосторожностей было не обойтись.
Короче говоря, друзья обратились ко мне за помощью и тотчас получили ее. Договорились о том, что я буду готовить книгу; что Каррузерс передаст мне свой дневник и изложит в мельчайших подробностях собственное видение всех фаз «расследования», как они его называли; что мистер Дэвис снабдит меня картами, схемами, а равно рассказом; и что история будет написана от первого лица со всеми ее причудами и заблуждениями, с темными и светлыми сторонами, в общем, так, как есть. За исключением следующих нескольких оговорок: год действия будет изменен, имена заменены на вымышленные и по моему настоянию придется пойти на незначительные отступления от истины, чтобы помешать идентифицировать персонажей-англичан.
Учтите, что люди эти живут сейчас среди нас, и если вам встретится отрывок, написанный пером нетвердым и уклончивым, не судите строго редактора текста, который предпочитает сказать мало, нежели сказать слишком много и бросить тень на репутацию личностей как известных, так и не очень.
Э.Ч.
Март 1903 г.
Примечание:
Карты и схемы позаимствованы из атласов британского и германского адмиралтейств. Не относящиеся к делу детали опущены.
Глава I
Письмо
Мне доводилось читать о людях, которые, будучи вынуждены жить долгое время в полном одиночестве, брали за правило неизменно одеваться к обеду, дабы сохранить самоуважение и не дать себе скатиться в варварство. Именно такое чувство, подхлестнутое критическим отношением к себе, владело мной в семь часов вечера двадцать третьего сентября минувшего года, когда я облачался в парадный костюм в своей квартире на Пэлл-Мэлл. Полагаю, ссылка на время и место говорят в мою пользу: какой-нибудь чиновничек в далекой Бирме является чаще всего человеком с притупленными чувствами и грубоватым складом ума да и в любом случае живет среди дикарей, тогда как меня – юношу светского и модного, знакомого с правильными людьми, состоящего в правильных клубах, делающего многообещающую карьеру в Форин-оффис[1], вполне стоит извинить за жалобы на то, что его обрекают на такое мученичество. Чего еще можно ожидать, когда джентльмена, так строго следующего расписанию высшего общества, запирают в границах Лондона в сентябре? Я назвал это мученичеством, но на самом деле это стократ хуже. Ведь всякому известно, что ощущать себя мучеником в какой-то степени приятно, но я-то давно миновал эту стадию. Ею я сполна насладился в середине августа, когда связь с обществом еще крепка и эмоции переполняют. Так было, когда я узнал, что пропущу вечеринку в Морвен-Лодж. Леди Эшли лично сообщила об этом, отвечая на мое письмо, в котором я излагал, до крайности косноязычно, причины, по которым вынужден оставаться в конторе.
«Нам известно, как вы должны быть сейчас заняты, – писала она. – Надеемся, что вы не перетрудитесь. Всем нам будет очень вас не хватать».
Один за другим друзья «ускользали» навстречу развлечениям и свежему воздуху, обещая писать и сыпля соболезнованиями. И всякий раз, когда очередная крыса покидала тонущий корабль, я мрачно упивался своим несчастьем. Первую неделю или две я положительно наслаждался им, пока наконец мир мой не опустел, продуваемый насквозь всеми четырьмя ветрами.
Я принялся делать вид, что интересуюсь жизнью оставшихся пяти миллионов жителей столицы, и сочинил несколько остроумных, исполненных дешевой сатиры писем, исподволь вопиющих об унылости моего положения, но указывающих на то, что автор придерживается достаточно широких взглядов, дабы не скучать, наблюдая за сценками, характерами и поведением лондонцев во время мертвого сезона. Я даже старался по совету знакомых чем-то заняться. Хотя статус мученика требует держаться в стороне ото всех, я обнаружил, что существует прослойка несчастных, которые не намерены мириться со скукой и находят себе развлечения. Имеются в виду речные прогулки и прочее, чем можно заняться в часы после работы. Но реки я вообще не люблю за шумную вульгарность лиц, на ней отдыхающих, а сильнее всего в это время года. Поэтому я распрощался с любителями свежего воздуха и отклонил предложение Х. снять коттедж на берегу и ездить оттуда в контору каждое утро. Пару выходных я провел у Кейтсби в Кенте, но не слишком огорчился, когда те покинули дом и уехали за границу, поскольку понимал, что такая полумера меня не спасет. Так же как и пристрастие к ироническому наблюдению за жизнью. Мимолетная жажда испытать щекочущие нервы приключения в духе «Новых арабских ночей»[2], разделяемая, осмелюсь утверждать, многими из нас, влекла меня несколько вечеров подряд в темные дебри Сохо, а затем даже далее, в восточные пределы Лондона. Однако она совершенно иссякла в одну скучную субботнюю ночь после часа, проведенного в душной атмосфере дешевого мюзик-холла на Рэтклифф-Хайвей. Я сидел рядом с дородной дамой, страдавшей от жары и то и дело освежавшей себя и ребенка глотком тепловатого портера.
К началу сентября я бросил все потуги и целиком погрузился в скучный, но достойный джентльмена круговорот: контора, клуб, квартира. Вот тут-то и началось самое тяжкое испытание, ибо передо мной забрезжила неприятная истина: свет, без которого я обойтись никак не мог, вполне способен обойтись без меня. Очень любезно со стороны леди Эшли было заверить, что всем меня сильно не хватает. Зато письмо Ф., одного из членов собравшегося в имении общества, написанное «в спешке, потому как мы вот-вот уходим на охоту», и ставшее запоздавшим ответом на одно из остроумнейших моих посланий, убедило вашего покорного слугу, что отсутствие его вряд ли замечено даже со стороны той, кого подразумевала леди Эшли, намеренно выделяя слово в строке «всем нам будет очень вас не хватать». Стрела, не менее жалящая, пусть даже проникшая не столь глубоко, прилетела со стороны моей кузины Несты. Та писала: «Как ужасно, что ты вынужден оставаться в Лондоне, но для тебя должно служить огромным утешением (зловредная маленькая стерва!) иметь такую интересную и важную работу». Вот расплата за невинную иллюзию, насаждаемую мной в умах родных и знакомых, а особенно среди преданных и обожающих девиц, которых я водил обедать в последние два сезона, за заблуждение, в котором мне почти удалось убедить даже самого себя. А ведь суровая правда в том, что работа моя вовсе не интересная и не важная. Суть ее вот в чем: покуривая сигарету, я сообщаю посетителям, что мистера такого-то нет на месте и будет он не раньше первого октября, затем с двенадцати до двух ухожу на ланч и лишь в редкие моменты готовлю précis[3] по не слишком значимым секретным докладам. Закончив работу, я засовываю итоговую папку в стальной несгораемый шкаф. Мою жизнь как скромного чиновника омрачало не какое-нибудь облако на своде международной политики, хотя таковое, надо признать, имелось. Нет, меня страшила прихоть одной влиятельной персоны, способной напрочь расстроить планы подчиненных на выходные. Тем более что эта персона питала болезненное пристрастие торчать в самые жаркие дни в Уайтхолле.
Только одного недоставало, чтобы переполнить чашу моих страданий. И именно я осознал тем самым вечером, с которого начинаю свой рассказ. Еще всего два дня в этом умершем и разлагающемся городе, и рабство мое закончится. Но увы – о злейшая из ироний! – мне некуда отправиться! Увеселения в Морвен-Лодж подходят к завершению. Ужасные слухи о некоей помолвке, ставшей отравленным плодом сих увеселений, с мучительной ясностью говорили о том, что никто по мне и не скучал вовсе. Во мне креп тот предельной степени цинизм, который рождается от унизительного поражения. Приглашения на более позднюю дату, которые в июле я пренебрежительно отклонил, теперь призраками витали вокруг, насмехаясь надо мной. Среди них имелось по меньшей мере одно, которое стоило возобновить, но ни в случае с ним, ни с другими не получалось обойтись без усилий. Но бывают моменты, когда разница между необходимостью набиваться самому или сдаться уговорам ревностно бьющихся за гостя хозяек кажется слишком сокрушительной. Собственная моя родня отправилась в Экс, лечить батюшкину подагру, и присоединиться к ним было бы просто вопиющим a pis aller[4]. К тому же вскоре мои собирались вернуться в наш дом в Йоркшире, а нет пророка в отечестве своем. Короче говоря, я находился на грани полного уныния.
Привычное шарканье на лестнице предупредило меня, что скоро раздастся стук и войдет Уизерс. Одной из вещей, переставшей некоторое время назад забавлять меня, была соответствующая сезону небрежность манер слуг в апартаментах, где я снимал квартиру. Уизерс сунул мне письмо с немецкой почтовой маркой и пометкой «срочно». Я как раз закончил одеваться и брал деньги и перчатки. Прилив любопытства заставил меня сесть и распечатать конверт. В углу на оборотной его стороне было начертано: «Прости, но требуется еще кое-что – пара стяжных болтов от Кэри и Нилсона, диаметром 1 3/8 дюйма, оцинкованные». Вот само письмо:
Яхта «Дульчибелла»,
Шлезвиг-Гольштейн, Фленсбург, 21 сентября
Дорогой Каррузерс!
Осмелюсь предположить, ты удивлен этой весточкой от меня, поскольку прошла уже вечность с последней нашей встречи. Более чем вероятно, что предложение, которое я намереваюсь сделать, не устроит тебя, ведь мне ничего не известно о твоих планах, а если ты в городе, то наверняка уже впрягаешься в работу и не сможешь уехать. Поэтому пишу просто наудачу и хочу спросить, нет ли у тебя желания присоединиться ко мне ради небольшой прогулки на яхте и, надеюсь, охоты на уток. Знаю, насколько хорошо ты стреляешь, да и яхтинг, помнится, тоже не чужд тебе, хотя не берусь утверждать. Эта часть Балтики, шлезвигские фиорды, – превосходное место для круиза, виды – просто первый сорт, да и уток скоро ожидается в изобилии, если довольно похолодает.
Я прибыл сюда через Голландию и Фризские острова, отправившись в начале августа. Мой товарищ вынужден был покинуть меня, и мне до зарезу нужен другой, поскольку я не намерен долго здесь болтаться. Нет нужды говорить, как обрадует меня твой приезд. Если согласен, телеграфируй на местное почтовое отделение. Самый удобный маршрут, полагаю, проходит через Флиссинген и далее на Гамбург. Я тут занят небольшим ремонтом и очень рассчитываю покончить с ним к прибытию твоего поезда. Возьми ружье и достаточное количество дроби четвертого калибра; если не составит труда, загляни к Ланкастеру, купи дробовик для меня. Запасись непромокаемыми вещами – лучше всего из разряда одиннадцатишиллинговых: куртка и брюки, и никаких «модных штучек для яхтинга»! Если рисуешь, прихвати все нужное. Помнится, ты владеешь немецким как родным, и это здорово поможет. Прости за обилие указаний, но у меня такое чувство, что мне повезет и ты приедешь. Кстати, надеюсь, и ты и Ф.О. – оба процветаете. До свидания.
Искренне твой,
Артур Г. Дэвис.
Не мог бы ты захватить для меня призматический компас и фунт рейвенской табачной смеси?
Это письмо ознаменовало новую эпоху в моей жизни. Я совершенно не догадывался об этом, когда сунул его в карман и зашагал по voie douloureuse[5], которой каждый вечер следовал в клуб. Теперь на Пэлл-Мэлл не было ни малейших шансов обменяться вежливым приветствием с хорошим знакомым. Встречались только задержавшиеся на прогулке гувернантки, одной рукой катящие коляску, а другой тащившие перепачканных сопротивляющихся детей; провинциального вида зеваки, старающиеся разыскать в своем путеводителе те ли иные овеянные историей руины; полисмены да строители с тачками. Клуб, разумеется, был чужой, оба мои оказались закрыты на уборку – совпадение, экспромтом подготовленное Провидением. Клуб, который предлагают взамен в таких случаях, всегда раздражает чужеродностью и отсутствием комфорта. Немногочисленные его посетители выглядели странно и были чудно одеты, и в голову лезла мысль: а что они вообще тут забыли? Любимой еженедельной газеты тут нет, еда отвратительная, вентиляция – вовсе издевка.
Все злосчастья разом обрушились на меня тем вечером. И тем не менее я с удивлением обнаружил, что какой-то слабый огонек согревает мою душу – надежда совершенно беспочвенная, насколько можно судить. Ну что толку от этого письма Дэвиса? Ходить на яхте по Балтике в конце сентября! От одной идеи у меня пробегали мурашки. Регата в Каусе в приятном обществе и с дорогими отелями – это замечательно. Августовский круиз на паровой яхте во французских водах или у гористых шотландских берегов – тоже недурно. Но какой яхтинг может быть там? За долгие годы могло случиться всякое, но, насколько я был осведомлен о средствах Дэвиса, роскошь была ему не по карману. Это навело на мысль о нем самом. Познакомились мы в Оксфорде – он не входил в мой ближний круг, но оказался отличным однокашником, и я частенько пересекался с ним. Мне он полюбился за энергию, соединенную с простотой и скромностью, хотя, признаться, завидовать ему никто не собирался. Если честно, Дэвис мне нравился, как в этот богатый на встречи период нам нравятся люди, с которыми после мы никогда не будем поддерживать отношений. Мы одновременно закончили университет, три года тому назад, после чего я уехал на два года во Францию и Германию, учить языки, а он провалил экзамен на чин в Индийской гражданской службе и отправился в контору солиситора[6]. Мы виделись с ним лишь изредка, однако Дэвис, вынужден признать, всегда старался поддерживать знакомство. Но правда в том, что само течение жизни разводило нас. Меня ждала блестящая карьера, и в нечастые наши встречи я не находил ничего общего, что сохранилось бы между нами. Он не знал никого из моих друзей, одевался немодно, и я находил его скучным. У меня Дэвис всегда ассоциировался с лодками и морем, но никогда с яхтингом в моем понимании этого слова. В колледжские годы он едва не уговорил меня провести штормовую неделю в открытой шлюпке, которую нанял, чтобы поплавать среди каких-то отмелей на восточном побережье.
Вот, собственно, и все, думал я по мере того, как траурный ужин шел своим чередом. Но, поглощая entrée[7], я поймал себя на мысли, что совсем недавно слышал какую-то молву, касающуюся Дэвиса. Дойдя до десерта, я, поразмыслив обо всем, пришел к выводу, что идея не стоит выеденного яйца – так же, по совести, как и поданное блюдо. После крушения всех приятных планов и разочарования в подвиге мученичества всерьез рассматривать предложение провести октябрь, замерзая на ветрах Балтики в обществе существа, навевающего скуку?! Однако, потягивая сигару в карикатурной роскоши пустой курительной, я снова вспомнил о письме. А не кроется ли в нем чего? Никаких альтернатив все равно не предвидится. А похоронить себя на Балтике в это негостеприимное время года – не будет ли это последним трагическим штрихом, увенчивающим мои несчастья?
Я снова вытащил письмо и пробежал через яростное стаккато[8] фраз, делая вид, что не замечаю дыхания свежего воздуха, энергии и искренней дружбы, которыми повеяло в этой душной комнате от простого листка бумаги.
При тщательном прочтении в глаза бросилась масса тревожных несоответствий. «Виды – первый сорт…» А как же равноденственные шторма и октябрьские туманы? Любой здравомыслящий капитан в это время уже распускает команду. «Ожидаются утки…» Расплывчато, очень расплывчато. «Если довольно похолодает…» Холод и прогулка на яхте выглядели довольно жутковатым союзом. Товарищ покинул его… По какой причине? «Никаких модных штучек для яхтинга…» А почему нет? Что до размеров яхты, удобств, экипажа – все великодушно опущено. Столько пугающих белых пятен. И с какой стати ему, черт побери, понадобился призматический компас?
Я пролистал пару журналов, перекинулся в карты с одним любезным стариканом, слишком назойливым, чтобы отказать ему в партии, и отправился домой, совершенно не подозревая, что милостивое Провидение уже спешит мне на помощь. И стоит признать, я не только не радовался, но, скорее, ворчал на любую попытку проявить эту милость.
Глава II
«Дульчибелла»
То, что два дня спустя я прогуливался по палубе флиссингенского парохода с билетом до Гамбурга в кармане, может показаться нелогичным исходом, но вы не станете сильно удивляться, если проникните в ход моих мыслей. Вам может прийти в голову, что мною двигало стремление свершить акт жестокого самоистязания, слухи о котором дойдут до знакомых и вызовут запоздалые угрызения совести, а я тем временем буду предаваться скромным утехам и радостям.
Говоря по правде, сидя за завтраком на следующее утро после получения письма, я все еще ощущал ту охватившую меня накануне необъяснимую легкость, но достаточно овладел собой, чтобы взвесить все за и против. Весомый аргументом «за», не принятый в расчет прежде, заключался в том, что присоединиться к Дэвису окажется с моей стороны поступком благородным – ему нужен товарищ, и он действительно нуждается во мне. Я буквально уцепился за это соображение. Оно послужило прекрасным оправданием, когда по прибытии в офис я принялся освежать в памяти «Континентальный путеводитель Брэдшоу», приказал Картеру, своему подручному, раскатать огромную настенную карту Германии и найти для меня Фленсбург. Последний подвиг был не обязателен, но Картеру тоже хотелось чем-то заняться, да и сдержанное недоумение его выглядело забавным. С большей частью изображенного на карте я был знаком довольно неплохо – годы, проведенные в Германии, оказались потрачены не зря. Народ, история, развитие и будущее этой страны живо интересовали меня, и я до сих пор поддерживал отношения с друзьями в Дрездене и Берлине. Название «Фленсбург» навевало воспоминания о датско-прусской войне 1864 года[9]. К моменту, когда изыскания Картера завершились успехом, я уже забыл про данное ему поручение и взвешивал в уме, сможет ли перспектива увидеть что-либо интересное в этом прекрасном, судя по отзывам, районе Шлезвиг-Гольштейна перевесить столь малопривлекательный способ знакомства с краем в такое позднее время года, да еще в сомнительной компании? И это не говоря о прочих аргументах, которые я холил и лелеял в душе как доказательства отчаянности своего положения. Стоит ли все-таки ехать? Решение качалось на весах, и, полагаю, возвращение из Швейцарии К., вызывающе загорелого, стало последним аргументом.
– Привет, Каррузерс, ты еще здесь? – приветствовал он меня. – Думал, ты укатил уже сто лет назад. А ты везунчик, что уезжаешь сейчас – самое время для прогулок и первых фазанов. Ну и жара тут у вас! Картер, принесите-ка «Брэдшоу»!
Удивительная книга этот «Брэдшоу» – руки волей-неволей сами тянутся к нему, словно к ружью и шомполу в охотничий сезон.
Ко времени ланча последние сомнения испарились, и я вручил Картеру телеграмму для Дэвиса на почтовое отделение во Фленсбурге: «Спасибо. Ожидай 9:34 пополудни 26-го». Три часа спустя пришел ответ: «Очень рад. Прошу, привези риппингилловскую плиту № 3». Сбивающее с толку и тревожное указание, от которого меня вопреки «горячей» сущности предмета пробила дрожь.
И в самом деле, решимость моя неуклонно таяла. Она поколебалась вечером, когда я достал ружье и представил хлопоты, связанные с его перевозкой. Потом поколебалась снова при мысли о списке разнообразных поручений, щедро разбросанных по письму Дэвиса. Исполнение оных превращало меня в деятельное орудие, тогда как я готовил себе роль разочарованного изгнанника или по меньшей мере пассивного союзника. Так или иначе, сразу после ухода из офиса я мужественно взялся за дело.
Зайдя к Ланкастеру, я заказал ружье для Дэвиса. Приняли меня прохладно и вручили изрядный счет, который до момента встречи с приятелем приходилось списать на свои расходы. Распорядившись доставить дробовик и дробь-«четверку» в свои апартаменты, я купил рейвенскую смесь, смутно предчувствуя, что мне в очередной раз придется не ради себя самого заняться контрабандой. После стал ломать голову, где найти фирму «Кэри и Нилсон». Дэвис говорил о ней так, будто та известна не менее Английского банка или Пассажа, а не специализируется на «стяжных болтах», что бы ни крылось за этим названием. Звучало оно, впрочем, важно и побуждало разыскать эти предметы любой ценой. В моем представлении они связывались с «небольшим ремонтом» и пробуждали дополнительные опасения. В Пассаже я поинтересовался насчет «риппингилловской плиты № 3» и был удостоен зрелища громоздкого и неуклюжего скобяного изделия, работающего на залитом в две вместительные емкости керосине и распространяющего зловещий аромат горячего масла. Убежденный в сокрушительной эффективности устройства, я скрепя сердце заплатил за него, но поймал себя на мысли: какие бытовые нужды могли заставить заказать эту штуковину, да еще мимоходом, в виде приписки к телеграмме? В отделе товаров для яхт я спросил стяжные болты, но получил ответ, что их нет в наличии. Зато, мол, они наверняка есть у «Кэри и Нилсона»: их магазин в Майнериз, на востоке Лондона. Это означало путешествие почти столь же продолжительное, как до Фленсбурга, только в два раза более утомительное. Сообразив, что магазин уже вот-вот закроется и мне не успеть, я, утомленный проделанной работой, вернулся домой в кэбе. Потом, забыв одеться к обеду – само по себе эпохальное событие! – ваш покорный слуга распорядился принести жаркое из расположенной на первом этаже кухни и провел остаток вечера за сборами и отправкой писем, пребывая в мрачной сосредоточенности человека, приводящего в порядок свои дела.
Так прошла та последняя душная ночь. Изумленный Уизерс застал меня завтракающим в восемь утра, а в 9.30 я уже разглядывал стяжные болты и приходил в себя после адского вояжа по подземке до Олдгейта. Я особо упирал на 3/8 дюйма и оцинковку и получил товар с заверением в его качестве, но не составив представления о назначении оного. За одиннадцатишиллинговыми непромокающими костюмами меня направили в некий жуткого вида вертеп на задворках, который, по словам продавца, он всегда всем рекомендует. Там меня встретил грязный, увешанный побрякушками еврей, предложивший (по стартовой цене в восемнадцать шиллингов) два вонючих оранжевых балахона, отдаленно напоминающих очертания человеческой фигуры. Смрад от них исходил такой, что я поспешил капитулировать на четырнадцати и опрометью кинулся в офис (время подходило к одиннадцати) с двумя непрезентабельными свертками в коричневой упаковочной бумаге. Аромат в конторе распространился такой, что Картер настоятельно поинтересовался, не желаю ли я переслать поклажу в свою квартиру, а К. стал пытать насчет плана предстоящей поездки. Но я не собирался просвещать К., так как знал: комментарии его либо окажутся раздражающе завистливыми, либо заденут так или иначе мою гордость.
В последний момент я вспомнил про призматический компас и телеграфировал в Майнериз просьбу доставить его ко мне на дом, чувствуя облегчение при мысли, что могу таким образом избегнуть перекрестного допроса на предмет размеров и качеств.
Ответ гласил: «Нет в продаже. Спросите у изготовителя геодезических приборов». Ответ одновременно озадачивающий и обнадеживающий, поскольку из всех запросов Дэвиса призматический компас беспокоил меня сильнее всего. Открытие, что ему понадобился геодезический инструмент, порождало не меньше загадок. В тот день я сдал последние резюме и отчеты – прокрустово ложе, под которое растягиваются и ужимаются непокорные факты, – и распрощался с благодушным и снисходительным М., исполняющим обязанности моего начальника, который искренне пожелал мне приятного отпуска.
В семь я взирал на кэб, навьюченный моими собственными пожитками и коллекцией громоздких и нелепых предметов, ставших результатом недавних покупок. Повторная девиация треклятого призматического компаса – я в итоге faute de mieux[10], купил подержанный в одной из безвкусных лавчонок неподалеку от вокзала Виктория, которые выглядят как ювелирный магазин, а на самом деле являются ломбардами, – едва не заставила меня пропустить мой поезд. Однако в 8.30 я отряхнул со своих ног лондонскую пыль, а в 10.30, как уже говорилось, мерил шагами палубу флиссингенского пароходика на пути к идиотскому отпуску на далеком Балтийском море.
Западный ветер, прохладный после полуденной грозы, подгонял корабль, скользивший по спокойному фарватеру[11] эстуария[12] Темзы. Мы миновали цепочку светящихся плавучих маяков, охраняющих морские дороги к столице империи, словно часовые покой спящей армии, и скользнули в темный простор Северного моря. Ярко сияли звезды, пьянящие ароматы с утесов Кента робко вливались в присущие пароходу резкие запахи – летняя погода не спешила прощаться. Природа, видимо, решила не принимать участия в моей епитимье и лишь свысока посмеивалась над надуманными страданиями. Необоримое ощущение мира и покоя, соединенное с восхитительным чувством физического пробуждения, которое охватывает нервического горожанина, оставившего позади духоту и рутину мегаполиса, вопреки желанию прочно завладело мной. Поддаваясь этому влиянию, я делал циничные прикидки. Если погода удержится, я могу провести в обществе Дэвиса пару не таких уж скверных недель. Если нет, что скорее всего, то мне легко будет отказаться под этим предлогом от погони за гипотетическими утками. В последнем случае железная логика фактов неизбежно вынудит его поставить яхту на прикол – не взбредет же Дэвису на ум плыть домой своим ходом в такое время года! Потом я могу воспользоваться удобно подвернувшимся шансом и провести некоторое время в Дрездене или еще где-нибудь. Разработав столь удобную программу, я решил претворять ее в жизнь.
Из Флиссингена на восток до Гамбурга, оттуда на север во Фленсбург – вот вкратце содержание следующего утомительного дня моего путешествия. Дамбы, ветряные мельницы, зеркальные каналы, покрытые стерней поля и шумные города; к наступлению сумерек мы оказались в тихом, плоском, как стол, краю. Поезд катил неспешно от одной маленькой станции к другой, и в десять вечера, усталый и разморенный, я уже стоял на платформе Фленсбурга, обмениваясь приветствиями с Дэвисом.
– Жутко любезно с твоей стороны было приехать.
– Пустяки. Здорово, что ты пригласил меня.
Оба мы чувствовали себя не совсем в своей тарелке. Даже в тусклом свете газовых фонарей я подметил, насколько его обличье отличается от моих представлений о яхтсмене: никаких тебе белых штанов и аккуратной синей куртки. А где украшенная блестящей кокардой фуражка, где легкая вальяжность, так непринужденно превращающая неопытного салагу в лихого морского волка? Зная, что у меня эта шикарная форма, новая, с иголочки, лежит в чемодане, я ощутил странный укол совести. На нем были потрепанный норфолкский пиджак, заляпанные грязью сапоги, серые (или, быть может, некогда белые?) фланелевые брюки и простая твидовая кепка. Протянутая мне рука оказалась мозолистой и заляпанной вроде как краской, другая, в которой он держал пакет, была замотана бинтом, давно требующим замены. Это был миг, когда мы изучали друг друга. Он подверг меня застенчивому, торопливому осмотру, словно ища знакомые черты; во взгляде его читалось нечто вроде беспокойства и быть может – надо же! – нечто вроде восхищения. Лицо приятеля казалось одновременно знакомым и незнакомым: те же добрые голубые глаза, открытые черты, высокий лоб, те же стремительные импульсивные движения; но что-то в нем переменилось. Однако неловкий момент первой встречи был краток, да и свет не слишком хорош. Зашагав по платформе, нагруженные моим багажом, мы принялись болтать на отвлеченные темы.
– Боюсь, я представляю не слишком приглядное зрелище, – со смехом заявил он. – Но тут уж ничего не изменишь. Весь день занимался покраской, только что закончил. Надеюсь, завтра будет ветер – последнее время стоял безнадежный штиль. Однако вещей же ты с собой притащил – целую уйму!
Вот вам и благодарность за все мои экспедиции на окраины Лондона.
– Кто-то надавал мне кучу поручений!
– Ну, я же не настаивал, – рассеянно заметил Дэвис. – Но спасибо, что все привез. Тут, как понимаю, плита. Это, судя по весу, патроны. Стяжные болты, надеюсь, не забыл? Без них, конечно, можно обойтись… – Я безучастно кивнул, чувствуя себя немного задетым. – Но они проще тросовых талрепов, а здесь их не достать. Этот чемодан… – протянул он, окидывая поклажу озабоченным взглядом. – А, ладно, рискнем! Ты не мог бы обойтись одним «гладстоном»? Дело в том, понимаешь, что ялик… Да и люк тоже… – Дэвис терялся в раздумьях. – Ну ничего, попробуем. Кэбов тут, боюсь, нет, но идти недалеко, и носильщик поможет.
Холодок неприятных предчувствий пробежал по спине, когда приятель взвалил на плечо мой «гладстон» и подхватил свертки.
– А ты разве не захватил никого из своих людей? – промямлил я.
– Людей? – Вид у него был смущенный. – О, наверное, мне стоило сказать тебе, что я не держу наемных матросов – яхта совсем маленькая. Надеюсь, ты не рассчитывал на роскошь? Некоторое время я управлялся один. От матроса толку не будет никакого, одно неудобство.
Все эти жуткие истины он выпалил бодрым тоном, вовсе не сгладившим для меня эффекта их осознания. Наши сборы прервались.
– Не поздновато ли возвращаться на борт? – произнес я неживым голосом. Кто-то выключал газовые фонари, а носильщик демонстративно позевывал. – Полагаю, лучше нам остановиться на ночь в отеле.
Повисла напряженная пауза.
– О, разумеется, ты можешь так и поступить, если хочешь, – промолвил Дэвис в явном замешательстве. – Но вряд ли стоит тащить весь этот ворох до гостиницы, а все они, насколько мне известно, в противоположной от гавани стороне, а поутру опять на яхту. На ней вполне удобно, а спать после такого утомительного путешествия ты будешь как убитый.
– Вещи можно оставить здесь, – робко возразил я, – и взять с собой только мою сумку.
– Знаешь, я в любом случае возвращаюсь на борт, – парировал товарищ. – Никогда не ночую на берегу.
Похоже, переговоры наши подошли к вежливому, но решительному концу. Ледяное отчаяние охватило меня и парализовало волю к сопротивлению. Что ж, придется принять худшее, и чем скорее, тем лучше.
– Идем, – буркнул я.
Тяжко нагруженные, мы, спотыкаясь о рельсы и камни, добрели до гавани. Дэвис подвел меня к лестнице, поросшие водорослями ступени которой исчезали в темноте.
– Если ты залезешь в ялик, – сказал он в своей порывистой манере, – я смогу сгрузить тебе вещи.
Я спускался осторожно, держась за мокрый канат, другой конец которого был привязан к крохотной лодочке, и чувствовал, что собираю на брюки и манжеты отвратительную слизь.
– Держись! – жизнерадостно предупредил Дэвис, когда я, ступив одной ногой в воду, едва не шлепнулся.
Кое-как вскарабкавшись в ялик, я стал ждать развития событий.
– Теперь подведи его к стенке причала и привяжи к кольцу, – послышалось сверху, вслед за чем вниз полетел мокрый трос, по пути сбивший с меня кепку.
– Надежно? Подойдет любой узел, – услышал я, возясь с треклятой веревкой.
Затем огромный темный предмет закачался у меня над головой и опустился в ялик. Это был мой чемодан. Положенный поперек, он в аккурат занял всю центральную часть шлюпки.
– Вошел? – донесся взволнованный вопрос с причала.
– В самый раз.
– Отлично!
Цепляясь за скользкую стенку, я старался удержать ялик на месте и поочередно принимал вещи, размещая их, насколько хватало разумения. Ялик тем временем оседал все глубже, а неустойчивая надстройка становилась все выше.
– Лови! – раздался последний приказ сверху, и мне в руки шмякнулся влажный мягкий сверток. – Поосторожнее, там мясо! Теперь возвращайся к трапу!
Я повиновался и вскоре увидел Дэвиса.
– Груза многовато, и сидит он глубоко. Но надеюсь, мы управимся, – заметил мой компаньон. – Садись на корму, а я буду грести.
Я был слишком подавлен, чтобы испытывать любопытство по поводу того, как можно грести со всей этой пирамидой, или даже беспокоиться насчет риска пойти ко дну по дороге. Я занял указанное место, а Дэвис тем временем извлек лежавшие на днище весла, для чего потребовалось несколько рывков, от которых вся конструкция затряслась, заставив ялик опасно закачаться на воде. Как удалось ему занять позицию для гребли, не имею ни малейшего представления, но мы потихоньку вышли на чистую воду. В темноте я едва различал на носу голову Дэвиса. Отчалили мы от места, выглядевшего как вход в узкий залив, и оставили за спиной огни большого города. Слева располагался широкий фронт освещенных причалов, кое-где виднелись смутные очертания пришвартованных пароходов. Миновав последние фонари, мы оказались на более широком водном пространстве. Стал ощущаться ветерок, по обоим берегам вздымались темные холмы.
– Я расположился немного вглубь по фиорду, – пояснил Дэвис. – Терпеть не могу ошиваться в городах, да и хороший плотник здесь нашелся. Ага, вот она! Сгораю от нетерпения узнать, как она тебе понравится!
Я приподнялся. Мы входили в окруженную деревьями бухточку и приближались к огню, мерцавшему на мачте небольшого суденышка, очертания которого постепенно проступали из темноты.
– Подходи осторожно, – предупредил Дэвис, когда мы подплыли к борту.
В один миг он запрыгнул на палубу, закрепил трос и оказался с моей стороны.
– Ты подавай, – распорядился он, – а я буду принимать.
Работенка была не из легких, радовало лишь то, что нести вещи дальше не надо, – слабое утешение, поскольку на горизонте замаячила следующая проблема. Когда пирамида перекочевала на палубу, я перекинул через борт дряблый сверток с мясом – обертка его под воздействием влаги уже выказывала гнусное намерение расползтись – и последовал за ним. В голове смутно всплыла картина последнего моего визита на яхту: безупречный костюм, стремительная гичка, молодцеватые матросы, удобный трап с поручнями и медь, горящая под августовским солнцем, убранные, выскобленные добела палубы и уютные шезлонги под навесом на корме. Какой жуткий контраст с этой полуночной вылазкой с куском сырого мяса в руках и среди дорожных баулов! Горше всего было нарастающее ощущение собственных незначительности и подчиненности, которое никогда не возникало у меня во время прежних прогулок на яхтах.
Дэвис очнулся после очередного приступа задумчивости по поводу моего чемодана.
– Я проведу для тебя экскурсию по внутренним помещениям, а потом мы загрузим вещи и отправимся на боковую.
Он нырнул по трапу вниз, я осторожно последовал за ним. Смешанный аромат керосина, кухни, табака и смолы ударил в ноздри.
– Голову береги, – посоветовал Дэвис, когда я на ощупь вошел в каюту. Он чиркнул спичкой и зажег свечу. – Лучше тебе присесть, так удобнее будет оглядываться.
В этом совете, не исключено, содержалась доля сарказма, поскольку я, настороженно осматриваясь вокруг, скрючился и втянул голову, чтобы не удариться о потолок, казавшийся в неверном свете еще ниже, чем на самом деле, и, видимо, представлял собой забавную фигуру.
– Понимаешь, – подбодрил меня Дэвис, – тут вполне достаточно места, чтобы сидеть не нагибаясь.
Строго говоря, это вряд ли соответствовало истине, но я человек невысокий, а он вообще коротышка.
– Некоторые переживают по поводу места над головой, но мне всегда было наплевать. А это вот швертовый колодец, – пояснил мой приятель, когда я, попытавшись вытянуть ноги, натолкнулся на какой-то острый край.
Саму дьявольскую конструкцию я видеть не мог, поскольку она пряталась под столом, крышка которого, как оказалось, покоилась с одной стороны именно на ней. Как выяснилось, это узкий длинный треугольник, идущий вдоль судна и разделяющий и без того узкое пространство каюты пополам.
– Яхта, понимаешь ли, плоскодонная, и с поднятым швертом осадка у нее незначительная. Этим объясняется и низкое межпалубное пространство. На глубокой воде шверт опускается. Получается, что, так или иначе, ты можешь ходить практически везде.
Мой морской опыт не позволял толком уразуметь сказанное, но то, что я уразумел, звучало не слишком обнадеживающе. Последняя фраза Дэвиса долетела с бака, куда он проник, юркнув, словно кролик в нору, через раздвижную дверь, и хлопотал, ставя чайник на плиту, в которой я опознал сильно постаревшего и побитого жизнью близнеца риппингилловского изделия № 3.
– Скоро закипит, – доложил приятель. – И мы приготовим грог.
Глаза мои попривыкли к тусклому свету и смогли обозреть прочую обстановку, описать которую можно буквально в нескольких словах. По бокам каюты размещались два длинных диванчика, упиравшихся в задней части каюты в шкафчики, один из которых был низким, образуя нечто вроде миниатюрного буфета с подвешенной над ним полкой для стаканов. Над диванчиками палуба нависала очень низко, но поднималась до высоты плеча ближе к центру, где небольшая рубка со световым люком создавала немного дополнительного пространства. Сразу за дверью размещался компактный умывальник. Вдоль обеих стен шли багажные сетки, на которых валялись свертки флагов, карты, головные уборы, коробки для сигар, банки с вареньем и тому подобное. К баковой переборке крепилась книжная полка, забитая томами разных форматов. Некоторые из них были затиснуты вверх ногами, у иных отсутствовали корешки. Пониже книг на стеллаже размещались анероид и хронометр в добротном чехле. Все деревянные части сияли белой краской, и взгляд менее придирчивый, чем мой, вполне мог счесть обстановку не лишенной приятности. К задней переборке было небрежно пришпилено несколько кодаковских снимков, а прямо над дверью висела фотография юной девушки.
– Сестра, – пояснил Дэвис, который вынырнул из камбуза и перехватил мой взгляд. – Ну, теперь давай спустим наше добро.
Он взбежал по трапу, и вскоре мой чемодан навис черной громадой над люком, и снова начались пыхтение и возня.
– Боюсь, он слишком велик, – донеслось сверху. – Мне жаль, но тебе придется распаковать его на палубе – пустой уж как-нибудь засунем.
Бесконечная череда пакетов образовала пирамиду в тесном пространстве у моих ног, а спина заныла от наклонов и приседаний. Дэвис вернулся и с нескрываемой гордостью провел меня в спальную каюту (другую он величал салоном). Разожженная свеча осветила две узкие и короткие койки, застеленные одеялами, но без простыней. Под ними размещались выдвижные ящики, один из которых Дэвис отвел мне, наивно полагая, что его будет достаточно для моего гардероба.
– Как распакуешься, можешь спустить вещи через световой люк прямо на койку, – объявил он. – Хотя вряд ли тут хватит места для всей твоей поклажи. Я к тому, что не мог бы ты…
– Нет, – отрезал я.
Абсурдность ситуации поразила меня – два человека, скорчившиеся, как мартышки, умудряются спорить.
– Если ты выйдешь, я смогу выйти тоже, – добавил я.
Дэвиса, похоже, уязвило это подобие перебранки, но я протиснулся мимо него, поднялся по трапу, весь кипя от возмущения, и, раскрыв треклятый чемодан, стал при бледном свете луны рыться в его содержимом. Махнув на все рукой и решив, что чем скорее, тем лучше, я спустил часть вещей вниз, торопливо покидал остальные назад – пока Дэвис не обнаружил весь мой гардероб – и застегнул замки. Потом уселся на своего белого монстра и поежился, потому как в воздухе витала осенняя прохлада. Мне пришло в голову, что, если пойдет дождь, все может стать еще хуже. Эта мысль заставила оглядеться вокруг. Миниатюрная бухточка была спокойна, как стекло; звезды в воде и звезды на небе; несколько белых домиков на берегу; огни Фленсбурга на западе, на востоке во мраке терялся, расширяясь, фиорд. Дэвис возился внизу, производя приглушенные звуки: он дергал что-то, толкал, стучал молотком. Время от времени раздавался громкий всплеск – это некие предметы вылетали через люк и падали в море.
Сам не знаю, как это произошло. Возможно, я прочитал нечто трогательное на его лице, выражение которого невольно ассоциировалось у меня с забинтованной рукой. Быть может, это было одно из тех мгновений ясновидения, когда две наши сущности, основная и лучшая ее половина, разделяются, и я смог узреть свой упрямый эгоизм в противовес простой, благородной натуре моего приятеля. Возможно, виной всему атмосфера тайны, окружившая все это предприятие и затмевавшая пустяковые размолвки, тайна, смутно читавшаяся в том, что Дэвис пригласил меня, осознанно проигнорировав факт нашего несходства. А быть может, виной всему были просто звезды и бодрящий прохладный воздух, пробудившие задремавшие во мне, инстинкты молодости и жажды приключений. Не исключено, все вышеперечисленное слилось воедино под воздействием безжалостного чувства самоиронии, шептавшего, что мне вопреки всем ухищрениям грозит опасность выставить себя на посмешище. Так или иначе, в мгновение ока настроение мое переменилось. Ореол мученика исчез, раненое тщеславие умолкло, столь бережно хранимый капитал воображаемого самопожертвования испарился, не оставив, впрочем, ни малейшего сожаления. В итоге явился модно одетый, но растрепанный молодой человек, сидящий в темноте на мокром от росы чемоданище, по сравнению с которым сама яхта кажется игрушечной. Это был молодой человек, еще не освоившийся в новой для него атмосфере, еще обиженный и сердитый, но уже устыдившийся своего поведения и решивший радоваться жизни.
Я забегаю вперед, конечно, ибо хотя перемена оказалась радикальной, быстрой она не была. Но в любом случае именно там и тогда брала она свое начало.
– Грог готов! – послышалось снизу.
Кое-как спустившись, я, к удивлению своему, обнаружил, что весь хлам волшебным образом исчез и в каюте царит порядок. На столе красовались стаканы и лимоны, а душистый аромат пунша заглушил все прочие запахи. При виде этих приятных перемен я выказал мало радости, но достаточно, чтобы лицо Дэвиса просветлело. Приятель принялся радостно демонстрировать мне отсеки для хранения грузов, хвастаясь «вместительностью» своего плавучего вертепа.
– А вот и твоя плита, – завершил он экскурсию. – А старую я вышвырнул за борт.
Надо заметить, имелась у него маленькая слабость – стремление под малейшим предлогом выкидывать что-нибудь за борт. Позже я пришел к выводу, что без новой плиты можно было вполне обойтись, так же как и без стяжных болтов, но это дало ему прекрасную возможность потешить свое диковинное пристрастие.
Мы покурили и поболтали немного, после чего встала проблема ложиться в кровать. Раз десять стукнувшись головой и коленками, причудливо изогнувшись, я залез в койку и устроился между двумя грубыми одеялами. Дэвис, двигаясь весьма проворно, вскоре улегся тоже.
– Довольно удобно, не правда ли? – спросил он и задул, не вставая, свечу – ловкость маневра говорила о долгой практике.
Лежать было колко, а на подушке обнаружилось мокрое пятно, происхождение которого выяснилось, когда тяжелая капля шлепнулась мне на лоб.
– Надеюсь, палуба не протекает? – поинтересовался я настолько ненавязчиво, насколько мог.
– Чертовски извиняюсь! – возопил Дэвис, выкатываясь из койки. – Видно, роса очень сильная. Вчера я столько конопатил, и надо же, видно, пропустил это место. Сейчас поднимусь и накрою его брезентом.
– А что у тебя с рукой? – зевнув, спросил я, когда приятель вернулся. Любезность его напомнила мне о повязке.
– Ничего страшного, потянул пару дней назад, – последовал ответ. После чего прозвучала совершенно неожиданная реплика: – Рад, что ты привез призматический компас. Без него, конечно, вполне можно обойтись, однако… – Голос глухо зазвучал из-под одеяла. – Вдруг да пригодится.
Глава III
Дэвис
Спал я некрепко, меня беспокоили то затекшая шея, то рука, то сквозняки, проникающие в зазор между одеялами. Когда я достиг стадии полусна-полубодрствования, уже совсем рассвело. Окончательно разбудил меня поток воды, хлынувший вниз через световой люк. Я вскочил, стукнулся головой о переборку и заморгал налитыми свинцом веками.
– Прости, я тут палубу драю. Поднимайся сюда и искупайся. Хорошо спалось? – поинтересовался голос сверху.
– Чудесно, – буркнул я, ступая в лужу, собравшуюся на брезенте.
Потом я поднялся по трапу, нырнул с борта и утопил дурные сны, усталость, уныние и взвинченные нервы на дне самого удивительного фиорда самого удивительного Балтийского моря. Короткий энергичный заплыв, и вот я уже спешу назад, изыскивая возможность взобраться на гладкий черный борт, который, даже будучи низким, оказался скользким и неприступным. Дэвис, в парусиновой рубашке с короткими рукавами и в закатанных до колен фланелевых брюках, кинул мне конец и помог взобраться на палубу, тараторя беспечно про то, что легко делать что-либо, когда знаешь, как и что надо поаккуратнее со свежей краской, и что у него имелся раньше веревочный трап, но он выкинул его за борт, потому как тот постоянно мешался. Когда я поднялся наверх, локти и колени мои, к глубочайшему его расстройству, оказались перемазаны черной краской. Но я, вытираясь полотенцем, думал только о том, что растворил в чистой воде еще толику разочарования и самодовольства.
Облачившись в штаны и свитер, я обвел взором палубу, и глаз мой, неопытный и несмелый, приметил то, что прежде скрывала темнота. Яхта казалась чрезвычайно маленькой (как выяснилось, водоизмещение ее составляло всего семь тонн) и имела чуть более тридцати футов в длину и девять в ширину – очень удобный размер для прогулок по Соленту[13] в выходные для любителей подобных забав. Но решение отправиться на таком суденышке из Дувра на Балтику подразумевало под собой такую степень отважной предприимчивости, какую я даже и представить не мог. Затем я обратился к эстетической стороне вопроса. Красота и щеголеватость являются, на мой взгляд, неотъемлемыми свойствами яхт, но при всем желании польстить «Дульчибелле» мне не удавалось подобрать комплимент. Корпус выглядел чересчур низким, а грот-мачта – слишком высокой, крыша каюты казалась неуклюжей, а световые люки печалили взор потемневшим железом и плебейской имитацией под дерево. Вся медяшка, от головки руля до последней мелочовки, была подернута налетом зеленой патины. Палуба вовсе не блистала молочной белизной, как принято в Каусе, но была неотшлифованной и серой. На швах между досками выступали пятна смолы, на носу виднелись ржавые подтеки. Снасти выглядели плачевно по сравнению с нарядной пенькой, столь радующей взор знатока на фоне голубого июньского неба над Саутси. Не сильно скрашивали картину и многочисленные следы недавнего ремонта. В воздухе витали резкие ароматы краски, лака, свежеструганого дерева, на мачте реял новенький флюгер, можно было заметить пару-другую новых тросов, особенно в такелаже крошечной бизань-мачты, которая и сама-то выглядела недавним приобретением. Но все это лишь подчеркивало общее впечатление простоватости, навевало сравнение с достопочтенной матроной из рабочего люда, попытавшейся принарядиться по моде высших классов, но вскоре махнувшей на эти потуги рукой.
То, что этот ensemble[14] производил впечатление деловитости и солидной надежности, было очевидно даже моему неопытному глазу. Многие из палубных приспособлений выглядели излишне мощными. Якорная цепь словно насмехалась над задачей удерживать подобную кроху, нактоуз, укрывающий компас, имел размеры почти комично громадные и являл собой единственный предмет судовой меди, начищенный до блеска и несущий следы почтительной заботы. Две бухты массивного и надежного троса верпового якоря, располагающиеся прямо позади грот-мачты, довершали впечатление об испытанном в бурях маленьком кораблике. Тут стоит добавить, что в далеком прошлом «Дульчибелла» была спасательной шлюпкой, которую затем не слишком удачно превратили в яхту, добавив кормовой подзор, палубу и необходимый рангоут. Как у всех шлюпок, обшивка у нее была сделана внакрой, в два слоя тикового дерева, что придавало корпусу невероятную прочность, зато по части внешнего вида гибриды всегда проигрывают.
Голод и раздавшийся снизу крик «Чай готов!» побудили меня вернуться в каюту, где обнаружился завтрак, сервированный на устроенном поверх швертового колодца столе. Дэвис гордо восседал во главе, румяный, если говорить о щеках, и закопченный, если о пальцах. Наблюдался некоторый недостаток посуды и приборов, но бекон я расхвалил до небес, причем совершенно искренне, потому как хрустящая корочка и сочные кусочки дали бы сто очков вперед моему лондонскому повару. В самом деле, я от души насладился бы едой, кабы не слишком низкий диван и столик – изгибаться приходилось так, что путь пищи до желудка занимал значительно больше времени, чем обычно, и постоянно хотелось встать и потянуться – удовольствие, чреватое опасностью для целости черепной коробки. Еще мне резануло ухо то, как отзывается Дэвис о свежем молоке и белом хлебе – их он находил невиданной роскошью, вполне допустимой, впрочем, для праздничного банкета в честь дорогого гостя.
– Нельзя же постоянно бегать на берег, – пояснил приятель в ответ на мой осторожный вопрос. – На Фризских островах я дней десять жил на ржаном хлебе.
– Да он, наверное, зачерствел?
– Как подошва, но все равно вкусно. Потом я приспособился печь лепешки. Соды у меня поначалу не было, пришлось использовать в качестве разрыхлителя «Фруктовую соль Ино»[15], но проку от нее оказалось мало. Что до молока, то всегда есть сгущенка. Надеюсь, ты ничего не имеешь против?
Решив сменить тему, я поинтересовался его планами.
– Немедленно выбираем якорь и идем по фиорду, – последовал ответ.
Мне хотелось выведать все более подробно, но Дэвис уже убежал, и голос его, доносившийся с бака, стал почти неразборчивым из-за стука швабры по палубе и плеска воды. Дальнейшие события развивались с головокружительной скоростью. В робком желании быть полезным я поднялся на палубу, но приятель вряд ли меня вообще замечал – разве как препятствие, возникшее ни с того ни с сего на пути обычной кипучей деятельности. Он, казалось, успевал везде и сразу: выбирал цепь, налегал на фалы, тянул снасти. На мою же долю выпала роль недотепы, хватающегося за работу, которая уже выполнена, – представления мои об управлении яхтами носили слишком расплывчатый и приблизительный характер, чтобы приносить пользу на практике. Вскоре якорь был выбран – что за здоровенный ржавый монстр! – и паруса взметнулись по мачтам. Дэвис мельтешил, скача между румпелем и кливер-шкотами, а «Дульчибелла», изящно поклонившись берегу, направилась к выходу из бухты. Налетавшие с берега порывы поначалу делали ее продвижение неровным, но вскоре мы оказались на просторе фиорда, и устойчивый бриз со стороны Фленсбурга заключил яхту в дружеские объятия. Она плавно рассекала синеву водной дороги, ставшей прологом пути к новому периоду моей жизни, краткому, но чреватому важными событиями, таящему испытания и опасности как для меня, так и для прочих.
Дэвис постепенно вернулся к привычной своей неторопливости, если не считать промежутков, когда он, закрепив румпель, бросался к какой-нибудь снасти на другом конце судна, действуя с такой скоростью, что все его движения казались одновременными. Один раз он исчез, чтобы через миг снова объявиться на палубе с картой, которую принялся изучать, не отрываясь от руля, ловко управляясь при этом с непокорными складками. Покорно ожидая его возвращения к действительности, я имел достаточно времени, чтобы оглядеться. В этом месте фиорд достигал в ширину около мили. На оставленном нами берегу вздымались высокие холмы, лишенные, однако, угрюмого величия: очертания их были плавными, нижняя часть склонов заросла зелеными лугами и густыми рощами. Виднелся небольшой городок, вокруг которого мостились живописные фермы. Противоположный берег, который я, прислонившись к люку и горько сожалея об отсутствии раскладного стульчика, обозревал в промежуток между планширом и нижней кромкой грота, выглядел более низменным и пустынным, хотя и радовал глаз живописностью и богатством красок. Пространные пастбища медленно поднимались, уступая место упорядоченным зеленым насаждениям, говорящим о присутствии поблизости крупного имения. Позади нас таял в дымке Фленсбург. Впереди обрисовывались холмы, иные ясно видимые, иные скрытые в тумане и теряющиеся вдали. И наконец, полоска воды, блистающая на расстоянии между склонами, намекала на близость моря, с маленьким заливчиком которого приходилось нам сейчас иметь дело. На всем лежала печать очарования, порождаемого смешением тихого деревенского пейзажа и неспешной человеческой деятельности с веянием части великого океана, омывающего все берега земного шара.
Присутствовало в этой сцене и иное очарование, и объяснялось оно тем, как именно наблюдал я ее: не как изнеженный пассажир «превосходной паровой яхты» или даже «мощной современной шхуны», как выражаются в рекламных объявлениях, но как обитатель крошечного суденышка сомнительной конструкции, лишенного малейших удобств. Оно проложило себе путь до этого далекого фиорда – я не подозревал еще, ценой каких трудов и опасностей, – и принесло единственного обитателя, рассказывающего о своем рискованном круизе с немногословностью и безразличием, будто речь шла о воскресной прогулке по рейду Саутгемптона.
Я обернулся и посмотрел на Дэвиса. Тот бросил карту и сидел, вернее, полулежал на палубе, держа бронзовой от загара рукой румпель, и пристально глядел вперед, лишь иногда обводя взором море и небо. Он все еще казался полностью погруженным в себя, и в течение одной или двух минут я рассматривал его лицо со вниманием, которого не уделял другу никогда за время нашего с ним знакомства. Лицо это всегда казалось мне невыразительным, как, впрочем, и сам Дэвис. Меня всегда немного раздражало не сходившее с его черт выражение открытости и некоторой детскости. Они сохранились и поныне, но теперь шоры упали с моих глаз, позволив подметить и другие качества. В резких линиях подбородка читались твердость вплоть до упорства и храбрость до безрассудства, в глазах появилось нечто взрослое и мудрое. Причудливые переходы от оживленной деятельности к замкнутости, которые отчасти потешали, но, скорее, бесили меня, словно отступили сейчас в тень сосредоточенной сдержанности, не холодной и эгоистичной, но странным образом располагающей благодаря парадоксальной своей искренности. Печать последней читалась во всем его облике. Тут мне стало не по себе: как я, считавший себя знатоком человеческой натуры, мог допустить такие очевидные ошибки? И сколько их еще будет? С облегчением, нимало не потерявшим от того, что оно осталось невысказанным, в мой ум закралось подозрение, что, как бы мало ни заслуживал я прощения, терпеливая судьба представляет прекрасный шанс загладить хотя бы один просчет. Однако сия капризная особа избрала для этого весьма извилистый путь, не говоря уж о злой иронии, ведь это Дэвис пригласил меня, хотя теперь и не выказывал ни малейшей во мне надобности, а можно сказать, даже выманил меня обманом, прекрасно зная, что я не подхожу для подобной жизни. И все-таки уловки и Дэвис – как-то плохо сочетается вместе.
Не исключено, что за унылый оборот, который приняли мои мысли, стоило винить неудобную позу. Ночной отдых и «утренняя ванна» не слишком подготовили меня к соприкосновению с острыми краями и твердой поверхностью. Тут Дэвис вдруг очнулся.
– Эге, да тебе, наверное, не очень удобно? Дать на что присесть? – С этими словами он переложил руль немного на ветер, выждал миг, словно подсчитывая пульс, бросил быстрый взгляд в ту же сторону, после чего нырнул вниз и через секунду вернулся, таща пару подушек.
От этих роскошеств во мне, как ни парадоксально, пробудились угрызения совести.
– А я могу хоть чем-нибудь помочь?
– О, не переживай, – откликнулся мой товарищ. – Мне казалось, тебе не помешает отдых. Ну разве не здорово идем? Слева по борту виднеется, надо полагать, Эккен. – Он вглядывался в берег через пространство под парусом. – Вон там, где деревья. Не хочешь взглянуть на карту?
И он протянул ее мне. Я не без труда управился с ней, потому как при малейшем ослаблении бдительности лист норовил свернуться в трубочку, словно часовая пружина. Я не дока по части карт, поэтому доверие, выказанное Дэвисом после изрядной порции небрежения, заставило меня занервничать.
– Видишь Фленсбург, да? – спросил приятель. – Мы сейчас здесь. – Он ткнул пальцем в довольно неопределенный район пестрящей значками карты. – С какой стороны надо нам огибать буй?
Я море-то от суши с трудом мог отличить, куда там разобраться с буем.
– Не забивай голову, – продолжил он. – Уверен, тут везде достаточно глубоко. Как понимаю, тут проходит фарватер для пароходов.
Через пару минут мы миновали означенный буй, причем явно с неправильной стороны, потому как под нами проступили вдруг неуютно отчетливые очертания водорослей и песчаной отмели. Но Дэвис только махнул рукой.
– Это не настоящее море, и шверт опускать нет надобности, – заметил он, смысл высказывания остался не совсем ясен. – Прелесть этих шлезвигских вод в том, что яхта таких размеров пройдет практически где угодно. Навигации почти не требуется, вот почему…
В этот момент под ногами у нас скорее почувствовался, чем послышался шорох.
– Мы сели на мель? – с завидным хладнокровием спросил я.
– О, она проскочила, – отозвался он, слегка нахмурившись.
«Дульчибелла» «проскочила», но этот эпизод послужил причиной для некоей наивной досады Дэвиса. Я склонен относить эту черту к мелким странностям характера моего друга. Он напрочь лишен назидательной педантичности, которую развивает яхтинг в людях, посвятивших себя этому занятию. Поручив полному профану в этих делах чтение карты, Дэвис получил прекрасный повод прочитать мне лекцию и нравоучение, но не воспользовался им. Так и его небрежение мной в течение утра объяснялось, скорее, привычкой и бессознательным стремлением все делать самому. С другой стороны, мастер своего дела, как уяснил я позже, опытный, находчивый и умелый моряк, Дэвис был подчас подвержен присущей исключительно яхтсменам-любителям неуверенности, выглядевшей наполовину смешно, наполовину глупо. Я склоняюсь к мысли, что оба этих качества проистекали из одного источника – его ненависти к любого рода самовозвеличению. Этим же объясняю я и факт, что Дэвис и «Дульчибелла» не придерживались столь свойственного яхтам и яхтсменам показного этикета: он никогда не щеголял в «морском костюме», она никогда не несла на мачте национального вымпела.
Мы обогнули низкий, поросший травой мыс, который я только что заметил.
– Надо делать фордевинд, – заявил Дэвис. – Просто подержи руль, хорошо?
И, не дожидаясь согласия, он уже налег на грота-шкот. Кое-какие навыки управления румпелем у меня имелись, но поворот фордевинд – маневр весьма сложный. Вряд ли хоть один яхтсмен удивился бы, услышав, как гик, воспользовавшись возможностью, с оглушительным грохотом перекидывается на другой борт и опутывает меня и румпель шкотом.
– Фордевинд с остановкой, – грустно прокомментировал Дэвис. – Ты еще не привык к «Дульчи». Она очень отзывчива на руле.
– Куда надо править-то? – ошалело спросил я.
– А, не беспокойся, я возьму румпель, – отозвался он.
Мне подумалось, что самое время прояснить ситуацию.
– Я полный профан по части хождения под парусом. Тебе придется многому меня научить, иначе в один прекрасный день я устрою тебе кораблекрушение. Понимаешь, когда я плавал, там всегда был экипаж…
– Экипаж! – раздалась полная царственного презрения реплика. – Ха, да удовольствие от этой затеи состоит именно в том, чтобы все делать самому.
– Вот-вот, сегодня утром я в этом убедился.
– Мне чертовски жаль! – Его отчаяние и раскаяние выглядели немного комично. – Но есть и еще кое-что, в чем ты можешь быть полезен, как никто другой.
Дэвис резко смолк.
Мы шли вдоль берега небольшой бухты, направляясь к расселине в низком берегу.
– Это залив Эккен, – сообщил Дэвис. – Давай заглянем в него.
И через пару минут мы уже дрейфовали по узкому проливчику, за которым открывалось большое водное пространство. По обоим берегам шли дома. Некоторые буквально нависали над водой, другие выходили к ней деревянной лестницей или миниатюрным причалом. Вьюнок и роза оплетали стены и крылечки. В затоне на одной стороне размещалась грубо сделанная пристань с несколькими маленькими шмаками[16], говорившая о наличии незначительного масштаба торговых интересов, тогда как небольшое уличное кафе с покосившимися беседками и усыпанными листьями столиками свидетельствовало о столь же незначительно развитой сфере туризма. Преобладающая цветовая гамма из оранжево-красных тонов частично объяснялась окраской деревянных стен домов и иных построек, частью относилась на счет кустарников и деревьев, которых успели уже коснуться проворные пальчики осени. Вот так и скользили мы по этой роскошной морской аллее, пока та не закончилась, влившись в широкое водное пространство, где наши паруса, жалобно трепетавшие на мачтах, не затихли удовлетворенно, наполнившись ветром.
– К повороту! – напряженно скомандовал Дэвис. – Нам предстоит пройти через это еще раз.
И мы повернули.
– Почему бы не бросить якорь и не задержаться здесь?! – возопил я, любуясь на берег, расстелившийся перед нами во всей красе.
– А, мы видели уже все, на что стоило поглядеть, да и нельзя упускать такой бриз.
Для Дэвиса всегда было пыткой чувствовать, как попутный ветер бесполезно утекает прочь, пока он стоит на якоре или торчит на берегу. Берег в его понимании являлся субстанцией второсортной, служащей всего лишь полезным приложением к морю в качестве источника необходимых припасов.
– Давай-ка перекусим, – предложил мой друг, когда мы продолжили путь по фиорду. Образы прохладительных напитков, аппетитных салатов, белоснежных салфеток и внимательных официантов с издевкой помахали мне в воображении.
– Язык в ящике под диванчиком правого борта, – раздался глас судьбы. – Пиво под настилом, в льялах[17]. Я пока обогну тот буй, а ты, если не против, приступай без меня.
Я уныло повиновался, однако спертый воздух и скрюченное положение помутили, должно быть, мои способности, потому как, открыв ящик под кушеткой и пошарив в нем рукой, я выудил липкий предмет, оказавшийся банкой с лаком. Я с возмущением запихнул ее назад и попробовал достать соседнюю, отчаянно сражаясь с креном яхты и острыми краями швертового колодца. В полутьме виднелась мешанина покрытых испариной и источающих аромат сырости жестянок различных размеров. Размокшие и расплывшиеся этикетки, напоминающие ободранные объявления на афишной тумбе, говорили о супах, карри, говядине, тушенке и прочих таящихся внутри деликатесах. Я выбрал банку с языком, вернул малоприятные ароматы в заточение, задвинув ящик, и отправился на поиски пива. Да, хранение в льялах, видимо, не вредит пиву, думал я, опустившись на колени и поднимая доски, но меня устроил бы более доступный и менее влажный винный погреб, нежели впадины между склизкими чушками балласта, откуда я выуживал бутылки. Я оглядел с таким трудом добытые и не слишком презентабельные яства, чувствуя легкое головокружение и полное отсутствие аппетита.
– Все достал? – крикнул Дэвис. – Открывалка висит на переборке, тарелки и ножи в буфете.
Я покорно исполнил долг. Ножи и тарелки встретили меня на полпути – буфет располагался с наветренной стороны и сейчас клонился книзу. Стоило открыть защелку, как посуда прыгнула прямо мне на грудь, после чего с грохотом и звоном посыпалась на пол.
– Такое часто случается, – послышалось сверху. – Не переживай! Небьющихся нет. Иду вниз, на помощь.
И он пришел, оставив «Дульчибеллу» следовать своему разумению.
– Пойду-ка лучше на палубу, – сказал я. – И какого дьявола нам было не пообедать с комфортом в Эккене, а не устраивать этот чертов пикник? И куда тем временем идет яхта? И как мы будем есть на этом наклонившемся столе? Я по локти в лаке и грязи и по колено в битой посуде. А теперь еще и в пиве!
– Тебе не стоило ставить его на стол при таком крене, – невозмутимо заявил Дэвис. – Но не волнуйся, оно стечет через щели в льялы.
«Пепел к пеплу, прах к праху», – подумалось мне.
– Ступай на палубу, а я тут все закончу, – распорядился мой товарищ.
Я пожалел о своей вспышке, но, честно говоря, удержаться было трудно.
– Держи прямо, – напутствовал меня Дэвис, и я, выбравшись из хаоса, отряхнув брюки и запятнав поручни трапа отпечатками перепачканных лаком ладоней, отвязал румпель и стал удерживать курс.
Мы обогнули крутой загиб фиорда и поплыли по широкому ровному пространству, каждую минуту открывавшему нам новую красоту. Виды были достаточно хороши, чтобы пролить бальзам умиротворения даже на самый лютый гнев. Слева виднелась деревушка с крышами из красной черепицы, справа у самого берега возвышались увитые плющом руины, рядом с которыми бродили по колено в воде задумчивые коровы. Впереди по обоим берегам тянулись полоски белого пляжа, к которому спускались поросшие лесом склоны, прерываемые тут и там глыбами красного песчаника или лощинами, щеголявшими изумрудной зеленью.
Я забыл о мелких бедах и наслаждался жизнью, мелкой дрожью румпеля и потоком воздуха, отражающимся от полинялого грота. А затем еще и обедом, которым угостил меня Дэвис.
Позже, когда ветер ослабел до ленивого дуновения, мой приятель озаботился установкой топселя и кливера, я же предавался послеобеденной неге, умом и телом впитывая эту сладостную, неведомую мне атмосферу, мечтательно провожая взором медленно проплывающие за бортом ледниковые валуны и полоски холодного белого песка.
Глава IV
Ретроспектива
– Просыпайся!
Я тер глаза и пытался сообразить, где оказался. Да еще в таком неудобном положении, поскольку даже при помощи подушек мне не удалось сделать себе постель из роз. Наступали уже сумерки, яхта стояла в спокойной, как зеркало, воде, подкрашенной последними лучами заходящего солнца. Перистые облака затянули большую часть неба, и в воздухе пахло дождем. Мы расположились, похоже, прямо посреди фиорда, оба берега которого виднелись вдали, постепенно тая в подступающей темноте. Впереди они расступались, и взгляд терялся в бесконечном сером просторе. Тишина была абсолютная.
– В Зондербург мы сегодня не попадем, – сообщил Дэвис.
– И что же делать? – спросил я, постепенно отходя от сна.
– А, бросим якорь где-нибудь тут. Мы у самого устья фиорда. Я отбуксирую яхту ближе к берегу, а ты бери румпель и правь туда.
Он махнул в сторону утесов и деревьев. Потом прыгнул в ялик, отдал конец, завел буксирный канат и потянул за собой упирающуюся «Дульчибеллу» энергичными ударами весел. Угрожающая перспектива серой бездны впереди наряду с естественным желанием обрести надежный приют на ночь снова заставила меня упасть духом. Во сне я видел Морвен-Лодж, веселился на пирушке после славной охоты на куропаток, любовался форелью, выныривающей из янтарной поверхности пруда, а тут…
– Тебя не затруднит бросить лот? – перекрыл всплески весел голос Дэвиса.
– А где он?
– Забудь, мы уже достаточно близко. Бросай… Сумеешь отдать якорь?
Я поспешил на нос и стал бестолково возиться с путами, удерживающими спящего монстра. Тут подоспел Дэвис и в два-три ловких движения пробудил его к жизни, отправив на дно в сопровождении грохочущей цепи.
– Здесь нам будет удобно, – сказал мой приятель.
– А разве это не открытая стоянка? – робко возразил я.
– Она открыта только с этого направления. Если начнет задувать оттуда, нам придется сниматься. Но, я думаю, это всего лишь дождь. Давай-ка уберем паруса.
Последовал очередной всплеск активности, к которому я по мере сил присоединился, угнетенный возможной перспективой сниматься – кто знает, как срочно? – да еще посреди ночи. Но sang froid[18] оказалось заразительным, да и маленькая каморка под палубой, ярко освещенная и источающая кулинарные ароматы, настоятельно зазывала в гости. Яхтинг без экипажа чудовищно стимулирует аппетит, как я убедился. Стейк не показался менее вкусным из-за того, что путешествовал некогда завернутым в газету, хотя некоторая толика дневных новостей растворилась среди поджаренной с луком картошки. Дэвис и впрямь расстарался, готовя первый ужин для своего гостя, и даже с потаенной гордостью извлек – не из могильника для пива, а из некоего более укромного местечка – бутылку немецкого шампанского. Мы выпили за успех «Дульчибеллы».
– Хотелось бы мне послушать про твой круиз из Англии, – сказал я. – Тебе довелось, надо полагать, пережить пару захватывающих приключений. Вот карты, давай пройдемся по ним.
– Сначала вымоем посуду, – отозвался Дэвис.
Он тактично познакомил меня с одним из немногих своих «непреложных правил»: нельзя закуривать или начинать послеобеденную беседу, пока не покончено с неприятной процедурой наведения порядка.
– Иначе никак нельзя, – глубокомысленно изрек он.
И только когда мы сели за сигары, целую коллекцию которых, собранную по разным портам – немецким, голландским и бельгийским, – Дэвис хранил в потрепанной коробке в багажной сетке, обещанный разговор начался.
– Я не мастак на описания, – развел руками мой друг. – Да и рассказывать-то особенно нечего. Мы, Моррисон и я, вышли из Дувра шестого августа и совершили удачный переход до Остенде.
– Там весело, наверное? – спросил я, пытаясь представить себе Остенде в августе.
– Весело? Вонючая дыра, иначе не скажешь. Нам пришлось проторчать там пару дней – при входе задели буй и снесли ватерштаг. Яхта лежала в маленьком грязном приливном доке, а на берегу заняться было совершенно нечем.
– Ну ладно. Что дальше?
– Мы отлично прогулялись до Восточной Шельды, но потом, как последние дураки, решили пройти через Голландию системой рек и каналов. В эстуарии было весело – приливы и берега там жуткие, но чем дальше в глубь материка, тем хуже. Скука страшенная. Платишь за шлюз, стукаешься бортами с шюйтами да тащишься на буксире по вонючим каналам – вот и все развлечения. Не провели ни одной мирной ночи вроде этой: постоянно швартуешься у мола или у буксирной тропы, то и дело мимо снуют люди, да еще мальчишки. Господи, я, наверное, никогда не забуду этих мальчишек! В Голландии их тучи, как комаров, и у всех нет другого занятия, как только закидывать камнями и грязью иностранные яхты.
– Считаешь, стране не хватает царя Ирода с его государственным подходом к детоубийству?
– Точно, клянусь Юпитером! Дело в том, что в таком полусухопутном путешествии не обойтись без команды: матросы могут приструнить юнцов да и работать на веслах. Такой же яхте, как наша, требуется открытое море или тихий участок побережья. Скажем, за Амстердамом.
– Там уж ты поплавал вволю, да? – перебил его я.
– Угу. Так вот, через Дордрехт добрались мы до Роттердама. Посмотреть там совершенно не на что, да еще постоянно снуют буксиры, готовые снести тебе каждую секунду нос. По реке Вехт мы дошли до Амстердама, а уж оттуда – слава тебе, Господи, какое облегчение – снова оказались в Северном море. Погода все держалась тихая и ровная, но там как раз заштормило, и до Зюйдер-Зее мы шли под тремя рифами.
Дэвис извлек с полки предмет, напоминающий старинный гроссбух, и зашелестел страницами.
– Это твой бортовой журнал? – поинтересовался я. – Хотелось бы почитать.
– А, он покажется тебе скучным. Если ты вообще сумеешь разобрать хоть что-нибудь, тут одни короткие заметки насчет ветров, курса и так далее. – Его пальцы стремительно перевернули несколько страниц. – Кстати, почему бы тебе самому не взяться за журнал? Я не умею описывать события, а ты сможешь.
– Я, в общем-то, не против.
– Дальше нам потребуется другая карта. – Он извлек другой рулон, еще более потрепанный и засаленный, чем первый. – Мы отлично провели время, обследуя Зюйдер-Зее, по крайней мере северную его часть, и воды близ этих островов. Это Фризские острова, они тянутся с запада на восток миль на сто двадцать. Как видишь, первые два из них, Тексел и Влеланд, находятся в Зюйдер-Зее, а остальные располагаются вдоль голландского и германского побережья[19].
– А что это? – спросил я, проводя пальцем по заштрихованным точками полосам, покрывающим большую часть поверхности карты.
Эта вторая была совсем нечитабельна: вместо четких очертаний берега и стройных рядов символов здесь царило смешение пересекающихся линий и пустых пространств.
– Это означает пески, – с восторгом пояснил Дэвис. – Ты даже не представляешь, что это за чудный край для прогулок под парусом! Там можно плавать день за днем и не повстречать ни души. Вот это каналы или проливы между отмелями – они очень неточно нанесены на карту. Она вообще почти бесполезна, но от этого только веселее. Никаких городов и гаваней, на каждом острове гнездится только деревушка-другая, где можно пополнить припасы.
– Острова эти выглядят несколько пустынными, – сказал я.
– Пустынными – это не то слово! По сути, они представляют собой не что иное, как гигантские песчаные отмели.
– А это разве не опасно?
– Ничуть. Понимаешь, именно поэтому у «Дульчибеллы» плоское дно и небольшая осадка. Мы можем пройти где угодно, и сесть на мель не страшно. Она идеально подходит для подобных задач, да и вид у нее вовсе не дурен, да? – спросил Дэвис несколько заискивающе.
Я, видимо, замешкался с ответом.
– Впрочем, мне на внешний вид наплевать, – отрезал мой собеседник, откинулся на стуле и погрузился в себя.
Сигара, которую он недавно разжег и лихорадочно раскуривал – привычка, свойственная ему в минуту волнения, – теперь совершенно погасла.
– Насчет посадки на мель, – не сдавался я. – Все-таки это не может быть совсем безопасно?
Дэвис выпрямился и потянулся за спичками.
– Может, если знаешь, где есть риск, а где нет. Но, как правило, выбирать не приходится. Эта карта может казаться простой («Ничего себе, простая!» – подумалось мне), но при половине прилива все эти банки скрываются под водой, острова и побережье едва видимы, настолько низок берег, и все выглядит совершенно одинаковым.
От столь живописной характеристики «чудного края для прогулок под парусом» у меня перехватило дух.
– Риск, разумеется, имеет место, – продолжал мой товарищ. – Место для якорной стоянки следует выбирать с осторожностью. Обычно можно очень уютно расположиться с подветра от берега, но в каналах течение очень сильное, а если налетит шквал…
– Неужели ты даже лоцмана не брал? – не вытерпел я.
– Лоцмана? Понимаешь, но вся прелесть в том… – Дэвис осекся. – Одного я, впрочем, взял. Не так давно, – продолжил он со странной улыбкой, которая почти тут же исчезла.
– Ну и? – подбодрил его я, чувствуя, что не все так просто.
– Ха! Он, ясное дело, посадил меня на мель. Будет наукой. Интересно, как там погода?
Дэвис встал, бросил взгляд на барометр, на часы и на полуприкрытый световой люк, причем все это одним любопытным круговым движением, после чего взбежал на пару ступенек по трапу и замер в таком положении на пару минут, высунув голову и плечи наружу.
Ветра слышно не было, но «Дульчибелла» начала ворочаться во сне, лениво покачиваясь на докатывающихся из моря волнах, и коротко подрагивала иногда, как человек, которого мучают кошмары.
– Что там? – окликнул я приятеля с софы. Вопрос пришлось повторить.
– Дождь надвигается, – доложил Дэвис, возвращаясь. – И ветер, похоже, тоже. Но здесь мы в безопасности. Непогода идет с зюйд-веста. Не пора ли ложиться?
– Мы еще не закончили с твоим круизом, – возразил я. – Закуривай трубку и продолжай рассказ.
– Ладно, – кивнул он с большей готовностью, чем я ожидал. – После Терсхеллинга – вот он, третий остров с запада, я неспешно направился к востоку.
– Ты?
– Ах, совсем забыл! К тому времени Моррисону пришлось меня покинуть. Мне очень его не хватало, но я тогда рассчитывал, что ко мне еще присоединится… Я вполне могу управляться и сам, но для такого плавания двое лучше, чем один. Шверт жутко тяжелый, мне, по сути, пришлось отказаться от его использования из страха поломки.
– Значит, после Терсхеллинга? – вернул я его в русло разговора.
– Да. Я миновал голландские острова: Амеланд, Схирмонниког, Роттум (такие чужестранные названия, не правда ли?). Некоторые я обходил со стороны моря, другие – со стороны материка. Времени потребовалось довольно много, но это отменный спорт и очень интересно. Карты ужасные, но мне удалось пройти большую часть каналов.
– Как понимаю, в этих водах ходят лишь мелкие местные суда? – предположил я. – Этим может объясняться несовершенство карт.
Считал ли Дэвис, что Адмиралтейство обязано думать об удобствах для таких отчаянно донкихотских корабликов, как «Дульчибелла» во всех их пытливых вылазках? Так или иначе, он взорвался.
– Все понятно, но подумай, какая это глупость! Впрочем, это долгая история, а я не намерен тебя утомлять. Говоря короче, поскольку нам уже на боковую пора, добрался я до Боркума – это первый среди немецких Фризских островов. – Дэвис ткнул в пятно, напоминающее по форме леденец, расположившийся среди хаоса песчаных отмелей. – Роттум – вот эта маленькая закорючка с одним-единственным домом на нем – это самый восточный из голландских островов, да и материковое побережье Нидерландов заканчивается тут, напротив, у реки Эмс.
Его палец обвел унылую впадину, испещренную названиями, наводящими на мысль о грязи, крушениях и серости.
– Когда это было? – спросил я.
– Девятого числа этого месяца.
– Ого, это же всего за две недели до того, как ты телеграфировал мне! Быстро же дошел ты до Фленсбурга. Но подожди, нам понадобится другая карта. Вот эта следующая?
– Да, но особой нужды в ней нет. Я продвинулся на восток еще совсем немного, до Нордерней, если быть точным, то есть третьего немецкого острова, а потом решил идти прямиком на Балтику. Мне всегда хотелось пройти тем же маршрутом, что и Найт на «Фолконе»[20]. Поэтому я совершил переход до реки Эйдер – вот тут, на побережье Западного Шлезвига, через реку и канал добрался до Киля на Балтийском море, потом рванул на север, до Фленсбурга. До твоего приезда я провел тут неделю. Вот и все. А теперь давай укладываться. Завтра нас ждет отменное плавание! – закончил Дэвис с несколько напускным оживлением и резко скатал карту.
Холодок, с которым отнесся он к идее поведать о своем круизе, чуть отступил при виде энтузиазма к середине повести, но резко дал о себе знать в столь скомканном завершении. Я не сомневался, что за этим кроется нечто большее, чем простое нежелание травить байки в «мужественно-коринфийском» стиле[21], который так не идет яхтсмену-любителю. И мне подумалось, что я знаю причину. Его переход от Фризских островов до Балтики оказался дурацкой авантюрой, насыщенной опасными происшествиями, о которых мой спутник предпочитал не упоминать. Быть может, он стыдился своего безрассудства или не хотел пугать меня, неопытного новичка, не влюбившегося еще в образ жизни на «Дульчибелле». Как вежливость, так и интересы побуждали Дэвиса подбадривать меня и укреплять уверенность. Придя к такому умозаключению, я ощутил к приятелю еще более сильную симпатию, но не мог устоять перед искушением поупираться еще немного.
– Я ведь полдня проспал, да и, сказать по правде, меня страшит идея отправляться в постель – это ведь целая эпопея. Послушай, ты проскочил через последнюю часть рассказа, как курьерский поезд. Этот переход с побережья Шлезвига через реку Эйдер – так вроде? – был, наверное, долгим?
– Ну, как тебе сказать? Миль семьдесят по прямой линии. – Голос Дэвиса доносился приглушенно – он наклонился, сметая с пола упавший пепел.
– По прямой? – переспросил я. – Значит, ты останавливался где-то?
– Один раз бросал якорь на ночь. Ха, это пустяковое расстояние при попутном ветре. Проклятие, совсем забыл законопатить шов над твоей койкой, а того гляди, дождь пойдет. Я все сделаю, а ты ложись спать.
Он исчез. Любопытство мое окончательно погасло при упоминании о щели – мысль о крупных каплях, с безжалостностью и неотвратимостью судьбы падающих на лоб, словно в камере пыток инквизиции, была достаточно пугающей, чтобы полностью вернуть меня к заботам дня насущного. Поэтому я полез на свое спальное место и обнаружил, что существенно поднаторел в этом упражнении, хотя и не набрал еще формы опытного акробата. Стук молотка прекратился, и едва успел я втиснуться на полку – то есть улечься на койке, хотел я сказать, – как появился Дэвис.
– Ну как, понравилось тебе тут? – спросил он, устроившись на своем месте и погасив свет.
– Если здесь много мест, столь же прекрасных, как те, которые мы видели сегодня, то, наверное, да. Но мне хотелось бы приставать время от времени к берегу и совершать прогулки. Конечно, тут многое зависит от погоды, как понимаю. Надеюсь, этот дождь (капли уже начали стучать по палубе) не означает, что лету пришел конец?
– А, плыть он не мешает, если, разумеется, не разойдется совсем, – отозвался мой приятель. – Тут полно укромных вод. Погода вскоре должна перемениться, зато утки прилетят. Чем холоднее и ненастнее, тем лучше для них.
Я как-то позабыл про уток и холод и, представив себе «Дульчибеллу» в качестве стрелковой платформы, подверженной всем ветрам, почувствовал, что симпатия моя к яхте, несколько выросшая за последнее время, стремительно пошла на убыль.
– Стрелять мне нравится, – сказал я. – Но яхтсмен из меня, боюсь, только для хорошей погоды. Я предпочел бы солнышко и красивые ландшафты.
– Ландшафты? – задумчиво переспросил Дэвис. – Знаешь, ты, быть может, сочтешь меня чудаком, но что, если я предложу тебе круиз у тех далеких Фризских островов? Что скажешь?
– Вряд ли это придется мне по вкусу! – не задумываясь и не смущаясь, отрезал я. – А на Балтике тебе разве не нравится? Судя по твоим же словам, контраст не в пользу Фризов. Ты там хоть одну другую яхту видел?
– Одну видел, – последовал ответ. – Спокойной ночи!
– Спокойной!
Глава V
Требуется северный ветер
Ничто не нарушило моего покоя той ночью – таковы приспособляемость юности и сила природы. Иногда до меня смутно долетали грохот дождя и завывания ветра, сопровождаемые рывками крохотного корпуса, а один раз мне показалось даже, что я вижу в мерцании свечи призрак Дэвиса. Облаченная в пижаму и высокие сапоги фигура разрослась в эффекте волшебного фонаря до гигантских размеров. Привидение вскарабкалось по трапу и исчезло, и передо мной замелькали другие сны.
Оглушительный рев, похожий на голос пятидесяти тромбонов, рывком привел меня в чувство. Музыкант, взъерошенный и улыбающийся, стоял рядом с койкой и с явно преступным намерением подносил к губам туманный горн[22].
– Так заведено у нас на «Дульчибелле» – заявил он, когда я приподнялся на локте. – Надеюсь, я не сильно тебя напугал?
– Нет, лучше уж mattinata[23], чем ледяной душ, – отозвался я, припомнив вчерашнее утро.
– Прекрасный день и чудесный ветер! – объявил мой друг.
Этим утром я чувствовал себя куда живее, чем в тот же час накануне. Члены снова повиновались мне, голова была ясной. Даже пронизывающий ветер не в силах оказался испортить наслаждение, когда я доплыл до соблазнительной полоски чистейшего песка и, погрузив в него жадные пальцы, стал любоваться прозрачно-голубым небом той волшебной, ангельской чистоты, которую в совершенстве можно узреть только в глубине льда. Взгляд снова взбежал наверх, к солнцу, ветру, шепоту листьев на берегу, потом опустился вниз, к неуклюжему якорю, одна из ржавых лап которого вонзалась в нежную плоть песчаной банки, делая совершенно бесплодными все попытки «Дульчибеллы» оторвать его от добычи. Потом плыву назад, следуя цепи, словно ржавой путеводной нити между небом и землей, к кокетливому носику нашей красавицы. И вот уже спешу к завтраку с аппетитом, который не в силах испортить даже консервированное молоко и изрядно зачерствевший хлеб. Часом позже мы принарядили «Дульчибеллу» для дороги и устремились в серую бездну, открывавшуюся нашим глазам вчера. Теперь она представляла собой величественное пространство покрытой рябью синей воды, обрамленное полукружием далеких холмов, каждая линия которых четко просматривалась в промытом дождем воздухе.
Не стану притворяться, что мне на самом деле доставило удовольствие первое плавание по большой воде, хоть я и очень старался. Я ощущал дрожь от ударов при встрече с волной, слышал упоительную песнь пены, уносящейся за подветренный борт, впитывал ослепительную гармонию моря и неба. Однако чувственное восприятие притуплялось нервозностью. Яхта казалась теперь куда меньше, чем в мирном замкнутом пространстве фиорда. Шуршание пены казалось слишком близким, гребни волн – слишком высокими. Новичок в плавании отчаянно цепляется за мысль о моряках – умелых, закаленных ребятах с их своеобразной манерой выражаться и одеваться, которым ведомы все здешние течения и ветра. И я не мог не ощущать недостаток этого профессионального компонента. Дэвис, полуобнявший свой драгоценный румпель, казался человеком, на свой лад вполне способным, и чувствовал себя в море, как дома. Но, посмотрев, как он одной рукой и (создавалось впечатление) одним глазом пытается управиться с осыпаемой брызгами полуразвернутой на палубе картой, сразу скажешь: любитель любителем. Мне вдруг припомнились все его несерьезные поступки: бессвязный разговор, недавний авантюрный переход на Балтику, стремление умолчать о чем-то.
– Монумент нигде не видишь? – спросил Дэвис вдруг, но прежде чем я успел ответить, продолжил: – Надо взять еще риф.
Бросив румпель, он стал раскуривать трубку, тогда как яхта резко привелась к ветру и в мгновение ока уже запрыгала на волнах, паруса оглушительно захлопали, гик дико дергался, а ветер обрушился на свою добычу с удвоенной силой. Жалящий дождь брызг и многоголосие звуков ошарашили меня, но Дэвис, подтянув шкот, успокоил взбесившийся кораблик, предоставив ему мужественно бороться с волнами, тогда как сам брал рифы, преспокойно попыхивая трубочкой. Часом позже перед нами открылся узкий залив Альс с древним тихим городком Зондербургом, мирно греющимся в лучах солнца на островном берегу, и громоздящимися над ним высотами Диббол. Кровавой памяти высотами – именно они стали сценой последней отчаянной обороны датчан в шестьдесят четвертом, когда пруссаки отторгли от Дании две богатые провинции.
– На якорь становиться рано, да и города я не люблю, – заявил Дэвис, когда одна из секций громыхающего понтонного моста открылась, предоставляя нам проход.
Но я твердо высказался за прогулку и добился уступок при условии, что попутно куплю припасов и вернусь вовремя, чтобы мы могли подыскать «спокойную стоянку». Никогда не ступал я на твердую землю с более странным чувством, объясняющимся отчасти облегчением после заточения в замкнутом пространстве, отчасти тем ощущением вольного странника, благодаря которому люди, выходящие в море на малых судах, находят привлекательным даже грязный угольный порт в Нортумбрии. А передо мной лежал удивительный Зондербург с широкими резными карнизами домов, чистеньких, но овеянных флером столетий. Зондербург похожих на викингов русоволосых мужчин и цветущих, непритязательной красоты женщин. Зондербург, сохранивший под тевтонской оболочкой свое датское ядро. Перейдя через мост, я взобрался на Диббол, испещренный памятниками героической обороны, и оттуда полюбовался на миниатюрный корпус и паутину снастей «Дульчибеллы», красующейся на серебристой ленте залива. Вид яхты напомнил про необходимость закупить провизию. Я поспешил назад, в старый квартал, и сторговался насчет яиц и хлеба с милой старушкой, розовощекой, словно debutante[24], которая из патриотических соображений сделала вид, что не понимает немецкого, и позвала здоровяка сына. Но его небогатый запас английского представлял собой рыбацкий сленг, почерпнутый на британском траулере, и был совершенно бесполезен для коммерческих целей.
К моему возвращению Дэвис приготовил чай, и, выпив его на палубе, мы продолжили путь по укромному заливу. Вопреки названию он был не шире обычной реки, и только облака переливающихся всеми цветами радуги медуз напоминали, что этот водоем является частью моря. В этих краях не бывает приливов и отливов, превращающих прибрежную зону в мешанину грязи. Перед нами открывались то галечный пляж, то скопление шелестящих листвой деревьев. Местами молодая береза, одетая в чулок ярко-зеленого мха, подбиралась к самому урезу воды и гордо возвышалась среди опавшей золотистой листвы и огненно-красных лишайников.
Дэвис был задумчив, но оживился, стоило мне завести разговор про датско-прусскую войну.
– Германия – чертовски великая держава, – заявил он. – Я иногда думаю: не предстоит ли нам воевать с ней?
Небольшой инцидент, случившийся после нашей постановки на якорь, усилил впечатление от этого разговора. В сумерках мы вползли в тихую заводь, настолько мелкую, что почти проскребли килем по каменистому дну. Напротив нас, на берегу, где располагается Альзен, четко виднелся на фоне закатного неба шпиль монумента, притаившегося в зеленой лощине.
– Что бы это могло быть? – поинтересовался я.
Переплыть на ту сторону – минутное дело на нашем ялике. Покончив с постановкой, мы взялись за весла. От глинистого пляжа поднимались заросли утесника и ежевики. Раздвигая ветви, мы добрались до стройного готического мемориала на постаменте из серого камня, украшенного барельефом с батальными сценами. Они изображали пруссаков, высаживающихся со шлюпок, и датчан, оказывающих отчаянное сопротивление. В гаснущем свете дня мы разобрали надпись: «Den bei dem Meeres-Uebergange und der Eroberung von Alsen am 29. Juni 1864 heldenmüthig gefallenen zum ehrenden Gedächtniss». – «Вечная память тем, кто героически погиб при высадке и штурме Альзена 29 июня 1864».
Мне известна была склонность немцев к увековечению – подобные мемориалы я видел на полях сражений в Эльзасе да и буквально несколько часов назад на Дибболе. Но было нечто в этой сцене – время или обстоятельства, – что придавало ей особую трогательность. Что до Дэвиса, то я едва узнал приятеля: когда тот оторвал глаза от надписи и обратил их на тропу, по которой мы поднялись от моря, они блестели и были полны слез.
– Шлюпочный десант, надо полагать, – произнес он, словно разговаривая сам с собой. – Можно себе представить, каково это. А что означает «хельденмютиг»?
– Героически.
– Heldenmüthig gefallenen… – вполголоса повторил мой друг, выделяя каждый слог. Он напомнил мне ученика, читающего про Ватерлоо.
Естественно, за ужином разговор зашел о войне. А война на море, как оказалось, представляла собой излюбленное чтение Дэвиса. До сей поры я не обращал внимания на мешанину на нашей книжной полке, но теперь подметил, что, помимо «Морского альманаха» и разрозненных томов «Наставлений по мореплаванию», там есть книжки о круизах малых яхт и несколько пухлых томов, с трудом впихнутых в ряд или лежащих сверху. С трудом разбирая надписи на корешках, я обнаружил «Жизнь Нельсона» Мэхэна, «Военно-морской ежегодник» Брасси и прочее.
– Жутко интересный предмет, – изрек Дэвис, извлекая том (разорванный надвое) мэхэновского «Влияния морской силы на историю».
Наш ужин остыл (замерз даже), пока мой друг иллюстрировал свою точку зрения цитатами с замусоленных страниц. Говорил он разумно, пусть и несколько сумбурно. Я владел темой в достаточной степени, чтобы играть роль вовлеченного слушателя, и, пусть даже голодный, не спешил прерывать приятеля.
– Я тебя не заболтал, а? – спросил вдруг Дэвис.
– Склонен полагать, что нет, – покачал я головой. – Но нам не помешает обратиться ненадолго к отбивным.
А те и впрямь взывали к тому, чтобы им уделили несколько минут, и вполне вознаградили нас за усилия. Однако пауза выбила Дэвиса из колеи. Я пытался вернуть его к теме нашей беседы, но приятель оставался сдержан и сух.
Захламленная книжная полка напомнила мне о бортовом журнале, и, когда Дэвис удалился с посудой на бак, я извлек гроссбух и стал перелистывать страницы. Он содержал массу коротких заметок, в которых превалировали загадочные аббревиатуры, явно касающиеся ветров, приливов, погоды и курса. Вояжу от Дувра до Остенде было отведено две строчки: «Вышли в 19.00, ветер WSW, умеренный; Западный Хиндер в 05.00, мористее всех отмелей Остенде в 11.00». Шельде посвящалась пара страниц, очень технических по содержанию и стаккато по стилю. Материковая Голландия удостоилась довольно презрительного очерка со сдержанным упоминанием о ветряных мельницах и прочем, зато с язвительными репликами о подростках, окраске и смраде каналов.
После Амстердама технические подробности вернулись, тон заметок оживился, а сами они по мере круиза вдоль Фризских островов становились все полнее. Автор явно находился в добром расположении духа, потому как здесь и там не жалел сил, расписывая природу мест, которые, насколько берусь судить, обескуражили бы даже самого словоохотливого писателя. Иногда проскальзывали упоминания о визитах на берег, чтобы достигнуть которого, требовалось пройти с полмили по песку, а также о разговорах с торговцами и рыбаками. Но такие увлекательные темы встречались редко. Большую часть журнала занимали каналы и отмели с наводящими тоску названиями, а также шверт, паруса, ветер, буи, боны, приливы и остановки на ночь. «Верпование» приятно разнообразило будни, а «посадка на грунт» являлась событием почти каждодневным.
Чтение было не из увлекательных, и я быстро перелистывал страницы. Меня больше всего интересовала последняя часть. Я дошел до места, где град коротких фраз, резких, как выстрелы, внезапно оборвался. Это случилось в конце записей от девятого сентября. Тот день, с «верпованием», маневрами среди бонов, был заполнен привычными деталями. Оттуда журнал перескакивал вдруг через три дня и продолжался так: «13 сент. Ветер WNW, свежий. Решил идти на Балтику. Отплыл в 04.00. Ветер восточный, умеренный. Курс вест-тень-зюйд; четыре узла; на NNO в пятнадцати милях Нордерпип в 09.30. Река Эйдер в 11.30». Такое перечисление голых фактов было совершенно привычным, когда дело касалось «переходов», и скорее загасило, чем воспламенило мое любопытство, подстегнутое уклончивостью Дэвиса прошлым вечером, если бы мне не бросилось в глаза, что прямо перед этим местом вырвана страница. Неровный край, оставшийся в корешке, был подрезан и почти не торчал, но сокрытие улик никогда не являлось сильной стороной моего друга, и даже ребенок догадался бы о том, что лист был удален и что записи, касающиеся вечера девятого сентября (где заканчивалась страница), вписывались все за один присест. Я хотел было уже позвать Дэвиса и в шутку пригрозить ему ответственностью за грубейшее нарушение морских законов в виде подлога судовых документов, но остановился. Не знаю, почему, быть может, понимал, что шутка затронет его за живое и не достигнет успеха. Деликатность не позволяла мне надавить на него, обвиняя в обмане и требуя признания, слишком легкой добычей он был. Да и, в конце концов, вся эта история и выеденного яйца не стоит. Я вернул журнал на полку, и единственным положительным результатом его изучения стал стимул самому вести дневник, для чего решено было использовать записную книжку.
Мы едва раскурили сигары, когда услышали голоса и плеск весел, сопровождавшиеся ударом по нашему корпусу, от которого Дэвис поморщился, как бывало всякий раз, когда дело касалось повреждений, наносимых его покраске.
– Guten Abend; wo fahren Sie hin?[25] – приветствовал нас мужской голос, едва мы выбрались на палубу.
Гостями оказались несколько жизнерадостных рыбаков, возвращающихся на свой шмак после визита в Зондербург. Короткий диалог укрепил их во мнении, что мы – чокнутые англичане, нуждающиеся в милосердии.
– Наведайтесь в Затруп, – посоветовали они. – Все шмаки там, за мысом. А в гостинице найдется добрый пунш.
Не имея ничего против, мы последовали за ними в своем ялике и, обогнув излучину залива, увидели огни деревушки, перед которой расположились на якоре несколько шмаков. Нас препроводили в гостиницу, где представили жуткому напитку по имени «кофейный пунш» и обширному кругу прокуренных мореходов, которые из вежливости говорили на немецком, но во всем остальном являлись датчанами. Дэвис сразу оказался среди них, как дома, причем вызвал у меня легкую зависть. Его немецкий был самого примитивного свойства, bizarre[26] в части словарного запаса и с комичным акцентом. Но то ли узы морского братства, то ли его собственное обаяние помогали им вполне понимать друг друга. Я на этом собрании смотрелся бледной тенью, хотя Дэвис, настойчиво величавший меня meiner Freund[27], изо всех сил пытался выставить меня в лучшем свете и втянуть в общий разговор. Но меня сразу раскусили как малопригодную амфибию. Мой приятель, обращавшийся ко мне иногда с просьбой подсказать то или иное слово, оживленно толковал о якорных стоянках и утках, особо, как я припоминаю теперь, упирая на шансы хорошо поохотиться в некоем Шляй-фиорде. Я был совершенно забыт, пока на помощь не пришел неразговорчивый субъект в очках и очень высокой шапке. Он оказался единственным среди присутствующих сухопутным. Некоторое время мой собеседник молча пыхал трубкой, потом спросил, не женат ли я, а если нет, то когда собираюсь. Учинив этот допрос, датчанин встал и вышел.
Когда мы в сопровождении всей честной компании покинули гостеприимную гостиницу, пробило уже одиннадцать. Наши друзья со шмака настаивали воспользоваться своей лодкой – руководствуясь исключительно чувством товарищества, потому как всем нам там места не хватило бы, – и не отпустили до тех пор, пока на дно нашего ялика не было вывалено ведро свежепойманной рыбы. Много раз пожав покрытые чешуей руки, мы погребли к «Дульчибелле», мирно спящей на ковре из подрагивающих на воде звезд.
Дэвис понюхал воздух и понаблюдал за верхушками деревьев, с которыми игрались легкие порывы ветра.
– По-прежнему зюйд-вест, – сказал он. – И снова будет дождь. Но ветер скоро зайдет к норду.
– А для нас это хорошо или плохо?
– Смотря куда пойдем, – неспешно отозвался мой приятель. – Я расспрашивал этих парней насчет утиной охоты. По их мнению, лучшим местом является Шляй-фиорд. Он примерно в пятнадцати милях к югу от Зондербурга, по пути к Килю. Рыбаки говорят, там в устье живет один лоцман, который все подскажет. Но особо они нас не обнадежили. Для хорошей охоты требуется северный ветер.
– Мне все равно, куда плыть, – заявил я, удивляясь собственным словам.
– Правда? – с неожиданной теплотой в голосе отозвался Дэвис. Потом тон его немного изменился. – Ты хочешь сказать, что тебе здесь вполне нравится?
Именно это я и имел в виду. Прежде чем спуститься в каюту, мы оба бросили взгляд на серый мемориал, тонкая резная арка которого виднелась в полутьме на берегу Альзена. Наступила ночь двадцать седьмого сентября, третья, проведенная мной на борту «Дульчибеллы».
Глава VI
Шляй-фиорд
Я не прошу извинения за то, что описал эти первые дни во всех подробностях. Стоит ли удивляться, что все ничтожные происшествия запечатлелись в моей памяти столь же ярко, как краски земли и моря в этом очаровательном уголке света. Всякий пустяк, живописный или не очень, имел, как оказалось, свое значение; всякий обрывок разговора давал нить; всякий перепад настроения таил в себе переход к хорошему или к дурному. Воистину как тонка была цепь событий, превративших развлекательное путешествие в одно из самых значительных предприятий в моей жизни.
Следующие два дня готовили эту перемену. В первый из них юго-западный ветер еще держался, и мы совершили вылазку в Аугустенбург-фиорд, чтобы, по выражению Дэвиса, «отработать навыки в условиях хорошей трепки». День оказался посвящен непромокаемым костюмам, тем грубым и вонючим балахонам, которые я нашел чудовищно неудобными. Да, для меня то был день проверки на прочность, потому как над фиордом то и дело проносились шквалы, а Дэвис по моей же настоятельной просьбе не давал мне роздыху. Мы лавировали взад и вперед, заходили в бухточки и выбирались оттуда, брали и отпускали рифы, то мокли под дождем, то парились на солнце, причем не имея даже минуты, чтобы перевести дух или посидеть-подумать.
Я сражался с непослушными снастями – это покорные рабы, если сумеешь подчинить их, и жестокие тираны, если верх берут они. Я ползал, прыгал, тянул, снуя по палубе, тогда как Дэвис, бесстрастный и безмятежный, руководил моими метаниями.
– А теперь прими руль и пытайся удерживать курс круто к ветру. Это самый захватывающий спорт на свете!
Так знакомился я с тонкостями обращения с этим деликатным судном: слезящиеся глаза, растертые руки и полуоцепеневшее сознание – для всего требовались предельные усилия. Тем временем Дэвис, следя за шкотами, попутно орал мне в ухо, открывая тайны великого мастерства. Так, морщинки на шкаторине грота и далекое ворчание голодного кливера – признаки того, что парусам не хватает ветра и надо идти полнее; значительный крен и раскачивание корпуса, ощущение ветра на щеке, а не на носу, увеличившийся угол полоскания флюгера на мачте – признаки излишнего ветра, говорящие, что яхта покорно сваливается под ветер, вместо того чтобы прокладывать себе путь в крутой бейдевинд. Он преподал мне тактику действий при встрече со шквалом и способ использовать свое преимущество, когда тот отступает, – если хочешь управиться с капризным румпелем, требуется железная рука в бархатной перчатке. Объяснил, какой набор парусов позволяет идти быстро, но не создает нагрузки на корпус. Все это и еще многое старался я постичь, не думая в ту минуту, стоят ли эти знания таких усилий, но твердо вознамерившись овладеть ими. Нечего и говорить, времени любоваться красотами у меня не осталось. Поросшие лесом бухточки, в которые мы заглядывали, давали краткую передышку от ветра и брызг, но мне приходилось заниматься освоением лота и шверта – две новые и весьма обременительные обязанности. Страсть Дэвиса плавать на пределе возможного оставалась ненасытной даже в этих спокойных, бесприливных водах.
– Подходим к берегу как можно ближе. Ты работаешь лотовым, – так гласила его формула.
И я делал неудачные забросы, допускал слабину линя, заливал в рукава целые реки воды – короче, совершал все мыслимые gaucheries[28], на которые обречены начинающие. Тем временем песок под килем проступал все явственнее, и Дэвис с досадой отворачивал и кричал:
– К повороту, шверт опустить!
Мне приходилось кубарем спускаться в каюту и сражаться с дьявольским механизмом – единственным из оборудования «Дульчибеллы» предметом, который я люто ненавидел от начала и до конца. У него имелась отвратительная привычка выбрасывать при опускании фонтаны воды, которые лились из-под крышки цепи на палубу каюты. Одной из моих обязанностей являлось затыкать щель ветошью, но даже так булькающий звук постоянно портил нам аппетит во время обеда. Через минуту заливчик оставался позади, наш штевень врезался в короткие резкие волны фиорда, и мы начинали пробиваться сквозь брызги и дождь к какому-нибудь мысу на противоположном берегу. О целях и конечном пункте, если таковые вообще имелись, я не имел ни малейшего представления. В северной оконечности фиорда незадолго перед поворотом Дэвис впал в задумчивость, в высшей степени меня раздражавшую, потому как я сидел на румпеле и, намереваясь избежать непроизвольного поворота фордевинд, как никогда, нуждался сейчас в добром наставнике. Словно продолжая спор с невидимым собеседником, он продолжал твердить, что нет смысла забираться дальше на север. В его доводах фигурировали утки, погода и карты, но я не вникал в за и против, и понял только то, что мы резко поворачиваем и начинаем «пробиваться» на юг. Закат застал нас в той же укромной заводи среди деревьев и лугов залива Альс, что и накануне, – какая восхитительная умиротворенность после треволнений дня! Разбитый и измотанный, я выскользнул из своих непромокаемых лат, и немного позже мы изведали (хотя и не в полной еще мере) то удивительное наслаждение, когда после трудного дня ты, чувствуя приятную усталость и благородное утомление, вкушаешь настоящую амброзию, пусть роль ее выполняет всего лишь говяжья тушенка, и пьешь нектар, пусть даже и извлеченный из земных плодов кофейных ягод, и вдыхаешь ароматы, о которых даже вечно счастливые боги Гомера не имели ни малейшего представления.
На следующее утро, тридцатого сентября, радостный клич «норд-вест дует!» заставил меня чуть свет тащиться, поеживаясь, на палубу, чтобы выбирать якорь и управляться с набухшими от дождя парусами. День выдался пасмурный и непогожий, но вполне приемлемый после вчерашней нестерпимой пытки. Мы вернулись к Зондербургу, а оттуда взяли курс на едва различимую бледно-зеленую линию в юго-западной части горизонта. Именно во время этого перехода произошел случай, который при всей его незначительности на многое открыл мне глаза.
Стая диких уток подрезала нам нос на небольшом расстоянии – треугольной формы фаланга вытянутых шей и хлопающих крыльев. Я правил, тогда как Дэвис прокладывал в каюте курс, но я сразу же позвал его, и разгорелся спор насчет наших шансов поохотиться. Дэвис оценивал их не слишком высоко.
– Те парни в Затрупе сильно сомневались, – сказал он. – Уток тут полно, но, насколько я понял, добыть их нездешним не так-то просто. Вся эта местность слишком уж цивилизованная, тут недостаточно дико, не правда ли?
Приятель поглядел на меня. Я затруднялся прийти к мнению. В некотором смысле здесь было как угодно, но только не дико, но вроде как хватало и укромных местечек для охоты на уток. Берег, вдоль которого мы шли, был обрамлен уединенными болотцами, хотя за ними простирались обширные поля. Разве не за прекрасными видами прибыли мы сюда? При растущем моем желании насладиться ими уклончивые отговорки Дэвиса только подливали масла в огонь. С какой стати, спрашивается, заставил он меня тащить сюда охотничье снаряжение, если даже пострелять нельзя?
– Плохая погода – вот что нужно для уток, – продолжал мой друг. – Но мне сдается, тут для них не лучшее место. Вот в Северном море, на Фризских островах…
Тон его сделался вкрадчивым и слегка просительным, и я сразу почувствовал, что в уме у него созрел план, о сути которого не так сложно догадаться.
Дэвис промямлил еще что-то насчет «дикости» и «никто тебе не помешает», и я не выдержал:
– Ты и в самом деле хочешь покинуть Балтику?
– А почему бы и нет? – откликнулся он, не отводя глаз от компаса.
– Опомнись, дружище! Октябрь на пороге, лето кончилось, и хорошая погода скоро прикажет долго жить. Мы одни на этой скорлупке, и это в период, когда яхты нашего размера уже встают на зиму. По счастью, мы оказываемся в идеальном краю для круизов, с широчайшим выбором безопасных фиордов и отличной перспективой пострелять уток, имей только желание. Стоит ли тратить время и рисковать (тут мне вспомнился вырванный из бортового журнала лист), предпринимая долгий вояж к этим твоим заброшенным островам в Северном море?
– Не такой уж он и долгий, – упрямо возразил Дэвис. – Часть маршрута проходит по каналу да и остальная вполне безопасна, если не забывать про осторожность. Воды там укромные, и вовсе нет необходимости…
– К чему ты клонишь? – прервал его я. – Мы ведь даже не попытались поохотиться здесь! Ты ведь не собираешься возвращаться на яхте в Англию осенью?
– В Англию? – пробормотал мой товарищ. – Мне как-то все равно.
Снова бросилась мне в глаза его уклончивость – нас словно разделяла стена, невидимая, но неодолимая. Да и что вообще я тут делаю? Заточен на этой паршивой крошечной яхте, вырванный из привычной среды, с человеком, который еще неделю назад ничего для меня не значил, а теперь представляет собой мучительную загадку. Подобно мгновенно действующему яду разлилось по моим жилам то презрительное разочарование, с которым я оставлял Лондон. Все, чему я учился и радовался недавно, было забыто, осталась только усталость. С языка моего рвалось уже слово, которое могло положить стремительный конец совместному нашему круизу, но Дэвис опередил меня:
– Мне чертовски жаль, я повел себя, как последняя скотина. Не знаю даже, о чем я думал. Ты, как настоящий друг, приезжаешь, чтобы составить мне компанию, а я, боюсь, оказался никудышным хозяином. Разумеется, лучшее место для прогулок на яхте сложно представить, я напрочь забыл про красивые пейзажи и все прочее. Давай поразведаем насчет уток. Ты прав, мы наверняка сумеем поохотиться, стоит только немного постараться. Мы, наверное, почти уже у цели. Да, вот вход. Примешь руль, а?
С ловкостью мартышки вскарабкавшись на мачту и устроившись на гафеле, он стал осматривать берег. Глядя на своего компаньона, я возблагодарил Провидение, что не успел заговорить, потому как никто не смог бы устоять перед такой вспышкой искренней и прямой натуры. И все же я не мог удержаться от мысли, что взаимопонимание между нами, принимая во внимание обстоятельства, происходит слишком уж медленно. Мне трудно было уловить, где заканчивается напускное и начинается он сам, да и Дэвис, полагаю, находился на той же стадии понимания меня самого. Если бы не эта неуверенность, я продолжил бы напирать, ибо не сомневался, что в поведении его кроется некая тайна, смысл которой ускользает от меня. Впрочем, свету скоро суждено было рассеять тьму.
Я не видел ни малейшего признака входа, о котором велась речь. И неудивительно, потому как ширина его составляла всего восемьдесят ярдов, хотя вел он в фиорд в добрых тридцать миль длиной. Как по волшебству, морская болтанка осталась позади, и нам неохотно открылся канал, петляющий среди болот и лугов, сначала узкий, потом расширяющийся до размеров озера, как в Эккене. Мы бросили якорь рядом с устьем, неподалеку от скопления судов, принадлежащих к типу, ставшему вскоре очень привычным для меня. Они представляли собой парусные баржи, вроде тех, что курсируют по Темзе: тупой нос, высокая корма, тонн пятьдесят водоизмещения, оснастка кетча, боковой шверт, простейшая оснастка и длинный наклонный бушприт. В дальнейшем я буду называть их галиотами. Если не считать кораблей, единственным признаком жизни служил белый домик – обиталище лоцмана, как подсказала нам карта, – приютившийся с северной стороны от входа в канал. Выпив чаю, мы отправились с визитом к лоцману. И обнаружили патриархального, расположившегося у пылающего очага, в окружении заботливой снохи и розовощеких внучат, дородного и крепкого субъекта, встретившего нас потоком приветствий на немецком, тут же – стоило ему разглядеть нас – уступившим место забавнейшему ломаному английскому, на котором старикан изъяснялся с непередаваемой важностью и гордыней. В промежутках между сердечными предложениями отведать пива и завываниями музыкальной шкатулки, заведенной в честь нашего прибытия, мы кое-как ухитрились представиться и сообщить о цели нашего прибытия. Нет нужды и говорить, меня раскусили сразу же и отодвинули в сторону, отведя роль слушателя.
– Да, да, отлично! – заявил лоцман. – Тут отшень много уток, но сначала мы выпить по стаканчик пива. А потом мы передвинуть ваш корабль, капитан, стоять там – не есть отшень хорошо.
Дэвис в панике вскочил, но был жестом возвращен к пиву.
– Потом мы будем выпить еще по стаканчик пива и будем говорить про утки… Нет, мы будем стрелять утки, так лутше! А потом выпить много-много стаканчик пива!
То был неожиданный поворот и весьма многообещающий. И намеченная программа была исполнена с точностью до пункта. После пива наш хозяин наскоро облачился при помощи снохи в теплые вязаные рукавицы, плащ, шарф и войлочный шлем, скрывавший все лицо, за исключением пары сверкающих глаз. Экипировавшись, лоцман направился к выходу и взревел, приказывая найти Ганса и ружье. В ответ на пороге объявился неуклюжий юнец со скуластым лицом и пробивающейся бородкой, застенчиво пожавший нам руки.
Всей компанией мы направились к причалу, где нас поджидал лоцман, напоминавший по виду клубок из грубой шерсти. Повинуясь его хриплым указаниям, мы передвинули «Дульчибеллу» на стоянку у противоположного берега, поближе к остальным судам. Захватив свои ружья, мы вернулись в домик, и последовал еще один перекус. Когда пришла пора выходить, опускались уже сумерки. Переправившись через полосу болот, мы заняли стратегические позиции вокруг застоялого пруда. Ганса отрядили в качестве загонщика, и результатом стали отличный селезень и три утки. Стоит признать, все они были сбиты из ружья лоцмана, – сказалась, быть может, сыновняя преданность Ганса, а быть может, эгоизм, с которым его родитель выбрал для себя лучшее место, но в любом случае охотничья вылазка наша увенчалась сокрушительным успехом. Оный был отпразднован музыкой и пивом, как и прежде, а лоцман тем временем, усадив на каждое колено по внуку, плел цветистые дифирамбы здешнему краю и своему райскому в нем существованию.
– Много пива, много мяса, много денег, много уток, – подытожил он свой обзор.
Как ни странно, но Дэвис, хоть и весьма оживленный, слушал как-то рассеянно. И это когда перед нами оказался столь бесценный оракул! Именно на мою долю выпало черпать полезную информацию: подробности о времени, погоде и наиболее удобных местах охоты, а также намеки на людей, с которыми неплохо бы установить добрые отношения. Не знаю, отвечали ли мне взаимностью, но я проникся к лоцману живейшей симпатией, поскольку он без устали твердил, что с круизами на этот год пора заканчивать. По его мнению, безумием с нашей стороны было так затягивать, а еще большим безумием – обитать «на таком маленьком суденышке», когда можно с комфортом жить на берегу, не испытывая нужды в пиве и музыке. Меня прямо подмывало поднять тему перехода на Северное море, просто чтобы посмотреть, как сникнет Дэвис под градом насмешек знающего человека. Но мне не хотелось портить приятелю жизнь теперь, когда все пошло так хорошо. Фризские острова казались экстравагантной шуткой, и я даже не вспоминал про них, когда мы, обменявшись прощальными уверениями в вечной дружбе с добрым лоцманом и его семьей, погребли к «Дульчибелле».
В тот вечер мы с Дэвисом ощущали себя добрыми друзьями. Впрочем, скорее, это относилось ко мне, потому как, ложась спать, я оставил его сидеть посасывающим пустую трубку и бесцельно листающим том Мэхэна. Проснувшись посреди ночи, я заметил, что койка Дэвиса пуста, а сам он сидит в темной каюте, погруженный в раздумья.
Глава VII
Пропавшая страница
Утром первого октября я проснулся с неприятным ощущением, что намеченный план дал трещину. Все объяснилось, когда я поднялся на палубу и обнаружил, что «Дульчибелла» окутана плотным, непроницаемым туманом, за которым не видно ничего, кроме призрачных очертаний галиота, стоящего на якоре рядом с нами. Он, должно быть, пришел ночью, потому как с вечера в такой близости не было никого. Тут я припомнил, что слышал сквозь сон грохот якорной цепи и приглушенные голоса.
– На сегодня, похоже, никакой надежды, – поежившись, сказал я Дэвису, который готовил завтрак.
– Да, пока туман не рассеется, – отозвался он с изрядной долей покорности в голосе.
Завтрак прошел в безрадостной атмосфере. Влага проникала даже внутрь каюты, оседая на палубе и переборках. Хотелось искупаться, но лезть в воду было страшно, скатерть в тусклом свете казалась грязнее, чем на самом деле, и вообще все вокруг раздражало. И бекон был поджарен не так, и отсутствие подставки под яйцо больше не выглядело забавным.
Дэвис только начал по своей привычке собирать посуду в пирамиду, чтобы помыть, как на палубе послышались шаги и на трапе появилась пара тяжелых морских сапог. Гадая, кто может быть нашим неожиданным визитером, мы увидели коротышку в непромокаемом плаще и зюйдвестке. Радостно улыбаясь Дэвису во весь заросший седой бородой рот, он шагнул в дверь каюты.
– Рад встрече, капитан, – негромко сказал наш гость по-немецки. – Куда идете на этот раз?
– Бартельс! – подпрыгнув, воскликнул Дэвис.
Двое ссутулившихся мужчин, молодой и пожилой, улыбнулись, словно отец и сын после долгой разлуки.
– Откуда вы? Кофе? Как «Йоханнес»? Это вы подошли ночью? Как я рад вас видеть!
Передавая разговор, я позволю себе избавить читателя от невразумительных выражений. Коротышка был затащен в глубь каюты и усажен на диванчик напротив меня.
– Возил яблоки в Каппельн, – степенно заявил шкипер. – Теперь иду в Киль, оттуда вернусь в Гамбург, к жене и детям. Это последний рейс в этом году. А вы, капитан, больше не одни? – Стянув с головы мокрую зюйдвестку, немец церемонно поклонился мне.
– Ах, совсем забыл! – вскричал Дэвис, опустившийся на одно колено в узком дверном проеме и целиком поглощенный нашим визитером. – Это майн фройнд герр Каррузерс. Каррузерс, это мой друг, шкипер Бартельс с галиота «Йоханнес».
Неужто не будет конца загадкам, которые преподносит мне Дэвис? Не успели с губ его сорваться последние слова, как вся живость схлынула с моего приятеля, он стал нервно переводить взор с меня на Бартельса, подобно человеку, который вынужденно или по оплошности знакомит двух людей, заведомо неприязненных друг другу.
Последовала пауза, в ходе которой Дэвис возился с чашками, разливая остывший кофе и колдуя над ним так, словно проводил некий химический эксперимент. Пробормотав что-то насчет необходимости вскипятить еще воды, он воспользовался предлогом и сбежал на бак. Я тогда не научился еще толком общаться с мореходами, но этот человечек оказался настоящим кладом для начинающего. Кроме того, стоило ему снять прорезиненный плащ, как он, облаченный в прекрасно сидящий ворсистый пиджак с воротником-шалькой, стал похож скорее на провинциального лавочника, чем на шкипера торгового судна. Мы обменялись несколькими дежурными фразами о тумане и его плавании прошлой ночью из Каппельна, оказавшегося небольшим городком милях в пятнадцати далее по фиорду.
Дэвис вынырнул на минуту с бака и рассыпался в таких преувеличенных любезностях, что я едва не онемел от удивления. Общие темы быстро истощились. Тогда мой визави, покровительственно улыбнулся мне, как прежде Дэвису.
– Это хорошо, что капитан больше не один, – доверительно начал он. – Это прекрасный молодой человек. О небо, что за удивительный молодой человек! Я люблю его, как сына! Но он слишком отважен, слишком безрассуден. Хорошо, что рядом с ним друг.
Я кивнул и рассмеялся, хотя испытывал что угодно, но только не веселье.
– Где вы познакомились? – поинтересовался я.
– В скверном месте, при скверной погоде, – серьезно ответил шкипер, но в глазах у него блеснул озорной огонек. – А он разве вам не рассказывал? Я подоспел как раз вовремя. Но нет, что я говорю? Он храбр, как лев, и ловок, как кошка, и ни за что не погиб бы. И все-таки это было скверное место и скверная…
– О чем вы тут, Бартельс? – прервал немца Дэвис, появляясь в каюте с кипящим чайником.
– Твой друг рассказывал мне о том, как вы познакомились, – ответил я за шкипера.
– О, Бартельс помог мне выпутаться из одной небольшой заварухи на Северном море. Так ведь, Бартельс?
– Так, пустяки, – отозвался тот. – Но Северное море – не место для вашей крошечной яхты, капитан. Я это много раз говорил. Как вам Фленсбург? Прекрасный город, не правда ли? Разыскали герра Кранка, плотника? Вижу, вы установили маленькую бизань-мачту? Руль – это ничего, но хорошо, что он выдержал до Эйдера. Ну и крепкий же он, этот ваш кораблик! Хвала Небесам за это, иначе было бы худо!
Немец хмыкнул и покачал головой, укоряя Дэвиса, как нашалившего ребенка. Этот разговор предоставлял мне долгожданный шанс. Я дожидался его завершения в твердом намерении повернуть в русло, которое раз и навсегда прольет свет на многочисленные загадки. Дэвис угощал гостя кофе и поддерживал вежливую беседу, но во всем его поведении угадывалось сильное желание остаться наедине со мной.
Суть высказываний маленького шкипера сводилась к родительскому увещеванию, что хотя здесь, на Остзее, как называют немцы Балтийское море, нам ничего и не угрожает, маленьким яхтам самое время подыскивать зимние квартиры. Сам он, к примеру, отправляется через Кильский канал в Гамбург, чтобы переждать холодную пору в тепле и уюте, как и подобает порядочному бюргеру, чего и нам желает. Закончил Бартельс тем, что пригласил навестить его на «Йоханнесе», после чего, учтиво распрощавшись, растаял в тумане. Проводив гостя до шлюпки, Дэвис, не промедлив ни секунды, вернулся и уселся напротив меня на софе.
– О чем это он тут говорил? – спросил я.
– Я все объясню, – сказал Дэвис. – Объясню все, от начала до конца. По отношению к тебе это будет своего рода исповедь. Вчера вечером я принял решение не говорить ничего, но, едва завидев Бартельса, понял, что все выплывет наружу. Правда тяжелым камнем лежит на моей душе, быть может, ты поможешь мне его снять. Но выбор за тобой.
– Выкладывай!
– Помнишь, что я рассказывал тебе про Фризские острова пару дней назад? Там случилось нечто, о чем я умолчал, когда вел речь о своем круизе.
– Это началось у острова Нордерней, – вставил я.
– Как ты догадался?
– Обманщик из тебя неважный. Но продолжай.
– Что ж, ты совершенно прав. Это случилось именно там девятого сентября. Кое о чем из своих занятий я рассказал, но вроде как ни разу не упоминал про свои расспросы среди местных жителей насчет утиной охоты. И вот один рыбак на Боркуме мне и говорит, что в их воды зашла большая парусная яхта, владелец которой, некий Долльман, слывет знатным охотником и может дать мне пару дельных советов. Ну и вот, нахожу я как-то вечером яхту, которую сразу узнал по описанию. Она принадлежит к классу так называемых яхт-барж, водоизмещение тонн пятьдесят – шестьдесят, построена специально для мелководья по чертежам голландского галиота, с боковым швертом, этим чудным округлым носом и обрубленной кормой. Очень похожа на те галиоты, что стоят сейчас рядом с нами. Ты наверняка видел подобные яхты в английских водах, только у нас они скопированы с темзенских барж. Выглядела та посудина как настоящий клипер и содержалась в порядке: вся в лаке, медяшка блестит. Я набрел на нее на закате, после целого дня скитаний по эстуарию Эмса. Яхта лежала…
– Погоди, давай возьмем карту, – вмешался я.
Дэвис нашел нужный лист и раскатал его на столе между нами, предварительно сдвинув в сторону скатерть и остатки завтрака. Так произошел первый из двух случаев, которым я был свидетель, когда мой друг откладывал ритуал мытья посуды, и это, как ничто, свидетельствовало о важности предстоящего разговора.
– Это здесь, – сказал Дэвис[29].
С новым, не ведомым прежде интересом всматривался я в длинную полосу узких островов, выстроившихся в линию вдоль побережья, а также скопление отмелей, банок и каналов между ними.
– Вот Нордерней. Кстати, в западной части острова имеется гавань, единственная настоящая гавань на всю цепь островов, как немецких, так и голландских, если не считать Терсхеллинга. Это также довольно крупный город, курорт, куда летом со всей Германии съезжаются отдыхающие. Так вот, «Медуза», так она называется, стояла на рейде Рифф-Гат, неся на мачте германский вымпел. Я бросил якорь в аккурат рядом с ней. Я собирался нанести визит ее владельцу, но едва не передумал – мне всегда как-то не по себе, когда дело касается этих щегольских яхт, да и немецкий мой оставляет желать лучшего. Но, пораскинув мозгами, все же решился. И вот после ужина, когда почти стемнело, сажусь я в свой ялик, окликаю вахтенного на «Медузе» и спрашиваю, не могу ли видеть хозяина. Моряк оказался парнем туповатым, и прошло немало времени, прежде чем я поднялся на борт, чувствуя себя все более неуютно. Через какое-то время появляется стюард и провожает меня вниз по трапу в салон, который по сравнению с нашим выглядел, как бы это сказать… ну, ты понимаешь… жутко помпезно: мягкие диваны, шелковые подушки и все такое. Ужин, похоже, только закончился, потому что со стола еще не убрали вина и фруктов. Герр Долльман сидел и потягивал свой кофе. Ну, я представляюсь ему…
– Погоди минутку, – перебил его я. – Как он выглядел?
– Ну, высокий такой, худощавый тип в вечернем костюме. Лет пятидесяти, насколько могу судить, с сединой в волосах и коротко подстриженной бородкой. Я не мастак описывать внешность. В глаза мне бросился высокий бугристый лоб, и было в нем еще нечто… Но полагаю, лучше мне для начала придерживаться голых фактов. Не думаю, что его обрадовало знакомство со мной, да и по-английски он не говорил, так что мне было страшно неловко. Но повод для визита у меня имелся, поэтому я собрался с силами и решил: отчего бы не попробовать?
Представив себе Дэвиса в его норфолкском пиджаке и мятых фланелевых брюках, пристающего с расспросами к надменному немцу в вечернем фраке, сидящему посреди «помпезного» салона, я едва не расхохотался.
– Он, похоже, сильно удивился, увидев меня, видимо, наблюдал за приходом «Дульчибеллы» и гадал, кто это может быть. Я как можно скорее завел речь про уток, но Долльман тут же меня оборвал, сказав, что дичи мне тут не найти. Я это отнес на счет охотничьей ревности – ну, ты понимаешь. Решив, что обратился не по адресу, я собрался было уносить ноги и покончить с этой неприятной беседой, как он вдруг оттаивает слегка, предлагает мне вина и заводит в очень дружеском тоне разговор. Ему-де очень интересно послушать о моем круизе и планах на будущее. В итоге мы засиделись допоздна, хотя я так и не освоился до конца у него в гостях. Долльман все время будто изучал меня, как будто имел дело с неким, не известным науке животным.
«Как я понимаю я этого немца!» – подумалось мне.
– Расстались мы на дружеской ноге, я приплыл назад и лег спать, намереваясь поутру двинуться дальше на восток. Но на рассвете поднимает меня матрос с посланием от Долльмана: нет ли у меня возражений, если он заглянет ко мне на завтрак? Меня это несколько обескуражило, но, не желая показаться грубым, я ответил согласием. Ну вот, Долльман погостил у меня, потом я у него… Ну и, короче, так я и простоял на якоре три дня.
Довольно неожиданный поворот.
– Как же вы проводили время? – поинтересовался я. Насколько я мог судить по судовому журналу, задержка где-либо на три дня представляла для Дэвиса событие исключительное.
– Ну, пару раз обедал или ужинал с ним. Точнее, с ними, – торопливо поправился мой друг. – С Долльманом плавала дочь. В вечер первого моего визита ее в салоне не было.
– И что она? – задал я вопрос, пока он не успел перевести разговор на другую тему.
– О, похоже, очень приятная девушка, – последовал осторожный ответ, нарочито бесстрастный. – В конечном итоге мы с «Медузой» продолжили путь в компании. Мне необходимо рассказать, пока хотя бы в нескольких словах, как так получилось. Идея принадлежала Долльману. Он сказал, что плывет в Гамбург, и предложил проводить «Дульчибеллу» до Эльбы, а оттуда я без труда пройду каналом через Брунсбюттель и далее в Киль, до Балтики. У меня определенных планов не было, хоть я и собирался продолжить свои исследования пространств между островами и побережьем на восток и тем самым добраться до Эльбы длинным путем. Долльман стал меня отговаривать, напирая на то, что шанса пострелять уток не представится, выдвинул и другие аргументы. Короче говоря, мы постановили идти вместе прямиком в Куксхафен, что на Эльбе. Если отплыть пораньше и с ветром повезет, эти шестьдесят миль можно проделать за день.
План созрел только к исходу третьего дня, двенадцатого сентября, – вел рассказ дальше Дэвис. – Я, кажется, упоминал, что после долгой полосы жары погода поменялась. Именно в тот самый день с веста стало здорово задувать, и барометр продолжал падать. Я, разумеется, предупредил Долльмана, что не смогу идти с ним, если будет сильно штормить, но он пророчил ясный день и обещал приятное плавание. Ну и, можно сказать, взял меня на слабо. Ну, ты понимаешь. Быть может, я представлял одиночное плавание делом более простым, чем на самом деле, хоть никогда и не стремился хвастать, мне такое претит, да и действительно нет никакой опасности, если соблюдать осторожность…
– О, конечно, – согласно закивал я.
– Короче, на следующее утро, в шесть часов, мы трогаемся в путь. Денек обещал быть еще тот, ветер с вест-норд-веста, но Долльман поднял паруса, и я последовал его примеру. Я беру два рифа, мы выходим в открытое море и ложимся на курс ост-норд-ост, вдоль побережья, к плавучему маяку в эстуарии Эльбы, что примерно в пятидесяти милях. Это здесь, смотри.
Он показал мне их курс на карте.
– Для его яхты, здоровенного надежного корыта, могучего, словно дом, плавание было сущим пустяком. Поначалу я легко поспевал за «Медузой». Работы у меня было по горло – при свежем ветре в бакштаг и сильном волнении, но при условии, что погода не ухудшится, я не сомневался в благоприятном исходе, хотя и клял себя болваном за то, что согласился. Все шло хорошо до Вангерога, последнего из островов, это здесь. А вот потом задуло по-настоящему. Я наполовину решился уже махнуть на все рукой и нырнуть в устье реки Яде, но не смог повернуть, поэтому лег в дрейф и взял последний риф.
Простые слова, произнесенные без всякой интонации. Но я, видевший, как выполняются эти операции при спокойном море, вздрогнул, представив себе эту картину в шторм.
– До той поры мы держались практически рядом, но, урезав паруса, я стал отставать, – рассказывал дальше Дэвис. – Беды в том не было. Курс я знал, таблицу приливов тоже и при всей непогоде не сомневался, что дойду до плавучего маяка. Да и изменения в план внести было уже не возможно. Эстуарий Везера находился с правого борта, но это подветренный берег, со скоплением не обозначенных отмелей, только взгляни на карту. Мы продолжали путь, и «Дульчибелла» держалась молодцом, хотя пару раз нас едва не захлестнуло через корму. Я находился здесь, милях в шести к юго-западу от маяка, когда вдруг увидел, что «Медуза» легла в дрейф, словно поджидая меня. Стоило нам поравняться, немецкая яхта снова легла на курс, и некоторое время мы шли параллельно. Долльман закрепил штурвал, перегнулся через борт и прокричал, очень медленно и отчетливо, чтобы я разобрал: «Следуйте за мной… Со стороны моря слишком большие волны… Срежем через пески… Сбережем шесть миль».
От румпеля я оторваться не мог, но сразу его понял, потому как проштудировал карту накануне[30]. Смотри, все пространство между Вангерогом и Эльбой загромождено песками. Огромным зазубренным языком они уходят от Куксхафена в северо-западном направлении миль на пятнадцать, заканчиваясь остроконечным мысом, который называется Шархерн. Чтобы войти в Эльбу с запада, требуется обогнуть этот язык, миновать плавучий маяк, который лежит у Шархерна, а потом проделать еще столько же миль в обратном направлении. Разумеется, крупные суда так и поступают. Но, как видишь, эти пески тут и там пересекаются каналами, очень мелкими и извилистыми, в точности как в районе Фризских островов. Обрати внимание на этот, который проходит через весь язык и ведет прямиком к Куксхафену. Он носит название Тельте[31]. У входа канал достигает мили в ширину, но потом разрезается надвое банкой Хоенхерн, затем мельчает и петляет, превращаясь под конец в простую приливную протоку, именуемую уже иначе. Это именно такой проход, который я с удовольствием исследовал бы в хороший день и при ветре с берега, но в одиночку в шторм было бы глупостью соваться в него, разве что в совсем отчаянной ситуации. Но, как уже говорилось, я сразу понял, что Долльман предлагает идти в Тельте и провести меня.
Мне эта идея не нравилась, потому что я люблю полагаться только на себя, и, как ни глупо звучит, моей гордости было больно признать, что море слишком бурное. Но через проход можно было срезать несколько миль и избежать болтанки у Шархерна, где сходятся два течения. Долльману я полностью доверял и решил, что сваляю дурака, если не воспользуюсь шансом. Но колебался. Однако в конце концов кивнул и помахал рукой. Вскоре «Медуза» изменила курс, и я последовал за ней. Ты спросил однажды, брал ли я лоцмана. Так вот, это был тот самый единственный раз.
Мой друг проговорил это с невыразимой горечью и откинулся на спинку дивана, словно выдерживая театральную паузу. Передо мной предстал вдруг совсем иной Дэвис – мужчина лет на пять старше, обуреваемый сильными эмоциями, страстями и одержимый целью. Это был человек совсем другого масштаба и слепленный из другого теста, нежели мне казалось. Как бы ни снедало меня любопытство, я почти покорно ждал, пока он механически набивал трубку и чиркал отказывающимися гореть спичками. Во мне крепло убеждение – чтобы ни крылось за этой загадкой, речь о чем-то серьезном. Усилием воли взяв себя в руки, Дэвис привстал и окинул круговым взглядом часы, барометр и люк. Потом продолжил рассказ:
– Вскоре мы подошли к месту, где, как я понимал, начинается Тельте. Отовсюду доносился грохот валов, разбивающихся о пески, но разглядеть их не удавалось. Как известно, по мере уменьшения глубины волны становятся короче и круче. Ветер еще усилился – настоящая буря, должен сказать.
Я держался в кильватере «Медузы» и вскоре, к разочарованию своему, заметил, что та быстро отрывается от меня. Мне казалось само собой разумеющимся, что, вызвавшись служить провожатым, Долльман убавит ход и подладится под «Дульчибеллу». Ему это было несложно – стоило послать матросов выбрать шкоты или потравить дирик-фал. Вместо этого он мчался во весь опор. Один раз в налетевшем дожде я вовсе потерял его из виду, потом заметил вдалеке, но мне хватало дел на румпеле и недосуг было выглядывать беглого лоцмана. До поры все шло хорошо, но мы быстро приближались к самой трудной части, где банка Хоенхерн блокирует путь и канал разделяется. Не знаю, может, на карте, где изгибы фарватера обозначены черным по белому, все это выглядит просто, но чужак, оказавшийся в месте, подобном этому, да еще без вех, не способен определить что-либо на глаз. Быть может, при отливе, когда все мели выходят на поверхность, да при ясной погоде он и сумеет шаг за шагом, пользуясь лотом и компасом, проложить дорогу. Я прекрасно понимал, что вот-вот увижу сплошную полосу прибоя впереди и по обоим бортам. Угадать путь при такой погоде – невозможно. Ты должен твердо знать, куда плыть. Или иметь лоцмана. У меня он был, да только вел свою игру.
Будь у меня на борту помощник, способный принять руль, я не чувствовал бы себя таким ослом. А так оставалось расхлебывать кашу и проклинать себя за отступление от железного правила. Я сделал именно то, чего никак нельзя допускать при одиночном плавании.
Когда опасность стала явной, было уже слишком поздно поворачивать и пробиваться в открытое море. Я уже глубоко залез в бутылочное горлышко среди песков, оказавшись зажатым между подветренным берегом и приливом, подхватившим «Дульчибеллу». Впрочем, прилив-то и вселял хотя бы призрак надежды. У меня часы в голове, и я знал, что сейчас две трети полной воды и еще часа два подъем будет продолжаться. Это означало, что отмели скрыты водой и заметить их сложнее, но одновременно есть возможность – если повезет найти удачное место – проплыть прямо над самыми худшими из них.
Дэвис гневно стукнул кулаком по столу.
– Эх! Мне ненавистна даже мысль полагаться вот так на слепой случай, словно я подвыпивший бездельник кокни[32], отправляющийся на морскую прогулку в праздничный день. В общем, как я и предвидел, вскоре появилась перегородившая весь горизонт стена прибоя. Она обступила меня со всех сторон, оглушая, словно раскаты грома. Когда я в последний раз заметил «Медузу», та неслась, как скаковая лошадь, готовящаяся перепрыгнуть барьер, и мне удалось, наскоро глянув на компас, взять приблизительный пеленг на нее. В этот самый миг мне почудилось, будто немецкая яхта привелась к ветру, показав мне борт, но налетевший шквал скрыл ее из вида, да и мне работы на румпеле привалило. «Медуза» растворилась в белой пелене, висящей над бурунами. Я, насколько мог, держался пеленга, но уже вышел из канала. Мне об этом подсказал цвет воды. По мере приближения к берегу я видел, что все кругом одинаково и нет ни намека на открытое пространство. В мои планы не входило сдаваться без боя, повинуясь скорее инстинкту нежели здравому рассуждению, я переложил руль под ветер в надежде пройти вдоль кромки прибоя и заметить проход. Встав лагом к волнам, «Дульчибелла» зарылась, а кливер разорвало в клочья, но зарифленный стаксель выдержал, и яхта выправилась. Я продолжал держаться, хоть и понимал, что развязка – дело нескольких минут: шверт был поднят, а без него нас катастрофически сносило в сторону берега.
Брызги наполовину ослепили меня, но вдруг я заметил впереди, за выступом, нечто похожее на прогал. Я привелся еще сильнее, чтобы обойти мель, но «Дульчи» не могла идти круче. На счет «раз!» она налетела на выступ, тяжело ударилась, проехала вперед, подпрыгнула снова и оказалась на чистой воде! Следующие несколько минут описать не берусь. Нас занесло в своего рода канал, но очень узкий, а со всех сторон кипел прибой. Судно практически не управлялось – при последнем толчке повредился руль. Я был похож на пьяницу, бегущего сломя голову по темной улице и стукающегося о каждый угол. Долго так тянуться не могло, и в итоге мы налетели на что-то и остановились, скребя и стукаясь корпусом. Вот так и закончилось мое маленькое плавание под руководством лоцмана.
Дэвис помолчал немного.
– Да, на деле настоящей опасности не было, – продолжил он. От этого привычного утверждения глаза мои широко распахнулись. – Я к тому, что этот удачный перелет в канал стал моим спасением. От того места я еще с милю пробирался в глубь песков, каждая гряда которых защищала меня от бури, словно волнолом. Вода, разумеется, кипела и была покрыта пеной, как в тазу для стирки, но сила моря иссякла. «Дульчи» стукалась о дно, но не сильно. Приближалась высшая точка прилива, а на половине отлива яхта будет лежать на обсохшей отмели.
В обычной ситуации я завел бы с помощью ялика верп, со следующим приливом прошел бы дальше и бросил бы якорь в месте, где мог остаться на плаву. Беда была в том, что я поранил руку, ялик вышел из строя, и это не говоря про поломку руля. Это произошло во время первого удара о песчаный гребень. Волна шла большая, и, когда мы стукнулись, ялик, болтавшийся на фалине за кормой, понесло на яхту и с силой шибануло о наветренный бакштаг. Я выставил руку, стараясь смягчить столкновение, и ее прижало к планширу. Лодку сильно повредило, поэтому верповаться я не мог…
Для меня все эти фразы звучали тарабарщиной, но прерывать его не хотелось.
– Рука же болела так, что я не мог даже управиться с парусами, которые хлопали и полоскали, как придется. Нужно еще было починить руль, а до ближайшего берега оставалось несколько миль. Разумеется, при улучшении погоды мне ничего не грозило, но если шторм продержится или усилится, пиши пропало. У всего есть пределы выносливости, и разное может случиться.
Так что появление Бартельса стало большой удачей. Его галиот стоял на якоре в миле от нас, в ответвлении канала. В промежутке между шквалами он заметил «Дульчибеллу» и отправился к нам на шлюпке, он и его парень. Ну и дьявольский рейс это, надо думать, был! Я обрадовался встрече… Хотя нет, вру: меня настолько обуяли злость, обида и стыд, что я, как последний глупец, стал отказываться от помощи. Тогда Бартельс просто взобрался на борт и начал работать. Он сущий демон в делах, этот коротышка. В полчаса убрал паруса, разнайтовил большой якорь, завел верп на пятьдесят саженей и вытянул яхту на чистую воду. Потом немцы отбуксировали ее дальше по каналу – это было под ветер, поэтому несложно – и поставили рядом со своим судном. К этому времени уже стемнело, поэтому я угостил их выпивкой и пожелал всего доброго. Буря ревела всю ночь, но стоянка была отличная, и якорь держал хорошо.
Вот и вся история, – подытожил Дэвис.
Поужинав, я долго размышлял о случившемся.
Глава VIII
Теория
Дэвис откинулся и выдохнул, будто до сих пор ощущал облегчение от счастливого избавления. Я последовал его примеру и ощутил то же самое облегчение. Карта, не удерживаемая пальцами, скаталась в рулон со щелчком, будто спрашивая: «Ну и что вы об этом думаете?» Передавая речь приятеля, я немного пригладил и упорядочил предложения, потому что разволновавшийся по ходу рассказа Дэвис выражался несколько сбивчиво и нескладно.
– А что же Долльман? – спросил я.
– Да, что же Долльман? – повторил Дэвис. – Не слишком много мыслей осенило меня той ночью. Все произошло так внезапно. Единственное, в чем я готов поклясться, так это что Долльман намеренно устроил мне западню. Кое-что пришло мне в голову в последующие несколько дней, о которых я расскажу в нескольких словах.
На следующее утро прибыл Бартельс. Хотя по-прежнему штормило, нам удалось передвинуть «Дульчибеллу» в место, на котором в полуденный отлив она безопасно обсохла, и нам удалось добраться до руля. Нижняя пластина крепления старнпоста была вывернута, но мы закрепили ее, как смогли. Обнаружились другие небольшие поломки, но ничего серьезного, а потерю кливера вообще не стоило принимать в расчет, так как у меня имелось два запасных. Ялик отремонтировать в тех условиях не представлялось возможным, поэтому я просто принайтовил его к палубе.
Бартельс, как выяснилось, вез яблоки из Бремена в Каппельн – в этом самом фиорде – и в канал в песках свернул, чтобы укрыться от непогоды. Его путь лежал на реку Эйдер, откуда, как я уже говорил, можно (через реку и канал) попасть на Балтийское море. Разумеется, маршрут через Эльбу, новым каналом кайзера Вильгельма, короче. Эйдерский маршрут уже устарел, но Бартельс пользовался им, чтобы завести яблоки в Теннинг, городок в устье Эйдера. Оба пути выводят на Балтику близ Киля. Я намеревался пройти Эльбой, но события предыдущего дня выбили меня из колеи. Я передумал – сейчас объясню, почему именно, – и решил плыть по Эйдеру вместе с «Йоханнесом». На следующий день на востоке начало проясняться, и я с легкостью обошел галиот, оставив его в Теннинге, и через три дня был уже на Балтике. Так что всего неделю спустя после тех событий я сошел на берег и телеграфировал тебе. Видишь ли, мне пришло в голову, что тот парень был шпионом.
Это умозаключение, высказанное совершенно спокойно и неожиданно, повергло меня в полное изумление. «Я телеграфировал тебе, потому что тот парень – шпион». Именно эту логическую цепочку тяжелее всего было усвоить в тот миг. На секунду я перенесся в холодную роскошь лондонского клуба и вспомнил себя, разбирающего загадки Дэвисовой депеши, которые я поспешно истолковал как предложение провести отпуск. Отпуск! Что же на самом деле кроется за ним? Сомнения и страхи, мрачные и смутные, как туман за световым люком, заклубились в моем воображении.
– Шпион? – недоуменно повторил я. – Что ты хочешь сказать? И почему телеграфировал мне? Какой шпион? Чей?
– Я поделюсь своими догадками, – ответил Дэвис. – Я не думаю, что «шпион» – верное слово, но это все равно нечто очень скверное.
Он намеренно выбросил меня на берег. Я не считаю себя подозрительным по натуре, но кое-что смыслю в лодках и море. Я знаю, он мог держаться рядом со мной, если бы хотел, и видел то место при низкой воде на следующий день. Взгляни еще раз на карту. Вот банка Хоенхерн, которая перекрыла мне дорогу[33]. Она разделяется на две части: западную и восточную. Вот канал Тельте разветвляется и огибает банку. Оба ответвления широкие и глубокие, как обычно бывает в этих водах. Так вот, я даже близко не подошел ни к одному из них. Когда я в последний раз видел Долльмана, тот правил словно прямиком на мель. Это было примерно в этой точке, то есть в миле от северного рукава канала и в двух от южного. Я следовал указаниям компаса, но не обнаружил ничего, только буруны. Как было мне пройти? Помогло везение. Я говорил лишь о двух каналах, идущих вокруг банки, один с севера, другой с юга. Но присмотрись и увидишь протоку, идущую прямо через середину Западного Хоенхерна – очень узкую, извилистую и такую маленькую, что я, просматривая накануне вечером карту, не обратил на нее внимания. В нее-то я и влетел так лихо, когда крался вдоль линии прибоя в отчаянной попытке выиграть время. Вслепую угодив в протоку, я пересек полосу чистой воды и оказался у края Восточного Хоенхерна, вот здесь. Это была удача, которой я не заслуживал. Размышляя о тех событиях, я прихожу к выводу: имелось сто шансов против одного, что меня выбросило бы где-нибудь на берег и в три минуты размолотило в щепы.
– Но как прошел Долльман? – спросил я.
– Тут более-менее все ясно, – отозвался мой приятель. – Заведя меня достаточно глубоко, немец резко свернул в северный канал. Помнишь мои слова, что, когда я видел «Медузу» в последний раз, мне показалось, будто она привелась к ветру и встала лагом? Еще одно счастливое совпадение. Долльман привелся, поворачивая к норду, так я решил в суматохе и, когда сам, в свою очередь, подошел к банке, тоже намеревался взять к северу. И вот тогда со мной было бы все кончено наверняка, потому что мне пришлось бы огибать добрую милю отмели, чтобы дойти до входа в северный канал, а за это время меня бы тысячу раз выбросило на берег. Но получилось так, что я повернул к зюйду.
– Почему?
– Деваться было некуда. Я шел правым галсом – гик перекинут на левый борт. Чтобы повернуть на север, требовалось совершить фордевинд, а я не мог пойти на такой риск. Дуло, как в преисподней, чуть что пойди не так, и я бы глазом моргнуть не успел, как оказался на берегу. Думать об этом было некогда, но я переложил руль и повернул на зюйд. И, сам того не зная, оказался всего в двух кабельтовых от входа в тот крошечный центральный проход. Так что вся эта история от начала и до конца построена на сплошном везении.
«Помноженном на отвагу», – поправил я про себя, пытаясь, насколько позволяли понятия сухопутного человека, вообразить себе всю эту пугающую картину. Что до достоверности, то карта и рассказ Дэвиса говорили достаточно красноречиво и все-таки убедили меня лишь наполовину. «Шпион», как обозвал Дэвис своего лоцмана, мог сам ошибиться в расчете курса, оторваться, не желая того, от сопровождаемого и спастись от гибели тоже чудом. Я поделился сомнениями, но Дэвис отмел их с порога.
– Подожди с выводами, пока не услышишь все, – сказал он. – Надо вернуться к первой нашей с ним встрече. Я упоминал, что в вечер знакомства Долльман был груб, как медведь, и холоден, как камень, а потом вдруг оттаял. Теперь я понимаю, что он меня прощупывал. Задача не представляла труда, потому как со времени отъезда Моррисона мне не встречалось ни единого джентльмена, с которым можно было бы поболтать о моем круизе, да и я считал этого немца хорошим охотником при всей его уклончивости по части уток. Я говорил свободно – ну, по крайней мере настолько, насколько позволял мой скверный немецкий. Рассказал про две недели путешествия, и как я облазал все проливы и острова, и как мне вообще все интересно, как волнуют меня загадки ветров и приливов, течений и прочего. Поделился и трудностями: ошибочно установленными вехами и совершенной непригодностью допотопных английских карт. Долльман направлял меня, и в свете последующих событий я понимаю цель его наводящих вопросов.
Назавтра и послезавтра мы провели вместе немало времени, та же самая история продолжалась. И тут речь зашла о моих планах на будущее. Моя идея, как уже говорилось, заключалась в том, чтобы исследовать германское побережье, как до того я исследовал голландское. Его же идея – о Боже, как ясно вижу я все сейчас! – состояла в том, чтобы избавиться от меня, напрочь отвадить от этой части суши. Вот почему он утверждал, что уток там нет. Вот почему расхваливал Балтику в качестве места для круизов и охотничьих угодий. И вот почему настаивал, чтобы мы вместе пошли прямиком к Эльбе. Хотел проследить, что я очистил территорию.
– И преуспел в этом.
– Да. Но, в конечном счете, все это лишь догадки. Я имею в виду, что не берусь предположить, когда именно он почел за лучшее утопить меня. На одну плохую погоду полагаться было глупо, хотя Долльман ее дождался и втянул меня в историю. Но, сгорая от желания любой ценой покончить со мной, ухватился за великолепный шанс, связанный с переходом к плавучему маяку. Думаю, идея осенила его внезапно, по наитию. Предоставь он меня самому себе, я бы выпутался, а вот предложение срезать путь – это было сильно. Все играло ему на руку: ветер, море, пески, прилив. Долльман наверняка уже похоронил меня.




















