Читать онлайн Бен-Гур бесплатно
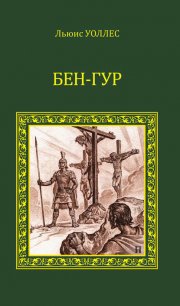
Печатается по изданию:
Л. Уоллес «Бен-Гур». – М.: изд. В. Н. Маракуева, 1893
© ООО «Издательство «Вече», 2011
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2016
***
Посвящается жене, подруге моей юности
Смотри, как издали, с высоты востока, путеводная звезда спешит пролить на мир свой лучезарный свет.
И миром дышала ночь, в которую Царь света явился на землю для царства мира. И ветерок, дивясь чуду, нежно лобзал воды, передавшие эту новую радостную весть тихим волнам океана, ныне вполне забывшим эти грезы, когда мирные птицы колышутся на их чарующих гребнях.
Джон МильтонГимн «Рождение Христа».
Об авторе
Льюис (Лью) Уоллес родился в городке Бруквиль (США, штат Индиана) 10 апреля 1827 года. Его отец был вице-губернатором Индианы, а мать – активисткой движения борьбы за права женщин. С детства Лью отличался беспокойным характером и склонностью к авантюрам. Окончив школу, он занялся изучением права. В это время (1846) вспыхнула Американо-мексиканская война, и юноша поступил в пехотный полк. Когда был заключен мир, Лью продолжил учебу и вскоре стал дипломированным юристом. В 1856 году его избирают в сенат штата Индиана. С начала Гражданской войны Уоллес вступает в союзную армию, где делает быструю карьеру, получив в свое распоряжение бригаду. В чине генерал-майора в 1864 году он командует войсками, обороняющими Вашингтон. Лью был участником сражений под Форт-Генри и под Форт-Донелсон, в битвах под Шилохом и под Монокаси. Впечатления от битвы при Шилохе впоследствии вошли в роман «Бен-Гур». Уоллес был членом трибунала, осудившего Джона Уилкса Бута, убийцу президента Линкольна. В ноябре 1865 года Лью Уоллес вышел в отставку, однако по поручению правительства следил за перемещениями оккупационных сил Франции в Мексике. Уоллес продолжает играть заметную роль в политике, – в частности, в 1878–1881 годах он был губернатором штата Нью-Мексико, имевшего тогда статус федеральной территории. В этой должности он навел порядок в мятежном округе Линкольн и утвердил приговор известному убийце Билли Киду. В 1881–1885 годах Уоллес занимал пост посланника в Оттоманской империи.
В начале 1870-х Лью Уоллес начинает заниматься литературной деятельностью. В 1873 году он издает повесть «Настоящий бог» о завоевании Мексики Кортесом. Книга имела успех, что побудило писателя продолжать творчество. Следом он создал свой главный роман – «Бен-Гур». По первоначальному замыслу это должна была быть небольшая новелла о трех евангельских волхвах, но после разговора с атеистом Робертом Ингерсоллом автор изменил свой замысел и решил написать настоящий роман, в котором доказывал историчность существования Иисуса Христа и показывал благотворное влияние христианской веры. Книга, благодаря сочетанию исторических, религиозных и авантюрных компонентов, имела огромный успех и была переведена на многие языки мира. В США «Бен-Гура» называют первым историческим бестселлером. В течение многих лет роман находился в числе самых продаваемых книг. В конце XIX в. чаще, чем «Бен-Гур», издавалась только Библия, по крайней мере в Америке. О популярности романа свидетельствуют такие факты: в Техасе именем Бен-Гура назван город, а в Калифорнии и Вирджинии – населенные пункты, не получившие пока статуса городов. Еще одно поселение Бен-Гур есть в Намибии. В Мексике, Бразилии, на Филиппинах появилось мужское имя Бен-Гур. Роман был четырежды экранизирован: в первый раз – в 1907 году вышла немая 15-минутная лента. Самый знаменитый кинофильм снял в 1959 году Уильям Уайлер. Эта картина получила одиннадцать Оскаров. В 2010 году история Бен-Гура стала сюжетом американского телевизионного сериала. После «Бен-Гура» Уоллес продолжал сочинять исторические книги, но они не получили и сотой доли успеха, доставшегося его лучшему роману.
В 1895–1898 годах в Кроуфордсвиле (штат Индиана), где поселился писатель, велась постройка «Кабинета генерала Уоллеса», позднее превращенного в общедоступный музей, получивший прозвище «Музея Бен-Гура». В 1896 году Лью Уоллес принимается за свою автобиографию, которая увидела свет через год после его смерти. Писатель ушел из жизни 15 февраля 1905 году. Его мраморная статуя с 1910 года находится в Американской национальной коллекции скульптур.
Избранная библиография Л. Уоллеса:
«Настоящий бог» (The Fair God: A Tale of the Conquest of Mexico, 1873)
«Бен-Гур» (Ben-Hur: A Tale of the Christ, 1880)
«Отрочество Христа» (The Boyhood of Christ, 1888)
«Падение Царьграда» (The Prince of India; or, Why Constantinople Fell, 1893)
«Автобиография» (Lew Wallace: An Autobiography, 1906)
Книга первая
Глава I. Джебель-Зублех
Горный хребет, простирающийся в длину более чем на пятьдесят миль, настолько узок, что причудливыми очертаниями своей вершины напоминает гусеницу, как бы ползущую с юга на север. Стоя на скалах его, белых и красных, лицом к восходу солнца, видишь пред собою только голую Аравийскую пустыню, в которой издавна и беспрепятственно господствуют восточные ветры, столь ненавистные иерихонским виноградарям. Подошва Джебель-Зублех, со стороны протекающего в том же направлении Евфрата, плотно прикрыта наносным песком, а сам хребет служит защитой для пастбищ Моавии и Аммона, идущих к западу, и некогда тоже представлявших собой пустыню.
Каждое местечко в южной и восточной Иудее араб окрестил своим именем. Старый Джебель, на его языке означает родоначальника бесчисленных канав, во всех направлениях пересекающих Римскую дорогу. Покрытая густым слоем пыли, дорога, по которой и теперь направляются пилигримы в Мекку и обратно, в наше время лишь жалкое подобие того, чем она была когда-то. Рытвины, пересекающие ее, по мере удаления от нее превращаются в глубокие канавы, которые во время дождей становятся руслами потоков, стремящихся в Иордан, или, вернее, в главное вместилище вод этой страны – Мертвое море.
В одной из таких канавок, или, точнее, в той, которая, достигнув самого края, извивается сначала в северо-восточном направлении, а на дальнейшем своем протяжении уже становится руслом реки Джеббока, – показался путешественник, очевидно, направлявшийся к плоскогорьям пустыни. Конечно, внимание читателя остановится прежде всего на самом путешественнике.
По наружности ему, пожалуй, можно было дать все сорок пять лет. Широкая борода, спускавшаяся на грудь, некогда совершенно черная, теперь была с проседью. Лицо его, напоминавшее своим цветом поджаренное кофейное зерно, почти совсем скрывалось под красной кефией (в то время дети пустыни так называли свой головной убор). По временам путник устремлял взор в пространство, и тогда можно было заметить, что глаза у него черные и большие. Одежду его составляло обычное на Востоке широкое платье. Но ближайшему знакомству с особенностями его костюма препятствовала миниатюрная палатка, умещавшаяся на спине большого, белого, одногорбого верблюда, на котором он ехал.
Едва ли уроженец Запада будет в состоянии когда-либо привыкнуть к тому впечатлению, которое овладевает им при первом взгляде на верблюда в полной упряжи, совсем навьюченного и готового начать свое путешествие по пустыне. Привычка, фатально низводящая на степень заурядного все другие новинки, здесь оказывается бессильной. Сколько бы путешествий ни пришлось совершить европейцу с караванами, сколько бы времени ни прожил он среди бедуинов, всегда и повсюду он невольно остановится пред верблюдом и уступит ему дорогу. Его очаровывает вовсе не величественная фигура, которую сама любовь не в силах наделить привлекательностью, и даже не движения его – неслышная поступь и широкие раскачивания взад и вперед, тут сама пустыня оказывает своему детищу такую же любезность, какую море кораблю. Всей силой своей таинственной необъятности она придает ему столь сильное обаяние, что, глядя на верблюда, мы невольно думаем о пустыне. В этом и заключается чудо. Знакомое нам животное, показавшееся из канавы, по праву могло требовать почестей, воздаваемых обыкновенно верблюдам: его масть и рост, ширина поступи, мускулистое туловище, длинная, легкая, изогнутая по-лебединому шея, голова с широким лбом и настолько суживающаяся книзу, что ее мог бы, пожалуй, обхватить женский браслет, его движения, медленный и эластичный шаг, уверенная и беззвучная поступь – все изобличало в нем сирийскую кровь, столь же древнюю, как времена Кира, и по цене не имеющую себе равной. На нем была надета обыкновенная уздечка, закрывающая лоб ярко-красной бахромой с медными висячими цепями на шее, из которых каждая заканчивалась позванивающим серебряным колокольчиком; ни поводов, ни ремня для вожатого у уздечки не было.
Приспособление, помещавшееся на его спине, представляло изобретение, которое у всякого другого народа, кроме восточного, доставило бы известность изобретателю. Оно состояло из двух деревянных ящиков, около четырех футов длины, прикрепленных таким образом, что они уравновешивали друг друга; внутренность их, обитая мягкой материей и устланная коврами, была так устроена, что давала возможность хозяину сидеть там или же полулежать. Над ящиками расстилался зеленый навес. Приспособление это прикреплялось широкими спинными и нагрудными ремнями и подпругами с помощью бесчисленных узлов и веревочек. Вот каким образом изобретательные сыны Востока защищали себя от неудобств путешествия в выжженной солнцем пустыне, в которую их одинаково гонят и нужда и удовольствие.
Когда дромадер выбрался из последней закраины канавы, граница Ель-Бенка, древнего Аммона, осталась позади путешественника. Было утро. Впереди поднималось солнце, на половину скрытое клочковатым туманом; перед путником расстилалась пустыня. Но это не было еще царство сыпучих песков, ожидавшее его дальше; пока он проезжал по местности, где растительность только что начинала исчезать, где там и сям виднелись груды гранита и бурых и серых камней вперемежку с тощими акациями и клочками верблюжьей травы. Дуб и терновник остались позади: они как будто бы вышли на границу посмотреть на безводную пустыню и, пораженные ужасом, окаменели на месте. Вот уже исчезли следы всякой дороги. Становится заметнее, что верблюд кем-то невидимо управляется: он то замедляет, то ускоряет свои шаги; голова его протянута по направлению к горизонту; широкими ноздрями он жадно глотает свежий воздух. Палатка покачивается на его спине, поднимаясь и опускаясь, подобно челноку в волнах. Иногда под ногами шуршит сухая листва, скопившаяся во встречных впадинах, тогда воздух наполняется особенным специфическим благоуханием. Жаворонки, каменки и скалистый воробей вспархивают перед ним, а белые куропатки со свистом и клокотаньем убегают прочь с дороги. Изредка лисица или гиена поднимаются и убегают, чтобы издали посмотреть на нарушителя их спокойствия. Направо поднимаются высоты Джебеля; жемчужно-серый туман, окутывающий их, постепенно окрашивается в пурпуровый цвет, чтобы затем под лучами солнца стать еще очаровательнее. Выше самых высоких вершин его парит коршун, распластав свои широкие крылья и все расширяя и расширяя круги своего полета. Но ничего этого не замечал путник, сидевший в зеленой палатке, – так по крайней мере казалось; глаза его были устремлены в одну точку; он словно дремал. И человек и животное как будто повиновались чужой воле.
В течение двух часов дромадер все шел вперед, рысью, мерно раскачиваясь и держась одного направления, к востоку. За все это время путешественник ни разу не переменил своей позы, ни разу не оглянулся по сторонам. В пустыне расстояние измеряется не милями и не лигами[1], а часами или упряжками: три с половиною мили составляют первую меру, пятнадцать, двадцать пять – вторую; но это меры для обыкновенных верблюдов. Для настоящего же рысистого сирийского бегуна сделать три лиги ничего не стоит: пущенный полным ходом, он обгоняет ветер. Благодаря быстрой езде, картина местности скоро изменяет свой характер. Джебель виднеется уже на западе в виде бледно-голубой ленты. Там и сям начинают возвышаться кучи песка, смешанного с глиной. Кое-где базальты – эти передовые отряды, выпущенные горами на защиту себя от врага пустыни, – поднимают вверх свои округленные вершины; главным же фоном пейзажа становится теперь песок, то мягкий и тонкий, как на морском берегу, то в виде груд маленьких округлых камешков, то имеющий изменчивый вид волн, то насыпанный буграми. Вместе с ландшафтом изменяется и состояние атмосферы. Высоко поднявшееся солнце, досыта напившись росой и туманом, согревало теперь ветерок, который, забираясь под навес, ласкался к путнику; всюду, куда только мог проникнуть глаз, солнце окрасило землю в нежный, молочно-белый цвет и зажгло все небо.
Уже более двух часов верблюд все шел и шел, нигде не останавливаясь и не делая ни малейшего уклонения от своего направления. Растительность совсем исчезла. Песок, настолько спаявшийся на поверхности, что при всяком шаге с треском рассыпался на мельчайшие частички, сохранял повсюду однообразную, волнистую поверхность. Джебеля уже более не видно, и вместе с ним исчезли и всякие границы пустыни. Тень, гнавшаяся прежде позади, теперь потянулась на север и даже немного забегала вперед. Все еще не видать никаких признаков привала. Поведение путника становилось более и более загадочным. Разумеется, никто не избирает пустыню местом для увеселительных прогулок. Жизненные и деловые цели прокладывают по ней свои тропы, вместо украшений усеянные костями погибших существ. Таковы дороги пустыни от колодца к колодцу, от пастбища к пастбищу. Сердце самого закоренелого шейха бьется сильнее, когда он очутится один на бесследном пути.
Можно думать, что и тот человек, с которым мы имеем сейчас дело, очутился здесь не в поисках удовольствий; не похоже и на то, чтоб он убегал от кого-нибудь: ни разу он не оглянулся назад. В положении беглеца чувства страха и любопытства – весьма естественны; но не заметно было, чтоб они владели им. Люди в одиночестве снисходят, до товарищества с низшими существами: собака делается тогда товарищем человека, лошадь – другом, и им расточают ласки и слова любви. Нашему верблюду пока на долю не выпало ничего подобного: не только ласки, но даже и приветливого слова.
Ровно в полдень, как будто бы по собственной воле, верблюд остановился, издал особенный жалостный крик, скорее стон, которым верблюды обыкновенно протестуют против излишне наваленной тяжести, обращая тем на себя внимание; после чего происходит желаемая остановка.
На этот крик хозяин зашевелился, словно он только что проснулся. Откинув наверх занавес, он взглянул на солнце и долго внимательно обозревал местность, в которой находился, как будто бы желая убедиться, та ли это именно местность, какая ему нужна. Видимо удовлетворившись обзором, он испустил глубокий вздох и несколько раз наклонил голову, как будто бы хотел сказать этим: «наконец-то, наконец!». Немного спустя он сложил руки на груди, поник головой и тихо молился. Исполнивши обряд, предписываемый религией, он приготовился слезать. Из его гортани вылетел звук, без сомнения, знакомый еще и любимый верблюдами Иова: «ikh, ikh», – тот звук, который служит для верблюда знаком становиться на колени. Немного поворчавши, животное плавно опустилось. Тогда ездок поставил ногу на его гибкую шею и затем спустился на песок.
Глава II. Встреча
Теперь можно было подробно разглядеть фигуру путника, замечательно хорошо сложенного. Он был невысокого роста, но мощен. Ослабивши шелковый шнурок, поддерживавший кефию на голове, легким движением он отбросил назад бахромчатые края ее; при этом открылось его лицо, строгое, почти черное, как у негра, широкий, низкий лоб, орлиный нос, несколько приподнятые кверху внешние углы глаз, прямые, густые и жесткие волосы с металлическим отливом, падавшие бесчисленными прядями на его плечи, – все это давало возможность сразу определить его происхождение. Такой наружностью отличались фараоны и последний из Птолемеев; таков был и Мозраим, родоначальник египетской расы. Путник был одет в рубашку из белой бумажной материи с узкими рукавами, открытую спереди и расширенную до пят, с шитьем на воротнике и груди; поверх рубашки был накинут темный шерстяной плащ, носящий теперь странное название ава; верхнее платье длиннобортное, с короткими рукавами, на полушелковой, полушерстяной подкладке, отделанное темно-желтым кантом. На его ногах были сандалии, державшиеся с помощью ремней из мягкой кожи. Рубашка охвачена поясом. Но особенно заслуживало внимания отсутствие всякого оружия: не было даже той крючковатой палки, которой обыкновенно понукают верблюдов, несмотря на то что он был одиноким в пустыне, служащей приютом для леопардов, львов и людей, не уступающих по своей свирепости этим последним. По этому, по крайней мере, можно было судить о мирных целях его путешествия или же приписать его необыкновенной смелости, если не особому незримому покровительству.
Путник чувствовал онемение в своих членах от длинного и утомительного путешествия; он потирал руки, постукивал ногами и ходил вокруг своего верного слуги, который, закрыв светлые глаза, с видимым удовольствием и не торопясь, пережевывал уже жвачку. Незнакомец часто останавливался, защищал глаза рукою и напряженно всматривался в пустыню. Каждый раз после этого лицо его омрачалось хотя и слегка, но все-таки настолько заметно, что проницательный наблюдатель догадывался о причине: путник, очевидно, ожидал товарищей, с которыми, быть может, он заранее уговорился здесь встретиться. Это, несомненно, должно подстрекнуть жгучее любопытство узнать, какие обстоятельства могли привлечь его в место, столь отдаленное от всяких следов цивилизации.
Как ни казался путешественник огорченным, но, видимо, он продолжал еще верить в прибытие товарищей. Сначала он подошел к носилкам и, вынувши из ящика (противоположного тому, в котором он сам сидел во время дороги) губку и маленький кувшинчик с водой, он промыл глаза, морду и ноздри верблюду. Потом достал оттуда же сверток материи, с белыми и красными полосами, связку палочек и массивную трость. Последняя оказалась довольно остроумным изобретением: она состояла из нескольких маленьких палочек, вложенных одна в другую, которые по соединении образовали один длинный шест, выше роста человеческого. Когда шест был воткнут в землю и к нему были прислонены палочки, незнакомец натянул на них материю и очутился у себя дома. Импровизированный дом, уступавший по размерам жилищу какого-нибудь шейха или эмира, во всех других отношениях, однако, был их точным снимком. Таким же точно порядком появился и ковер или четырехугольный кусок кошмы, которым и была завешена дверь палатки от солнца. Исполнив это, путник вышел из палатки и еще раз, с особенной тщательностью и нетерпением во взоре, осмотрел окрестности. Вдали шакал перебегал равнину, в небе орел направлял свой полет к Аравийскому заливу. Вот и все, что представилось его взору. Затем пустыня и расстилающееся над ней небо были безжизненны.
Он вернулся к верблюду, произнося тихим голосом следующие слова: «Мы с тобой далеко от дома, мой быстроногий скакун, очень далеко, но с нами Бог: будем терпеливы!» Звук его слов странно раздался в пустыне.
Потом он, наложив из седельной сумки бобов в торбу, привесил ее к морде верблюда; полюбовавшись наслаждением верного слуги, он отвернулся и снова стал смотреть на пески, успевшие уже раскалиться под вертикальными лучами солнца: над ними реяла теперь полупрозрачная дымка.
– Придут, – сказал он спокойно. – Тот, Кто руководил мною, укажет и им дорогу. Нужно приготовиться.
Из внутренних отделений своего дорожного помещения и из ивовой корзинки, составлявшей тоже часть его багажа, он вынул принадлежности еды: блюда, сотканные из пальмовых жилок, вино в маленьких кожаных кувшинах, вяленую и копченую баранину, бескостные shami, или сирийские гранаты, ель-шилибийские финики, замечательно вкусные, возросшие в nakhil, или в пальмовых рассадниках центральной Аравии, сыр, подобный Давидовым молочным ломтикам, и квашеный хлеб, изделие городской пекарни. Все это он принес и уставил на ковре под сенью палатки. В заключение всех этих приготовлений он положил возле припасов три кусочка шелковой материи, употребляющихся на Востоке среди изысканного общества для того, чтобы во время стола закрывать колени. Число этих кусочков указывало на то, сколько людей будут разделять трапезу.
Теперь все было готово. Он вышел наружу. Но что это? На востоке показался темный призрак. Путешественник остановился, как бы прикованный к месту; глаза его расширились; мороз пробежал по коже, как бы при виде чего-то сверхъестественного. Призрак рос и приближался, принимая все более определенные очертания. Еще немного и, уже ясно видимый, двигался по пустыне двойник его верблюда – высокий, белый дромадер с носилками, употребляющимися у путешественников в Индостане. Тогда, египтянин сложил руки на груди и, подняв глаза к небу, воскликнул с благоговением: «Один только Бог велик!»
Новый незнакомец наконец приблизился и остановился. Казалось, что и он тоже теперь только проснулся. Увидав верблюда, склонившегося на колени, палатку и человека, стоящего, как будто бы на молитве, у дверцы палатки, он сложил руки, склонил голову и произнес молитву про себя; после чего он соскочил на песок с шеи своего верблюда и пошел навстречу египтянину. Одно мгновение они смотрели друг на друга; затем обнялись, то есть каждый из них, положив свою правую руку на плечо другого (левая оставалась при этом в покое), подбородком прикоснулся к груди другого, сначала с правой стороны, а потом с левой.
– Мир тебе, служителю истинного Бога! – сказал незнакомец.
– Тебе, мой брат по истинной вере, мир и привет! – страстно ответил ему египтянин.
Пришелец был высокого роста и худощав, со впалыми глазами, с сединой в бороде и на голове; цвет кожи его – средний между коричневым и бронзовым. Он также был безоружен. Костюм на нем был индостанский: поверх шапочки шаль, сложенная широкими складками, образовала тюрбан; костюм его разнился от одежды египтянина только тем, что ава у него был короче, обнаруживая широкие шальвары, подвязанные внизу. Вместо сандалий ноги его были обуты в полутуфли из красной кожи и с остроконечными носками. За исключением туфель, костюм его с головы до ног был из белого полотна. Вид его был величавый, благородный и строгий. Висвамитра, величайший из героев аскетизма восточной Илиады, имел в нем совершеннейшего представителя. Его можно было бы назвать жизнью, напоенной мудростью Брамы, воплощением благочестия. Одни глаза выдавали его человеческое происхождение: когда он поднял свое лицо от груди египтянина, на них блестели слезы.
– Один только Бог велик! – воскликнул он, когда они кончили обниматься.
– И да будут благословенны служители Его! – отвечал египтянин, дивясь, что предсказание, скрывавшееся в его восклицании, так скоро сбывалось. – Смотри, – прибавил он, – вон и другой едет.
Оба они посмотрели на север, где можно было уже вполне различить третьего верблюда, такого же белого, как и у них.
Они ожидали, стоя вместе до тех пор, пока новый пришелец совсем не подъехал, не слез с верблюда и не направился к ним навстречу.
– Мир тебе, брат мой! – сказал он, обнимаясь с индусом.
Индус отвечал:
– Да будет воля Господня!
Последний из прибывших совсем не походил на своих друзей: его стан был тоньше; цвет лица белый; масса волнистых светлых волос украшала его не большую, но красиво очерченную голову; теплота, светившаяся в его темно-синих глазах, указывала на присутствие в нем тонкого ума и на сердечную натуру. Он был без шапки и безоружен. Под грациозными складками тирского плаща виднелась туника с короткими рукавами и низким воротником, подпоясанная на талии лентой; она едва достигала ему до колен, оставляя шею, руки и ноги его обнаженными. Ноги обуты в сандалии. Пятьдесят лет, а может быть и более, пронеслось над его головой, не оставив на нем, по-видимому, никакого следа, за исключением, быть может, того, что с летами вся фигура его приняла оттенок важности и он стал скупее на слова, тщательнее обдумывал то, что ему приходилось говорить. Физический же организм и чистота души остались неприкосновенными. Нет нужды говорить читателю о его происхождении; если не сам он, то, во всяком случае, предки его вышли из тенистых афинских рощ. Когда он отнял свою руку от египтянина, последний произнес дрожащим голосом: «Дух привел меня сюда первым; поэтому я считаю себя избранным быть слугой моих братьев. Палатка растянута, и хлеб готов для преломления. Дозвольте же мне исполнить свой долг».
Взяв каждого из них за руку, он повел их внутрь палатки, снял там с них сандалии, вымыл им ноги, полил воды на их руки и отер их полотном.
Затем, вымывши и свои руки, он сказал:
– Позаботимся о себе, братья, как этого требует наше служение; будем есть и подкрепимся для исполнения того, что нам предстоит в остаток дня. Во время же еды мы познакомимся друг с другом: узнаем, откуда каждый из нас пришел, кто он таков и как его зовут.
Он повел их за стол и усадил друг против друга. Одновременно все они нагнули головы, скрестили руки на груди и вслух, единогласно, произнесли следующую простую молитву: «Господи, Отче всех! все, что лежит пред нами, все принадлежит Тебе: приими наши благодарения и благослови нас, дабы мы могли продолжать творить волю Твою».
При последних словах они подняли глаза и с удивлением смотрели друг на друга: каждый из них говорил на языке, которого никто из остальных ни разу в жизни не слыхал, и, тем не менее, все они вполне понимали, что произнес каждый из них. Души их охватило вдохновенное волнение: по чуду они судили о присутствии Божества.
Глава III. Откровение афинянина
Говоря в духе того времени, я должен упомянуть, что только что описанная встреча произошла в 747 году по римскому летосчислению. Был декабрь, и во всех странах, лежащих к западу от Средиземного моря, царила зима. Путешествующие в это время года по пустыне не могут совершить долгого перехода без того, чтобы не почувствовать сильного голода, и компания, собравшаяся под маленькой палаткой, не составляла исключения из правила, – все проголодались и ели с удовольствием; после вина они разговорились.
– Ничего нет приятнее для путника, как слышать на чужбине свое имя, произнесенное языком друга, – сказал египтянин, почитаемый остальными старшим за столом. – Нам предстоит много дней провести вместе. Необходимо познакомиться. Я предложил бы уступить первое слово тому, кто приехал последним.
Тогда начал говорить грек, сначала медленно, как будто бы следя за своими словами:
– То, что мне нужно сказать вам, братья, так необычайно, что я колеблюсь, с чего начать и о чем, собственно, я должен говорить. Сам я еще не хорошо себя понимаю. Но я всего более уверен в том, что я исполню волю Творца и что служение это для меня равносильно состоянию постоянного восторга. Размышляя о деле, на которое я послан, я испытываю невыразимое ликование, из которого узнаю, что послан я Божьей волей.
Он умолк, не будучи в состоянии продолжать, и в то же время остальные, разделяя его волнение, потупили взоры, до сих пор пристально устремленные на него.
– Далеко отсюда, на западе, – возобновил он свою речь, – есть страна, память о которой никогда не может быть предана забвению, хотя бы только потому, что весь мир состоит у нее в долгу, и в неоплатном долгу, так как ничем нельзя отплатить за то, что доставляет нам высшие духовные наслаждения. Я не стану распространяться о науках, о философии, о красноречии, о поэзии, о военном искусстве: слава ее, которая навсегда будет сиять над ней, состоит в совершенстве литературы; через нее весь мир познал Того, Кого мы ищем и провозглашаем. Земля, о которой я говорю, – Греция. Меня зовут Гаспаром, я сын Клинфа, афинянина.
Мои соотечественники всецело предавались науке, и я наследовал ту же страсть. Случилось так, что двое из наших философов, величайшие из многих других, учили – один о душе, о том, что она в каждом человеке и что она бессмертна, другой – о едином истинном Боге. Из множества других тем, о которых препирались между собою школы, я остановился на этих двух, как на единственных достойных труда, потраченного на их разрешение, ибо я думал, что существует между Богом и душой отношение, которое пока неизвестно людям. Этим путем ум может строить всевозможные заключения до тех пор, пока не встретит глухой непроходимой стены; перед ней ему приходится остановиться и взывать о помощи. Я звал на помощь, но никто не ответил мне из-за стены. В отчаянии я порвал все с городами и со школами.
При этих словах изнуренное воздержанием лицо индуса осветилось величавой улыбкой одобрения.
– В северной части моей родины, в Фессалии, – продолжал рассказ грек, – есть гора, известная как местопребывание богов, где Зевс, почитаемый моими соотечественниками за наивысшего из богов, имеет свое жилище. Называется эта гора Олимпом. Я удалился туда, нашел пещеру на одном из холмов ее, там, где она поворачивает с запада на юго-восток; в ней я устроил себе жилище и жил там, предаваясь размышлениям, – нет, скорее не размышлениям, – я отдался всем своим существом страстному ожиданию того, о чем молит всякая живая душа, – ожиданию откровения. Веруя в невидимого Всевышнего Бога, я также не сомневался и в том, что Он, ради страстного искания моей души, сжалится надо мной и ответит мне.
– И Он ответил! – воскликнул индус, приподнявши свои руки с шелковой материи, лежавшей на складках его платья.
– Слушайте, братья мои, – продолжал грек, не без труда подавивши в себе волнение, – дверь моего пустынного жилища вела к одному из морских заливов, именно Фермейскому. Однажды я увидал человека, выброшенного с проплывавшего мимо корабля. Он приплыл к берегу. Приняв его к себе, я позаботился о нем. Он оказался иудеянином, сведущим в истории и в законах своей страны. От него-то я узнал, что Бог, которого я искал, существует на самом деле, что Он издавна был у них законодателем, был их руководителем и царем. Разве я не мог признать в этом откровения, которого так жаждала моя душа? Вера моя была не бесплодна: Бог ответил мне!
– Как Он отвечает и всем, кто с верою прибегает к Нему, – сказал индус.
– Но, увы, – прибавил египтянин, – как мало тех, кто в состоянии понять, когда Он им отвечает!
– Я не кончил еще, – продолжал грек, – посланный ко мне человек сказал мне больше. Он рассказал мне, что пророки, которым в годы, следовавшие за первым откровением, удалось видеть и беседовать с Богом, предсказывают Его новое пришествие на землю. Он сообщил мне имена этих пророков и приводил из священных книг их собственные слова. Он говорил мне дальше, что второе пришествие близко, что в Иерусалиме его ожидают с часу на час.
Грек остановился и, оживленное перед тем лицо его затуманилось.
После короткого промежутка он продолжал:
– Правда, человек этот говорил мне и о том, что как Бог, так и откровения, о которых он рассказывал, существовали только для одних евреев и что это и вперед так будет: «Тот, Кто должен прийти, придет за тем, чтобы стать царем Израиля». – Неужели же у Него нет ничего для остального мира? – спрашивал я. – «Ничего нет: мы – его избранный народ!» Вот что отвечал он мне с гордостью. Ответ не поколебал моей веры. Почему Бог стал бы ограничивать свою любовь и милосердие только одной страной и как будто даже одним только родом? Я посвятил себя размышлениям. Наконец мне удалось пробиться сквозь человеческую гордость и я убедился, что народ его был избран служить хранителем веры в живую истину, дабы мир мог наконец узнать ее и спастись через нее. Когда еврей ушел, я снова остался один и, очистив душу новыми молитвами, просил у Царя Небесного милости узреть Его, когда Он сойдет на землю, и послужить Ему. Однажды ночью, когда я сидел у входа своей пещеры, снова и снова пытаясь проникнуть в тайну моего существования, стремясь познать то, что может знать только один Бог, вдруг я увидел над морем, лежащим подо мною, или, лучше, в той темноте, которая показывала место моря, забрезжившуюся звезду. Она медленно поднималась, приближалась постепенно и остановилась над холмом, над входом в мою пещеру, так что весь свет от нее падаль мне в лицо. Я пал ниц, заснул и во сне слышал голос, говорящий мне: «Гаспар! вера твоя победила. Да будет благословение над тобою. С двумя другими, идущими с противоположных концов земли, ты узришь обещанного и будешь свидетельствовать в пользу него. Встань утром и иди им навстречу; веруй в Духа, который будет руководить тобою». – На утро я проснулся, и Дух, освещавший мое сознание, пребывал во мне. Я сбросил пустыннические одежды и оделся по-старому. Из потаенного местечка я вынул деньги, которые захватил с собою из города. Мимо проходил корабль. Я окликнул его; меня приняли на борт, высадили в Антиохии, где я купил верблюда и нужную упряжь. Садами и пальмовыми рассадниками, оживляющими пески Оронта, я шел на Эмезу, на Дамаск, на Бостру, на Филадельфию и, наконец, прибыл сюда. Вот, братья, вся моя история. Теперь позвольте мне выслушать вас.
Глава IV. Исповедь индуса
Египтянин и индус взглянули друг на друга; и первый знаком руки пригласить второго начать; поклонившись, тот сказал:
– Брат наш говорил хорошо. Не знаю, буду ли я в силах говорить так же мудро. – Он приостановился немного, подумал и затем продолжал: – Братья мои! зовите меня Мельхиором. Я обращаюсь к вам если и не на древнейшем из всех, то, во всяком случае, на первом письменном языке, я разумею язык санскритский. По рождению я индус. Мой народ первый возделывал поле знания, первый засевал его, первый украсил его. Каковы бы ни были грядущие судьбы человечества, веды не могут погибнуть, ибо они первоначальные источники религии и полезного знания. Они разделяются на Упа-Веды – откровение Брамы, трактующие о медицине, о искусстве стрельбы из лука, архитектуре, музыке и о шестидесяти четырех механических искусствах; Вед-Анги – откровение святых, – посвященные астрономии, грамматике, ропсодии, чарам, колдовству, религиозным обрядам и церемониям; Уп-Анги, написанный мудрым Виассой, в которых говорится о космогонии, хронологии и географии; в них же заключаются Ромояна н Магабгарата, героические поэмы, описывающие преемственность наших богов и полубогов. Таковы – о, братья! – великие Шастры, книги, написанные по священному вдохновению. Для меня они теперь не существуют, но они останутся навсегда в глазах человечества памятником гения моего народа. Они служили залогом быстрого прогресса. Но вы спросите, почему же этого не видно на самом деле. Увы! Эти книги сами преградили доступ ко всякому усовершенствованию. Под предлогом, что Творец озаботился обо всем, авторы их установили тот роковой принцип, что человек не должен стремиться ни к открытиям, ни к изобретениям, ибо небо уже снабдило его всем необходимым. Раз подобное положение сделалось священным законом, светильник индусского гения упал в колодезь, где он с тех пор и освещает только его узкие стены и горькие воды.
Братья мои! Не из тщеславия, как вы легко поймете, скажу я вам, что Шастры учат о всевышнем Боге, именуемом Брамой, а Пураны или священные поэмы Уи-Анги говорят нам о добродетели, о добрых делах и о душе. – Говорящий почтительно поклонился греку и продолжал: – Если мой брат дозволит, я скажу, что две великие идеи о Боге и о душе уже целые века поглощали все илы индусского народа, прежде чем соотечественники ознакомились с ними. В видах дальнейшего изложения, да будет мне позволено сказать здесь, что, по учению упомянутых мною священных книг, Брама рассматривается как тройственное божество – Брама, Вишна и Сива. По преданию, Брама считается родоначальником нашего племени, которое при дальнейшем ходе творения он разделил на четыре касты. Прежде он населил подземный мир и небо: затем сделал землю удобной для пребывания на ней земных духов. Тогда из его уст вышла браминская каста, наиболее подобная ему по возвышенности и благородству, единственная из всех каст, допущенная к изучению Вед, которые одновременно с нею слетели с его уст, вмещая в себе все полезные знания. Затем из рук его произошли кшатрии, или воины; из его груди, вместилища жизни, произошли ваисии – пастухи, землевладельцы, торговцы; из его ног, в знак низшего происхождения, вышли судры, или рабы, осужденные работать на людей остальных классов – служители, домашняя прислуга, земледельческие рабочие, ремесленники. Заметьте далее, что закон, родившийся одновременно с кастами, запрещал переход из одной касты в другую: брамин не мог стать членом другой касты. Нарушая законы своей касты, он становился вне касты, отщепенцем, чуждым людям всевозможных каст, и мог пользоваться сообществом только таких же отщепенцев, как и он сам.
При этих словах грек живо представил себе все последствия, вытекавшие из этого учения о разделении касты, и невольно воскликнул:
– Но ведь при таком состоянии, братья, какая великая должна существовать потребность в любящем Боге!
– Да, – прибавил египтянин, – в любящем Боге, подобном нашему.
Индус болезненно нахмурился; когда волнение его улеглось, он продолжал более мягким голосом:
– Я родился брамином. Вся моя жизнь, вследствие этого, до ее последнего акта, до самой смерти, должна была протекать сообразно заранее составленным предписаниям. Мой первый глоток пищи, дарование мне моего сложного имени, вынос меня на воздух в первые дни моей жизни с целью показать мне солнце, облечение меня тройным шнуром в знак моей принадлежности к дважды рожденным, возведение меня в первую степень – все это сопровождалось священными текстами и строго определенными церемониями. Я не мог ни гулять, ни есть, ни пить, ни спать, не боясь нарушить раз навсегда определенных правил. И каралась, о, братья, каралась моя душа! Сообразно степеням нарушены, моя душа должна была идти на одно из небес – небо Индры – низшее, или на небо Брамы – высшее; или же она изгонялась обратно на землю, дабы начать вести жизнь червя, мухи, рыбы или животного. Наградой за полное соблюдение всех правил было блаженство, или полное слияние с существом Брамы, которое не есть бытие в обыкновенном смысле этого слова, но не есть и абсолютное небытие.
Индус немного подумал и затем продолжал:
– Часть жизни, посвящаемая брамином на приобретение знаний, называется первой степенью. Когда я мог перейти во вторую, то есть жениться и стать домохозяином, я уже сомневался во всем, даже в самом Браме; я был еретик. Из глубины колодца я заметил мерцание света там, наверху, и я рвался душой посмотреть, откуда льется свет. Наконец-то, наконец-то, после скольких лет труда, я узрел божественный свет, познал, что главное начало жизни, элемент всякой религии, звено, соединяющее Бога с душой, – есть любовь!
Изнуренное лицо этого человека оживилось, и он сильно стиснул руки. Последовало молчание. Товарищи смотрели на него, и на глазах грека появились слезы. Наконец, Мельхиор возобновил рассказ.
– Только деятельная любовь дает счастье, вся прелесть ее в служении другим. Познав эту истину, я уже не мог оставаться брамином: Брама преисполнил мир всякими несправедливостями; судры взывали ко мне, равно как и бесчисленное множество изуверов и их жертв. Остров Лагор лежит при впадении священных вод Ганга в Индийский океан. Я удалился туда. Здесь, под сенью храма, воздвигнутого в честь мудрого Капилы, соединяя свои молитвы с молитвами, возносимыми его учениками, которых память о святом человеке привлекала к храму, я думал найти успокоение. Два раза, ежегодно, сюда направлялись пилигримы-индусы, с целью омыться в водах Ганга. Любовь моя росла при виде их бедности и заставляла меня говорить; но я делал неимоверные усилия над собою и молчал, ибо одно слово против Брамы, Троицы или Шастры было бы роковым для меня приговором: малейшего знака доброжелательства к отщепенцам браминской касты, которых мне нередко-таки приходилось видеть, еле-еле бредущих умирать, быть может, где-нибудь в пустыне на раскаленном песке, – посланного им благословения, поднесенной кружки воды, было бы вполне достаточно, чтобы стать таким же отщепенцем, чуждым семейству, родине, лишенным всяких прав, выброшенным из касты… Любовь победила! Я начал говорить в храме. Сначала я говорил ученикам – они меня выгнали из храма. Я говорил пилигримам – те прогнали меня с острова. Я пробовал проповедовать на больших дорогах – слушатели разбегались или же покушались на мою жизнь. Наконец, во всей Индии не было того угла, где бы я мог надеяться найти спокойствие или безопасность; я не мог искать убежища даже и среди отщепенцев: ибо, отринутые обществом, они все-таки оставались приверженцами Брамы. Я искал уединения, где бы мог я укрыться со своим горем ото всех, кроме Бога. Я прошел весь Ганг вплоть до его истоков, в глубь Гималаев. Когда я достиг Гурдварского перевала, там, где река катит еще свои девственные воды, я молился за мой народ, думая, что, наконец, нашел искомое уединение. Пробираясь по ущельям, по скалам, переправляясь через ледники, достигая хребтов, которые, казалось, вершинами своими касались звезд, я добрался до озера Ланг-Тсо, озера чудной красоты, дремлющего у подножья трех гигантов, с их вечно блестящими снежными коронами. Там, в центре земли; там у истоков Инда, Ганга и Брамапутры; там, у колыбели человеческого рода, откуда он рассеялся по всему миру, оставив памятником места, покинутого им, мать всех городов, Балку, там, где природа в своем первобытном величии влечет к себе мудреца и изгнанника, обещая уединение одному и безопасность другому, – там укрылся я и начал жить наедине с Богом, молясь, постясь и ожидая смерти.
Снова его голос стал тише, и костлявые руки болезненно сжались.
– Однажды ночью прогуливался я по берегам озера, взывая к безмолвной тишине: «Когда же придешь Ты, о, Боже! Когда, наконец, потребуешь Ты своего раба? Неужели же нет искупления?» Внезапно забрезжился над водою свет. Скоро ясно обрисовалась звезда; она подвигалась ко мне и остановилась у меня над головой. Я был поражен ее необычайной яркостью. Пав на землю, я услышал сладостный голос, говоривший мне: «Твоя любовь победила. Да будет благословение над тобою, сын Индии! Искупление недалеко. С двумя другими, которые придут с отдаленных концов земли, ты узришь Искупителя и будешь свидетелем его пришествия. Восстань утром и иди им навстречу; возложи веру свою на Духа: Он будет твоим руководителем». С того времени свет не покидал меня; в нем я видел проявление невидимого Духа. Утром я пошел обратно в мир, покинутый мною. По дороге, в расщелине горы я нашел ценный камень и продал его в Гурдваре. Через Лагорр, Кабул и Иезду я прибыл в Испагань. Там я купил верблюда и оттуда, не дожидаясь караванов, был доставлен в Багдад. Я путешествовал один, не испытывая ни малейших опасений, ибо Дух Святой был со мной; со мной Он и теперь. Какой чести удостоились мы, братья! Мы идем узреть Искупителя, говорить с Ним, служить Ему! – Я кончил.
Глава V. Рассказ египтянина
Грек выразил живейшую радость, приветствуя рассказчика; после чего египтянин, со свойственной его народу важностью, произнес:
– Приветствую тебя, брат мой! Ты много страдал, и я радуюсь твоему торжеству. Если вы оба удостоите теперь выслушать меня, я расскажу вам, кто я и каким образом был призван. Подождите немного.
Он вышел посмотреть на верблюдов и, возвратившись, занял свое место.
– Ваши слова, братья мои, – начал он в виде предисловия, – были от Духа, и Он позволил мне проникнуть в смысл их. Каждый из вас, в отдельности, говорил о своей родине. В этом я вижу великий смысл, который и постараюсь выяснить. Но предварительно позвольте мне сказать несколько слов о себе и о своем народе. Я Валтасар, египтянин.
Последние слова он произнес спокойно, но с таким достоинством, что оба слушателя поклонились ему.
– Мое племя отличается от других многими особенностями, но я укажу вам только на одну. История начинается с нас. Мы, верные, начали записывать события в их последовательности. Таким образом, у нас не существует преданий, и вместо вымысла мы предлагаем то, что достоверно. На фасадах дворцов и храмов, на обелисках, на внутренних стенах гробниц мы записали имена и деяния наших царей. Нежному папирусу мы вверили мудрость наших философов и тайны нашей религии, за исключением, впрочем, одной, о которой я скажу здесь. Старее Веды Пара-Брамы, старее Уи-Анги, Мельхиор, старее песен Гомера или метафизики Платона, – мой Каспар! – старее священных книг и царей китайского народа, Сидарты, сына прекрасной Маи, старее Моисеева Исхода, старее всех человеческих записей – запись о Менесе, нашем первом царе. Помолчав немного, он с нежностью остановил свои большие глаза на греке и сказал: – Скажи мне, Гаспар, кто были учителями учителей Эллады во времена юности?
Грек улыбнулся и поклонился ему.
– Благодаря этим записям, – продолжал Валтасар, – мы узнали, что наши отцы пришли с востока, от истоков трех священных рек, из древнего Ирана, о котором говорил здесь Мельхиор; что оттуда они занесли к нам историю мира до потопа и описание самого потопа, рассказанное арийцам сыновьями Ноя; что они учили о Боге, как о Создателе и Причине всех причин и о душе, что она бессмертна подобно Богу. Если нам удастся благополучно довести до конца то дело, которое мы призваны исполнить, я вас приглашу к себе и покажу вам священное книгохранилище наших жрецов, и обращу ваше внимание на Книгу Мертвых, из которой можно узнать о тех странствиях, которые, по смерти тела, предстоит совершать душе до судного дня. Идеи о Боге и о бессмертной душе родились у Мизраима еще до странствования по пустыне и занесены им на берега Нила. Тогда эти идеи являлись в их первобытной чистоте; они были легко доступны пониманию, как и все, что Бог приуготовил для нашего счастья; таково же было и первое богослужение, – пение и молитва – столь естественное для души радостной, надеющейся и живущей в согласии со своим Создателем.
При этих словах грек воздел руки, воскликнув:
– Свет становится все сильнее и сильнее!
– И во мне! – также воодушевленно воскликнул индус.
Египтянин кротко взглянул на них и затем продолжал:
– Религия есть не что иное, как закон, связующий человека с его Создателем; в чистом виде она заключает в себе следующие начала: Бога, душу и их взаимное отношение; из них вытекают – богослужение, любовь и воздаяние. Закон этот, подобно всем законам божественного происхождения, подобно закону, например, соединяющему солнце и землю, вначале уже был совершен. Такова, братья мои, была религия первого человечества и родоначальника нашего Мизраима. Она в следующих кратких словах выражала сущность веры и богослужения: совершенство – это Бог; простота – это совершенство. Самое страшное проклятие состоит в том, что люди не довольствуются такими простыми истинами.
Он остановился, как бы обдумывая то, что ему следовало говорить далее.
– Многим народам, – продолжал он, – нравились тихие воды Нила: эфиоплянам, палипутрам, евреем, ассириянам, персам, македонянам, римлянам. Все народы, за исключением евреев, в разные времена господствовали над ними. Эта постоянная смена народностей извратила старую веру Мизраима. Долина пальм превратилась в долину богов. Единое Высшее Существо было разделено на восемь – олицетворявших каждое какое-нибудь зиждительное начало природы, с Амоном-Ре во главе их. Тогда-то были придуманы Изида и Озирис с их приспешниками, олицетворявшими воду, огонь, воздух и другие силы природы. Число богов увеличилось еще более, после того как люди натолкнулись на свойства своей собственной природы: на силу, знание, любовь и тому подобное.
– Старое безумие проявилось во всем этом! – невольно воскликнул грек. – Только то и остается неизменным, что недоступно человеку.
Египтянин поклонился и продолжал:
– Я остановлюсь на этом предмете еще немного, братья мои, и затем перейду к себе. То, что нам предстоит впереди, есть, как кажется, самое святое дело, когда-либо совершавшееся (из всего, что было и что есть). Записи говорят нам, что во времена Мизраима Нил находился во владении эфиоплян – народа, одаренного богатой и сильной фантазией, всецело преданного обожанию природы и рассеявшегося отсюда по всей африканской пустыне. Поэтические персы боготворили солнце, олицетворявшее их бога Ормузда; набожные дети далекого Востока делали себе богов из дерева и слоновой кости; только эфиопляне, не обладая ни искусством письма и не владея ни одним из механических искусств, изливали свою потребность обожания на животных, птиц и насекомых: у них кошка посвящена была Ре, бык – Изиде, жук – Пта. Долгая борьба с их грубой верой завершилась принятием ее за основную религию нового государства. Тогда-то были воздвигнуты те великие памятники, которые громоздятся и теперь как на берегах реки, так и в пустыне: обелиски, лабиринты, пирамиды и гробницы царей вперемешку с гробницами крокодилов. Вот до какого унижения, братья мои, дошли сыны Ария!
На этом месте рассказа спокойствие египтянина впервые покинуло его: физиономия его по-прежнему оставалась бесстрастной, но голос изобличал волнение.
– Не слишком презирайте моих соотечественников, – сказал он. – Они не совсем забыли Бога. Раньше я уже сказал, что мы вверили папирусу все тайны нашей религии, за исключением одной. К ней я и обращусь теперь. Некогда царем у нас был один из фараонов, любивший перемены и нововведения. Чтобы основать новую систему, он стремился совершенно изгнать из умов прежнюю. В то время евреи жили у нас рабами. Религия их подвергалась гонениям, и, когда гонения эти сделались невыносимы, они были освобождены чудесным способом, который не изгладится из памяти людей. Я говорю со слов записей. Один из евреев, по имени Моисей, явился во дворец и просил именем Бога Израиля дозволения собратьям его оставить эту страну. Фараон отказал ему. Слушайте, что последовало затем. Вся вода, в озерах и реках, в колодцах и в посуде, обратилась в кровь. Монарх упорствовал в отказе. Гады тогда покрыли всю землю. Он оставался непреклонен. Моисей взял тогда горсть пеплу и бросил его на воздух – моровая язва поразила египтян. Весь их скот, за исключением еврейского, пал жертвой чумы; саранча пожрала всю зелень. В полдень свет дневной превратился в непроницаемый мрак, и даже светильники не могли рассеять его. Наконец, в одну ночь умерли все первенцы египетские; не избег смерти и первенец фараона. Тогда он уступил. Но только что евреи вышли, он с войском погнался за ними. Он уже настигал их, но волны морские расступились перед беглецами, и они прошли посуху. Когда же преследователи бросились по их следам, волны соединились над их головами и затопили всех – и конницу, и пехоту, и возницу, и царя. Ты, Гаспар, говорил об откровении…
Синие глаза грека засверкали.
– Эту историю рассказывал мне и еврей! – воскликнул он. – Ты ее подтверждаешь, Валтасар!
– Да, подтверждаю, но по египетским записям, а не со слов Моисея. Я передаю то, о чем говорит мрамор. Жрецы, современники события, записали понятным для них способом то, свидетелями чему они сами были, и откровение хранилось. Теперь я дошел до той тайны, которая не была записана. Со времен несчастного фараона в моей родине, братья, всегда были две религии: одна частная, другая общественная; одна – признававшая многих богов и исповедуемая народом; другая – признававшая Единого Бога и хранимая только жрецами. Радуйтесь со мной, братья! Все унижения, которые пришлось ей вытерпеть от народа, все преследования, которым она подвергалась от царей, все измышления врагов, все превратности времени – все это оказалось бессильным уничтожить ее. Славная истина жила все это время, подобно семени, терпеливо выжидающему свой час под толстым слоем земли. И теперь пробил ее час.
Изнуренное лицо индуса блистало восторгом. Грек громко воскликнул:
– Мне кажется, что и сама пустыня поет вместе с нами!
Египтянин глотнул воды из кувшинчика, стоявшего возле него, и продолжал:
– Я царского рода и к тому же жрец. Я родился в Александрии и получил воспитание, соответственное моему положению. Очень рано я разочаровался. Одним из положений исповедуемой мною веры было то, что после смерти, по разрушении тела, душа как добрых, так и злых одинаково переселяется в низшие существа, чтобы достигнуть снова в человеке наивысшей степени доступного ей совершенства. Когда я услышал о персидском Царстве Света, о рае, в который можно проникнуть только через мост и по которому только добрые могут пройти, я начал задумываться. Не только днем, но и ночью мысли не покидали меня. Я сравнивал идею вечного переселения душ с идеей вечной жизни на небесах. Если Бог справедлив, как меня учили, то почему же Он не различает добрых от злых? Наконец я ясно понял ту истину чистой религии, что смерть есть только распутье и что порочные так и остаются на этом распутье или же возвращаются вспять, верующие же достигают высшей жизни – не нубийской Нирваны, этого отрицательного покоя Брамы, – о Мельхиор! – и не лучших условий жизни в преисподней, где, по олимпийской вере, небесами позволяется все, – о Гаспар! – но жизни деятельной, радостной, вечной – жизни с Богом! Открытие это повлекло за собой другой вопрос: почему бы истине оставаться скрытой ото всех и служить только эгоистическим радостям духовенства? Причин для сокрытия ее уже не существовало: по крайней мере, благодаря философии, мы научились терпимости. И времена переменились: времена Рамзеса давно прошли, и теперь в Египте царила эпоха Рима. В одном из самых блестящих и многолюдных кварталов Александрии, в Брухейоне, в первый раз я начал свою проповедь. Восток и запад доставили мне слушателей. Учащиеся, на пути в библиотеку, жрецы, идущие из Серапсиона, праздные – из музея, владельцы кровных скакунов, соотечественники из Ракотис – толпой собрались слушать меня. Я говорил о Боге, о душе, о добре и зле, о правде и неправде, о награде за добродетельную жизнь. Ты, Мельхиор, был побит камнями. Мои же слушатели сначала изумились, а затем рассмеялись. Я снова сделал попытку; меня забросали эпиграммами, осмеяли моего Бога и омрачили мое небо насмешками. Словом, я не имел успеха.
Тут индус глубоко вздохнул и произнес:
– Брате мой! Самый страшный враг человека – это человек.
Валтасар на мгновение прервал свою речь.
– Долго я искал причину этого неуспеха и наконец нашел ее, – сказал он, возвращаясь к рассказу. – Вверх по реке, на расстоянии одного дня пути, находилась деревушка, населенная пастухами и садовниками. Я сел в лодку и поплыл туда. Вечером я созвал народ, – трудно встретить бедней этого народа, – и проповедовал ему то же, что я проповедовал в городе. Надо мной здесь не смеялись. В следующий вечер я говорил снова; они уверовали, возрадовались и разнесли весть по стране. После третьего собрания народ был уже совсем подготовлен к молитве. Тогда я возвратился в город. Я плыл вниз по реке, ночью; небо было усеяно звездами, которые, казалось, никогда не блистали так ярко, как теперь, и я, размышляя, пришел к заключению, что тот, кто хочет обновлять жизнь, не должен начинать с дворцов знатных и богатых, а идти сперва к тем, чаша довольства которых пуста, – к бедным и униженным. Тогда же я составил план, исполнению которого посвятил всю жизнь. Прежде всего я постарался так устроить свое большое состояние, чтобы доход с него обеспечивал мне возможность жить без особенных лишений. С того дня, братья мои, я начал странствовать вверх и вниз по Нилу, заходя в деревни, ко всем племенам, населяющим эту область, везде проповедуя Единого Бога, праведную жизнь и воздаяние за нее на небесах. Я творил добро, но не мне быть судьей, много ли добра я сделал. Я узнал также людей, готовых принять Того, Кого мы ищем.
Румянец залил смуглые щеки говорящего, но он победил волнение и продолжал:
– Все эти годы, братья мои, меня постоянно тревожила одна мысль: если меня не будет, что станется с моим делом. Неужели оно пропадет вместе со мной? Я много раз думал, не следует ли мне увенчать мое дело организацией. Чтобы ничего не скрыть от вас, я скажу вам, что я пробовал даже осуществить ее, но не успел в этом. Братья мои, мир сейчас находится в таком состоянии, что реформатор должен обладать божественной санкцией, чтобы возвратить его к древней вере Мизраима. Мало того, если он придет во имя Бога, необходимы еще доказательства, подтверждающие его слова; нужно, чтобы он показал им все, о чем он говорит, даже самого Бога. Ум так увлечен теперь различными мифами и системами; такое множество ложных богов населяет землю, воздух и небо; так они вкоренились в сознание людей, что для того, чтобы возвратить мир к первобытной религии, придется вести его по пути преследований, оставляя за собою кровавый след; я хочу сказать этим, что новообращенные должны скорее согласиться умереть, нежели отступаться от своих верований. Но кто же в наш век, кроме самого Бога, может поднять веру до такой высоты? Для того, чтобы спасти мир, – я не разумею разрушить его. Он должен проявиться еще раз: Он должен Сам сойти на землю.
Сильное волнение охватило всех их.
– Ведь мы идем за ним? – воскликнул грек.
– Вы понимаете, почему не удалась мне попытка организации, – заговорил египтянин, когда волнение несколько улеглось? – Я не имел божественной санкции. Сомнение в будущности моего дела глубоко меня опечалило. Я верил в молитву; и, подобно вам, мои братья, покинув большие дороги, я удалился туда, где не было людей, где был один только Бог, чтобы там возносить к нему свои молитвы. Я удалился в совершенно неизведанные страны Африки, вверх по Нилу, выше пятого его водопада, выше слияния реки в Сеннааре, к Бахр-эль-Абиаду. Есть там гора, голубая, подобно небу, утром, когда она бросает длинную прохладную тень на запад, каскадами, бегущими по ней от таяния снега, питает она большое озеро, приютившееся у ее подошвы, со стороны восточного склона. Озеро это – мать великой реки. Более года гора служила мне убежищем. Плоды пальм питали мою плоть, молитвы – мой дух. Однажды ночью, прогуливаясь в пальмовой роще по берегу озера, я так молился: «Мир погибает. Когда же придешь Ты? Почему – о Боже! – я не сподоблюсь увидеть искупления?» Зеркальные воды озера загорелись огоньками. Один из огоньков, казалось мне, оставил свое место и, подвигаясь к поверхности, сделался настолько блестящ, что свет его ослепил мои глаза. Затем он приближался ко мне и остановился над моей головой так близко, что, казалось, можно было достать его рукой. Я пал ниц и закрыл свое лицо. Голос неземного происхождения произнес: «Твои добрые дела победили. Да будет благословение над тобою, сын Мизраима! Искупление грядет. С двумя другими людьми, из отдаленнейших частей света, ты узришь Спасителя, и будешь свидетельствовать о нем. Встань утром и иди навстречу им. И когда вы достигнете стен святого города Иерусалима, спросите: где здесь родившийся царь Иудеев? Ибо мы видели звезду его на востоке и посланы поклониться ему. Возложи свою веру на Духа Святого, который и будет твоим руководителем». И я не мог сомневаться, так как свет, озарявший меня, пребывал во мне и управлял мною. Руководимый им, я спустился вниз по реке к Мемфису, где и снарядился для путешествия по пустыне. Я купил себе верблюда и шел сюда без остановки через Суэц и по землям Моавии и Аммона. С нами Бог, братья мои! – Он остановился. Затем, все они, как бы побуждаемые посторонней силою, быстро поднялись и взглянули друг на друга.
Я уже сказал, что вижу глубокий смысл в тех подробных описаниях, которые каждый из нас делал, говоря о своем народе и о его истории, – так продолжал египтянин. – Тот, Которому мы идем поклониться, был называем «Царем Иудеев», этим же именем нам приказано спросить о Нем. Но теперь, когда мы встретились и выслушали друг друга, мы уже знаем Его, как Искупителя не только одних евреев, но и всех народов земли.
Патриарх, переживший потоп, имел трех сыновей с их семьями, и ими мир был снова заселен. Заселение началось со старого Aryana Vaejo[2], незабвенной страны Света, лежащей в сердце Азии. Индия и дальний Восток были заселены потомством старшего сына; потомки младшего устремились через север в Европу; потомки среднего пересекли пустыни, лежащие близ Красного моря, направляясь в Африку, и хотя большинство их и до сих пор еще остается кочующим, однако некоторые основались на берегах Нила.
Побуждаемые внутренним импульсом, все трое одновременно протянули друг другу руки.
– Выражалось ли когда-либо божественное предопределение более ясно? – продолжал Валтасар. – Если мы обретем Бога, то в лице нас все три брата и поколения их преклонятся пред Ним. И когда каждый из нас вернется домой, мир узнает новую истину, что Небо может быть заслужено не мечем, не мудростью человеческой, но только верой, любовью и добрыми делами.
Наступило молчание, святое молчание, прерываемое вздохами и слезами; радость, испытываемая ими, не могла быть сдерживаема. То была непередаваемая радость душ, уповавших на истинного Искупителя, у источников живой воды, в присутствии самого Бога.
Чуть позже они все вместе вышли из палатки. Спокойствие по-прежнему царило и в пустыне, и на небе. Солнце почти закатилось. Верблюды спали.
Они сняли палатку и с остатками от обеда поместили ее на носилки, после чего друзья сели на верблюдов и отправились друг за другом в путь, предводимые египтянином. Путь их направился к западу; ночь была холодная; верблюды шли вперед уверенной рысью, следуя друг за другом в таком порядке, что, казалось, задние ступали по следам вожатого верблюда. Всадники не произносили ни слова.
Скоро взошла луна. И так как эти три высокие белые фигуры быстро и без всякого звука подвигались вперед, то при лунном свете они казались призраками, убегающими от ненавистного мрака. Внезапно перед ними, над горной вершиной, забрезжился мерцающий огонек; на их глазах явление это превратилось в фокус ослепительного света. Сердца их сильно забились; души их встрепенулись, и они воскликнули в один голос:
– Звезда, звезда! С нами Бог!
Глава VI. Великое торжище
В одном из отверстий западной стены Иерусалима навешены «дубовые створницы», известные под названием Вифлеемских, или Яффских, ворот. Площадь перед ними есть одно из известнейших мест города. Задолго еще до Сиона, предмета страстной мечты Давида, там стояла крепость. Когда, наконец, сын Иессея выгнал Иебузита и начал строиться, то одна из стен крепости пришлась северо-западным углом новой стены, и надстроенная над ней башня была гораздо внушительнее прежней. Ворота же остались не разрушенными, что случилось, главным образом, благодаря тому, что не находили места более удобного, куда можно было перенести всю ту сеть встречающихся и перепутывающихся дорог, которые сходились к этим воротам, и таким образом, внешняя площадь сделалась признанным местом для рынка. Во дни Соломона тут происходил великий торг, в котором принимали участие как торговцы Египта, так и богатые купцы Тира и Сидона. Более 3000 лет прошло, а и до сих пор торг тяготеет к тому же месту. Понадобится ли страннику ось или пистолет, огурец или верблюд, захочет ли он получить ссуду или же купить чечевицы, нужно ли ему приобрести дом, коня, тыкву, фиников, нанять переводчика или человека, купить голубя или осла – он идет за всем этим к Яффским воротам. Картина рынка и теперь бывает чрезвычайно оживлена; при взгляде на нее возникает представление о том, каков был старый рынок во дни Ирода Строителя. К этому-то периоду и на этот-то рынок пусть и перенесется теперь читатель.
По еврейскому счислению, встреча мудрецов, описанная в предыдущих главах, произошла в полдень двадцать второго дня третьего месяца года, т. е. 25 декабря. Был второй год 193 Олимпиады, или, по-римскому, 747-й; 67-й жизни Ирода Великого и 35-й его царствования; 4-й перед началом христианской эры. Счет часов дня у евреев начинался вместе с солнцем – первый час означал первый после восхода солнца. Чтоб быть точными, скажем, что в первом часу рынок у Яффских ворот был в полном разгаре и очень оживлен.
Массивные ворота уже давно были широко растворены; деловая толпа, возрастая ежеминутно, толклась под сводами ворот, устремляясь в город чрез узкий проход и двор, образуемый стенами большой башни. Так как Иерусалим лежит в гористой местности, то утренний воздух был довольно прохладен. Солнечные лучи, обещая тепло, пока еще медлили на строениях и башенках, выглядывающих из-за высоких стен; с них доносились воркование и шум крыльев от целых стай голубей, перелетающих с места на место.
Для понимания некоторых последующих страниц иностранцам точно так же, как и туземцам, необходимо хотя беглое знакомство с обитателями Святого города, а для этого стоит только остановиться у ворот и окинуть картину, представлявшуюся глазам. Мы не будем иметь более удобного случая, чтобы познакомиться с населением в том виде, в каком оно нам теперь представляется.
Прежде всего картина производит впечатление хаоса: это смесь всевозможных телодвижений, звуков, цветов и предметов. Особенно же заметно это в проходе во дворике. Почва там вымощена громадными бесформенными плитами, отражаясь от которых каждый крик, каждый нестройный звук, удар копыта возрастает до той чудовищной смеси звуков, что стоном стоит над крепкими, грозными стенами. Но стоит лишь чуть-чуть замешаться в толпу, чуть-чуть ознакомиться с ходом дела, и разобраться в ней легко.
Вот стоит осел, задремавший под тяжестью корзин, наполненных чечевицей, бобами, луком и огурцами, доставленными из садов и огородов галилейских. Его хозяин, если только он не занять с покупателями, выкрикивает свой товар на языке, непонятном для непосвященных. Проще его костюма трудно себе представить: сандалии и кусок небеленого и некрашеного холста, перекинутый через плечо и обернутый вокруг талии, – вот и все его одеяние. Возле осла, на коленях, лежит верблюд, хотя более важный и странный, но менее терпеливый, чем осел, худой верблюд – кожа да кости, шершавый, грязный, с длинными космами рыжеватых волос под глоткой, шеей и туловищем, нагруженный ящиками, корзинами, странно размещенными на его громадном седле. Собственник его – маленький живой египтянин с цветом лица, загрубелым от дорожной пыли и от песков пустыни. Он одет в потертый тарбуш – свободное платье, без рукавов, без пояса, спускающееся от шеи до колен. Ноги его босы. Верблюд, беспокоясь под тяжестью, стонет по временам, оскаливая свои зубы; не обращая на это внимания, хозяин, придерживая его за веревку, не остается ни на минуту спокоен, предлагая всем свои свежие фрукты: виноград, финики, яблоки и гранаты, привезенные из садов Кедронских.
Возле одного из углов прохода, выходящего на двор, сидит несколько женщин, прислонившись к серым каменным стенам. Одеты они в платье, общее всем женщинам низших классов этой страны, – полотняный балахон, свободно опоясанный на талии, закрывает все их тело, а вуаль или довольно широкое покрывало, укрывая голову, спускается на плечи. Товар их состоит из множества земляных кувшинов, таких, какие и до сих пор употребляются на Востоке для доставления воды из колодцев, и нескольких кожаных бутылок. Между кувшинами и бутылками играет с полдюжины детей, катаясь по каменному помосту, равнодушные к толпе и к холоду, постоянно подвергаясь опасности быть раздавленными; их бурые тельца, черные как уголь глазенки и густые черные волосы выдают еврейскую кровь. Матери их, выглядывая по временам из-под покрывал, на родном жаргоне, скромно предлагают свой товар; у них в бутылках «виноградный мед», в кувшинах – крепкое питье; но эти робкие зазывания всякий раз теряются в общей сутолоке, и женщинам приходится плохо от многочисленных соперников – дюжих молодцов, с голыми ногами, в грязнейших туниках, с длинными бородами, шныряющих в народе с бутылками за спиной и громко кричащих: «Виноградный мед!». «Виноград Эн-Гедийский». Когда покупатель остановит такого молодца, мигом бутылка оборачивается, носок ее ототкнут, и из него, в готовую кружку, льется темно-красный сок сладкой ягоды.
Едва ли менее крикливы торговцы птицами – утками, певчими птицами, соловьями, чаще же всего голубями. Редко кому из покупателей приходит в голову мысль о полной опасности жизни этих ловцов, смелых лазунов по скалам: то висящих между небом и землей, прицепившись руками и ногами к какому-нибудь утесу, то спускающихся в корзинах в глубину горной расщелины.
Преобладающим же элементом на рынке являются продавцы животных – ослов, лошадей, телят, овец, блеющих козлят и неуклюжих верблюдов, – короче, продавцы всяких животных, за исключением одной только запрещенной свиньи: везде слышно, как они торгуются, то резко и шумно, почти угрожающе крича, то понижая голос до ласки; их можно видеть в каждом местечке рынка: придерживая свой товар на поводах и на веревках, они перемешиваются с бесчисленными продавцами других товаров, предлагающихся здесь в таком же великом разнообразии, как велико разнообразие потребностей человека; рядом с ними вы встретите и торговцев платьем, и разносчиков благовонных товаров, и продавцов драгоценностей. Последние выделяются от прочих как своим хитрым видом людей, хорошо понимающих силу предлагаемого ими товара, – ярких лент и режущих золотым блеском вещей – браслетов, ожерелий, колец для пальцев и для носа, так и своей одеждой – алыми с голубым плащами и чудовищными белыми тюрбанами, под тяжестью которых кажется, что головы их перевешиваются.
Когда читатель, окончивши обзор торговцев и их товаров, пожелает обратить внимание на посетителей рынка и на покупателей, то самое лучшее место для этого за воротами; там зрелище столь же разнообразно и оживленно, как и во дворе, пожалуй даже разнообразнее и оживленнее. Ко всему описанному там присоединяются еще палатки и балаганы, больший простор и большая толпа, более неограниченная свобода и великолепное восточное солнце.
Глава VII. Картина Священного Города
Остановимся у ворот при встрече двух течений толпы – одного, направляющегося во двор, другого – из двора, и насторожим слух и зрение.
В добрый час! Как раз идут два человека, особенно достойные внимания.
– Боги, как холодно! – говорит один из них – могучая фигура в доспехах: голова его покрыта медным шлемом, на нем надеты блестящие латы и кольчуга. – Как холодно, однако! Помнишь ли ты, Кай, тот подвал у нас в Комитиуме, о котором римские жрецы говорят, что это вход на тот свет? Клянусь Плутоном, я бы пошел сейчас погреться туда!
Тот, к кому обращена речь, опускает капюшон своего военного плаща, оставляя обнаженными голову и лицо, и говорит с насмешливой улыбкой:
– Шлемы легионов, победивших Марка Антония, были покрыты галльским снегом; ты же, мой бедный друг, только что возвратился из Египта с его зноем в своих жилах.
С последними словами они исчезают в проходе. Если бы они и совсем не говорили, проходя мимо нас, то по их доспехам и по самоуверенной походке мы узнали бы в них римских солдат.
Из толпы выходит затем еврей, худой, согбенный, в одежде из грубой шерстяной материи; над его глазами, по лицу и по спине, свесились в беспорядке космы нечесаных волос. Он идет одинокий. Встречные смеются над ним, некоторые даже издеваются. Это – назареянин, один из той презираемой секты, приверженцы которой отвергают книги Моисея, посвящают себя гнусным обетам и ходят с нестрижеными волосами весь срок, пока длится обет.
В то время как мы смотрим вслед ему, толпа начинает сильно волноваться, она расступается направо и налево при сильных, пронзительных восклицаниях. Вот показывается и послужившее причиной такого беспокойства – это Человек, по лицу и по одежде еврей; белоснежная полотняная мантия, завязанная на голове желтым шелковым шнуром, свободно спускается на его плечи; богато украшенное платье его обхвачено красным, с золотой бахромой кушаком. Он идет спокойно и даже подсмеивается над расступающимся пред ним народом. Кто же это? Прокаженный? Нет, это только самаритянин. Если вы спросите о нем у кого-нибудь из окружающих, вам скажут, что это нечистый-ассприянин, одно прикосновение к платью которого оскверняет и от которого поэтому израильтянин не может принять помощи даже и в том случае, когда от нее зависит сама жизнь. Причиной такой вражды является, впрочем, вовсе не различие происхождения. Когда Давид, поддерживаемый одним только Иудою, основал здесь, на Сионской горе, свой трон, остальные десять племен удалились в Сихем, город гораздо более древний и в те времена несравненно более дорогой по священным воспоминаниям. Последовавшее затем соединение племен не могло погасить эти раздоры. Самаритяне придерживались своей скинии на Геризиме и, признавая за ней высшую святость, подсмеивались над сердитыми учеными Иерусалима. Время не ослабило раздоров. В царствование Ирода веротерпимостью пользовались все, за исключением самаритян; только они одни безусловно и навсегда были отринуты от общения с иудеями.
В то время как самаритянин входит под своды ворот, из-под них выходят три человека, так непохожие на всех виденных нами, что волей-неволей мы останавливаем на них свое внимание. Все они громадного роста и необыкновенной мускулатуры; у них синие глаза и цвет лица настолько нежный, что жилки просвечивают сквозь кожу, вырисовываясь на ней голубыми черточками; волосы их светлого цвета и коротко острижены; они прямо держат свои головы, плотно посаженные на шеи, по правильности своих очертаний подобные древесным стволам. Шерстяные, без рукавов, свободно опоясанные туники, открытые на груди, драпируют их туловища, оставляя обнаженными руки и ноги, развитые так сильно, что при взгляде на них невольно возникает мысль об арене; если мы ко всему этому прибавим их беззаботный, самоуверенный и дерзкий вид, то не будет удивительно, что им уступают дорогу и останавливаются, чтобы посмотреть им вслед. Это или гладиаторы-борцы, скороходы, кулачные бойцы, фехтовальщики-специалисты, неизвестные в Иудее до прихода римлян, шатающиеся в свободное от своих занятий время по царским садам и занимающиеся праздной болтовней со стражей у дворцовых ворот, или же это пришельцы из Цезареи, Себасты или Иерихона, где Ирод, более грек, нежели иудей и совершенный римлянин, по своей страсти ко всякого рода кровавым зрелищам и играм, понастроил большие театры и содержал фехтовальные школы, воспитанники для которых обыкновенно доставлялись Галльскими провинциями или славянскими племенами с Дуная.
– Клянусь Бахусом! – говорит один из них, сгибая свою руку со сжатым кулаком. – Черепа их не толще яичной скорлупы.
Зверский взгляд, сопровождавший это телодвижение, производит на нас отталкивающее впечатление, и, отвернувшись в сторону, чтобы отделаться от него, мы, к счастью, наталкиваемся на нечто более приятное.
Против нас торговец фруктами. У него плешивая голова, длинное лицо и нос, похожий на ястребиный клюв. Он сидит на ковре, разостланном в пыли; позади его стена, над головой короткий навес; вокруг него, под рукой, выставлены на низеньких подставочках ивовые корзинки, наполненные миндалем, виноградом, смоквами и гранатами.
К нему подходит в этот момент человек, который невольно приковывает к себе наш взгляд, хотя и по другим причинам, чем гладиаторы, – это грек, настоящий красавец. На голове у него миртовый венок, сдерживающий на висках волнистые волосы, в венок вплетены бледно-желтые цветы и зеленые ягоды. Ярко-красная туника его сделана из тончайшей шерстяной ткани; из-под пояса буйволовой кожи, застегнутого спереди вычурной, блестящей золотой пряжкой, спускаются до колен, тяжелыми складками, полы туники с украшениями из того же благородного металла; шерстяной желтый с белым шарф, обогнув шею, падает ему на спину и волочится за ним. Руки и ноги его, там, где они открыты, по белизне походят на слоновую кость и настолько выхолены, что, глядя на них, невольно думаешь о тех омовениях, втираниях, щеточках и щипчиках, к которым приходилось прибегать ему, чтобы достигнуть такого результата.
Торговец, не трогаясь с места, наклоняется несколько вперед, поднося ко лбу свои руки с раздвинутыми пальцами и ладонями наружу.
– Что у тебя сегодня, сын Патоса? – говорит молодой грек, смотря скорее на корзинки, нежели на киприота. – Я проголодался. Не найдется ли у тебя чего-нибудь позавтракать?
– Фрукты из Педия, – самые настоящие, все певчие Антиоха по утрам берут у меня для поправления своих голосов, – отвечает жалобным, гнусавым голосом торговец.
– Не годится самая лучшая твоя смоква для певчих Антиоха! – говорит грек. – Ты поклоняешься Афродите; я поклоняюсь тоже ей, чему доказательством вот эти мирты, так знай же, что голоса их пропали от каспийских ветров. Видишь ли ты этот пояс? – Это подарок могущественной Саломеи…
– Царской сестры! – восклицает киприот, повторяя салям.
– У нее и вкус царский; справедлива же она божественно! Да почему бы и не так? Она ведь гречанка более, нежели царь. Однако что же завтрак? Вот тебе деньги, красные кипрские медяки: давай мне винограду и…
– Не угодно ли фиников?
– Не надо, я не араб.
– Смокв не возьмете ли?
– От них я стал бы евреем. Нет, ничего не надо, только винограду. Наилучшая смесь жидкости получается от смешения крови греческой с кровью винограда.
Певчий на безобразном, бурлящем рынке выделяется своим придворным видом и представляет такое зрелище, которое надолго остается в памяти; но вот, как бы в противовес ему, идет за ним человек, изумляющий нас как нельзя более. Он медленно бредет по дороге, с лицом, опущенным долу; по временам он останавливается, складывает руки на груди, вытягивает свою физиономию и возводит очи к небу, как будто сейчас начнет молиться. Нигде, за исключением Иерусалима, невозможно встретить подобной фигуры. На лбу у него привязанный к тесьме, поддерживающей мантию, болтается кожаный четырехугольный ящичек, другой такой же ящичек привязан к левой руке; края его платья украшены густой бахромой. По всем этим признакам, по филактериям[3], по обшитым бахромой краям одежды и по выражению сильной святости, проникающей всего человека, мы узнаем в нем фарисея, члена той организации (в религии – это секта, в политике – партия), фанатизм и могущество которой должны в нашем рассказе скоро повергнуть весь мир в скорбь.
За воротами более всего движется народу по Яффской дороге. Внимание наше, после фарисея, привлекается несколькими лицами, которые, как будто бы для того, чтобы облегчить нам наблюдение, случайно отделились от движущейся толпы. Из этих лиц наше внимание прежде всего останавливается на человеке весьма благородной наружности, с чистым и здоровым цветом лица, с большими черными глазами, с длинной развевающейся и тщательно напомаженной бородой, одетом в дорогую, хорошо сидящую на нем и приспособленную ко времени года одежду; у него в руке палка; с шеи свесился шнур с привязанной на конце его большой золотой печатью. За ним стоят несколько служителей, у некоторых из них за поясом короткие мечи; они относятся к своему господину с глубочайшим почтением. Остальные лица группы – это два чистокровных араба: тонкие, сухие, со впалыми щеками и почти дьявольским блеском в глазах; на головах у них красные тарбуши, поверх абас их окутывают темные шерстяные покрывала, перекинутые через плечо и обернутые вокруг тела таким образом, что свободной остается только правая рука. В этой группе происходит громкий торг: арабы привели продавать лошадей и, со свойственной им страстностью, торгуются с резкими, пронзительными криками. Изящный человек предоставил свободу договариваться с ними своим служителям; сам же он, если ему приходится говорить, говорит с большим достоинством. Увидав перед собой киприота, он подходит к нему и покупает несколько смокв. Если мы, после того как вся эта группа, вслед за фарисеем, скроется под воротами, пожелаем узнать от торговца фруктами, кто этот изящный господин, то он нам скажет, с чудеснейшим салямом, что это еврей, один из городских князей, и что он только что вернулся из путешествия, совершенного им с целью изучить разницу между обыкновенным сирийским виноградом и кипрским. Итак, обыкновенно до полудня, а иногда несколько позже, переливается деловая толпа двумя непрерывными потоками – в Яффские ворота и из них, отличаясь крайним разнообразием лиц. Тут есть и представители всех племен Израиля и всех сект, на которые раздробилась древняя вера; всех религиозных и социальных оттенков и того праздного сброда – детей искусства и служителей удовольствий, который чувствовал себя как нельзя лучше в расточительные времена Ирода; тут есть и представители всех известных народов, подпадавших когда-либо под власть цезарей и их предшественников, в особенности же тех из них, которые обитали на окраинах Средиземного моря.
Другими словами, Иерусалим, священный своим прошлым, а еще более своим будущим, предсказанным ему пророками, Иерусалим Соломона, в котором серебро ценилось не дороже камней и кедры были дешевле придорожных смоковниц, дошел до того, что стал только копией Рима, местом совершения нечестивых сделок, столицей языческой власти. Некогда еврейский царь оделся в свои лучшие одежды и вошел во Святая Святых первого храма в мире, для того чтобы там воскурить фимиам, и вышел оттуда, пораженный проказой; в описываемые же нами времена Помпей вошел в храм Ирода и в ту же Святая Святых и, выйдя оттуда совершенно здоровым, рассказывал, что он нашел там пустое место и ни малейшего признака присутствия Бога.
Глава VIII. Путники из Назарета
Просим теперь читателя возвратиться на описанный нами двор, составляющий часть рынка у Яффских ворот. Был третий час дня. Многие уже разошлись, хотя давка нимало не уменьшилась. Мы должны обратить особенное внимание на группу из мужчины, женщины и осла, поместившуюся у противоположной воротам южной стены двора.
Мужчина стоял у головы животного, держа его за повод и опершись на ту палку, которой он в дороге, по всей вероятности, подгонял осла. Одежда его, ничем не отличавшаяся от обыкновенной одежды евреев, выглядывала совершенно новой: плащ, спускавшийся с его головы, и платье или кафтан, доходивший до пят, очевидно, надевались им только по субботним дням, при посещении синагоги. Лицо его было открыто и, судя по нему, ему можно было дать лет пятьдесят, что подтверждала и седина, пробивавшаяся в его, некогда черной, бороде. Он смотрел по сторонам с любопытством, смешанным с удивлением, как вообще смотрят иностранцы и провинциалы.
Осел, не спеша, ел зеленую траву из охапки, лежащей перед ним. На рынке было изобилие этой травы. Для животного, находившегося в состоянии дремотного довольства, совсем как будто бы не существовало окружающей суеты и шума; конечно, оно не замечало в ту минуту и спутницы, сидевшей на его спине, на седельной подушке.
Верхнее платье из светлой шерстяной материи совершенно закрывало ее фигуру, тогда как белый вуаль скрывал ее голову и шею. Изредка, на мгновение, она раздвигала покрывало, но не настолько, чтобы можно было разглядеть ее.
К мужчине, наконец, подошел кто-то и, став против него, спросил:
– Вы не Иосиф ли из Назарета?
– Меня так называют, – отвечал Иосиф, важно повернувшись в сторону говорящего. – А вас… Ах, это вы! Мир вам, мой друг, равви Самуил.
– И вам того же. – Равви помолчал и, взглянув на спутницу, добавил: – Мир вам, всему вашему дому и всем домочадцам!
С последними словами он приложил руку к груди, наклонил голову в сторону женщины, которая, чтобы посмотреть на него, раздвинула покрывало настолько, что на один миг можно было разглядеть ее еще очень молодое лицо. Знакомцы же тем временем, взяв друг друга за правые руки, делали вид, что подносят их к губам; но в самый последний момент руки их разжались и каждый из них поцеловал собственную, после чего поднес ее ко лбу, ладонью наружу.
– Вы так мало запылились, – сказал фамильярно равви, – как будто ночевали здесь, в городе отцов наших.
– Нет, – возразил Иосиф, – добравшись засветло до Вифании, мы остановились там в канне, а затем с рассветом снова уже были в пути.
– Длинна же ваша дорога. Куда же вы идете, не в Джеппу, надеюсь?
– Нет, только до Вифлеема.
Открытое дружеское выражение лица равви омрачилось при этих словах и не предвещало ничего хорошего; вместо кашля, – он хотел было отхаркнуться, – из его горла вылетело рычание.
– Понимаю, понимаю, – заговорил он, – вы родились в Вифлееме и теперь идете туда с вашей дочерью, чтобы там, исполняя повеление цезаря, подвергнуться переписи и платить потом подати. Положение детей Иакова в настоящее время ничем не лучше того, каким оно было во времена египетского пленения, только нет теперь у них ни Иосифа, ни Моисея. Как низко упали потомки могучего народа!
Иосиф не отвечал, не переменяя ни позы, ни выражения.
– Спутница эта мне не дочь.
Но равви трудно уже было оторваться от политики; он продолжал, не обращая внимания на разъяснения Иосифа.
– Чем же занимаются зилоты в Галилее?
– Я плотник, Назарет же – это деревня, – сказал Иосиф благоразумно, – улица, на которой моя мастерская, не на той дороге, которая ведет в город. Стругание и пилка дерева не позволяют мне принимать участие в партийных спорах.
– Да ведь вы же еврей, – яростно заговорил равви, – ведь вы еврей, и к тому же еще из колена Давидова. Невозможно, чтобы вам доставляло удовольствие платить какую-нибудь подать, кроме шекеля, подаваемого, по древнему обычаю, Иегове?
Иосиф продолжал сохранять прежнее спокойствие.
– Я хлопочу не о размере подати, – продолжал его друг, – динарий – это пустяки. Нет, дело не в том. Самая попытка обложить нас податью есть уже оскорбление, согласие же наше платить ее будет с нашей стороны подчинением тирании. Скажите мне, правда ли, что Иуда провозглашает себя Мессией? Ведь вы живете среди его последователей.
– Я слышал, что последователи его говорят, что он Мессия, – ответил Иосиф.
В эту минуту покрывало отдернулось и на мгновение лицо стало видно. Равви смотрел в ту сторону, так что мог разглядеть редкую красоту его спутницы. Краска залила лицо, и вуаль тотчас же задернулся.
Политик забыл и предмет разговора.
– Какая красавица у вас дочь! – сказал он, понизив голос.
– Она мне не дочь, – повторил Иосиф.
Любопытство равви возросло, и назареянин, заметив это, поспешил продолжать:
– Она дочь Иоакима и Анны вифлеемских, о которых вы, наверное, слыхали, так как они пользовались большой известностью…
– Да, – заметил почтительно равви, – я знал их. Они по прямой линии происходят от Давида. Я с ними был знаком.
– Так теперь они умерли, – продолжал назареянин, – умерли они в Назарете. Иоаким был не богат, но все-таки оставил после себя дом с садиком, в разделе двум дочерям, Марианне и Марии. Это вот одна из них. Для того чтоб ее доля осталась за ней, закон требует, чтоб она вышла замуж за ближайшего родственника. И я женился на ней.
– А вы приходитесь…
– Я ее дядя.
– Так, так! Вы оба, стало быть, родились в Вифлееме, и теперь римлянин заставляет вас взять и ее с собой, чтобы обоих внести в перепись.
Равви сжал руки и, смотря с негодованием на небо, воскликнул: «Жив Бог Израиля! И Он отомстит!»
С этими словами он отвернулся и быстро ушел. Незнакомец, стоявший неподалеку, заметив изумление Иосифа, спокойно произнес:
– Равви Самуил настоящий ревнитель: сам Иуда вряд ли превзойдет его.
Иосиф, не желая начинать разговора с этим человеком, сделал вид, что не слышит его слов, и занялся собиранием травы, которую осел разбросал по сторонам, после чего он снова оперся на палку и застыл в этой позе.
Через час вся эта компания вышла из ворот и, повернувши налево, двинулась по пути к Вифлеему. Спуск в Хинномскую долину был неровный, кое-где украшавшийся разбросанными дикими оливковыми деревьями. Назареянин, с поводом в руках, шел рядом с сидевшей на осле женщиной, с нежностью заботясь об ее удобствах. По левую руку у них возвышались городские стены, протянувшись на юг и на восток кругом Сионской горы; по правую же – поднималась крутизна обрыва, образующая западную границу долины.
Осторожно миновали они нижний Гихонский пруд, с которого быстро сбегала тень, отбрасываемая высоким холмом, осторожно прошли, придерживаясь водопроводов, проведенных на прудах Соломона, до деревенского домика, стоявшего на том месте, которое в настоящее время называется холмом Дьявольского Совета; потом начали взбираться к Рефемской равнине. Яркие лучи солнца, освещавшие каменистую поверхность знаменитой местности, заставили Марию, дочь Иоакима, совсем сбросить покрывало и открыть свою голову. Иосиф рассказывал историю того, как Давид на этом месте застал врасплох лагерь филистимлян; рассказывал он, имея торжественный вид. Она его не всегда слушала.
Во всех странах и морях, где есть люди, физиономия евреев везде одинакова. Тип этого племени был всегда тот же, хотя и с некоторыми индивидуальными отклонениями: «Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом»[4]. Таков был сын Иeceя, приведенный к Самуилу. С тех пор воображение всегда руководило описанием. Поэтическая вольность распространила особенности предка и на его известных потомках. Так все наши идеальные Соломоны имеют прекрасные лица, а волосы и брови у них в тени – каштанового цвета, а на солнце отливают золотом. Нас заставляют верить также, что таковы были и знаменитые волосы Авессалома. А за отсутствием достоверных источников предание не менее любезно наделило красотой и ту, за которой мы сейчас следуем по направлению к родному городу белокурого царя.
Ей казалось не более пятнадцати лет. Вся внешность ее, голос и все движения соответствовали вполне этому нежному возрасту. Лицо ее было скорее бледное, чем белое; и все линии лица выражали мягкость, нежность и кротость; большие синие глаза оттенялись полузакрытыми веками и длинными ресницами.
Со всем этим вполне гармонировал поток золотистых волос, как у еврейских невест, спадавший по спине ее, достигая седла, на котором она сидела.
Наружная красота очертаний лица дополнялась прелестью выражения, не так легко поддающегося описанию. Это лицо было проникнуто чистотой, отражавшей идеальность души, свойственной тем только, кто непрерывно устремляет мысли к неземному. С трепещущими губами она поднимала к небу свои глаза, синева которых была чисто небесная, и часто скрещивала руки на груди, как бы благоговея перед кем-то и молясь кому-то; часто приподнимала свою голову, как бы жадно прислушиваясь к зовущему ее голосу.
По временам, в промежутки своих рассказов, Иосиф оборачивался к ней и, уловив восторженное выражение лица ее, в изумлении забывал свой рассказ, продолжая молча идти рядом.
Вот они и прошли весь длинный путь, расстилавшийся по равнине, и наконец достигли Маар-Елиасского подъема, с которого, за долиной, они увидали Вифлеем, древнюю житницу, белые стены которого увенчивали горный хребет и просвечивали сквозь оголенные сады, окружающие его. Они остановились тут и стояли, пока Иосиф показывал разные места, известные своей святостью, затем спустились в долину, к колодцу, известному по чудесному подвигу сильных слуг Давида. Тут, на узком пространстве, столпилась громадная масса народа и животных. При виде такой толпы Иосиф начал опасаться за то, что в городе такая же масса народа помешает ему найти помещение для Марии. Нигде не останавливаясь, не кланяясь никому из встречающихся на дороге, он проталкивался мимо каменного столба, указывавшего гроб Рахили, к покрытому садами склону, пока не остановился перед входом в канну, находившуюся за городскими воротами недалеко от перекрестка.
Глава IX. В Канне близ Вифлеема
Для того чтобы лучше понять все происшедшее с назареянами в канне, читатель должен припомнить, что гостиницы на Востоке не походили на западные. Они назывались каннами, – слово, взятое с персидского языка, – и в самой простой своей форме представляли огороженное место без всяких следов дома или какой бы то ни было постройки, часто даже без ворот и без калитки. Места для их расположения выбирались богатые тенью, с естественной защитой и обильные водою. Таковы были постоялые дворы, которые укрывали еще Иакова во время странствования последнего в поисках за невестой в Подан-Араме. В настоящее время подобие их можно встретить среди пустынь, в местах, служащих привалами для путников. Некоторые же из них, в особенности те, которые находились на пути между большими городами, подобно Иерусалиму или Александрии, представляли роскошные постройки, служившие памятниками благочестия царей, построивших их. Обыкновенно же такие постройки были не что иное, как дома или владения шейхов, к которых, как в главных квартирах, они размещали свой род. Помещение, отводимое путешественникам, менее всего было источником их доходов, главным же образом они были рынками, факториями, укреплениями, сборными местами и резиденциями купцов и ремесленников, а также и местами, где могли найти себе кровлю люди, застигнутые ночью или заблудившиеся. Внутри их стен круглый год кипела городская жизнь.
Своеобразное управление этих гостиниц составляло черту, которая, вероятно, наиболее способна вызвать изумление иностранца. В них не было ни хозяина, ни хозяйки; не было ни приказчика, ни повара, ни кухарки; единственным видимым признаком того, что канна составляла чью-то собственность, служил привратник, сидевший у ворот. Прибывшие чужестранцы останавливаются в них, как в своем доме. Последствием такой системы было то, что каждый вновь прибывший должен был привозить с собой припасы и кухонные принадлежности, постели и корм для скота, или же покупать их у торговцев канны. Вода, покой, кровля и защита – вот все, что он мог требовать от канны, и это ему предлагалось бесплатно. Спокойствие в синагогах иногда нарушалось громкими криками спорящих, в каннах же никогда: дом его и все принадлежащее к нему было священно; даже колодези были почитаемы не более, чем канны.
Канна у Вифлеема, около которого остановились Иосиф и Мария, была хорошим образцом этого рода построек, – она не была ни очень плоха, ни слишком роскошна. Построена она была в чисто восточном вкусе, т. е. она составляла четырехугольник, сложенный из груды камней, в один этаж, с плоской крышей, без окон и только с одним главным входом, дверью, служившей в то же время и воротами с восточной стороны, или спереди. Дорога так близко проходила возле двери, что меловая пыль почти наполовину прикрывала выступ над ней. Ограда из отесанных камней, которая начиналась от северо-восточного угла строения, сбегала на несколько ярдов вниз по склону и затем поворачивала к западу и заключалась известковыми утесами, составляя одну из существеннейших принадлежностей всякой благоустроенной канны – безопасную загородь для скота.
В городе, подобном Вифлеему, с одним шейхом, не могло быть более и одной канны. Рассчитывать же найти приют в городе наши назареяне не могли; они хотя и родились в Вифлееме, но давно уже не жили в нем. К тому же перепись, для которой они явились сюда, могла продолжаться целые недели, даже месяцы: представители римской власти в провинции были баснословно медлительны; не чего было думать навязывать себя и жену на такой неопределенный срок родственникам и знакомым, если бы таковые и оказались. Поэтому боязнь не найти помещения, охватившая Иосифа еще у колодца, по мере того как он приближался к строению, карабкаясь по склону, на трудных подъемах подгоняя своего осла, возросла до настоящего душевного беспокойства, чему содействовало и то, что теперь его путь пролегал через толпу народа. Мужчины и мальчики, попадавшиеся ему на каждом шагу, с великим трудом пробивали дорогу своему скоту – лошадям и верблюдам – и себе: одни спускаясь в долину, другие поднимаясь из нее, кто за водой, кто к соседним пещерам. Когда он подъехал к самой канне, боязнь его нисколько не уменьшилась: у двери стояла громадная толпа; ограда же, как ни была просторна, была уже битком набита. «К двери невозможно пробраться, – сказал Иосиф, по обыкновению растягивая слова. – Остановимся здесь и узнаем, если можно, что тут произошло». Не говоря ни слова, Мария спокойно отдернула покрывало. Выражение утомления, появившееся было на лице ее, быстро сменилось интересом к окружающему. Они были в хвосте сборища, которое несомненно способно было возбудить ее любопытство, хотя такие сборища – вещь очень обыкновенная для всякой канны на большой дороге, по которой проходят большие караваны. Тут были и пешеходы, снующие взад и вперед и кричащие громко и пронзительно на всех сирийских наречиях; всадники на лошадях, покрикивающие на хозяев верблюдов; люди, борющиеся, с сомнительным успехом, с угрюмыми коровами и с пугливыми овцами; продавцы хлеба и вина и между народа толпы мальчишек, гоняющихся за целыми стаями собак. Все и вся казалось двигалось и копошилось зараз. По всей вероятности, долго выносить такое зрелище прекрасной наблюдательнице оказалось не по силам: немного посмотрев, она вздохнула, спокойно уселась на седло и, как бы в поисках за тишиной и спокойствием, или в ожидании кого-то, отвернулась к югу, к высоким скатам горы Парадокс, покрытым южным розовым оттенком от заходящих лучей солнца.
В то время как она сидела таким образом и смотрела на юг, какой-то человек с сердитым лицом, протолкавшись сквозь толпу, остановился рядом с ослом. Назареянин заговорил с ним:
– Так как я принимаю вас за одного из тех, к которым и сам принадлежу, любезный друг, к сыновьям Иуды, то смею спросить, почему здесь собралось такое множество народа?
Незнакомец сердито обернулся, но, увидав торжественное лицо Иосифа и услыхав его спокойную и тихую речь, он поднял свою руку для полуприветствия и сказал:
– Мир тебе, рабби! Да, я из сынов Иуды и отвечу тебе. Я живу в Бет-Дагоне, находящемся, как вы знаете, в местности, называемой землей племени Дана.
– На дороге к Джеппе из Мадона, – сказал Иосиф.
– Ага, вы бывали в Бет-Дагоне, – сказал незнакомец с еще более любезным выражением лица. – Много нам, сынам Иуды, приходится путешествовать! Я уже давным-давно из гор старого Ефрата, как наш отец Иаков называл его. В чужих краях меня настигает декрет, призывающий всех евреев для переписи на место их рождения, вот в чем мое дело, рабби!
Лицо Иосифа оставалось неподвижным, как маска, когда он заметил:
– Мы оба пришли за тем же.
Незнакомец взглянул на Марию и ничего не сказал. Она глядела в это время на голую вершину Гедора. Солнце касалось своими лучами ее немного приподнятого лица и отражалось в глубокой синеве ее глаз; на ее полуоткрытых губах трепетало выражение вдохновения, совсем не свойственное смертным. Красота ее была положительно неземная: она походила на тех небожителей, как мы их себе представляем, которые стерегут ворота рая. Бетдагонит увидал тот оригинал, который несколько столетий после того явился во сне божественному Санцио и обессмертил его имя.
– Да, о чем я говорил? Ага, припоминаю. Я остановился на том, что я слышал о приказе, когда был вдали от родины. Услышав о нем, я сначала ужасно рассердился. Затем, вспомнив о старом холме, о городе, о долине, по которой течет глубокий Кедренский поток, о виноградниках и о садах, о засеянных полях, оставшихся неизменными со времен Вооза и Руфи, о старых знакомцах-горах, здесь Гедоре, там Гибеах, вон там Мар-Элис, которые были для меня границами мира во время детства, – вспомнив обо всем этом и забыв тиранов, я пришел сюда вместе с Рахилью, женой моей, и Деворой и Михалой – нашими скарронскими розами.
Мужчина снова умолк, бегло окинув взглядом Марию, смотревшую на него и прислушивавшуюся к его словам. Потом он сказал:
– Рабби, не лучше ли будет присоединиться спутнице вашей к нам? Жена с детьми вон там, под той склонившейся оливой, что стоит на повороте дороги. Уверяю вас, – он обернулся к Иосифу и говорил тоном, не допускающим сомнения, – канна сейчас полна. Напрасно будете узнавать.
У Иосифа воля была так же упорна, как и ум; он немного поколебался, но наконец ответил:
– Предложение ваше очень любезно. Во всяком случае найдется или нет помещение для нас в доме, мы сочтем долгом познакомиться с вашим семейством. Я переговорю здесь с привратником и скоро приду к вам.
И, передав повод незнакомцу, сам он протиснулся сквозь волнующуюся толпу.
Привратник сидел у ворот, на большом кедровом обрубке. Позади него к стене было прислонено копье. Возле него, на том же обрубке, сидела собака.
– Мир Иеговы да будет с тобою! – сказал Иосиф, приблизившись наконец к нему.
– Даваемое вами сторицею да возвратится вам и вашему дому, – ответил страж, не пошевелившись, однако, с места.
– Я вифлеемлянин, – сказал Иосиф, насколько мог непринужденнее. – Нет ли свободного помещения?
– Все занято.
– Вы, по всей вероятности, слыхали обо мне: я – Иосиф из Назарета. Дом этот – дом моих отцов. Ведь я происхожу по прямой линии от Давида.
На эти слова Иосиф возлагал большие надежды. Уж если они не выручат его, то все дальнейшие переговоры, до подкупа включительно, можно считать тщетными. Происходить от Иуды, в общественном мнении племени, уже много значило; происхождение же от Давида имело громадное значение и служило на еврейском языке высшей похвальбой. Тысячи лет прошли с тех пор, как мальчишка пастух сделался наследником Саула и основал династию. Войны, мятежи, смена царей и влияния времен низвели наследников его до уровня простых евреев; хлеб, который они ели, добывали они своим трудом, но за ними была история, почитавшаяся священной, а в ней генеалогия играла главную роль; они не могли впасть в неизвестность; и откуда бы они ни явились, одноплеменники их в Израиле выражали им уважение, доходившее до почитания.
Если так было в Иерусалиме и повсюду, то, конечно, и здесь, у двери вифлеемской канны, всякий принадлежащий к священной линии с полным основанием мог рассчитывать на свое происхождение. Сказать, как сказал Иосиф, «этот дом моих отцов», значило сказать истину в самом простом, буквальном смысле слова, так как это был тот самый дом, который принадлежал еще Руфи в качестве жены Вооза, – тот самый, в котором родились Иессей, его десять сыновей и сам Давид в числе их, – тот самый, куда Самуил приходил искать царя и где нашел его, – тот самый, который Давид отдал сыну Барзилая, дружественному Гилиадиту, – тот самый, наконец, в котором Иеремия своими молитвами спас остаток своего рода, убегавшего от вавилонян.
Ссылка на рождение произвела впечатление. Привратник слез с бревна и, приложив руку к бороде, сказал почтительно:
– Рабби, я не знаю, когда дверь эта в первый раз отворилась для того, чтобы пропустить путешественника, однако думаю, это случилось более тысячи лет тому назад, и за все это время ни разу не было случая, чтобы добрый человек нашел ее запертой, разве только в том случае, когда не было помещения; если же простому путешественнику отказывалось только по одной этой причине, то происходящий от Давида не может думать, чтобы ему отказывали почему-либо другому. Поэтому я прошу вас извинить. И если вам угодно последовать за мной, я проведу вас и вы сами удостоверитесь, что места нет не только в комнатах, льюинах и на дворе, но даже и на крыше. Позвольте узнать, давно ли вы прибыли?
– Только сейчас.
Привратник улыбнулся.
– Чужестранец, поместившийся под кровлей твоей, все равно, что твой родной, – люби его как самого себя. Ведь так гласит закон, равви?
Иосиф промолчал.
– Если же таков закон, то могу ли я сказать кому-нибудь, кто прибыл раньше: «Ступай своей дорогой, другой займет твое место?»
Иосиф все молчал.
– Если же бы я и сказал так, то кому же отдать преимущество? Посмотрите, сколько народу дожидается. Многие еще с полудня.
– Что это за народ, – спросил Иосиф, указывая на толпу, – и зачем они здесь теперь собрались?
– По тому же, без сомнения, делу, которое привело и вас сюда. Цезарский декрет, – привратник вопросительно посмотрел на назареянина и затем продолжал, – собрал здесь большую часть людей. А вчера прибыл еще караван, проходящий из Дамаска в Аравию и в Нижний Египет. Вот верблюды и люди этого каравана.
Иосиф настаивал:
– Ведь двор просторен, – сказал он.
– Да, но он завален сейчас кладью – кипами шелка, мешками с пряностями и тому подобным.
Тогда на мгновение выражение лица просителя изменилось: лишенные блеска глаза безнадежно опустились, и он мягко произнес:
– Я не о себе хлопочу, но со мной Мария, а ночь здесь холодна, холоднее, чем в Назарете. Ей нельзя ночевать на открытом воздухе; не найдется ли в городе помещения.
– Все вот эти, – привратник сделал движение рукой по направлению к толпе, – думали сначала поместиться в городе, но возвратились, – говорят, что в городе все места битком набиты.
Иосиф сделал еще одну попытку, замечая как бы про себя:
– Она так молода! Если ей придется ночевать наружи, мороз убьет ее!
Потом он снова обратился к привратнику.
– Может, вы знаете и родителей ее, Иоакима и Анну из Вифлеема, также колена Давидова.
– Да, я знал их. Хорошие были люди. Тогда я был молод.
Глаза привратника в раздумье смотрели в это время в землю. Вдруг он приподнял голову.
– Если уж я не могу найти вам комнаты, – сказал он, – то и не отпущу вас так отсюда. Все, что могу сделать, я сделаю. Сколько вас?
Иосиф подумал и сказал:
– Моя жена и мой друг с семейством из Бет-Дагона, маленького города за Джеппой, всего шестеро.
– Ладно. Вы не будете спать на открытом воздухе. Приводите поскорее ваших, солнце уже закатывается, а вы должны знать, что ночь здесь быстро наступает, и скоро наступит.
– Теперь я благословляю вас как бездомный путник, а затем благословлю как человек, нашедший у вас приют.
Произнеся это, Иосиф радостно пошел к Марии и к Бетдагониту. Тот быстро собрал своих; женщины сели на ослов. Жена его была женщина почтенных лет, дочери очень походили на мать; когда они подъехали к двери, привратник мог заметить, что они принадлежат к низшему классу народа.
– Вот та, о которой я говорил вам, – сказал назареянин, – а это вот мои друзья.
Покрывало Марии было снято.
– Синие глаза и золотые волосы, – пробормотал про себя привратник, смотря на нее одну. – Таков же вот был и молодой царь, когда он шел петь перед Саулом.
Он взял повод из рук Иосифа и сказал Марии:
– Мир вам, дочь Давида! – А обращаясь к другим: – Мир всем вам! – и пригласил Иосифа следовать за собой.
Через широкий, вымощенный камнем проход они вошли на двор канны. Для незнакомца картина двора показалась бы любопытной; они же обратили исключительно внимание на льюины, со всех сторон зиявшие на них черными пастями; относительно же двора успели заметить только то, что он был переполнен толпой. Узким проходом, между грудами клади, а потом таким же проходом, как и в воротах, они проникли в смежную с домом ограду, где увидали дремлющих верблюдов, лошадей и ослов; между ними там и сям виднелись их хозяева различных национальностей: они также или спали, или стерегли своих животных. Затем они спустились по склону переполненного народом двора и медленно, повинуясь неповоротливости своих животных, повернули наконец на дорожку, извивавшуюся по направлению к серому известковому утесу, господствовавшему под канной с западной стороны.
– Мы идем к пещере, – заметил вскоре Иосиф.
Проводник замедлил шаги, дожидаясь, пока Мария поровняется с ним.
– Пещера, в которую мы идем, – сказал он ей, – служила убежищем предку вашему, Давиду. Вот с того поля и от колодца, что в долине, он сгонял сюда свои стада, укрывая их от опасности, а после, когда он сделался царем, чтоб отдохнуть и на покое насладиться богатством, он возвратился снова сюда, в старый дом, приведя с собой множество скота. Ясли с тех пор остались нетронутыми. Спать на полу, там, где он спал, лучше, чем на дворе или при дороге. А вот и дом, за ним сейчас и пещера.
Речь эта не должна быть принята за обычные в подобных случаях расхваливания предлагаемого жилища. Не было в этом нужды; место действительно было из лучших. Посетители принадлежали к простому народу, неизбалованному жизнью, и к тому же для еврея того времени укрываться в пещере было делом самым обыкновенным; она часто служила убежищем и теперь, как и в древности, о чем не раз он слышал по субботам в синагогах. Сколько выдающихся событий в еврейской истории произошло в пещерах! К тому же все наши путешественники принадлежали к вифлеемским евреям, которым менее всего могло показаться странным – провести так ночь, ибо местность их изобилует всевозможными пещерами, из которых некоторые служили обычным жильем еще со времени Емима и Хорреев. Для них не могло быть ничего оскорбительного и в том, что пещера, в которую они шли, когда-то, а может и теперь еще, служила хлевом. Все они происходили из племени пастухов, деливших со своими стадами и странствования и места ночлегов. Привычка эта до сих пор сохранилась у бедуинов, палатка которого служит кровом как лошадям, так и детям его. Поэтому они весело следовали за привратником, глядя с любопытством на дом: все, что было связано с именем Давида, интересовало их.
Строение это было низко, узко и без окон, крайне незначительно выступая от скалы, к которой оно было прислонено заднею частью. В передней части была дверь, вращавшаяся на огромных петлях, вымазанная желтою глиной. Пока отодвигали деревянный засов, женщины слезали с своих ослов. Привратник, отворивши дверь, пригласил их войти:
– Войдите!
Путники вошли и изумились. Вскоре они рассмотрели, что дом служит только маской или прикрытием для входа в естественную пещеру или грот футов сорока в длину, девяти или десяти в вышину и двенадцати или пятнадцати в ширину. Свет из отворенной двери падал на неровный пол, освещая груды зерна и сена, глиняной посуды и домашней утвари, занимавших середину пещеры. По стенам были устроены невысокие ясли для овец из камня, скрепленного цементом. Стойл или каких бы то ни было перегородок не существовало. Пыль и мякина покрывали пол, наполняли каждую трещину и отверстие и толстым слоем лежали на паутине, грязными нитями спускавшейся с потолка; когда-то место это было чисто и, судя по виду, не уступало сводчатым льюинам канны. Ведь пещера и послужила образцом для льюины.
– Войдите! – сказал проводник. – Распоряжайтесь всем, что здесь есть, как своей собственностью: все это приготовлено для путешественников. Берите, что вам надо!
Потом он сказал Марии:
– Будет ли вам здесь удобно?
– Место это священно, – отвечала она.
– Так оставайтесь здесь. Мир да будет со всеми вами!
По его уходе они занялись устройством своего жилища.
Глава X. Падающая звезда
В определенный час вечера крики и ходьба в канне и вокруг нее стихли: в этот час каждый израильтянин поднимался даже со своего ложа и, сложив благоговейно руки на груди, молился, обратившись в сторону Иерусалима. То был священный девятый час, тот час, в который приносилась жертва в храме на горе Мориа и когда Бог, как думали, Сам присутствовал при жертвоприношении. Молитва кончена и движение возобновились: одни спешили поесть, другие – улечься на ночлег. Еще немного – огни потушены, водворяется молчание, и все спят.
* * *
Около полуночи кто-то из спавших на полу закричал: «Что это за свет на небе? Проснитесь, братья, смотрите!»
Многие поднялись и вначале не могли прийти в себя, но скоро сон отлетел и все поражены были изумлением. Движение охватило и двор, и льюины; все постояльцы двора, дома и ограды высыпали наружу и глядели на небо.
И вот что они там увидели: косой луч света с высоты, неизмеримо низшей самых ближайших звезд, падал на землю. Луч этот, суживаясь в конце в острие, в основании был шириною в несколько стадий; края его незаметно сливались с мраком, в середине же он блистал сильным розовым блеском. Явление это, казалось, остановилось на ближайшей горе к юго-востоку от города, образовав бледно-желтую корону вдали над ее вершиной. Луч так ярко освещал канну, что все вышедшие наружу могли разглядеть удивление, выражавшееся на лице каждого.
Проходили минуты, а явление продолжалось, оставаясь на том же месте неподвижным.
Удивление сменилось благоговением и страхом, робкие дрожали; более смелые говорили шепотом:
– Случалось ли вам когда видеть нечто подобное? – спрашивал один. – Как будто это за горой.
– Не знаю, что это такое, да и никогда мне не приходилось видеть ничего подобного, – был ответ.
– Быть может, это падучая звезда? – спрашивает заикаясь другой.
– Когда звезда падает, она потухает.
– Я знаю, что это! – вскрикивает с уверенностью третий. – Пастухи приметили льва и зажгли огонь, чтобы отпугнуть его от стада.
Человек, стоявший рядом с говорившим, вздохнул и, сильно успокоенный, сказал:
– Да, да, именно это! Стада пасутся там в долине, что за горой.
Сосед снова встревожил его:
– С этим предположением я не могу согласиться: хотя бы весь лес долин иудейский снести и сложить в костер и зажечь его, то и тогда пламя не было бы так ярко и не могло бы подниматься так высоко.
После этого наступило молчание, прерванное только однажды за все время, пока продолжалось таинственное явление, восклицанием одного еврея почтенной наружности.
– Братья, – сказал он, – это лестница, которую наш отец Иаков видел во сне. Да будет благословен Бог отцов наших!
Глава XI. Великая ночь
На юго-востоке от Вифлеема, в полутора или двух милях от него, есть долина, отделенная от города горным отрогом. Таким образом с севера эта долина хорошо защищена от ветров; она покрыта богатой растительностью, среди которой возвышаются дикая смоковница, малорослые дубы и сосны; долы же и рвы, прилегающие к ней, поросли густой чащей оливковых и тутовых кустарников. Благодаря всему этому, долина, в описываемое время года, служила неоцененным местом для пастьбы овец, коз и рогатого скота.
На стороне, более удаленной от города, совсем под утесом, издавна существовал просторный мара, или загон. Давно заброшенное здание было без крыши и почти разрушено. Загородь же, прилегающая к нему, оставалась почти нетронутой, а это было чрезвычайно важно для пастухов, которые обращали гораздо более внимания на загородь, нежели на дом. Каменная стена, служившая оградой, вышиной была только в рост человека и не могла почти служить препятствием для голодного льва или пантеры, если бы они вздумали поживиться. Но для полного устранения опасности с внутренней стороны стены был посажен рамуус, образовавший такую хорошую ограду, что, пожалуй, воробей задумался бы попытаться проникнуть внутрь, сквозь переросшие стену ветви, вооруженные твердыми, как гвоздь, колючками.
В день происшествий, описанных в предыдущих главах, несколько пастухов, отыскивая место для пастьбы скота, завели его в эту долину. И с раннего утра еще рощи и перелески оглашались криками пастухов, ударами бича, блеянием овец и коз, позваниванием колокольчиков, мычанием рогатого скота и лаем собак. На закате солнца они пригнали его к мара, и, с наступлением ночи, весь скот уже был загнан; тогда они разложили костер у входа, скромно поужинали и расположились отдохнуть и поболтать между собою, оставив одного пастуха сторожить.
С уходом сторожевого, вокруг огня осталось шесть человек; одни из них сидели, другие лежали на земле. Так как обыкновенно они ходили с обнаженными головами, то волосы сбились на их головах в толстые, грубые, выжженные солнцем копны, спутанные бороды закрывали их шеи и падали на грудь; они были закутаны с шеи до колен в плащи из кожи телят и ягнят, шерстью наружу; руки оставались голые; широкие ремни опоясывали на талии их грубую одежду; сандалии на ногах были самые простые (грубые); с правого плеча свешивались у них сумки, содержавшие пищу и камни, годные для бросания из пращи, которой они были вооружены; на земле около каждого из них лежал посох, символ их звания и орудие их защиты.
Таковы были иудейские пастухи. По наружности такие же грубые и дикие, как и их худые собаки, сидящие с ними вокруг пламени. На самом деле это были простодушные, мягкосердечные люди. Последние качества нужно приписать частью их первобытному образу жизни, главным же образом их постоянной заботе о существах, беспомощных и любимых ими.
Они отдыхали и разговаривали; предметом их разговора были стада, неинтересным, быть может, для других, для них же – составлявшим все. Рассказы их переполнены мелочами о самых ничтожных событиях; если кто-нибудь из них рассказывал, например, о пропаже ягненка, он не пропускал ни малейшей подробности; и в этом нет ничего удивительного. Стоит только припомнить узы, связывавшие пастуха с этим пропавшим ягненком: с самого рождения ягненок делался частью его паствы, о нем он должен был заботиться с самых первых дней жизни; перетаскивать через потоки, стаскивать в ложбины, словом, быть его и восприемником и воспитателем; затем он становился его товарищем, предметом его дум и забот, вполне зависимым от него; в своих перекочевках он делил с ним радость и горе, и, наконец, в минуту грозящей опасности он являлся единственным его защитником и каждую минуту должен быть готовым даже и жизнь свою положить за него. Все же великие события, слух о которых случайно достигал и до них, события, сметающие с лица земли целые нации и изменяющие течение истории, для них были ничтожными пустяками. О деятельности Ирода в этом городе, о постройке им дворцов и училищ и о допущении запрещенных обычаев им приходилось узнавать стороной: Рим в те времена не имел обыкновения прислушиваться к голосу народа, никогда с охотой не обращавшегося к нему; он действовал самостоятельно. Нередко бывало, что пастух, перегоняя по холмам свое утомленное стадо, или же сидя с ним в каком-нибудь безопасном местечке, вдруг слышал музыку и, выскочив на звуки труб, видел марширующие когорты, иногда же и целые легионы. Исчезнут блестящие шишаки, пройдет возбуждение, вызванное необыкновенным зрелищем, и он начинает размышлять о значении всех этих орлов и золоченых шаров, пронесенных перед ним солдатами, и сравнивает свою простую жизнь с жизнью прошедших мимо него блестящих людей.
Однако эти простые и грубые люди обладали своеобразной мудростью и знанием. По субботним дням они обыкновенно принимали опрятный вид и шли в синагоги, где помещались на самых дальних скамьях. Никто усерднее их не целовал Тору, когда ее обносил хазан; никто с более сильной верой не вслушивался в толкование Священного Писания, никто не выносил более из проповеди старейшин и уж, во всяком случае, никто больше них не думал после об этой проповеди. В стихах Шема они находили для себя все: и учение и закон. Все учение и весь закон для этих простых людей заключались в том, что Господь их Един Бог и что они должны любить Его всей душой. И они любили Его; в этом и состояла их мудрость, превосходящая мудрость царей. Разговор их продолжался не долго, и не прошла еще и первая стража, как все они, один за другим, заснули тут же, у костра.
Как и всегда в гористых местностях зимой, ночь стояла ясная, холодная и сияла звездами. Воздух был необыкновенно прозрачен. Было тихо, но тишина эта происходила не только от безветрия: это было святое молчание, предуведомление о том, что небо снисходит и несет внемлющему благую весть.
У дверей ходил сторожевой, крепко закутавшись в плащ; по временам он останавливался, заметив движение в стаде или заслышав за горой вой шакала. Медленно, казалось ему, приближалась полночь. Но вот наступила и желанная минута: он исполнил свою обязанность, пора теперь и на покой; придет он сейчас, ляжет и проспит до утра без всяких снов, как спят все труженики вообще. Он уже двинулся к огню, но на дороге остановился, заметил какой-то необыкновенный свет, мягкий, белый, похожий на лунный. Затаив дыхание, он не шевелился. Свет усиливался; предметы, которых за минуту перед тем нельзя было различить, стали выделяться: поле, скрытое от его глаз, теперь все было на виду. Острый холод, превосходящий холод морозного воздуха, холод ужаса, пронизал его. Он взглянул на небо: звезд не было видно, и свет как будто исходил из разверзшихся небес; пока он смотрел, свет, все усиливаясь и усиливаясь, превратился в блеск, и он в ужасе закричал:
– Вставайте, вставайте!
Собаки вскочили и с воем убежали.
Испуганный скот сбился в кучу.
Люди поднялись на ноги с оружием наготове.
– Что такое? – спросили они в один голос.
– Смотрите! – кричит сторож. – Небо горит!
Вдруг свет сделался нестерпимо ярок; все закрыли глаза и опустились на колени; сердца их сжались от ужаса, и они пали ниц, бледные, в состоянии близком к обмороку, и, наверно, умерли бы от страха, если бы не услыхали голоса, говорившего им:
– Не бойтесь!
Они стали прислушиваться.
– Не бойтесь: я возвещаю вам великую радость для всех людей.
Голос тихий и внятный, по своей мягкости и нежности превосходящий голос человеческий, проник им в души и вселил уверенность. Они приподнялись на колена и, с благоговением поднявши взоры, увидели перед собой образ человека, окруженный великим сиянием; он был в одеянии нестерпимой белизны; над плечами у него виднелись вершины блестящих сложенных крыльев; звезда над головой его сияла необычайным светом; он простер к ним руки, как бы благословляя их; бесплотное лицо его сияло божественной красотой.
Им часто приходилось слыхать и самим, по-своему, говорить об ангелах; теперь они с уверенностью говорили в сердцах своих: «С нами Бог, а это тот, кто некогда являлся пророку на реке Улай».
Ангел же говорил: «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь».
Он смолк, как бы выжидая, чтобы слова его запечатлелись в их душах.
– И вот вам знак! – продолжал провозвестник. – Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях.
Он смолк: благая весть, принесенная им, была сообщена. Но он еще не исчезал. Свет, окружавший его, вдруг сделался розовым и начал мерцать; и в то же время вверху, на высоте, едва доступной взору человеческому, стали видны взмахивания крыльев, происходящие как будто от множества лучезарных образов, летающих взад и вперед, и послышалось пение множества голосов, взывающих: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, и в человецех благоволение».
Пение повторилось многократно.
Потом провозвестник поднял свой взор кверху, внемля кому-то на недоступной вышине; крылья его заколыхались и начали расправляться плавно и величественно, сверху они были белы, как снег, снизу же блистали радужными цветами перламутра. Когда они расправились совсем, он поднялся с земли легко, без всяких усилий и исчез из виду, окруженный сиянием. Долго еще после того, как он исчез, с неба доносилось славословие, постепенно делаясь все тише и тише: «Слава в вышних Богу и на земли мир, и в человецех благоволение».
Когда пастухи пришли в себя, они с недоумением глядели друг на друга, пока один из них не произнес:
– То был Гавриил, посланник Бога к людям.
Все промолчали.
– Ведь он сказал, что Бог Христос родился?
Тогда и к другому вернулся голос, и он ответил:
– Он сказал именно это.
– Ведь он сказал также и то, что это в городе Давида, стало быть, в нашем Вифлееме, – и еще, что мы найдем там младенца в пеленах.
– Лежащим в яслях.
Первый из говоривших смотрел задумчиво на огонь и наконец, как будто бы найдя искомое решение, произнес:
– Только ведь в одном месте в Вифлееме и есть ясли, это в пещере, близ старой канны.
– Братья, пойдемте, посмотрим, что там. Старейшины и ученые давно уже ищут Христа. И вот Он родился, и Бог дал нам знамение, по которому мы узнаем Его. Пойдемте, поклонимся Ему.
– А как же стада?
– Бог позаботится о них. Спешим!
Тогда они все разом оставили мара.
* * *
Они обошли гору и городом проникли к воротам канны, у которых стоял привратник.
– Что вам надо? – спросил он.
– Мы видели и слышали великие знамения нынешней ночью, – ответили они.
– И мы видели сегодня знамения, но ничего не слышали. Что же вы слышали?
– Дозволь нам пройти к пещере, которая в ограде, чтобы увериться в слышанном, потом мы тебе все расскажем. Пойдем с нами, увидишь и сам.
– Ничего я там не увижу.
– Увидишь: Христос родился.
– Христос?! Да вы-то откуда знаете?
– Прежде пойдем и посмотрим.
Привратник презрительно засмеялся:
– А если и Христос, так как же вы узнали его?
– Родился он нынче ночью и сейчас лежит в яслях, так нам сказано; а в Вифлееме только в одном месте и есть ясли.
– В пещере?
– Да. Идем же с нами.
Они прошли двором, не обратив на себя внимания, хотя многие еще не спали, разговаривая о чудесном свете. Так как дверь в пещеру была отперта и внутри был виден свет от фонаря, то они прямо вошли в нее.
– Мир вам, – сказал привратник Иосифу и Бет-Дагониту. – Вот здесь прошли люди, которые разыскивают младенца, родившегося нынешней ночью; они думают признать его по тому, что он спеленат и лежит в яслях.
В этот момент простодушное лицо Иосифа выразило волнение и он сказал: «Вот тут есть дитя».
И он провел их к яслям; в них был действительно ребенок. Принесли фонарь, и пастухи в молчании остановились возле яслей.
– Где же мать? – спросил привратник.
Одна из женщин, взяв на руки ребенка, подошла к Марии, лежавшей неподалеку, и вручила ей младенца.
– Это и есть Христос, – сказал наконец пастух.
– Христос! – повторили все, упав с молитвой на колени. Один из них повторил:
– Это Бог, и слава его превыше неба и земли.
И облобызав полы платья у матери, эти простые люди удалились с сердцами, переполненными радостью. В канне они рассказали собравшемуся и теснившемуся вокруг них народу все происшедшее с ними. И на обратном пути в мара все время они повторяли славословие, слышанное ими от ангелов: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, и в человецех благоволение!»
Рассказ их быстро распространился, так как свет, виденный всеми, служил как нельзя более подтверждением его. В последующие дни пещера посещалась любопытствующей толпой: многие поверили, большинство же относилось с улыбкой сомнения.
Глава XII. Три волхва
В одиннадцатый день по рождении в пещере младенца три мудреца приближались к Иерусалиму по Сихемской дороге. День клонился к вечеру. Переехав Кедронский поток, они стали чаще встречать народ; все встречающиеся заинтересовывались ими.
Иудея по необходимости служила международной проезжей дорогой: узкий хребет, служивший границей пустыни, с востока, и море на западе, как нельзя более благоприятствовали этому; по нем сама природа начертила путь для торговли востока с югом. Это обстоятельство служило источником богатств для Иудеи; другими словами, всем своим богатством Иерусалим обязан был исключительному географическому положению, благодаря которому он мог облагать пошлиной всю мимоидущую торговлю. По этой же причине, нигде, кроме Рима, не собиралось такое множество народа всевозможных национальностей, и нигде иностранец не привлекал менее внимания коренных жителей, как в стенах и в предместьях Иерусалима. И все-таки эти три человека возбуждали интерес во всех, встречающихся им по дороге. При дороге, на стороне, противоположной гробнице царей, сидело несколько женщин; дитя, принадлежащее одной из них, увидав эту группу путешественников, захлопало в ладошки и закричало:
– Смотрите, смотрите: вот так колокольчики! Какие большие верблюды!
Колокольчики на верблюдах были серебряные, и сами верблюды, как мы видели, были не совсем обыкновенных размеров, белые и двигались в замечательном порядке; упряжь их говорила о долгом путешествии по пустыне и указывала на богатство хозяев, восседавших на спинах верблюдов совершенно в том же положении, в каком явились на свидание. Но не колокольчики, не верблюды и не упряжь их, точно так же, как и сами всадники не вызывали изумления: изумлял и заинтересовывал всех вопрос, предлагаемый человеком, ехавшим на переднем верблюде.
С севера дорога к Иерусалиму идет через равнину, постепенно понижающуюся к югу, так что Дамасские ворота находятся как бы в канале, или в углублении. Дорога узка, но хорошо убита многочисленными путешественниками; только кое-где булыжники, обнаженные дождевыми потоками, мешают идти по ней. По сторонам ее в старину раскидывались поля и богатые роскошной листвой красивые оливковые рощи, что делало дорогу прекрасной, в особенности же для путешественников, оставивших за собой необъятный простор пустыни.
На этой-то дороге, у гробницы, три путника встретили людей, шедших им навстречу, и остановились перед ними.
– Добрые люди, – сказал Валтасар, поглаживая бороду и несколько наклонившись с сиденья, – до Иерусалима ведь уже недалеко?
– Да, – отвечала женщина, на руках у которой был ребенок, дрожавший теперь от страха, – если бы вон те деревья на холме не мешали, можно бы было видеть уже башни рынка.
Валтасар переглянулся с греком и с индусом и спросил:
– Где здесь новорожденный царь иудеев?
Женщины посмотрели друг на друга и ничего не ответили.
– Вы разве не слыхали о нем?
– Нет.
– В таком случае говорите всем, что мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему.
Сказав это, путники тронулись дальше. Тот же вопрос они предлагали и другим, но одинаково безуспешно. Встретившаяся им по пути к гроту Иеремии толпа так сильно была удивлена вопросом и видом путешественников, что вернулась и последовала за ними, к городу.
Путешественники настолько поглощены были мыслью о своей миссии, что совсем не обращали внимания на окружающее; а вид, который открывался перед ними, стоил того, чтобы залюбоваться им. На Бизите – ближайшая к ним деревня; слева возвышались Миспа и Оливет; за деревней стена с ее сорока высокими, массивными башнями, построенными частью для обороны, частью для удовлетворения вкуса архитектора-царя; эта стена, с высившимися башнями, образуя своими зубцами ряд правильных прорезов, убегала направо к трем белым башням – Фасаэль, Мариамна и Гиппикус; за ней красовался Сион, высочайший из холмов, увенчанный мраморными дворцами; храм на Морие, считавшийся одним из чудес, блистал своими террасами; и царственные горы, окружая священный город, образовали собою как бы громадную чашу, на дне которой стоял Иерусалим.
Наконец они подъехали к высокой крепкой башне, господствовавшей над теми воротами, которые соответствовали в то время современным Дамасским воротам, и отмечавшей место, где сходились три дороги: из Сихема, Иерихона и Гаваона. Римский часовой стоял у ворот. Толпа, следовавшая за верблюдами, успела к этому времени возрасти настолько, что ею заинтересовались зеваки, шатавшиеся у ворот, и когда Валтасар остановился для переговоров с часовым, они были уже центром довольно многочисленной группы, столпившейся послушать и поглазеть на них.
– Мир вам! – сказал внятно египтянин.
Часовой ему не ответил.
– Мы пришли издалека, в поисках за новорожденным царем иудейским. Не можете ли вы указать нам, где он находится.
Солдат поднял забрало своего шлема и громко крикнул. Из помещения, с правой стороны ворот, появился офицер.
– Дорогу! – кричал он, пробиваясь сквозь толпу, увеличивающуюся все более и более, и так как ему повиновались неохотно, он выставил свой дротик; быстро вертя им направо и налево, он прочистил себе дорогу.
– Что вам надо? – обратился он к Валтасару на местном наречии.
На том же языке Валтасар отвечал ему:
– Где здесь родившийся царь иудеев?
– Ирод? – спросил сбитый с толку офицер.
– Царствование Ирода от Цезаря: не Ирода нам надо.
– А другого нет царя иудеев.
– Но мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему.
Римлянин окончательно недоумевал.
– Проходите дальше, – наконец произнес он, – идите дальше: я не еврей. Спросите у ученых в храме или же у первосвященника Анны, лучше же всего у самого Ирода. Если есть другой царь иудеев, он разыщет его.
После этого он пропустил чужестранцев, и они прошли в ворота. Но тут Валтасар, прежде чем направиться дальше, по узким улицам, остановился и сказал своим друзьям:
– Об нас уже многие узнали; к полночи весь город будет знать о нашей миссии. Итак, поедемте в канну.
Глава XIII. Собрание синедриона
В тот же вечер, перед закатом солнца, несколько женщин мыли белье на верхней ступеньке лестницы, спускавшейся к бассейну купели Силоамской. Каждая из них стояла на коленях пред большим глиняным сосудом. Та девушка, которая стояла внизу лестницы, должна была приносить им воду. Она пела, черпая ее. Песня была веселая и, без сомнения, облегчала им труд. По временам они присаживались и смотрели на Офелский склон, из-за которого возвышалась называемая в наше время гора Оскорбления, окрашенная нежными красками под лучами заходящего солнца.
В то время как они, опустив свои руки в сосуды, терли и полоскали белье, к ним подошли еще две женщины с полными кувшинами на плечах.
– Мир вам, – сказала одна из пришедших.
Работницы остановились, присели и, стряхнув с рук воду, ответили на приветствие.
– Ночь близко; пора кончать.
– Нужно вот работу окончить, – отвечали они.
– Но время уж кончить и…
– Послушать новости, – вмешалась другая.
– А что, есть новости?
– Разве вы не слыхали?
– Нет.
– Говорят, что Христос родился, – сказала одна и приготовилась рассказывать.
Любопытно было посмотреть на оживление, которое выразилось на лицах работниц; перевернув свои сосуды, они быстро превратили их в сиденья.
– Христос! – вскричали слушательницы.
– Да, говорят, что Он.
– Кто же говорит?
– Да все.
– А верят-то все ли?
– Сегодня перед вечером три человека через Кедронский поток выехали на Сихемскую дорогу, – ответила обстоятельно говорящая, желая тем уничтожить всякое сомнение. – Все они ехали на одинаковых верблюдах, совершенно белых и таких высоких, каких в Иерусалиме и не видывали.
Слушательницы были крайне заинтересованы.
– Путники эти – люди знатные и богатые, – продолжала рассказчица, – что видно из того, что они помещались под шелковыми палатками; пряжки на их седлах и бахрома поводьев золотая, а серебряные колокольчики звенели, как настоящая музыка! Никто их не знал. По-видимому, они пришли издалека. Только один из них разговаривал и обращался ко всякому по дороге – даже к женщинам и детям, с одним неизменным вопросом: «Где царь Иудеев?» Никто им не отвечал. Никто не понимал, чего они хотят. Так проходили они, говоря: «мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». В воротах они обратились с тем же вопросом к римлянину; последний, понимая не более чем и простонародье, встречавшееся им по дороге, направил их к Ироду.
– Где же они теперь?
– В канне. Множество народу уже приходило, и еще большее количество идет посмотреть на них.
– Кто они?
– Никто не знает. Говорят, что это персы мудрецы-гадатели по звездам, а может быть пророки, вроде Илии, Иеремии.
– Кого они разумеют под именем царя Иудеев?
– Христа, и что Он будто бы только что родился.
Одна из женщин засмеялась и принимаясь снова за свою работу, сказала:
– Хорошо; если я Его увижу, я уверую в Него.
Другая последовала ее примеру.
– И я также, – сказала она, – если увижу, что Он воскрешает мертвых, уверую.
Третья спокойно заметила:
– Давно уже предвещали Его пришествие. Для меня достаточно было бы увидать, что Он исцелил хоть одного прокаженного.
Так, в разговорах они просидели до самого наступления ночи, когда холодный воздух разогнал их по домам.
* * *
Позже, вечером, в начале первой стражи на Сионской горе во дворце состоялось собрание приблизительно 50 лиц, никогда не собиравшихся иначе, как по требованию Ирода, и то, когда последнему требовались объяснения каких-либо запутанных мест еврейского права и истории. Короче, это было собрание учителей, первосвященников, докторов, наиболее известных в городе своей ученостью, руководителей общественного мнения, истолкователей разных сект: саддукеев, фарисеев и спокойных, мягкоречивых стоических философов, и ессеев-социалистов. Собрание состоялось в одной из внутренних зал дворца, в комнате, украшенной в романском стиле. Пол был из мозаики, выложен мраморными плитами в виде шахматной доски; стены без окон были украшены фресками с панелями шафранно-желтого цвета; диван занимал середину комнаты, он был обложен ярко-желтыми подушками и имел форму буквы U, обращенной раскрытым концом ко входной двери; в излучине дивана, или в изгибе буквы, помещался большой бронзовый треножник изящной работы с инкрустацией из золота и серебра; над ним с потолка спускалась люстра с семью бра, в каждом из которых помещались светильники. Диван и лампы были совершенно в еврейском стиле.
Общество, по восточному обычаю, сидело на диване в однообразных костюмах, но различных цветов. Это были люди по большей части почтенных лет; большие бороды обрамляли их лица; носы их были крупные, а большие черные глаза резко оттенены были черными бровями; держали они себя важно, с достоинством, подобно патриархам. Словом, это было заседание Синедриона.
Человек, сидевший перед треножником во главе дивана, имея по обеим сторонам остальных присутствующих, был, очевидно, главой собрания, и наиболее заслуживал внимания наблюдателя.
Это был человек высокого роста, но страшно сморщенный и сгорбившийся; его белое платье ниспадало с плеч складками, не обнаруживая никаких намеков на мускулы и как бы обтягивая угловатый скелет. Руки, на половину скрытые шелковыми рукавами с белыми и малиновыми полосами, покоились сложенными на коленях. Когда он говорил, большой палец правой руки по временам конвульсивно вздрагивал; и казалось, что это было единственное движение, на которое он был способен. Но голова его была великолепна. Редкие волосы, как тонкие серебряный нити, обрамили его затылок; на широком, совершенно обнаженном черепе кожа блистала ослепительно; виски глубоко впали, отчего лоб выступал еще резче вперед, как неприступная скала; глаза были бесцветны и тусклы; нос приплюснуть; вся нижняя часть лица закрыта длинной, почтенной бородой, как у Аарона. Таков был вавилонянин Гиллель! Давно ученые сменили пророков, уже исчезнувших в Израиле, и он считался первым, по своей учености, пророком во всем, кроме божественного откровения. Хотя ему было уже 106 лет, он все еще состоял главою большого училища.
На столе перед ним лежал развернутый свиток или пергамент, покрытый еврейским письмом; за ним в выжидательной позе стоял богато одетый паж.
Шли дебаты. Но в описываемый момент собрание пришло уже к решению, и каждому, по-видимому, хотелось отдохнуть; почтенный Гиллель позвал пажа:
– Слышь!
Юноша почтительно приблизился.
– Поди, скажи царю, мы готовы дать ему ответ.
Мальчик поспешно удалился.
Спустя некоторое время вошли два офицера и стали по бокам дверей; за ними медленно появился старик, поразительный по внешности, одетый в пурпуровую мантию, опушенную багрецом и охваченную в талии золотым поясом такой тонкой работы, что сгибался, как кожа; пряжки башмаков искрились драгоценными камнями… Узкий филигранный венец красовался над тарбушем из нежнейшего алого бархата, который, покрывая его голову, спускался на плечи, оставляя открытыми переднюю часть гортани и шею. Вместо печати с его пояса свешивался кинжал. Старик шел прихрамывая, тяжело опираясь на посох. Он прямо направился к дивану, все время смотря в землю; потом, как бы вспомнив, что он перед собранием, и пробуждаясь в его присутствии, он выпрямился и надменно обвел глазами собрание, как будто подозревая во всех присутствующих только своих врагов: мрачен, подозрителен и грозен был его взгляд. Таков был Ирод Великий – с телом, изнуренным болезнями, с совестью, запятнанной преступлениями, с умом, богато одаренным, с душой, родственной Цезарю; уже 67-летним стариком он бдительно охранял свой трон, и являлся безжалостным деспотом и жестоким властелином. В собрании произошло общее движение: одни приветствовали его саламом, другие почтительно приподнимались, низко коленопреклоняясь, причем руки прикладывали к бороде или груди.
Осмотревшись, Ирод приблизился к треножнику, помещавшемуся перед почтенным Гиллелем, который отвечал на его холодный взгляд наклонением головы и легким поднятием рук.
– Ответ! – сказал царь с величавой простотой, обращаясь к Гиллелю и опираясь обеими руками на свой посох. – Ответ! – Глаза патриарха кротко засветились: подняв голову и глядя прямо в лицо вопрошавшему, он отвечал, сосредоточивая на себе все внимание присутствующих.
– О царь, да будет с тобою мир Бога Аврама, Исаака, Иакова! – так начал он, и затем продолжал: – Ты спросил нас о том, где должен родиться Христос?
Царь утвердительно кивнул головой, хотя его злые глаза были по-прежнему устремлены на мудреца.
– Да, я спрашивал об этом.
– Слушай же, царь: говоря от себя и от лица всех присутствующих братьев, я утверждаю, что Христос родится в Вифлееме Иудейском.
Гиллель взглянул на пергамент, лежавший на треножнике, и, указывая своим дрожащим пальцем, продолжал:
– В Вифлееме Иудейском; ибо так написано у пророка: «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных; ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой, Израиля» (Мих. 5, 2).
Лицо Ирода было неспокойно, и глаза его блуждали по пергаменту все время, пока он думал. Окружающие, глядя на него, притаили дыхание; водворилось всеобщее молчание. Наконец он повернулся и вышел из комнаты.
– Братья, – сказал Гиллель, – мы можем разойтись.
Присутствующие поднялись и стали расходиться.
– Симеон, – сказал снова Гиллель.
Человек лет пятидесяти, но по наружному виду совершенный юноша, откликнулся на его голос и подошел к нему.
– Возьми, сын мой, священный пергамент и сверни его осторожно.
Приказание было исполнено.
– Теперь дай мне твою руку; пойдем к носилкам.
Сильный человек наклонился; старик своими дряблыми руками оперся на него и, встав, колеблющимися шагами направился к двери.
Так удалились знаменитый Гиллель и Симеон, сын его, наследник мудрости, учености и сана своего отца.
* * *
Позже, вечером, волхвы лежали, проснувшись в люине канны. Камни, служившие им изголовьями, были настолько высоки, что давали возможность смотреть на небо. Наблюдая мерцание звезд, они мечтали о предстоящем:
– Как это должно случиться? как это сбудется? Они достигли уже Иерусалима; они расспрашивали о нем у ворот, они искали его; они заявили о его рождении, оставалось только найти его; что касается до этого, то все свои упования они возлагали на Святого Духа. Люди, внимающие гласу Божьему и чающие откровения, не могут спать.
Они еще пребывали в таком же положении, как вдруг вошел человек, остановившись у входа и заслоняя им свет.
– Проснитесь! – сказал он им. – Я явился к вам с неотложным поручением.
Все поднялись.
– От кого? – спросил египтянин.
– От царя Ирода.
Всех бросило в дрожь.
– Вы не управляющий ли канны? – спросил робко Валтасар.
– Да.
– Чего желаете от нас царь?
– Он сам сообщит вам. Посланец его за воротами…
– Скажите ему, чтобы ожидал нашего прихода.
– Наверное, вы правы, брат мой! – сказал грек, когда вышел управляющей. Вопросы, обращенные по пути к народу, а в воротах к страже, очевидно, получили быструю огласку. – Я в нетерпении; надо скорее отправляться…
Они поднялись, надели свои сандалии, облеклись в плащи и вышли.
– Приветствую вас, да будет над вами мир, но прошу меня простить: мой властелин, царь, послал меня к вам, чтобы пригласить вас во дворец, где он желал бы переговорить с вами наедине.
Так исполнил посланный свое поручение.
При входе висела лампада; взглянув друг на друга, они почувствовали, что Дух Святой был с ними. Египтянин подошел к управляющему и сказал ему на ухо:
– Вам известно, где во дворце сложены наши вещи и где помещаются наши верблюды. Нельзя ли во время нашего отсутствия приготовить все это к нашему отъезду, если того потребуют обстоятельства.
– Ступайте и положитесь на меня, – отвечал управляющий.
– Желания царя для нас – закон, – заметил Валтасар посланному. – Мы последуем за вами.
Улицы святого города тогда были так же тесны, как и теперь, но не так неровны, потому что великий строитель, не удовлетворяясь требованиями одной красоты, придавал тоже большое значение опрятности и удобствам. Следуя за своим провожатым, волхвы шли в глубоком молчании. Тускло мерцали звезды, их свет еще более скрадывался стенами по обеим сторонам дороги; под мостиками же, соединявшими крыши домов, было совершенно темно. С низины они стали подниматься в гору. Наконец, они подошли к порталу. При свете огней, горевших перед ним в двух больших жаровнях, они мельком оглядели здание и стражей, неподвижно стоявших, опершись на свое оружие; они смело вошли. Им пришлось проходить по залам со сводами, через дворы, между колоннад, не всегда освещенных, приходилось подыматься на высокие лестницы, проходить чрез бесчисленные коридоры и комнаты; наконец их ввели в высокую башню. Проводник остановился и, указывая на растворенную дверь, сказал им:
– Входите, там царь.
Воздух в комнате был сильно пропитан благоуханием сандала, и вся обстановка ее дышала негой. На полу, посредине, был разостлан мохнатый ковер и на нем возвышался трон. Смущенные посетители, однако, имели время мельком разглядеть резные вызолоченные оттоманки и диваны, опахала, драгоценные сосуды, музыкальные инструменты, блестящие золотые подсвечники, стены, разрисованные в стиле сладострастной Греческой школы, один взгляд на которые заставил бы фарисея отвернуться в священном ужасе. Ирод, сидевший на троне для приема их, одет был как и во время совещания с еврейскими учеными и всецело приковал к себе их внимание.
Они приблизились без приглашения к краю ковра и пали ниц. Царь позвонил. Вошел служитель и поставил перед троном три скамьи.
– Садитесь, – сказал им милостиво монарх, и, когда они уселись, продолжал: – Я получил сегодня известие о прибытии, чрез северные ворота, трех чужеземцев, странно одетых и явившихся как бы из далеких стран. Вы ли это?
Египтянин, переглянувшись с греком и индусом, отвечал, делая глубокий салам:
– Если бы то были не мы, то могущественный Ирод, слава которого подобно фимиаму наполняет весь мир, не послал бы за нами. Без всякого сомнения, эти чужеземцы – мы.
Ирод одобрительно махнул рукой.
– Кто вы? Откуда вы пришли? – спросил он, причем многозначительно прибавил: – Пусть каждый говорит за себя.
Поочередно все отвечали ему, указывая только на место своего рождения и рассказывая, какими дорогами они пришли в Иерусалим. Ирод, немного разочарованный, спросил более прямо:
– Какой вопрос задавали вы в воротах офицеру?
– Мы спрашивали его, где родившийся царь Иудеев.
– Мне ясно теперь, почему народ так заинтересовался вами. Вы и во мне возбуждаете не меньшее любопытство. Разве существует еще другой царь Иудеев?
Египтянин не пытался увильнуть.
– Один недавно родился.
На сумрачном лице монарха выразилось страдание, беспокойство, как бы под влиянием мучительных воспоминаний.
– Не у меня! Не у меня! – воскликнул он.
Перед ним, взывая о мести, может быть, восставали призраки убитых им детей; оправившись несколько от волнения, какова бы ни была его причина, он резко спросил:
– Где новый царь?
– Об этом-то, царь, мы и вопрошаем.
– Вы являетесь с загадкой более трудной, чем те, разрешать которые приходилось Соломону, – заметил Ирод и затем продолжал: – Как вы видите, я уже в том возрасте, когда любопытство так же непреодолимо, как и в детские годы, и когда издеваться над ним – жестоко. Сообщите мне все, что вы знаете, и я окружу вас почестями, какие царь воздает только царю; говорите, что известно вам о новорожденном, и я присоединюсь к вам в поисках за ним, а когда мы его найдем, исполню все, что вы пожелаете; я перевезу его в Иерусалим, научу его искусству царствовать; воспользуюсь расположением ко мне Цезаря, чтобы упрочить его славу. Клянусь, что между нами не будет места зависти. Но скажите мне, как вы узнали об этом в одно и то же время, несмотря на то что моря и пустыни отделяли вас друг от друга?
– Я скажу тебе, царь, всю правду.
– Сказывай, – заметил царь.
Валтасар выпрямился и торжественно сказал:
– Существует Всемогущий Бог!
Ирод заметно вздрогнул.
– Он заповедал нам идти сюда, обещая, что мы найдем Спасителя мира; что мы узрим, поклонимся ему и засвидетельствуем о том, что он явился в мир; и в знак этого каждому из нас дано было видеть звезду; Дух Божий пребывал с нами. О царь, Дух его и теперь не покидает нас! – Сильное чувство овладело всеми троими. Грек едва удерживался от рыданий. Пристальный взгляд Ирода быстро перебегал от одного к другому; он относился к ним еще более подозрительно, он был еще менее удовлетворен, чем раньше.
– Вы издеваетесь надо мной? – сказал он. – Если нет, то скажите, что последует за пришествием нового царя?
– Спасение людей.
– От чего?
– От их нечестия.
– Каким образом?
– Угодными Богу путями: верой, любовью и добрыми делами.
– В таком случае, – Ирод остановился и трудно сказать, под влияниям каких чувств продолжал, – вы предвозвестники Христа? В этом ваше назначение?
Валтасар низко поклонился.
– Мы всегда готовы служить тебе, царь.
Монарх позвонил; явился служитель.
– Принеси дары, – сказал Ирод.
Служитель удалился, и, через несколько времени возвратившись, стал на колени перед гостями и подал каждому из них по верхнему платью, или плащу, из алой и синей материи и по золотому поясу.
Они, согласно восточному обычаю, выразили благодарность за оказываемые почести, пав ниц.
– Еще одно слово, – сказал Ирод, когда кончилась эта церемония. – Вы говорили офицеру у ворот, а теперь и мне, что видели звезду на востоке.
– Да, – отвечал Валтасар. – Его звезду, звезду новорожденного.
– Когда она появилась?
– Когда мы получили повеление идти сюда.
Ирод встал, давая этим знать, что аудиенция кончилась. Сойдя с трона к ним, он милостиво сказал:
– Мне кажется, ученые мужи, что вы действительно предвозвестники только что родившегося Христа; знайте, что я в эту ночь советовался с еврейскими мудрецами, и они единогласно говорят, что он должен родиться в Вифлееме Иудейском. Идите туда, отыскивайте старательно дитя и, когда вам удастся найти его, дайте мне знать, чтобы я мог прийти туда и поклониться ему. На своем пути вы не встретите никаких препятствий, никаких помех. Идите с миром!
И, накинув край мантии на плечо, он оставил комнату. Явился проводник и повел их обратно на улицу, оттуда в канну, при входе в которую грек внезапно сказал:
– Отправимся, братья, в Вифлеем, как советует царь.
– Да, – воскликнул индус. – Дух пылает во мне.
– Пусть будет так, – подхватил с горячностью Валтасар, – верблюды готовы.
Одарив привратника и справившись о дороге к Яффским воротам, они сели на верблюдов и отправились в путь.
При их приближении большие створчатые ворота растворились, и они выехали за город, на дорогу, по которой так недавно еще проходили Иосиф и Мария. Когда они выбрались из Гинома на равнину Рафаимскую, показался бледный свет, охватывавший большое пространство. Сердца их сильно забились. Свет быстро усиливался; они закрыли глаза от его нестерпимого блеска: когда они дерзнули взглянуть опять, – удивительно! – звезда, совершенно такая же, как в небесах, но только низко спустившаяся, тихо двигалась перед ними. Тогда они, скрестив свои руки, возликовали и их радости не было границ. «С нами Бог!» – повторяли они всю дорогу, пока звезда, поднявшаяся над долиной, не остановилась над одним домом на склоне холма, вблизи города.
Глава XIV. Поклонение волхвов
В начале третьей стражи на восточных холмах Вифлеема уже забрезжило утро; в долине все еще продолжала царить ночь. Сторож на крыше старой канны, озябнув на свежем воздухе, прислушивался к первым различаемым звукам, которыми просыпающаяся жизнь приветствует зарю; вдруг он заметил свет, направлявшийся к дому с холма. Вначале он подумал, что это идет человек с факелом в руке; потом, что это метеор, но что бы то ни было, а свет становился все ярче и наконец оказался звездой. Страшно испуганный, он закричал и собрал всех горожан на крышу. Оригинальный феномен все приближался; деревья, дорога, скалы были освещены, как при блеске молнии; яркий свет становился ослепительным. Более робкие из зрителей пали на колени и молились, закрывая руками лицо, храбрейшие время от времени боязливо открывали глаза и взглядывали на загадочный свет. Чрез несколько времени канна и все окружающее были освещены ослепительным блеском. Имевшие смелость взглянуть, видели, что звезда все стоит прямо над домом перед пещерой, в которой родилось Дитя. В это самое время мудрецы подъехали, сошли у ворот с верблюдов и попросили их пропустить. Привратник, как только оправился от страха настолько, чтобы их заметить, сейчас же отодвинул засовы и отворил им ворота. При чудесном освещении верблюды производили впечатление призраков, а лица и фигуры путников, не говоря о их внешности иноземцев, дышали такой страстной восторженностью, что еще сильнее возбудили страх привратника; он отступил назад и некоторое время не в силах был ответить на их вопрос: «Это ли Вифлеем Иудейский?»
Но начали подходить другие люди, и их появление дало возможность привратнику прийти в себя.
– Нет, это только канна, а город дальше, – ответил он.
– Нет ли здесь новорожденного дитяти?
Присутствующие удивленно взглянули друг на друга и некоторые ответили:
– Есть, есть!
– Проводите нас к нему! – сказал нетерпеливо грек.
– Проводите нас к нему! – вскричал Валтасар и торжественно добавил: – Мы видели звезду его, ту самую, которую вы видите над домом, и пришли поклониться ему.
Индус, сложив руки, воскликнул:
– Воистину, жив Бог! Скорей! Спаситель найден. Благословенны мы превыше всех!
Народ сошел с крыши и последовал за чужеземцами; их провели через двор и ввели в ограду; при виде звезды, все стоящей над пещерой, хотя уже менее ослепительной, чем прежде, некоторые в испуге ушли, большая же часть вошла с ними. Когда чужеземцы подошли к дому, звезда поднялась; когда они были в дверях, она стояла уже высоко над головами и начинала пропадать, когда же они вошли, она совершенно исчезла. У всех видевших это явление возникло убеждение о чудесной связи с одной стороны – между звездой и чужеземцами, с другой стороны – между звездой и некоторыми из находившихся в пещере. Когда дверь растворилась, народ толпой двинулся в нее.
Комната освещалась фонарем, дававшим возможность чужеземцам увидать мать с проснувшимся дитятей на коленях.
– Это твое дитя? – спросил Валтасар.
И та, для которой все в жизни заключалось в этом младенце, которого она носила в сердце своем, подняв его к свету, сказала:
– Да, это мой сын!
Тогда они пали и поклонились ему.
Они увидали дитя, похожее на других детей.
* * *
Спустя некоторое время они поднялись, отправились к верблюдам, принесли дары, состоявшие из золота, ладана и смирны, и положили их перед ребенком, не переставая произносить благоговейные молитвы, в которых не было ни одного слова, заранее придуманного; ибо мудрый знает, что молитва от чистого сердца всегда была, есть и будет вдохновенной песней.
И они поклонились ему без всякого сомнения. Почему?
Их вера основывалась на знамениях, ниспосланных им Тем, Кого мы с тех пор познаем за Отца, и им было вполне достаточно одних его обещаний; они не спрашивали у Него о Его путях.
– Немногие видели знамение и слышали обещание: мать, Иосиф, пастухи и три мудреца, и, однако, все присутствующие уверовали одинаково. Это значит, что тогда Бог был – все, а сын еще ничто, но настанет скоро время, читатель, когда все знамения будут исходить от Сына и счастливы те, кто тогда уверует в Него. Рассмотрим же это время.
Книга вторая
Глава I. Иудея и Рим
Читателю необходимо перенестись через 21 год к началу управления Валерия Грата, четвертого верховного правителя Иудеи, – к эпохе, памятной по политическим волнениям, терзавшим тогда Иерусалим, и положившей начало последней распри между Иудеей и Римом.
В этот промежуток времени Иудея подвергалась различным переменам, весьма важным во многих отношениях, в особенности же в политическом. Через год после рождения Дитяти, Ирод Великий умер такой ужасной смертью, что христианский мир имел основание видеть в этом проявление Божьей кары. Подобно всем великим правителям, исключительно занятым всю жизнь упрочением своей власти, он только и думал о наследственной передаче престола и короны, т. е. о том, чтоб стать основателем династии. С этой целью он оставил завещание, в силу которого вся территория делилась между тремя его сыновьями: Антипом, Филиппом и Архелаем, из коих последний наследовал и его титул. Завещание необходимо было отослать к императору Августу, утвердившему все его пункты, но лишившему Архелая титула царя до тех пор, пока он не проявит на деле своих способностей и своей верности; вместо этого он назначил его этнархом, и в этом звании дозволялось ему управлять страной девять лет, по истечении которых он за дурное управление и неспособность сдерживать развитие беспокойных элементов в стране, разраставшихся вокруг него, был сослан в Галлию, в изгнание.
Цезарь не ограничился смещением Архелая; он начал преследовать граждан Иерусалима, задевая их гордость и жестоко растравляя щепетильность высокомерных служителей храма. Он присоединил Иудею к Сирийской префектуре, низводя ее на степень римской провинции. Таким образом, вместо царя, управлявшего из дворца, оставленного Иродом на горе Сионской, город попал в руки второстепенного правителя, определяемого по назначению и называемого прокуратором; прокуратор сносился с римским двором через легата от Сирии, имевшего резиденцией Антиохию. Чтобы сделать унижение еще более чувствительным, прокуратору не позволялось избрать своим местожительством Иерусалим, а резиденцией его назначена была Цезарея. Самая несчастная, самая угнетенная, самая ненавистная из всех стран света – Самария была присоединена к Иудее, как часть одной и той же провинции. Какие невыразимые страдания должны были испытывать фанатические сепаратисты или фарисеи, видя, как унижали и осмеивали их ханжи Геризима в присутствии прокуратора.
В целом ряде несчастий единственным утешением униженному народу служил первосвященник, занимавший дворец Ирода на торговой площади и имевший там при себе нечто вроде двора. Действительная его власть была очень не велика. Право помилования и присуждения к смерти принадлежало прокуратору. Правосудие отправлялось только по имени и согласно постановлениям (декреталиям) из Рима. Еще знаменательнее было то, что царское помещение было занято императорским сборщиком податей и всем штатом его служителей: регистраторами, сборщиками, мытарями, доносчиками и шпионами. В утешение мечтателям о свободе можно было указать, что главным лицом во дворце быль все-таки еврей. Одно его присутствие там постоянно напоминало им заветы и обещания пророков, и воскрешало в их памяти те времена, когда Иегова управлял народом через сыновей Аарона, и было знаком того, что Бог не покинул их. Так они жили надеждами, терпеливо ожидая великого сына Иуды, который придет править Израилем.
Иудея была римской провинцией более восьмидесяти лет – период времени вполне достаточный Цезарям, чтоб ознакомиться с особенностями народа – или по крайней мере узнать, что Иудеей можно спокойно управлять, несмотря на всю гордость евреев, при одном только условии – уважении их религии. Придерживаясь такой политики, предшественники Грата старательно воздерживались от вмешательства в религиозные дела своих подданных. Но Грат поступил иначе: почти первым его официальным актом было лишение Анны первосвященнического сана и назначение на его место Измаила, сына Фабуса.
Исходил ли этот акт от Августа или автором его был сам Грат, но нетактичность его скоро сделалась очевидной. Читателя можно избавить от главы, посвященной еврейской политике; но все-таки несколько необходимых слов по этому вопросу уяснят ему события последующего рассказа.
В это время, независимо от происхождения, в Иудее были две партии, возникновение которых мы пройдем молчанием: партия благородных и народная партия – сепаратисты. После смерти Ирода эти две партии заключили союз против Архелая. От храма до дворца, от Иерусалима до Рима они воевали с ним: иногда посредством интриг, иногда с оружием в руках. Не раз святые обители на горе Мориаг оглашались криками сражающихся. В конце концов им удалось-таки отправить его в ссылку. Между тем во время этой борьбы союзники преследовали разные цели. Благородные ненавидели Иозара первосвященника; сепаратисты же, напротив, были его ревностными приверженцами. Когда династия Ирода кончилась с Архелаем, Иоазару также пришлось удалиться. Благородные выбрали на этот важный пост Анну сына; вследствие этого союзники разделились. Вступление Анны поставило их в страшно враждебные отношения.
В борьбе с несчастным этнархом благородные видели средство – завязать тесные сношения с Римом. Предвидя, что за падением династии должна последовать другая форма правления, они настаивали на превращении Иудеи в провинцию. Этот факт дал в руки сепаратистам лишний предлог для нападения, и когда Самарию сделали частью провинции, благородные остались в меньшинстве, не зная, на что им опереться, кроме императорского двора, своих чинов, своего богатства; однако в течение пятнадцати лет до наместничества Грата они сумели удержаться и во дворце, и в храме. Анна, идол своей партии (верноподданически), пользовался своей властью в интересах своего царственного патрона. Римский гарнизон занимал башню Антония: римская стража охраняла ворота дворца; безжалостная римская система обложения налогами порабощала и город и страну; ежедневно, ежечасно и тысячами различных способов оскорбляли и угнетали народ; римский судья отправлял гражданское и уголовное правосудие; Иудеи начинали понимать разницу между независимой жизнью и жизнью порабощенных; но при Анне жилось еще сравнительно спокойно. У Рима не было более верного друга и Рим почувствовал это, когда его не стало. Передав свои одеяния вновь назначенному Измаилу, он отправился из дворца храма в совет сепаратистов и стал во главе новой коалиции бетузиан и сетиан.
Грат, прокуратор, оставшись без союзников, увидал, что пламя восстания, в течение пятнадцати лет окутанное густыми облаками дыма, начинает снова разгораться. Через месяц Измаил занял место; римлянин нашел нужным посетить его в Иерусалиме. Когда со стен города евреи заметили его стражу, входящую северными воротами и направляющуюся к башне Антония, они, крича и освистывая его, поняли настоящую цель посещения: целая когорта легионеров была прибавлена к прежнему гарнизону, и петли ярма могли быть затянуты теперь безнаказанно. Если уж прокуратор счел нужным показать пример, то горе человеку, который бы решился нанести оскорбление Измаилу!
Глава II. Друзья детства
После сказанного в предыдущей главе можно пригласить читателя заглянуть в один из дворцовых садов на Сионской горе. Был полдень середины июня, когда жара бывает особенно сильна.
Сад со всех сторон окружался строениями, местами в два этажа, с верандами, покрывавшими тенью двери и окна нижнего этажа; выступавшие галереи, защищенные балюстрадами, украшали и охраняли верхний этаж. Там и сям эти здания переходили в красивые колоннады, не задерживавшие свободно разгуливавшего между ними ветра и позволявшие видеть сквозь них другие части строения, благодаря чему еще резче выступала их собственная грандиозность и красота. Сад представлял также очень приятное зрелище: аллеи, зеленые поляны, кустарники, высокие деревья – редкие образцы пальм, перемешивались с абрикосовыми деревьями, рожковыми, орешником. От середины почва покато спускалась по всем направлениям; в центре помещался резервуар, или глубокий мраморный бассейн; в нескольких местах бассейна были устроены желобки, чрез которые вода спускалась в канавки, шедшие по краям дорожек сада, – хитрая выдумка, чтобы избавиться от засухи, которая здесь давала себя знать более, нежели в других местах страны.
Недалеко от фонтана был маленький пруд с чистой водой, осененный тростником и олеандрами, растущими на Иордане сплошь до Мертвого моря. Между группой растений сидели два юноши, серьезно разговаривая, не обращая внимания на палившее их солнце, при полном отсутствии малейшего ветерка. Одному юноше было лет 19, другому 17. Оба были красивы и с первого взгляда их можно было принять за братьев. У обоих были черные глаза, черные волосы и сильно загоревшие лица; они сидели, и разница в росте казалась так же незначительной, как и разница лет.
У старшего голова была непокрыта; широкая туника, спускавшаяся до колен, составляла весь его костюм; на ногах сандалии. Под ним был разостлан светло-голубой плащ. Туника оставляла открытыми руки и ноги; они были смуглы, как и его лицо; тем не менее грация в манерах, тонкие черты лица, голос – все свидетельствовало о его высоком положении.
Серая туника из тончайшей шерстяной материи с красной опушкой на воротнике, рукавах и полах, опоясанная в талии шелковым шнурком с кистями, указывала на его римское происхождение. И если он по временам в разговоре смотрел свысока на своего товарища и обращался к нему, как к низшему, то это объяснялось тем, что он происходил из семьи, считавшейся благородной даже в Риме, – обстоятельство, оправдывавшее в том веке всякого рода заносчивость. В эпоху страшных войн между первым цезарем и его могущественными врагами один из Мессал был другом Брута. После Филиппа, не жертвуя своей честью, он и победитель заключили мир. Позднее, когда Октавий домогался императорской короны, Мессала поддерживал его. Сделавшись императором Августом, Октавий вспомнил услугу, оказанную ему Мессалом, и окружил почестями все его семейство. Когда же Иудея была превращена в провинцию, он послал сына своего старого клиента или приверженца в Иерусалим, вверил ему сбор и управление налогами, собираемыми в стране; в этой же должности оставался потом его сын, занимая дворец вместе с первосвященником. Только что описанный юноша был сын Мессалы, ни на минуту не забывавший отношений его дедушки к великим римлянам.
Собеседник Мессалы был по внешности слабее; его платье было из тонкого белого полотна, какое вообще носили в Иерусалиме. Голову его покрывала ткань, поддерживаемая желтым шнуром и надетая так, что спадала со лба на затылок и спускалась на плечи. Наблюдатель, искусный в распознавании рас, обративши больше свое внимание на его черты лица, нежели на костюм, тотчас же мог признать в нем еврейский тип. Лоб римлянина был высок и узок; нос острый, орлиный; губы тонкие, прямые; глаза смотрели холодно из-под бровей. Напротив, у израильтянина лоб был низок и широк; длинный нос с расширенными ноздрями; верхняя губа, немного выдававшаяся над низшей, была коротка и изогнута в изящный угол, подобно луку Купидона; все это в связи с круглым подбородком, глазами на выкате и румяными овальными щеками придавало его красивому лицу свойственные его расе выражения мягкости и силы. Красота римлянина была строгая и целомудренная; красота еврея – роскошная и сладострастная.
– Неужели новый прокуратор прибудет завтра? – Вопрос задал младший из друзей по-гречески; как это ни странно, но греческий язык получал в то время все более широкое распространение в высших кружках. Иудеи переходили из дворца в лагерь, а оттуда – неизвестно как – в храм, в самое святилище, не допускавшее ничего языческого.
– Да, завтра, – ответил Мессала.
– Кто вам сказал?
– Я слышал, как Измаил, новый правитель во дворце, – вы называете его первосвященником, – говорил это моему отцу прошедшую ночь.
– Согласен, новость заслуживала бы большего доверия, если бы она исходила от египтянина, – египтяне позабыли, что такое правда, – или хотя бы от идумеянина, – эти никогда не знали правды; но чтобы вас совершенно уверить – я видел сегодня поутру центуриона из башни, и он рассказывал, что приготовления к приему продолжаются: оружейные мастера чистят шлемы и щиты, золотят опять орлы и шары; комнаты, давно уже опустевшие, приводятся в порядок, проветриваются, – вероятно, ввиду увеличения гарнизона корпусом телохранителей высокой особы.
Нет возможности вполне описать тон ответа, – тонкие оттенки выражения всегда ускользают от власти пера, и читателю может помочь только воображение; а для этого он должен вспомнить, что вежливость, как свойство римского ума, почти исчезла, или, вернее, стала считаться неприменимой. Старая религия почти перестала иметь смысл и оставалась не более как привычкой известным образом рассуждать и выражаться; этой привычке покровительствовали главным образом жрецы, считавшие службу в храме выгодной, и поэты, которые в своих стихах не могли обойтись без любимых богов, – таковы были певцы того века! Философия заступала место религии, а сатира до такой степени замещала почтительность, что, по мнению латинистов, ее можно было встретить в любой речи, в каждой мелкой колкости при разговоре, как приправа к мясу, как аромат в вине. Молодой Мессала, воспитывавшийся в Риме и только что возвратившийся оттуда, усвоил все эти привычки и манеры; едва заметное подергивание нижней веки, сопровождаемое решительным раздуванием ноздрей, – были лучшим средством придать себе вид полного равнодушия ко всему; особенные же паузы в разговоре как бы давали время слушателю хорошенько усвоить себе счастливую мысль говорившего или понять соль злой эпиграммы.
Такая пауза последовала и в только что приведенном ответе, после намеков на египтянина и идумеянина. Краска, покрывшая щеки еврейского юноши, сделалась ярче: может быть, он и не слыхал последних слов, ибо оставался спокойным, глядя рассеянно в глубину пруда.
– Помните, мы в этом саду прощались. «Мир с вами» – были ваши последние слова. «Да сохранят вас боги», – сказал я. Сколько лет прошло с тех пор?
– Пять! – отвечал еврей, глядя в воду.
– Да, вам есть за что благодарить… кого? – Ну хоть богов, все равно. Вы стали красавцем, греки назвали бы вас прекрасным во цвете молодости! Если бы Юпитер нуждался в другом Ганимеде, какой бы прекрасный виночерпий вышел из вас. Скажите мне, о мой Иуда, почему вас так интересует приезд прокуратора?
Иуда устремил свои большие глаза на вопрошавшего. Взгляд его был серьезен и задумчив; встретившись с глазами римлянина, он отвечал:
– Да, пять лет я вспоминаю минуту разлуки; вы отправлялись в Рим, я видел, как вы волновались, я и сам плакал, потому что любил вас. Годы прошли – и вы вернулись ко мне возмужалый и величественный. Я не шучу – и все-таки… и все-таки мне хотелось бы видеть в вас того Мессалу, с каким я тогда расставался…
Тонкие ноздри Мессалы насмешливо вздрогнули, и он протяжно сказал:
– Нет, нет, вы не Ганимед, мой Иуда, а оракул. Несколько уроков моего учителя риторики, живущего близ Форума, необходимы для вас. Я дам вам к нему письмо, если вы благоразумно согласитесь послушаться совета, который, помните, я вам уже давал. Не большая практика в искусстве облекать все в тайну – и дельфийцы примут вас за самого Апполона. При первых звуках вашего божественного голоса Пиоия снизойдет к вам со своим венком. Но шутки в сторону, чем же непохож я на прежнего Мессалу? Я однажды слышал величайшего в мире логика, он учил искусству спорить и одно из его положений гласило: пойми своего противника прежде, чем отвечать ему. Дайте же мне возможность понять вас.
Юноша покраснел под наглым взглядом, устремленным на него, но все-таки твердо отвечал:
– Я вижу, вы хорошо воспользовались представившимся вам случаем и хорошо переняли от своих учителей немало знаний и уменье выражаться. Вы говорите с развязностью учителя, но в ваших словах скрывается насмешка. В характере Мессалы не было яда. Он ни за что на свете не оскорбил бы чувства дружбы.
Римлянин улыбнулся, как бы польщенный, и поднял еще выше свою патрицианскую голову.
– О, мой торжественный Иуда, мы ведь не в Додоне, не у Пиоии. Перестаньте изображать оракула, будьте безыскусственны. Но чем я вас оскорбил?
Иуда глубоко вздохнул и, теребя шнур пояса, сказал:
– В течение пяти лет и я кое-что узнал. Гиллель, может быть, не сравняется с логиком, которого вы слышали, Симеон и Шамай, без сомнения, ниже вашего учителя близ Форума. Их учение не выходит за пределы дозволенных путей, и слушатели обогащают свой ум познанием Бога, закона и истории израильского народа; следствием этого являются любовь и уважение ко всему, имеющее непосредственное к этому отношение. Посещая высшую коллегию и изучая слышанное там, я понял, что Иудея вовсе не то, что хотят из нее сделать; я узнал, какая глубокая пропасть лежит между Иудеей, независимым царством, и Иудеей, маленькой провинцией, и был бы гаже, подлее даже самаритянина, если бы не принимал близко к сердцу унижение своей родины. Измаил – не законный первосвященник, и, пока жив благородный Анна, он не имеет права быть первосвященником, а между тем он – левит, один из тех посвященных, который по нашей вере служит преемственно тысячи лет Господу Богу. Его…
Мессала, язвительно смеясь, прервал его:
– О, я вас теперь понимаю! Вы говорите, что Измаил – похититель власти, и вместе с тем считаете ядовитым уколом, когда придают больше вероятия словам идумеянина, чем Измаилу. Клянусь пьяным сыном Семелы, вот что значит быть евреем! Люди, вещи, даже небо и земля изменяются, еврей же никогда. Он не двигается ни взад, ни вперед; он остается такой же, как и его первый прародитель. Я начерчу вам на этом песке круг, вот он. Теперь скажите мне, не жизнь ли это еврея? Снова все то же и то же. Вот Авраам, вот там Исаак и Иаков, а посреди Бог. Клянусь громовержцем, круг этот еще слишком велик! Я его переделаю. – Он нагнулся, уперся большим пальцем руки в песок, остальными же обвел около него круг. – Глядите, место, где находился большой палец, – храм; линия, проведенная остальными пальцами, – Иудея. Неужели же все вне этой черты не заслуживает никакого внимания? Искусства!.. Ирод был строителем, его за это прокляли. Живопись, скульптура!.. На них и смотреть считается грехом. Поэзию вы отсылаете к своим алтарям. И где вне синагог упражняются у вас в красноречии? На войне все завоеванное в шесть дней вы теряете в седьмой. Вот ваша жизнь и ее границы! Кто же скажет после того, что я не прав, когда смеюсь над вами? Если ваш Бог довольствуется поклонением такого народа, то что Он значит в сравнении с нашим римским Юпитером, ниспосылающим нам своих орлов, дабы мы могли захватить весь мир в свои объятия? Гиллель, Симеон, Шамай, Абталионь, – что они рядом с теми, которые учат, что нужно знать все, что может быть познано?
Еврей вскочил. Лицо его сильно разгорелось.
– Нет, нет, сидите, Иуда, сидите! – воскликнул Мессала, протягивая руку.
– Вы смеетесь надо мной.
– Выслушайте меня еще немного. Сейчас явится ко мне, как всегда, – и римлянин насмешливо улыбнулся, – Юпитер со всей своей семьей греческой и латинской, и тогда конец серьезному разговору. Я вполне ценю вашу доброту и ваше желание прийти ко мне из старого дома ваших отцов, чтобы приветствовать мое возвращение и возобновить, если можно, дружбу нашего детства. Иди, – сказал мне учитель на последней лекции, – иди и, чтоб жизнь твоя была славна, помни, что Марс царит, а Эрот прозрел. Он разумел, что любовь – ничто, а война – все. Таков Рим. Брак – первая ступень к разводу. Добродетель – драгоценный перл торговца. Клеопатра, умирая, завещала свои качества и была отомщена; в каждом римском доме у нее есть последовательницы. И весь свет идет по тому же пути; что же касается до нашего будущего, то долой Эрота и да здравствует Марс! Я буду солдатом, а вы, мой Иуда, мне жаль вас, чем можете вы быть?
Еврей подошел ближе к пруду; Мессала, растягивая еще более слова, продолжал:
– Да, мне жаль вас, мой прелестный Иуда. Из школы в синагогу, из синагоги в храм, а потом – о, венец славы! – место в синедрионе. Жизнь без всяких приключений, треволнений. Да помогут вам боги! Но я…
Иуда взглянул на него и заметил румянец гордости, разлившийся на его высокомерном лице.
– Что касается до меня, то свет еще не весь покорен. На морях есть острова, на которые еще и не наступала человеческая нога. На севере народы еще не посещены нами. Остается еще довершить поход Александра на далекий Восток. Видите ли, какие перспективы представляются римлянину!
И затем продолжал он, растягивая снова слова:
– Поход в Африку, затем – в Скифию, – а там легион! Многие там заканчивают свою карьеру, но я на этом не помирюсь. Клянусь Юпитером, вот блестящая мысль! – Сменяю легион на префектуру. Представьте себе жить в Риме с деньгами, – круглый год деньги, – вино, женщины, удовольствия: пиры с поэтами, интриги при дворе, игры в кости. Такую жизнь можно только устроить себе при помощи богатой префектуры, и ее-то я и добьюсь. О, мой Иуда! Здесь Сирия. Иудея богата, Антиохия – столица богов. Я наследую Цирению, – а вы разделите мое счастье.
Софисты и учителя риторики, дававшие тон общественному мнению Рима и почти всецело монополизировавшие дело воспитания патрицианской молодежи, может быть, отнеслись бы с одобрением к сказанному Мессалой, потому что все это было в их духе; но для юного еврея все это было ново, не похоже на привычные торжественные разговоры и рассуждения. К тому же он принадлежал к племени, законы, обычаи, приемы мышления которого воспрещали юмор и сатиру; поэтому очень естественно, что, слушая друга, его взволновали самые разнообразные чувства: то он негодовал, то не знал, как отнестись к слышанному. Надменный тон вначале оскорблял его, затем, все более раздражая, причинял наконец жгучую боль. Такое чувство обыкновенно разрешается гневом, и последний был вызван Мессалой другим путем. У евреев времен Ирода патриотизм был дикой страстью, едва скрываемой под маской добродушия; он был так неразлучно слит с их историей, религией и Богом, что вспыхивал при малейшей насмешке над ними самими. Поэтому не преувеличивая можно сказать, что слова Мессалы вплоть до последнего перерыва имели действие на слушателя подобно изысканнейшей пытке. Когда он наконец остановился, Иуда с принужденной улыбкой сказал:
– Я слышал, что немногие способны издеваться над своей судьбой; и вы, о мой Мессала, убедили меня, что я не принадлежу к числу таких людей.
Римлянин, внимательно взглянув на него, возразил:
– Почему бы истине не заключаться и в шутке, как и в притче? Великая Фульвия отправилась однажды на рыбную ловлю и наловила больше всех. Ей объяснили это тем, что кончик ее крючка был вызолочен.
– Так вы не шутили?
– Я вижу, мой Иуда, что слишком мало предложил вам! – быстро прервал римлянин, причем глаза его сверкали. – Когда я буду префектом и Иудея обогатит меня, я сделаю вас первосвященником.
Еврей гневно отвернулся.
– Не покидайте меня, – сказал Мессала.
Тот в нерешительности остановился.
– О боги, Иуда, как сильно печет солнце! – вскричал патриций, замечая его нерешительность.
Иуда холодно отвечал:
– Нам лучше расстаться. Я сожалею, что пришел. Я рассчитывал встретить друга, а нахожу…
– Римлянина! – быстро добавил Мессала.
Кулаки еврея сжались, но, сдержав себя снова, он отвернулся и пошел. Мессала встал, взял со скамьи свой плащ, набросил его себе на плечо и последовал за Иудой. Поравнявшись с ним, он положил ему руку на плечо и пошел рядом.
– Вот дорожка, по которой мы гуляли детьми, обнявшись, как теперь. Дойдемте же так до ворот.
Мессала, очевидно, старался быть серьезным и ласковым, хотя не мог отделаться от привычного насмешливого тона. Иуда не протестовал против фамильярности.
– Вы мальчик, а я уже муж, позвольте же мне говорить вам, как подобает мужу.
Самодовольство его было восхитительно. Ментор, читавший нравоучения Телемаку, не мог бы быть развязнее.
– Верите ли вы в Па́рок? Да, я забыл, ведь вы саддукей. Ессеи – разумный народ, те веруют в этих сестер. И я тоже. Вечно эти три сестры мешают нам осуществить наши желания. Я сижу и мечтаю, что совершу то-то и то-то. И вот как раз в тот момент, когда я могу уже схватить мир в свои руки, позади меня раздается скрип ножниц. Я оглядываюсь и вижу ее, эту проклятую Атропос! Но, мой Иуда, почему мысль быть преемником Цирениуса вас так разгневала? Вы полагаете, что я мечтаю обогатиться, ограбив Иудею. Но, если и так, ведь кто-нибудь из римлян будет же так наживаться. Почему же не мне?
Иуда замедлил свои шаги.
– И другие народы до римлян властвовали над Иудеей, – сказал он, подняв руку. – Где они теперь, Мессала? Иудея пережила их всех, – она переживет и Рим.
Мессала начал снова, протягивая слова:
– Итак, помимо ессеев, у Парок есть верующие. Поздравляю, Иуда, поздравляю с обращением в новую веру.
– Нет, Мессала, я не принадлежу к ним. Вера моя зиждется на скале, служившей основанием веры отцов моих, еще гораздо раньше Авраама, на завете Господа Бога Израиля.
– Слишком странно, мой Иуда. Как был бы поражен мой учитель, прояви я такую горячность в его присутствии; я думал было поговорить с вами еще кое о чем, но опасаюсь.
Они прошли еще несколько шагов, и римлянин снова заговорил.
– Теперь, я думаю, вы можете выслушать меня, тем более что я буду говорить о вас. Я готов быть тебе полезен, о прекрасный Ганимед! Готов служить тебе от всей души, потому что, насколько могу, я люблю тебя; я сказал уже тебе, что хочу быть воином, – почему бы и тебе не быть тем же? почему бы не сделать тебе шага из того ограниченного круга, в пределах которого, как я показал, по вашим законам и обычаям заключается все лучшее в жизни?
Иуда не отвечал.
– Кто самые мудрые люди в наши дни? – продолжал Мессала. – Конечно, не те, кто губит годы в спорах о мертвых вещах, о Ваале, Юпитере и Иегове, о философии или о религии. Назови мне хоть одно великое имя, Иуда, в Риме, Египте, на Востоке или даже здесь, в Иерусалиме, и клянусь Плутоном, ты непременно назовешь человека, составившего свою славу из живого материала, считая священным только то, что содействовало достижению его цели, не пренебрегая при этом ничем. Возьми Ирода, Макавеев, первого и второго царей. Подражай им и начинай немедленно. Рим протягивает тебе руку и готов помочь тебе, как и идумеянину Антипатру.
Еврейский юноша дрожал от бешенства. Ворота сада были близки, и он торопился уйти скорее.
– О Рим, Рим! – шептал он.
– Будь же мудр, – продолжал Мессала, – отбрось в сторону глупости Моисея и преданий; смотри на вещи прямо; взгляни Паркам в лицо, и они скажут тебе, что Рим – вселенная. Вопроси их об Иудее и они ответят тебе, что она не более того, что захочет сделать из нее Рим.
Теперь они подошли к воротам. Иуда остановился, снял мягко руку Мессалы со своего плеча и взглянул на него глазами, в которых дрожали слезы.
– Я понимаю тебя, потому что ты – римлянин; ты же не можешь понять меня, потому что я – израильтянин. Ты заставил меня сегодня страшно страдать, ибо, слушая тебя, я убедился, что мы отныне никогда уже не можем быть друзьями. Никогда! Тут мы расстаемся. Да почиет над тобой мир Бога моих отцов!
Мессала протянул ему руку; еврей вышел за ворота. По его уходе римлянин стоял молча несколько минут, затем он также вышел за ворота, затем встряхнул головой и сказал себе:
– Пусть будет так! Эрот умер, да здравствует Марс.
Глава III. Дом Гуров
От входа в святой город, со стороны так называемых в настоящее время ворот Святого Стефана, тянется улица в западном направлении, параллельно северному фасаду башни Антония. От этой знаменитой башни она поворачивает под прямым углом, направляясь к Тироненской долине; задевая южную окраину, она поворачивает на запад, к тому месту, где, по преданию, были судные ворота, немного позади которых она круто поворачивает к югу. Путешественники или исследователь, знакомый со священной местностью, признает в описанной дороге часть Скорбного Пути, улицу, интереснейшую из всех улиц земного шара для христиан, хотя и полную для них самых грустных воспоминаний. Дальнейшее изложение не потребует от нас знакомства со всей улицей, и нам достаточно указать только дом, стоявший на углу в том месте, где улица круто поворачивает к югу; но дом этот играет важную роль в нашем рассказе, а потому требует более подробного описания.
Здание это тянулось по северному и западному фасаду, приблизительно футов на четыреста с каждой стороны, и, подобно большинству изысканных домов Востока, было двухэтажное и совершенно квадратное. Улица западной стороны была футов двенадцати ширины, а северная не более десяти, так что прохожий, идя близ стен и глядя на здание вверх, поражался их грубым, незаконченным, неуклюжим, хотя в то же время прочным и внушительным видом; этому впечатлению много содействовало и то, что стены эти сложены были из больших камней, без всякой отделки снаружи, как будто камни были положены друг на друга в том самом виде, в каком были добыты из каменоломни. Здание это напоминало крепость, за исключением окон и украшений над дверями и воротами. С западной стороны было четыре окна, а с северной только два; все окна были во втором этаже и устроены так, что выступали над проходом в первом этаже. Ворота были единственными отверстиями в стенах первого этажа; они были снабжены громадными железными болтами, как бы для защиты от таранов, а над ними красовались мраморные карнизы прекрасной работы и такого смелого рисунка, что человек, хорошо знакомый с местными условиями, сразу мог признать, что богатый владелец этого дома принадлежит и по религиозным и по политическим убеждениям к садукеям.
Несколько времени после того, как молодой еврей расстался с римлянином у дворца на торговой площади, он остановился у западных ворот только что описанного дома и постучался в него. Ему отперли калитку (она была устроена в одной половине ворот) и он поспешно вошел в нее, позабыв даже ответить на низкий салям привратника.
Чтобы составить себе понятие о внутреннем устройстве здания, равно как и для знакомства с дальнейшей судьбой юноши, войдем вслед за ним в калитку.
Проход, в который он вступил, походил несколько на узкий туннель со стенами, обшитыми панелями, и со створчатым потолком. По обеим сторонам его тянулись каменные скамьи, загрязненные и лоснящиеся от долгого употребления. Сделавши двенадцать или пятнадцать шагов, он вышел на продолговатый двор, окруженный с севера и юга, – словом, со всех сторон, за исключением восточной – фасадами двухэтажных зданий. Нижний этаж разделялся на люины, в верхнем же устроены были террасы с крепкими перилами. Ходившие по террасам взад и вперед служители, грохот жерновов, развешенные на протянутых веревках платья, повсюду голуби и цыплята, стоявшие в люинах козы, коровы, ослы и лошади, громаднейшее корыто с водой, очевидно, для общего употребления, – все это указывало на то, что двор был хозяйственным двором богатого собственника. С восточной стороны двор был отделен стеной с таким же проходом, как и первый.
Пройдя его, юноша вошел на другой двор, представлявший просторный прямоугольник, засаженный кустами и виноградными лозами, поддерживаемыми в постоянной красоте и свежести – водой из бассейна, устроенного близ портика с северной стороны. Люины на этом дворе были высокие, обильные воздухом и завешенные материей с белыми и красными полосами. Своды люинов опирались на колонны. Ряд ступеней с южной стороны вел на террасу верхнего этажа, защищенную от солнца большими завесами. Другая лестница вела с террас на крышу, края которой по всему четырехугольнику отделаны были карнизом со скульптурными украшениями и перилами из обожженной глиняной шестиугольной черепицы ярко-красного цвета. Самая щепетильная чистота, наблюдавшаяся на этом дворе и не допускавшая ни малейшей пылинки по углам или пожелтелого листка в растениях, способствовала, быть может, более всего тому общему восхитительному впечатлению, какое производил двор; и посетитель, вдохнув в себя этот чистый воздух, мог уже заранее судить об утонченной жизни того семейства, в которое он вступал.
Сделав несколько шагов по второму двору, юноша повернул направо и, пройдя сквозь кустарник, отчасти в цвету, приблизился к лестнице, по которой и поднялся на террасу – широкий помост, выложенный белыми и темными плитами, сильно уже поистертыми. Пройдя под навес к двери с северной стороны, он вошел в комнату, которую опустившийся за ним щит снова погрузил во мрак. Несмотря на темноту, он прошел по черепичному полу прямо к дивану и бросился на него лицом вниз, стиснув голову руками.
Перед наступлением ночи женщина подошла к двери и окликнула его. Он отозвался, и она вошла.
– Уже кончили ужинать и ночь на дворе. Разве ты не голоден, сын мой? – спросила она.
– Нет – отвечал он.
– Ты болен?
– Мне хочется спать.
– Твоя мать спрашивала о тебе.
– Где она?
– В летней комнате на кровле.
Он привстал и сел.
– Ну принеси мне чего-нибудь поесть.
– Чего хочешь?
– Все равно, Амра. Я не болен, но мне все равно. Жизнь не представляется мне такой приятной, как казалась сегодня утром. Это новый недуг, о моя Амра, и ты, зная меня так хорошо, никогда не ошибаясь во мне, можешь думать, что мне теперь нет дела до пищи или лекарства. Принеси мне чего-нибудь.
Вопросы Амры и ее тон, тихий, сочувственный, заботливый, – указывали на то, что между ею и им существовали дружеские отношения. Она приложила ему руку ко лбу и, как бы удовлетворившись этим, вышла, говоря: «Хорошо, я посмотрю».
Немного спустя она вернулась, неся на деревянном подносе чашку с молоком, несколько тонких ломтиков белого хлеба, легкое печенье из пшеничной муки, жареную птицу, мед и соль. На одном конце подноса стоял серебряный кубок с вином, а на другом – ручной медный зажженный светильник.
При свете его можно рассмотреть комнату; стены из гладко-отесанного камня; потолок с толстыми дубовыми балками, почерневший от времени и дождя; прочный пол из белой и голубой черепицы; несколько стульев с ножками на подобие львиных лап; невысокий диван, обитый голубой материей с наброшенным на нем большим полосатым шерстяным одеялом или шалью, – словом, еврейская спальня.
При том же свете можно рассмотреть и женщину. Пододвинув стул к дивану, она поставила на него поднос и сама стала на колени возле, чтобы служить ему. Судя по смуглому лицу с черными глазами, глядевшими теперь почти с материнской нежностью, ей было лет пятьдесят. Голову ее покрывал белый тюрбан, оставляя наружу только кончики ушей, в которых виднелись отверстия, проколотые толстым шилом, – знак ее общественного положения. Она была рабыня, египтянка, которым даже священный пятидесятый год не приносил с собой свободы; да она и не приняла бы ее, потому что любила юношу, которому служила, больше самой жизни. Она его выкормила, выняньчила и не могла себе представить, чтоб он когда-нибудь мог обойтись без ее услуг. Для ее любви он всегда оставался мальчиком.
Во время еды она молчала.
– Помнишь ли ты, Амра, Мессалу, который когда-то бывал здесь у меня? – спросил он.
– Да, помню.
– Несколько лет тому назад он уехал в Рим и теперь вернулся. Я заходил к нему сегодня.
Отвращение выразилось на лице юноши.
– Я знала, что случилось что-нибудь, – сказала она, глубоко заинтересованная. – Мне никогда не нравился Мессала. Расскажи мне все.
Он задумался и на не раз повторенный ею вопрос ответил только:
– Он сильно изменился, и у меня нет ничего общего с ним.
Когда Амра унесла поднос, он последовал за ней и поднялся с террасы на кровлю. Читатель, вероятно, знает значение кровли на Востоке. Климат везде является законодателем обычаев. Сирийский летний день заставляет любителя удобств удаляться в тень люинов; но наступает ночь, опускаются тени над скатами гор, окутывающие своим покрывалом певцов Цирцеи; но они далеко, тогда как кровля тут же, рядом, и настолько приподнята над светящейся равниной, что доступна свежему воздуху, и настолько выше деревьев, что звезды кажутся ближе и ярче сияют. И вот кровля стала убежищем – местом удовольствий, спальней, будуаром; тут собирается вся семья, играет, танцует, беседует, мечтает и молится.
Мотив, побуждающий жителей холодного климата украшать внутренность своих жилищ, заставляет жителей Востока заботиться об убранстве кровель своих домов. Парапет, предписанный еще Моисеем, составляет предмет гордости гончара; позже к нему присоединили башни, плоские и причудливые; затем цари и князья увенчивали кровли бельведерами из мрамора и золота и наконец вавилоняне устраивали на них висячие сады. Далее этого фантазия не могла идти.
Наш юноша медленно прошел по крыше к башне, построенной на северо-западном углу дворца. Если б он был не свой человек, он, может, остановил бы свое внимание на постройке, к которой приближался, и разглядел бы – насколько то, конечно, дозволял мрак – темную массу, низкую с решетками, колоннами и куполом. Он вошел, приподняв наполовину опущенную занавесь. Внутри царила полнейшая темнота и свет проходил только в отверстия с арками по одной с каждой стороны, сквозь которые виднелось небо, усеянное звездами. В одном из отверстий он заметил фигуру полулежавшей на диване женщины, которую трудно было различить, несмотря на то что она была одета в белое широкое платье. При звуках его шагов веер в ее руках остановился, и бриллианты, которыми он был усеян, блистали при свете, падающем на них от лучей звезд.
Она приподнялась, села и позвала его:
– Иуда, сын мой?
– Это я, матушка, – отвечал он и ускорил шаги. Подойдя к ней, он стал на колени; она обвила его руками и с поцелуями прижала к своей груди.
Глава IV. Мать и сын
Мать заняла прежнее удобное положение, склонившись на подушку, а он присел на диван, прильнув головой к ней. Сквозь арку виднелись ряд крыш смежных зданий, на запад черная громада, которая, они знали, были горы, и темно-синяя глубь неба, блиставшая множеством звезд. Над городом царила тишина. Шумел только ветерок.
– Амра говорила мне, что с тобой что-то случилось, – сказала мать, гладя сына по щеке. – Когда мой Иуда был ребенком, я допускала, что его могут беспокоить мелочи, но теперь он муж. Он не должен забывать, – голос ее сделался еще нежнее, – что ему предстоит быть моим героем.
Она говорила на языке почти вполне забытом в стране, но который немногие, преимущественно отличавшиеся аристократией крови и богатством, хранили во всей чистоте, для явного отличия от простонародья, – на языке, на котором Ревека и Рахиль пели свои песни Веньямину.
При этих словах он снова впал в задумчивость; но немного спустя он взял руку, которой она его ласкала, и сказал:
– Сегодня, матушка, мне пришлось передумать многое, о чем я прежде никогда не думал. Но прежде всего скажи мне, чем я должен быть.
– Разве я уже не сказала тебе? Ты должен быть моим героем.
Он не мог разглядеть выражения ее лица, но знал, что она шутит. Он сказал серьезнее:
– Ты очень добра и ласкова, моя матушка. Никто никогда не будет любить меня так, как ты.
И он несколько раз поцеловал ее руку.
– Я кажется понимаю, почему ты не хочешь продолжать этот разговор. До сих пор моя жизнь всецело принадлежала тебе. Как нежна, как приятна была твоя опека обо мне. И мне хотелось бы, чтоб она вечно продолжалась. Но это невозможно. Воля Бога Иакова, что рано или поздно я стану самостоятелен. Настанет день разлуки, и потому страшный для тебя день. Будем смелы и серьезны. Я буду твоим героем, но ты должна наставить меня на истинный путь. Ты знаешь, что по закону каждый сын Израиля должен иметь определенное ремесло. Я не составляю исключения и спрашиваю теперь, чем я должен быть: пастухом, земледельцем, плотником, писцом или законником? Добрая мать, помоги мне разрешить этот вопрос!
– Гамалиил проповедовал сегодня, – сказала она задумчиво.
– Не знаю, я не слыхал его.
– Стало быть, ты гулял с Симеоном, который, как говорили мне, унаследовал гений своей семьи.
– Нет, я не видал его, я был не в храме, а на площади, я был у молодого Мессалы.
Перемена в его голосе не ускользнула от внимания матери. Предчувствие заставило ее сердце биться сильнее; и опахало снова перестало двигаться.
– Мессала, – сказала она, – чем мог он взволновать тебя?
– Он очень сильно изменился.
– Ты хочешь сказать, что он вернулся римлянином?
– Да.
– Римлянин, – продолжала она, как бы про себя. – Для всего мира слово это означает – господин. Долго ли он был в отсутствии?
– Пять лет.
Она приподняла голову, как бы вглядываясь в темноту ночи.
– Пути к славе вполне пригодны для Египта и Вавилона, но в Иерусалиме, нашем Иерусалиме, непоколебимо царит завет.
Поглощенная этой мыслью, она снова опустилась на подушку. Он первый прервал молчание.
– То, что высказал мне Мессала, мать моя, было само по себе достаточно обидно; но тон его речи был окончательно невыносим.
– Я полагаю, что понимаю тебя. Рим с его поэтами, ораторами, сенаторами и царедворцами помешаны на подражании тому, что они называют сатирой.
– Я думаю, что все великие народы надменны. Но надменность этого народа переходит всякие границы; и за последнее время она быстро возрастает!..
– Да, – прервала его горячо мать, – уже не один римлянин требует божеских почестей.
– Да, в Мессале замечалась всегда эта дурная черта. Я замечал, что он и ребенком смеялся над иностранцами, которых сам Ирод принимал с почетом; но он всегда щадил Иудею. И сегодня в первый раз в разговоров со мной он потешался над нашими обычаями и над нашим Богом; и конечно, ты не посетуешь на меня за то, что я окончательно разошелся с ним. А теперь, добрая мать, я хочу знать определенно, какие основания для этого презрения существуют у римлян. Чем я ниже этого римлянина? Разве наш народ ниже других народов? К чему стал бы я в присутствии даже самого цезаря чувствовать страх раба? А главное, скажи мне, почему я, одаренный душой, не мог бы достигать всех почестей мира на любом поприще человеческой деятельности? Разве я не могу, взявши меч, подвизаться на военном поприще, или как поэт воспевать всевозможные темы? Я могу быть золотых дел мастером, пастухом, купцом. Почему же мне не быть художником подобно греку? Скажи мне, мать моя, – а это более всего волнует меня, – почему сын Израиля не может делать всего доступного римлянину?
Читатель помнит, какое отношение имеют эти вопросы в разговору на площади; мать слушала его с глубочайшим вниманием, и ничто не ускользнуло от нее: ни соотношение предмета разговора, ни прямая постановка вопросов, ни тон, ни интонация его речи. Она приподнялась и так же быстро и горячо возразила ему:
– Вижу, вижу! Благодаря окружающим, Мессала в детстве был почти еврей, и оставайся он здесь, – из него, может быть, вышел бы прозелит: так много мы заимствуем в нашей жизни от окружающих нас влияний. Но годы, проведенные в Риме, слишком изменили его. Я не удивляюсь этой перемене, но, – и голос ее стал тише, – он мог бы обойтись нежнее, по крайней мере, с тобой. Только черствые, жестокие натуры могут в юности забыть друзей детства!
Ее рука опустилась на его лоб, и пальцы нежно и любовно гладили его волосы, в то время как глаза ее были устремлены на звезды. Ее гордость звучала не эхом, но в унисон с его чувством, вследствие полнейшей их симпатии. Она хотела ответить ему и в то же время более всего в мире боялась дать неудовлетворительный ответ. Допустив хоть в чем-нибудь неправоспособность сынов Израиля, она могла на всю жизнь подавить его дух. Она сомневалась в своих собственных силах.
– На твои вопросы, о мой Иуда, женщина не может дать ответа. Оставим это до завтра и спросим у мудрого Симеона, – отвечала она.
– Не отсылай меня к нему, – отрывисто прервал он ее.
– Мы позовем его сюда.
– Нет, я жажду более чем простых советов. Как бы он ни разрешил эти вопросы, он не может внушить мне того, что в силах сделать ты, о моя мать, – дать мне ту решимость, составляющую силу мужественной души.
Взор ее быстро скользил по небу, в то время как она старалась взвесить все значение этих вопросов.
– Если мы жаждем справедливости для себя, то мы не должны быть несправедливы к другим. Отрицать достоинства в побежденном враге – значит умалять достоинства нашей победы; и если суровый враг желает страхом сильнее порабощать нас, – она несколько поколебалась, – то самоуважение обязывает нас искать истинных причин бедствий, а не самоуслаждать себя мыслью, что он принадлежит к низшей породе людей, чем мы.
Говоря это как бы про себя, она затем обратилась к нему со следующими словами:
– Слушай, сын мой: Мессала – благородного происхождения, его фамилия славится издавна. Во времена Римской республики, – когда именно, я не могу сказать, – они отличались и на военном и на гражданском поприще. Я могу назвать одного консула из этого семейства; члены этой семьи были сенаторами, и люди добивались их покровительства, потому что они были богаты. Но если друг твой в настоящее время хвалится своими предками, то ты смело мог бы пристыдить его своими. Если он ссылается на древность своего рода, на деяния, знатность и богатство своих предков, чем обыкновенно гордятся люди, не отличающиеся умом, и чем можно гордиться только в исключительных случаях, если, говорю я, он приводит все это в доказательство своего превосходства, то ты смело, без всякого опасения, мог бы выставить любого из твоих предков, и сравнение отнюдь не было бы в пользу Мессалы.
Несколько подумав, она продолжала:
– В настоящее время принято считать, что народ или род чем он древнее, тем благороднее. Римлянин, основывая на этом свое превосходство перед сыном Израиля, потерпит всегда неудачу. Основание Рима имело свое начало, и древнейшие и очень немногие римские семьи могут вести свой род с этого периода, да и то только в силу голословных преданий. Мессала, конечно, не принадлежит к этим счастливцам. Теперь рассмотрим наш род, древнее ли он?
При бо́льшем освещении он легко бы заметил, какой гордостью дышало ее лицо.
– Если бы римлянин сделал мне подобный вызов, я без малейшего страха и сомнения ответила бы ему.
Голос ее задрожал, и нежное чувство изменило форму аргумента.
– Твой отец, о мой Иуда, покоится на лоне отцов своих, но я живо вспоминаю, как бы сегодня, тот день, когда мы, в сопровождении многих друзей, отправились с ним в храм для посвящения тебя Богу. Мы принесли в жертву голубей; священник, в присутствии моем, записал твое имя: Иуда, сын Итамара, из дома Гура. Имя это внесено было в родословную книгу священного семейства. Я не могу тебе указать на начало обычая вести эти записи; мы знаем, что он существовал до бегства из Египта. Я слышала, Гиллель говорит, что Авраам первый открыл запись своим именем и именами своих сыновей, в силу обета, данного ему Богом, отделившим его и его потомство от остальных народов, как величайших и благороднейших избранников мира. Завет с Иаковом был таковым же. «В семени твоем да благословятся вся народы земные», – так сказал ангел Аврааму на месте Иеогова Ире (Господь усмотрит). «И землю, на которой ты стоишь, я дам тебе и твоему потомству», – так сказал сам Бог Иакову во сне в Вифлееме по дороге в Харран. Затем мудрый человек предусмотрел справедливое разделение Земли обетованной; и дабы известно было в день раздела, кто имеет право на долю, заведена была родословная книга. Но не для одного этого. Завет, данный Богом патриарху, относится к далекому будущему. Семя его благословлялось в лице того Спасителя, который мог быть беднейшим из священной семьи, ибо для Бога нет различия между знатными и незнатными, богатыми и бедными. Чтоб удостоверить справедливость этого завета и воздать честь истинному Спасителю, родословная должна была вестись с безупречной точностью. Действительно ли так она велась?
Опахало быстро задвигалось в ее руке. Наконец, горя нетерпением, он задал ей вопрос: вполне ли верна родословная книга?
– Геллиль уверяет, что да. Из всех живших людей он лучше всех изучил этот предмет. Наш народ отступал иногда от закона, но никогда не забывал свято хранить родословную книгу. Добрый равви сам проследил ее в течение трех периодов: от начала обетования до открытия храма, от открытия храма до пленения и от пленения до наших дней. Однажды только, и именно к концу второго периода, запись была прервана; но когда народ вернулся из долгого изгнания, Иеровавель восстановил книгу родословной, считая это как бы первейшей обязанностью по отношению к Богу, и тем дал нам возможность проследить еврейский род непрерывно в течение двух тысяч лет. И теперь…
Она приостановилась, как бы давая тем возможность слушателю оценить всю древность родословной.
– И теперь, – продолжала она, – как смешно и ничтожно это тщеславие римлян древностью их рода? В этом отношении любой пастух из сынов Израиля благороднее избраннейшего римлянина.
– А я, мать, кем значусь в родословной?
– Все вышесказанное имеет прямое отношение к твоему вопросу. И я сейчас дам тебе ответ на него. Будь Мессала здесь, он, может быть, подобно многим, сказал бы, что точные следы родословной прерываются взятием Иерусалима ассирианами и разрушением храма со всеми его сокровищницами. Но ты мог бы напомнить ему о благочестивом деле Иеровавеля и возразить ему, что на таком же точно основании и римская генеалогия прерывается взятием Рима западными варварами, владевшими Римом в течение шести месяцев. Вело ли государство семейные списки и что сталось с ними в эти дни разорения? Нет, нет, наша родословная книга верна, и, следя по ней до времен пленения и, далее, до времен построения храма и до исхода из Египта, мы можем с полной достоверностью проследить наш род до Гура, сотоварища Иисуса. В деле древности рода наше семейство вполне достославно. Но ты хочешь, может быть, проследить род наш далее? Возьми тогда Тору, отыщи книгу чисел, и ты найдешь родоначальника нашего дома в семьдесят втором поколении от Адама.
Тишина царила некоторое время.
– Благодарю тебя, о мать моя, – воскликнул Иуда, сжимая ее руки. – Благодарю тебя от всего сердца. Я был прав, не желая обращаться к доброму раввину. Он не мог бы более тебя успокоить меня. Но чтобы семья была истинно благородна, достаточно ли одной древности?
– О, ты забываешь, ты забываешь, что наша слава зиждется не исключительно на одной древности, а главным образом на том, что мы – избранники Божии.
– Ты говоришь о народе, а я, мать моя, спрашиваю тебя о семействе, о нашем семействе. Со времени отца Авраама, что совершили предки наши? Какими великими делами возвысились они над соотечественниками?
Она колебалась, опасаясь, что все это время неверно понимала предмет разговора. Может быть, все эти вопросы внушены ему были одним оскорбленным самолюбием. Юность есть только та прекрасная скорлупа, внутри которой живет, постоянно развиваясь, дивная вещь – ум человеческий, ожидая момента своего проявления, наступающего у одних раньше, чем у других. Она дрожала при мысли, что, может быть, этот момент наступил для ее сына. Как младенцы протягивают руки, желая схватить тень, так, может быть, и ум его желает охватить неизвестное будущее. Нужно быть крайне осторожным в своих ответах на вопросы ребенка: кто я и чем я должен быть? Каждое слово отваги отражается на будущности так же, как малейшее прикосновение пальца ваятеля отражается на его произведении.
– Мне кажется, о мой Иуда, – сказала она, гладя его лицо, – мне кажется, что все сказанное мною было опровержением скорее воображаемого, чем действительного врага. Если последним является Мессала, то не оставляй меня бороться с ним впотьмах. Передай мне весь ваш разговор.
Глава V. Новый гимн Израилю
Тогда молодой израильтянин начал передавать ей свой разговор с Мессалой, особенно распространяясь об отзывах его относительно евреев, их обычаев и их узкого кругозора.
Боясь прервать его, мать слушала с полнейшим вниманием. Иуда отправился в дом Мессалы повидаться с любимым товарищем детства, надеясь встретить его таким же, каким оставил его несколько лет тому назад. Но он не нашел веселых воспоминаний в этом муже, мечтавшем только о будущей славе, богатстве и власти. Бессознательно для самого себя Иуда вынес из разговора с ним оскорбление своей гордости и сильно возбужденное честолюбие; и она, эта ревнивая мать, ясно все понимая, не знала, однако, какое направление примет это пробудившееся в нем чувство, – и в ней главным образом заговорило опасение еврейки. Что, если она удалит его от веры отцов? Ничто в мире в ее глазах не могло быть ужаснее этого. По ее мнению, было только одно средство избегнуть несчастья, и она принялась за исполнение задачи. Ее речь, благодаря природному дарованию, вдохновленному всей силой материнской любви, была мужески строга и в то же время крайне поэтична.
– Никогда еще не существовало народа – так начала она, – который бы не считал себя, по крайней мере, равным любому другому народу; и всегда великий народ, сын мой, считал себя избранником. Если римлянин свысока и презрительно смотрит на Израиля, то он только повторяет этим безумие египтян, ассириян и македонян. И он поступает также, издеваясь над нашим Богом.
Голос ее мужал.
– Нет мерила для определения превосходства народа, и все такие разговоры бесплодны и доказывают только одно пустое тщеславие. Народ мужает, достигает полного роста и затем умирает или естественной смертью, или от руки другого народа, заступающего его место, его мощь; и на его могилах надписываются новые имена. Такова история. Если бы мне предложили в простейшей форме, символически изобразить Бога и человека, я начертила бы прямую линию и круг; о прямой линии я бы сказала: это – Бог, ибо Он один предвечно движется по прямому пути; а о круге – это человечество, таков его прогресс. Я не могу ничего сказать, что судьбы нации все одинаковы. Нет, каждая совершает свой круг, но различие состоит не в величине круга, как предполагают многие, и не в обширности пространства, заселяемого известной нацией, а в сфере ее движения: высочайшая сфера есть вместе с тем и ближайшая к Богу.
Остановись я на только что сказанном, ты мог бы упрекнуть меня в том, что я почти ничего не выяснила, и потому пойдем далее. Существуют несомненные признаки, определяющие вышину сферы, описываемой известной нацией. Сравним, например, евреев с римлянами. Главным признаком служит духовная жизнь народа; но достаточно заметить, что Израиль только порою забывал Бога, римлянин же никогда не ведал Его, – тебе станет ясно, что в этом отношении никакое сравнение между ними и немыслимо.
Твой друг, или, вернее, бывший твой друг, если я верно поняла тебя, обвиняет нас в том, что у нас не было поэтов, художников и полководцев; этим он, очевидно, хочет сказать, что у нас не было великих людей, составляющих второй существенный признак величия народа. Чтобы решить, насколько справедливо это обвинение, нужно предварительно точно определить, что следует разуметь под словом великий человек. Велик, о мой мальчик, тот, чья жизнь доказывает, что он был прямым или косвенным орудием Бога. Один перс был призван покорить наших отцов за их вероотступничество, и он увел их в плен; другой перс был избран для возвращения детей в их Землю обетованную; но более велик, чем оба они, тот македонянин, который служил орудием мщения за разорение Иудеи и храма. Отличительное свойство их состояло в том, что они избраны были Богом, для совершения Его божественного предначертания, и это обстоятельство, что они были язычниками, ни мало не умаляет их славы. Обрати внимание на это определение и не теряй его из виду при дальнейшем ходе нашей беседы.
Господствует мнение, что военное поприще – самое благородное для мужей, и что величие победоносного оружия превосходит все остальные. Пусть мир заражен этой идеей, но ты не ослепляйся ею. Люди должны покланяться чему-нибудь до тех пор, пока существуют явления, которых они не в силах объяснить себе. Мольба варвара есть вызванный страхом крик к силе, единственному божественному свойству, ясно им понимаемому; отсюда – его поклонение героям. И сам Юпитер не более как римский герой. Грекам принадлежит великая слава почитать ум выше силы. Афиняне чтили ораторов и философов выше полководцев. Люди, одерживавшие победы в беге и езде на колесницах, оставались героями арены; но бессмертная слава была уделом только гениальных поэтов. Семь городов оспаривали друг у друга славу быть родиной одного из них. Но были ли греки первыми, отвергнувшими старую веру варваров? – Нет, эта слава, сын мой, принадлежит нам. Грубой силе праотцы наши противопоставили Бога. Наше богослужение, победные клики, заменились осанной и псалмами. Этим евреи и греки возвысили человечество и двинули его вперед. Но – увы! – правящий мир ставит войны вечным условием, и Рим превыше разума и Бога воздвигает трон Цезаря, это олицетворение грубой силы, не допускающей иного величия.
Греческий период – время процветания гениальностей, одаривших мир многими великими мыслителями. Люди, пользуясь полнейшей свободой развития, достигали на всех поприщах, кроме военного, такой степени совершенства, что даже римляне принуждены довольствоваться подражанием им. Греки служат образцами для ораторов форума; прислушайся – и в любой римской мелодии ты услышишь греческий размер; если римлянин мудро говорит о нравственности, об отвлеченных вопросах или о тайнах природы, то знай, что он или украл это у кого-нибудь из греков, или воспитывался в греческой школе. Во всем, исключая военного ремесла, Рим является только подражателем. Его игры и увеселения греческого происхождения, но с примесью кровавых зрелищ для удовлетворения зверских инстинктов его черни; его религия (если только это название здесь уместно) состоит из осколков верования других народов; его наиболее чтимые боги, не исключая Марса и Юпитера, олимпийского происхождения. Таким образом, сын мой, во всем мире только один наш Израиль может оспаривать пальму величия у греков и вместе с ними предъявлять права на звание самобытного гения.
Ввиду величия других народов это грубое тщеславие римлян кажется таким же непоколебимым самоослеплением, как и кольчуги, защищающие грудь. О, безжалостные завоеватели! Под их пятой, под которую попали и мы, стонет земля, как ток под ударами цепов. Римляне занимают у нас высшие, священнейшие места, и никто не знает, где конец их игу. Но я верю и знаю, что хотя бы они и раздавили Иудею, как молот разбивает миндалину, хотя бы они разрушили Иерусалим – ядро и красу ее, тем не менее слава мужей израильских останется тем вечным светом, озаряющим человечество, погасить который никто не в силах, ибо история мужей Израиля есть история Бога, водившего их рукой при писании священных книг, говорившего их устами и лично творившего все доброе, соделанное ими. Кто был их законодатель на Синайской горе, путеводителем в пустыне, вождем в битвах, царем правителем на троне? Кто не раз разверзал завесу, скрывающую Его небесную обитель, и как человек, говорящий со своими собратьями, указывал им истину, путь к счастью, учил как жить, и при своем всемогуществе давал им обеты и закреплял клятвой свой вечный завет с ними? О, сын мой, мыслимо ли, чтобы ничего божественного не заимствовали от Него те, к кому так благоволил Иегова, к которым Он так снисходил, которые находились в постоянном общении с Ним, чтобы в складе их жизни и в делах человеческое не было слито с божественным и чтобы гений их даже по прошествии веков не сохранил в себе эту долю божественного?
Только движение опахала нарушало некоторое время тишину.
– Правда, в области живописи и ваяния Израиль не имел выдающихся художников, – сказала она тоном сожаления, потому что принадлежала к садукеям, допускавшим, в противоположность фарисеям, проявление чувства прекрасного во всевозможных формах, невзирая на его происхождение. – Но, – продолжала она, – не следует забывать, что, во-первых, наши руки были связаны запрещением. Заповедь: «Не сотвори себе кумира, ни всякого подобия его» – была истолкована Соферимом не сообразно ни с ее целью, ни с временем, а во-вторых, что задолго еще до того времени, когда Дедал появился в Атике и своими деревянными статуями совершил переворот в скульптуре, породившей школы в Коринфе и Егине, с их великими творениями – Портиком и Капитолием, задолго еще до Дедала, говорю я, сердца двух израильтян Веселиила и Аголиава, строителей Первой скинии, «исполнены были мудростью, чтобы делать всякую работу». Они сделали между прочим на обоих концах крышки ковчега двух херувимов из золота чеканной работы. («И были херувимы с распростертыми вверх крыльями, а лицами своими были обращены друг к другу».) Кто скажет, что они не были прекрасны или что они не были первыми статуями?
– О, я понимаю теперь, почему греки опередили нас, – сказал Иуда, глубоко заинтересованный этим рассказом. – А ковчег… да будут прокляты вавилоняне, разрушившие его.
– Нет, Иуда, не верь этому. Он не был разрушен, а тщательно спрятан в одной из пещер соседних гор. Но настанет день, – говорят единогласно Гиллель и Шамай, – настанет день, настанет царство Божье на земле, и он снова будет найден, и израильтяне восстановят его и понесут с пением и пляской, как в былые годы. Тогда, взглянув на лики этих херувимов, люди, видевшие Минерву, выточенную из слоновой кости, готовы будут лобзать руки иудеев за это чудо их гения, покоившегося столько веков в оцепенении.
Мать, увлеченная рвением, говорила с горячностью вдохновленного оратора; теперь она остановилась, чтобы несколько успокоиться и уловить нить первоначальных мыслей.
– Ты так прекрасна, мать, – сказал Иуда, и в тоне его слов звучали и восторг и благодарность. – Ни Шамай, ни Гиллель не сумели бы лучше говорить. Я снова – истинный сын Израиля.
– Льстец! Я ведь повторяю только доводы Гиллеля, слышанные мною в его споре с одним римским софистом.
– Да, но сердечность этих доводов – твоя.
Она продолжала в прежнем строгом тоне.
– На чем я остановилась? Да, я утверждала, что слава первых статуй принадлежит по праву нам, евреем. Но скульптура – не единственная область искусства, а последнее – не единственная арена для великих людей. Ход человечества мне всегда представляется так: посреди и впереди маленькие кучки великих людей, из века в век идущих отдельными группами, смотря по национальности. Тут индусы, там египтяне, в третьей группе ассирияне. Раздаются звуки труб, над ними развеваются красивые знамена, а по бокам идут жители – бесчисленное поколение простых смертных. При этом зрелище я вспоминаю Грецию и говорю, грек ведет человечество, он указывает ему путь; но римлянин кричит: прочь! твой передовой пост принадлежит нам; мы опередили тебя и обдаем тебя облаком пыли. А во время всего этого шествия, с начала веков в бесконечное будущее, над ними вечно сияет свет, о котором эти люди, оспаривающие друг у друга первенство, знают только одно, что он вечно манит их – это свет откровения. Кто же держит этот светильник? Древний иудей! Трижды благословенны отцы наши, служители Бога, хранители завета! Мы – руководители человечества и в прошедшем, и в настоящем, и в будущем. Передовой пост принадлежит нам, и будь каждый римлянин цезарем, мы не уступим этого поста.
Иуда был глубоко потрясен.
– Умоляю тебя, продолжай, – воскликнул он. – Слушая тебя, я как бы слышу звуки тимпанов, вижу Мариам и сопровождающих ее пляшущих и поющих женщин.
– Хорошо, сын мой, если ты можешь перенестись в прошедшее, то станем поодаль и проследим избранников Израиля, идущих во славе великих руководителей человечества. Вот они: во-первых, патриархи; затем родоначальники колен. Мне слышатся колокольчики их верблюдов и рев их стад. Кто же этот резко отличающийся от всех остальных? Старец, но взор очей его не потух и силы его не ослабели. Он лицезрел самого Бога. Воин, поэт, оратор, законодатель, пророк – его величие сияет, как утреннее солнце, в блеске которого меркнут все остальные светила, даже в лице первейших и благороднейших цезарей. За ним следуют судьи; затем – цари: сын Иеccея, герой на войне, творец бессмертных псалмов; и сын его, богатством и мудростью превосходивший всех остальных царей; населяя пустыни, украшая городами прежние безлюдные места, он не забывал Иерусалима, этого города, избранного Богом для своего земного царствия. Склони, сын мой, ниже свою голову, – за ними следуют те, которые были первыми и единственными в своем роде! Они идут с поднятой головой, как бы прислушиваясь к голосу неба. Их жизнь полна печали, от их одежды веет могилой и пещерами. Прислушайся к тому, что говорит одна из них: «Воспойте Господеви, славные бо прославятся!» Преклони голову до земли перед ними. Они были гласом Бога, Его слугами, провидевшими тайны небес и вещавшими будущее. Они записали свои пророчества, дабы люди могли проверить их справедливость. Цари бледнели при их появлении и народы трепетали при звуке их голоса. Стихии повиновались им, и их руками изливались и бедствия и благодать. Взгляни на Илью, фесвитянина, и на Елисея, его слугу! Взгляни на печального сына, Хилкиа, и на него – пророка видений у реки Хибара. Взгляни на одного из трех сыновей Иуды, отвергшего повеление вавилонского царя и на пиру в присутствии бесчисленных гостей, пристыдившего астрологов. А далее… но пади снова ниц, – пред тобою благородный сын Амоса, вещавший миру о грядущем Мессии.
Опахало все это время быстро двигалось. Теперь оно остановилось, и она кротко заметила:
– Ты утомился.
– Нет, я слышал новый гимн Израиля.
Мать увлекаясь продолжала:
– Милый Иуда, насколько я могла, я осветила тебе наших великих людей: патриархов, законодателей, полководцев, псалмопевцев, пророков. Возьмем теперь лучших из римлян. Противопоставь Моисею Цезаря, Давиду – Тарквина, любого из Маковеев – Симле, лучших консулов – судьям, Августа – Соломону. И что же? А далее… Но нашим пророкам, этим величайшим из людей, даже и противопоставлять некого.
Она презрительно улыбнулась.
– Прости меня, мне припомнились гадатели, предостерегающие Кая и Юлия от мартовских ид и воображающие, что видят предзнаменование презираемых им злополучий во внутренностях голубей. И от этой картины перенеси свой взор на Илью, сидящего на вершине горы, по пути в Самарию, среди дымящихся трупов пятидесятника и пятидесятка, и предостерегающего сына Ахава от Божьего гнева. Ведь в сущности, сын мой, мы можем сравнивать даже Иегову с Юпитером, – если только позволительно такое сравнение, – только по тем делам, какие творились их служителями во имя их. Что же касается до того, чем тебе быть…
Последние слова она произнесла быстро, и голос ее дрожал.
– Чем тебе быть? Служи, мой мальчик, Господу Богу, Богу Израиля, а не Риму. Для сынов Авраама нет иной славы, как следовать стезям Божьим и на этом пути обрести великую славу.
– Могу ли я быть воином? – спросил Иуда.
– Почему же нет? Разве Моисей не называет Господа Богом брани?
В комнате водворилась глубокая тишина.
– Благословляю тебя и на это поприще, – сказала она, – если только ты будешь служить не кесарю, а Богу.
Он радостно принял ее согласие и стал понемногу засыпать. Тогда она встала, подложила ему под голову подушку и, покрыв его шалью, нежно поцеловала и вышла.
Глава VI. Да здравствует Марс!
Добрый человек, как и злой, должен умереть, но в силу нашей веры мы говорим при этом: что же? он пробудится на том свете. В этой жизни больше всего походит на это пробуждение то, когда человек просыпается после здорового сна, среди очаровательного зрелища, под звуки прелестных напевов.
Когда Иуда проснулся, солнце уже было высоко и освещало горы. Повсюду летали голуби и их белые крылья мерцали радужным блеском солнечных лучей. На юго-востоке красовался храм, а золото его ярко блестало на фоне голубого неба. Но это было обычное зрелище и он только мельком окинул его взором; на краю дивана, близ него, сидела девушка лет пятнадцати и пела, грациозно касаясь струн зибеля, покоившегося на ее коленях. На ней-то и остановились его взоры.
Песня: «Не просыпайся, но услышь меня, любимец мой! Гладко убаюканная тихим ветерком при дремоте моря, душа твоя да услышит мой зов. Не просыпайся, но услышь меня, любимец мой! Я несу тебе дар сна, царя покоя, полный счастливых, счастливых грёз.
Не просыпайся, но услышь меня, любимец мой! Из всего мира твоих грёз избери себе одну самую божественную. Избрав, усни, любимец мой. Но знай, что ты не властен впредь изменить избранной тобою грёзе, разве, разве только, для меня».
Она отложила в сторону свой инструмент, сложила на коленях руки и ждала, что он начнет говорить. Так как нам необходимо сказать о ней несколько слов, то за одно познакомим читателя и со всей семьей.
В Иерусалиме после Ирода осталось много знатных лиц, пользовавшихся его щедростями; если последние сыпались на потомков славных сынов одного из колен, особенно же колена Иуды, то счастливцев этих именовали князьями иерусалимскими, – отличие, благодаря которому они пользовались громадным почетом среди менее счастливых соотечественников, и уважением язычников, с которыми им приходилось входить в деловые сношения. Из числа этих баловней судьбы отец знакомого нам Иуды пользовался наибольшим почетом как в частной, так и в общественной жизни. Постоянно помня о народе, он оставался верен императору и честно служил ему как в Иудее, так и вне ее. Дела часто привлекали его в Рим, где он обратил на себя внимание Августа и снискал его дружбу. Вследствие этого в доме его красовалось множество ценных, вполне царских подарков – пурпуровые тоги, кресла из слоновой кости, золотые кубки, особенно ценные, потому что были вручены ему лично императором. Такой человек не мог быть беден, но богатство его не зависело от царских щедрот. Он вел множество предприятий. Значительное количество пастухов пасли его стада по равнинам и склонам древнего Ливана; на берегу моря и внутри страны находились основанные им торговые дома; его корабли привозили ему серебро из Испании, где в то время находились богатейшие рудники, а караваны дважды в год доставляли с Востока шелка и пряности. Еврей по вере, он строго соблюдал закон и существенные еврейские обряды, занимал почетное место в синагоге и храме и был сведущ в Писании. Он с наслаждением проводил время среди раввинов и доводил свое поклонение Гиллелю почти до обожания. Но он отнюдь не был сепаратистом; его гостеприимством пользовались чужестранцы со всех концов света, и щепетильные фарисеи обвиняли его в том, что за его столом не раз восседали самаритяне. Будь он язычник и проживи несколько дольше, мир, может быть, знал бы о нем, как о сопернике Ирода Аттика, но он был еврей и погиб лет за десять до того времени, к которому относится наш рассказ, – погиб во цвете лет, оплакиваемый всей Иудеей.
Мы уже знакомы с двумя членами его семьи, с его вдовой и сыном; у него осталась еще дочь – та самая девушка, которую мы застали напевающей песенку своему брату.
Ее звали Тирсой, и она сильно походила на брата. Те же правильные черты лица, тот же еврейский тип и та же прелесть детского выражения лица. Судя по костюму, легко было предположить, что она дома. Сорочка, застегнутая на правом плече и свободно спадавшая на грудь и спину, проходила под левое плечо, оставляя обнаженными шею и руки. Пояс стягивал складки сорочки, обрисовывая ее стан. Прическа ее была проста и изящна; на ней была шелковая шапочка из тирского пурпура, а поверх ее полосатый шарф из той же материи, прелестно вышитый, нежные складки которого ясно обрисовывали контур головы, ни мало не увеличивая ее размеров; все это завершалось кисточкой, спадавшей с верхушки шапочки. На пальцах она носила кольца, в ушах – серьги, на руках и ногах – браслеты из чистого золота, на шее – золотое ожерелье, изящно украшенное сетью тонких цепочек с привесками из жемчуга. Углы ее век, как и концы пальцев, были подкрашены. В целом нельзя было отказать ей ни в грации, ни в изяществе, ни в красоте.
– Очаровательно, Тирса, очаровательно! – восторженно воскликнул Иуда.
– Моя песнь? – спросила она.
– И ты и твоя песнь. В ней что-то греческое! Где ты заучила ее?
– Ты помнишь грека, певшего в театре месяц тому назад? Говорят, что он был певцом при дворе Ирода и его сестры Соломеи. Он выступил вслед за борцами, когда страшный шум еще раздавался в театре. Но при первом же звуке его голоса все стихло, и я могла разобрать каждое слово. Я у него и переняла эту песню.
– Но он пел по-гречески.
– А я по-еврейски.
– Вот как!.. Ты – моя гордость. Нет ли у тебя и другой такой же прелестной песенки?
– Есть много, но об этом потом. Амра послала меня сказать тебе, что она принесет тебе завтрак сюда, и тебе не за чем спускаться вниз. Она думает, что ты болен, что какое-нибудь большое несчастье приключилось с тобой вчера. Что с тобой, скажи мне, и я помогу Амре лечить тебя. Она знает египетские лекарства, но они все бессмысленны. Я же имею множество арабских рецептов, которые…
– Еще бессмысленнее египетских, – сказал он, качая головой.
– Ты думаешь? Ну хорошо; в таком случае, – продолжала она, ни мало не смущаясь, – оставим их в стороне. Я имею нечто получше и повернее – амулет, данный персидским магом кому-то из наших предков, – когда, я не знаю, ибо это очень давно. Посмотри, и надпись на нем почти совсем стерта.
Она подала ему сережку; он взял, посмотрел на нее и смеясь возвратил обратно.
– И умирая, Тирса, я бы не воспользовался этими чарами. Это – реликвия язычников, воспрещенная всем сынам и дочерям Авраама. Возьми и не носи ее больше.
– Запрещенная? О нет, – возразила она. – Мать нашего отца носила ее всю жизнь, даже и по субботам, и излечила ею множество народа… Она одобрена, посмотри, вот и печать нашего раввина.
– Я не верю в амулеты.
Она удивленно взглянула на него.
– Что сказала бы на это Амра!
– Отец и мать Амры возделывали свой сад на берегу Нила.
– А Гамалиил?
– Он говорит, что это безбожные выдумки неверующих и схизматиков.
Тирса с сомнением глядела на серьгу.
– Так что же мне с ней делать?
– Носи ее, сестренка, она идет тебе; она увеличивает твою красоту, хотя ты и без того прекрасна.
Довольная, она снова вдела ее в ухо, в то время как Амра вошла в комнату с рукомойником и полотенцем.
Иуда не был фарисеем, и потому омовение было быстро и просто. Затем Амра удалилась и Тирса принялась за его прическу. Когда ей удавалось изящно расчесать локон, она заставляла его любоваться в маленькое металлическое зеркало, которое, по обычаю всех красавиц страны, она носила на поясе. Тем временем они вели следующий разговор.
– Знаешь ли, Тирса, я уезжаю.
У нее опустились руки от удивления.
– Уезжаешь?.. Куда? когда? зачем?
Он засмеялся.
– Сразу три вопроса! Какая ты чудная. – Но затем прибавил серьезно: – Ты знаешь, что закон требует, чтобы я избрал какой-нибудь род занятий. Покойный отец служит мне примером. И даже ты презирала бы меня, если бы я праздно расточал плоды его трудов и знаний. Я уеду в Рим.
– О, и я с тобой!
– Ты должна остаться с матерью. Она умрет, если мы оба оставим ее.
Радость исчезла с ее лица.
– Да, да! Но зачем тебе ехать? Если ты хочешь быть купцом, то можешь научиться всему необходимому для этого и здесь, в Иерусалиме.
– Но я не думаю быть купцом. Закон не обязывает сына наследовать род занятий отца.
– Чем же ты хочешь быть?
– Солдатом, – отвечал он, а в голосе его звучала гордость.
На глазах Тирсы появились слезы.
– Тебя убьют.
– Если такова будет воля Бога. Но, Тирса, не всех солдат убивают.
Она обвила его шею руками, как бы желая удержать его.
– Мы так счастливы, оставайся дома, мой брат!
– Дом не всегда будет тем, чем теперь. Ты сама скоро оставишь его.
– Никогда.
Он улыбнулся ее серьезному тону.
– Скоро явится какой-нибудь князь Иудейский или иной кто из нашего племени, возьмет мою Тирсу и увезет ее к себе. И будешь ты радость другого дома. Что будет тогда со мной?
Она отвечала рыданиями.
– Война ремесло, – продолжал он уже серьезно, – и чтобы научиться, ему нужно пройти школу. А нет школы лучше римского лагеря.
– Ты не будешь воевать за Рим? – спросила она, сдерживая дыхание.
– И даже ты ненавидишь его! Весь мир ненавидит его. И в этом, о Тирса, ищи смысл моего ответа.
– Когда же ты едешь?
Послышались шаги возвращающейся Амры.
– Тише, – сказал он, – не говори ей ничего об этом.
Верная служанка вошла с завтраком и поставила поднос на стул перед ним; затем, с белой салфеткой на руке, она осталась служить им. Они помочили пальцы в чаше с водой и вытирали их, когда шум привлек их внимание. Они стали прислушиваться и оказалось, что то была военная музыка, раздававшаяся на улице с северной стороны дома.
– Солдаты из преториума. Нужно посмотреть на них! – воскликнул он, вскакивая с дивана и убегая.
Минуту спустя он уже стоял упираясь грудью о парапет из черепиц, обрамлявший северо-восточную часть кровли, и так увлекся, что не замечал Тирсу, стоявшую с ним рядом и державшую руку на его плече.
Крыша их возвышалась над крышами остальных домов и с нее можно было видеть все пространство вплоть до громадной, неправильной башни Антония, о которой мы уже упоминали, как о цитадели для гарнизона и главной военной квартире правителя. Через улицу шириной не более десяти футов там и сям были перекинуты мосточки, крытые и не крытые, которые, как и все крыши вдоль улицы, начали наполняться мужчинами, женщинами и детьми, привлекаемыми музыкой. Мы употребили это слово, хотя оно далеко не выражает того рева труб и грохота литавр, который раздавался теперь на улице и сильно поднял римских солдат.
Вскоре с крыши дома Гура можно было рассмотреть все шествие. Впереди авангард легкой пехоты – преимущественно пращники и стрельцы – выступал рядами и шеренгами с значительными перерывами; за ними следовал отряд тяжелой инфантерии, с массивными щитами и пиками, вполне соответствующими тем, которые употреблялись героями Илиады; затем шли музыканты, а за ними, отдельно от других, ехал офицер, окруженный стражей кавалеристов; наконец двигались плотные колонны тяжелой инфантерии, наполнявшей улицы от одной стены до другой и казавшейся без конца.
Темный цвет кожи солдата, мерные движения щитов справа налево, блеск блях, пряжек, лат, шлемов, тщательно вычищенных, развевающиеся знамена и перья султанов, блестящие концы копий; смелый, уверенный и тщательно размеренный шаг солдата, их верная и воинственная осанка, машинообразное единство движущейся массы – все это произвело на Иуду потрясающее впечатление. Два предмета обратили на себя особенное его внимание: во-первых, орел легиона, вызолоченное изображение которого помещалось на высоком древке с крыльями, распущенными над его головой. Он знал, что этот орел встречался с божескими почестями, когда выносился из своего помещения в башне.
Второй предмет, обративший на себя его внимание, был офицер, ехавший посреди колонны. Он ехал с непокрытой головой, хотя и в полном вооружении. Слева он носил короткий меч, в руке держал жезл наподобие свертка белой бумаги. Кусок пурпурового сукна заменял ему седло; уздечка была с золотыми удилами и шелковыми поводьями, украшенными бахромой.
Иуда давно уже заметил, что появление этого офицера вызывало в народе сильные взрывы гнева. Одни наклонялись над парапетами или выступали вперед и грозили кулаками; другие сопровождали его громкими криками и плевали в него, когда он проезжал под мостами; женщины даже бросали и не раз попадали в него сандалиями. Когда он приблизился, можно было разобрать и крики: грабитель, тиран, римская собака! Прочь Измаил, дай нам Анну!
При его приближении Иуда мог рассмотреть, что он не был так равнодушен, как его солдаты. Лицо его было мрачно и злобно, и взоры, бросаемые им на своих преследователей, были полны угроз, от которых содрогались наименее смелые.
Юноша слышал об обычае, существовавшем со времени первого цезаря, в силу которого начальники, в отличие от других, являлись перед народом в лавровом венке на непокрытой голове. По этому признаку он признал в офицере прокуратора Иудеи – Валерия Грата.
По правде сказать, несмотря на бурю вражды, вызванную римлянином, симпатия юноши была на его стороне, и когда он поравнялся с углом дома, Иуда, чтобы лучше рассмотреть его, перевесился через парапет и при этом уперся рукой о черепицу, которая давно уже была отломана. Давление было настолько сильно, что черепица сорвалась с места и покатилась. Дрожь испуга пробежала по телу юноши. Он наклонился, чтобы ухватить ее, и при этом имел вид, как будто он нечто бросает. Но старание его не только не имело успеха, но, наоборот, черепица, благодаря этому, только сильнее скользнула по крыше и со всей силой полетела вниз. Солдаты охраны взглянули вверх, взглянул и их начальник, но в этот момент черепица ударила его, и он упал с лошади.
Когорта остановилась; телохранители сошли с лошадей и поспешили щитами прикрыть своего начальника. Народ же, ни мало не сомневаясь, что удар был нанесен преднамеренно, рукоплескал юноше, который стоял на виду у парапета, пораженный ужасом как от случившегося, так и от последствий, которых он должен был ожидать.
Злобный дух охватил мгновенно всех людей, стоявших вдоль улицы и на крышах домов; они вырывали черепицы из парапетов, прожженную солнцем грязь, покрывавшую большую часть крыш, и в слепом гневе бросали ими в легионеров, стоявших внизу. Началось взаимное побоище. Дисциплина, конечно, взяла верх. Уменье сражаться, оружие, ловкость с одной стороны и отчаяние с другой – вот картина, предоставлявшаяся зрителю; но мы вернемся лучше к злополучному виновнику этого события.
Он отошел от парапета и бледный как смерть воскликнул:
– О Тирса, Тирса! Что будет с нами.
Она не видела всего случившегося, но следя за происходившим на соседних кровлях, знала, что совершилось нечто ужасное. Не зная причины события, она не подозревала и опасности, грозившей ей или кому-нибудь из ее близких.
– Что случилось? Что все это значит? – спросила она, охваченная внезапным ужасом.
– Я убил римского правителя, черепица упала на него.
Она мгновенно побледнела, как будто бы незримая рука осыпала ее лицо пеплом. Обвив его рукой и не говоря ни слова, она внимательно глядела ему в глаза. Его испуг передался ей, и при виде этого он почувствовал мужество.
– Я не преднамеренно сделал это, Тирса, это была простая случайность, – сказал он спокойнее.
– Что же они сделают? – спросила она.
Он видел усиливающийся беспорядок на улицах, на крышах домов, и припомнил зловещий взгляд Грата. Если он жив, то на чем остановится его месть? А если он убит, то до каких ужасов могут дойти легионеры под влиянием неистовства народа? Как бы ища ответа на эти вопросы, он опять перевесился через парапет в ту минуту, как охранители помогали римлянину сесть снова на лошадь.
– Он жив, он жив, Тирса! Да будет благословен Бог наших отцов!
При этом восклицании и с просиявшим лицом он отклонился от парапета и сказал ей:
– Не бойся, Тирса! Я объясню, как все это произошло, и они, помня нашего отца и его заслуги, не повредят нам…
Он повел ее в беседку, но в это время внизу под ними раздались голоса, треск стен и крики удивления и ужаса, как бы доносившиеся со двора. Он остановился и стал прислушиваться. Крики повторились, затем последовал шум множества шагов и смесь гневных криков с возгласами мольбы и женского смертельного ужаса. Солдаты ворвались очевидно в северные ворота и овладели домом. Он почувствовал неизъяснимый страх при мысли, что его схватят, и первым импульсом его было бежать. Но куда? Имей он крылья, он мог бы улететь, и это было единственным средством спастись.
Тирса, обезумевшая от страха, схватила его за руку.
– О Иуда, что все это значит?
Избивают слуг, а его мать? Не раздается ли в числе голосов и ее голос? И сделав над собой усилие, он сказал сестре:
– Стой здесь и жди меня, Тирса. Я пойду вниз и посмотрю, что с матерью.
Но она заметила волнение в его голосе и теснее прижалась к нему.
Теперь ему ясно слышались пронзительные крики матери, и он долее не колебался.
– Пойдем! – сказал он.
Терраса галереи у подножия лестницы была полна солдат, которые с обнаженными мечами вбегали и выбегали из комнат. В одном месте группа столпившихся женщин на коленях молила о пощаде; отдельно от нее женщина в разодранной одежде и с длинными волосами, падавшими на ее лицо, старалась вырваться от человека, силившегося удержать ее во что бы то ни стало. Ее крики были пронзительнее всех остальных и ясно долетали до кровли, несмотря на окружающий шум и гвалт.
К ней-то и бросился Иуда быстрыми и крупными шагами; он не шел, а как бы летел.
– Мать! Мать! – кричал он ей.
Она протянула к нему руки, но в ту минуту, как он уже коснулся до них, его схватили и оттащили; при этом кто-то внятно и громко сказал:
– Это он!
Иуда взглянул на говорящего и увидал Мессалу.
– Этот, что ли, убийца? – спросил взрослый мужчина в прекрасной одежде легионера. – Да он еще совсем мальчик?
– Боги! – возразил Мессала, не забывая и тут растягивать слова. – Новейшая философия! Что сказал бы Сенека, услыхав, что человеку необходимо быть старым, чтобы ненавидеть настолько, чтобы убивать. – Это он, берите же его; а вот это его мать, а там дальше – сестра. В ваших руках теперь вся семья.
Сила любви к последней заставила Иуду забыть даже ссору.
– Помоги им, о мой Мессала! Вспомни наше детство и помоги им. Я, Иуда, умоляю тебя.
Мессала сделал вид, что не слышит этих слов, и, обратившись к офицеру, сказал:
– Я не могу ничем более вам быть полезен. На улице интереснее. Прочь Эрот, да здравствует Марс!
И с последними словами он исчез. Иуда понял его и с горечью в душе молил небо:
– В час возмездия, о Боже, – сказал он, – да не останется и он безнаказанным.
Сделав над собою усилие, он приблизился к офицеру.
– О, сир, – сказал он, – эта женщина, вопли которой вы слышите, моя мать. Пощадите ее, пощадите и сестру мою, которая вот здесь. Бог справедлив, он воздаст вам милосердием за милосердие.
Человек, по-видимому, был тронут словами юноши.
– Отведите женщин в башню, – приказал он, – но не делайте им ни малейшего зла. Вы ответите мне за них. – И затем, обратившись к людям, державшим Иуду, сказал: – Принесите веревок, свяжите ему руки и тащите на улицу. Наказание еще ожидает его.
Мать увели. Маленькая Тирса, одетая по-домашнему и оцепеневшая от ужаса, пассивно следовала за стражей. Иуда, послав каждой из них по прощальному взору, закрыл лицо руками, как бы желая неизменно удержать в памяти весь ужас этой сцены. Может быть, он и плакал, но никто не видел слез на его лице. Затем в нем произошло то, что по справедливости может быть названо чудом жизни. Наблюдательный читатель этих страниц, вероятно, уже заметил, что молодой еврей был мягок и женственно нежен – обыкновенное свойство любящих и любимых. Условия, в которых он жил, не пробуждали еще черствых сторон его натуры, если даже они и были у него. По временам в нем проявлялось самолюбие, но смутными проблесками, подобно бесформенным грезам ребенка, блуждающего по берегу реки и следящего за мелькающими там и сям кораблями. Но теперь…
Только кумир, чувствовавший воздаваемые ему поклонения и мгновенно поверженный во прах развалин всего того, что он любил, может помочь нам составить себе понятие об ощущениях Бен-Гура и о перемене, в нем происшедшей. Ничего, правда, не выдавало этого переворота, и только когда он приподнял голову и протянул руки людям, принесшим веревки, чтобы связать их, изгибы краев его губ, напоминавшие лук Купидона, навсегда сгладились с его лица. Ребенок мгновенно стал мужем.
На дворе раздался звук трубы; при последнем его звуке галерея очистилась от солдат. Многие из них, не смея стать в ряды с награбленными ими вещами, бросали на пол, который оказался весь усыпан драгоценностями.
С появлением Иуды войска уже стояли на местах, и начальник ожидал только исполнения своего последнего приказания.
Мать, дочь и все домашние были выведены в северные ворота, дорогу к которым загромоздили развалины. Вопль слуг, многие из которых родились в этом доме, были ужасны.
Когда же наконец провели мимо Иуды лошадей и весь скот, он понял, какую месть готовил прокуратор. Их дом был осужден. Ничто живое не должно было оставаться в нем; и если бы в Иудее нашлись безумцы, готовые поднять руку на римского начальника, – участь княжеского дома Бен-Гуров должна была служить им предостережением, ибо развалины его оставались незыблемым памятником всего происшедшего.
Начальник выжидал поодаль, пока отряд воинов восстановлял ворота.
На улице беспорядок уже почти прекратился, и только вздымавшиеся столбы пыли над крышами некоторых домов указывали на те места, где борьба еще продолжалась. Большая часть когорты отдыхала, сохраняя и порядок, и прежний блеск. Иуда, забыв о себе, глядел только на пленников, в числе которых взор его тщетно искал мать и сестру.
Вдруг одна женщина, поднявшись с земли, кинулась к воротам. Несколько человек стражи бросились, чтобы схватить ее, но взрыв смеха встретил их неудачу. Она подбежала к Иуде и, упав на колени, прильнула к его ногам, причем черные, курчавые волосы, покрытые пылью, закрыли ей глаза.
– О Амра, добрая Амра, – сказал он, – да поможет тебе Бог, а я уже более помочь тебе не в силах.
Она не могла произнести ни слова. Он нагнулся и прошептал ей:
– Живи Амра для Тирсы и для моей матери. Они вернутся и… – Солдат оттащил ее, но она вырвалась и проскользнула через ворота и проход во двор дома.
– Оставьте ее, – закричал начальник. – Мы запечатаем дом, и она там издохнет.
Люди принялись снова за работу и, окончив ее, перешли к западным воротам. Эти ворота были тоже заделаны, и дворец Гуров стал мертвой могилой.
Вслед за этим когорта удалилась к башне, где прокуратор остался, чтобы оправиться от ран и разместить пленных. Через десять дней он снова посетил рыночную площадь.
Глава VII. Сцена у колодца
На следующий день отряд легионеров отправился к опустевшему месту и, наглухо заделав ворота, опечатал их, а сбоку дома прибил объявление, гласившее на латинском языке:
«Этот дом есть собственность императора».
По высокомерному мнению римлян, сентенция вполне удовлетворяла цели, которую они имели в виду, да так и было в действительности.
А через день, декурион с командой, состоявшей из десяти всадников, приближался к Назарету с юга, т. е. со стороны Иерусалима. Это местечко было в то время скудной деревенькой, раскинутой по склону скалы, и настолько ничтожным, что единственная его улица была не более как тропинка, хорошо убитая проходившими стадами и табунами. Великая Ездренонская равнина примыкала к ней с юга, а с западных высот открывался вид на берега Средиземного моря и область по ту сторону Иордана и Гермона. Вся долина внизу и склоны со всех сторон были усеяны садами, виноградниками, рассадниками фруктовых деревьев и пастбищами. Группы пальм придавали картине восточный характер. Дома, неправильно разбросанные и крайне бедные на вид, были квадратные, одноэтажные, с плоскими крышами, покрытые зеленью виноградников. Засухи, палившие бурые и безжизненные холмы Иудеи, останавливались на рубеже Галилеи.
Звук трубы, раздавшийся при вступлении кавалькады в деревню, произвел магическое действие на жителей. Все двери и ворота распахнулись, и люди группами высыпали на улицу, желая поскорее узнать причину столь необычного посещенья.
Так как Назарет был не только в стороне от всякой большой дороги, но и вне пределов Гамалы, то не трудно вообразить себе, какое впечатление произвели легионеры на жителей. Когда они проходили по улице, то стало ясно, что они конвоировали арестанта; страх и ненависть сменились тогда любопытством, под влиянием которого народ последовал за ними, зная, что они должны сделать привал у колодца на северо-восточной стороне города. Арестант, конвоированный всадниками, стал предметом всеобщего внимания. Он шел пешком, с непокрытой головой, полуголый, с прикрученными назад руками. Связывавшая его веревка была прикреплена к шее одной из лошадей. Пыль, вздымаемая лошадьми, окружала его целым облаком и покрывала густым слоем. Измученный донельзя, прихрамывая, он едва переставлял ноги. Жители Назарета с первого взгляда рассмотрели, что он был очень молод.
У колодца декурион остановился и сошел с лошади, так же как и большинство конвойных. Арестант присел тут же на пыльной дороге, безучастный ко всему и изнемогающий от усталости; по-видимому, он был очень утомлен. Видя, что он совсем ребенок, жители готовы были помочь ему, но не смели.
В то время как они стояли в нерешимости и кувшины переходили от одного солдата к другому, показался человек, идущий по дороге от Сефора. При виде его одна из женщин воскликнула: «Смотрите, вон идет плотник; теперь мы кое-что разузнаем».
Тот, кого она назвала плотником, был человек очень почтенной наружности, белые кудри волос виднелись из-под краев его широкого тюрбана, а еще более седая борода спускалась на его серую, грубую одежду. Он шел медленно и не только потому, что был стар, а и благодаря пиле, топору и рубанку, тяжелым и массивным орудиям. По-видимому, он шел издалека.
Приблизившись к толпе, он остановился.
– О рабби, добрый рабби Иосиф! – закричала женщина, направляясь к нему. – Вот арестант; расспроси у солдат, кто он, куда его ведут и за что?
Выражение лица рабби оставалось по-прежнему сосредоточенным; он взглянул на арестанта и направился к офицеру.
– Мир Божий да будет с вами! – сказал он важно.
– А с вами мир богов, – ответил декурион.
– Вы из Иерусалима?
– Да.
– Ваш арестант очень молод.
– Годами, да.
– Позвольте узнать, в чем состоит его вина?
– Он убийца.
Изумленная толпа повторяла слово «убийца», но Иосиф продолжал свои расспросы.
– Он сын Израиля?
– Он еврей, – возразил протяжно римлянин.
Поколебавшееся чувство сожаления присутствующих снова вернулось.
– Я ничего не знаю о его племени, но могу сообщить вам о его семье, – продолжал декурион. – Вы, может быть, слышали о князе иерусалимском Бен-Гуре. Он жил во времена Ирода.
– Я видел его, – отвечал Иосиф.
– Ну, так этот арестант – его сын.
Восклицания послышались со всех сторон, и декурион поспешил положить им конец, заметив:
– Третьего дня он едва не убил на улицах Иерусалима благородного Грата, бросив в него черепицей с крыши дворца своего родителя.
Воцарилось молчание, в продолжение которого назареяне смотрели на молодого Бен-Гура, как на дикое животное.
– И он убил его? – спросил рабби.
– Нет.
– Но он осужден?
– К пожизненным галерам.
– Да поможет ему Бог! – воскликнул Иосиф, мгновенно выходя из своего обычного спокойствия.
В это время юноша, стоявший незамеченным позади Иосифа, направившись к большому камню у колодца, взял стоявший на нем кувшин с водой. Он сделал это так спокойно, что, прежде чем конвой мог, если бы пожелал, помешать ему, он уже стоял возле арестанта, предлагая ему напиться. Приближаясь, он ласково положил свою руку на плечо Иуды, и тот, подняв глаза, увидел лицо, которое навсегда глубоко запечатлелось в его сердце. Перед ним стоял мальчик, приблизительно одних лет с ним. Лицо его обрамляли каштановые кудри и осеняли темно-голубые глаза, полные такой нежности, призыва, сострадания, любви и святой чистоты, что они проливали в душу отраду и совершенно покоряли ее себе. Иуда, ожесточенный страданиями последних дней и ночей и смотревший мрачно на весь мир, питая только злобу и жажду мести, почувствовал, что под этим чудным взглядом душа его становится все мягче и мягче, делаясь как бы душой ребенка. Он прильнул устами к кувшину и жадно, долго пил. Между ними не было произнесено ни слова.
Когда Иуда кончил пить, юноша перенес руку, прежде лежавшую на плече арестанта, на его страдальческую голову и держал ее некоторое время на пыльных волосах, как бы благословляя; затем отнес кувшин на прежнее место и, взяв топор, вернулся к рабби Иосифу. Присутствующие, не исключая и декуриона, не спускали с него глаз.
Такова была сцена у колодца. Когда люди и лошади утолили жажду, отряд снова пустился в путь; но настроение духа декуриона было уже иное; он самолично помог арестанту подняться с земли и усадил его на лошадь позади одного из конвойных. Назареяне разошлись по домам, а вместе с ними ушел и Иосиф со своим учеником.
Такова была встреча Иуды с сыном Марии, и так они впервые расстались.
Книга третья
Глава I. Квинт Apрий
От города Мизенум получил название и мыс, находящийся в несколько милях к юго-западу от Неаполя. От него остались в настоящее время одни развалины, но в 24-м году по P. X., – а к этому времени и относится наш рассказ, – это место было одно из важнейших по всему западному побережью Италии. Путешественник, если бы пожелал в вышеупомянутом году полюбоваться видом, представлявшимся с этого мыса, войдя на стену и став спиной к городу, увидал бы перед собой Неаполитанский залив столь же прелестный тогда, как и теперь. Те же чудные берега, тот же дымящий конус, та же мягкая синева неба и волн, с Искией вблизи и Капрерой вдали.
Перенося свой взор с первой на вторую, он не мог бы оторваться от этой картины при пурпуровом колорите воздуха; наконец, утомленный этим избытком очаровывающих впечатлений, он увидал бы нечто дополнявшее в то время картину и чего теперь уже более нет: римский резервный флот, стоящий на якоре в самой гавани внизу.
Таким образом, Мизенум было местечко вполне достойное того, чтобы три властителя, встретившись здесь, пожелали поделить между собою вселенную.
В то старое время в стене у моря проделаны были ворота, составлявшие пролет улицы, которая в форме широкого вала на несколько стадий выдавалась в самое море.
В одно прохладное сентябрьское утро часовой, стоявший на стене над воротами, был выведен из дремоты шумным разговором нескольких людей, спускавшихся по улице. Он взглянул на них и снова задремал. В толпе было от двадцати до тридцати человек, из которых большинство составляли рабы, шедшие со слабо горевшими, но сильно дымившими факелами, наполнявшими воздух ароматом индийского нарда. Господа шли впереди рука об руку. Один из них, лет пятидесяти, лысый, в лавровом венке, судя по оказываемому ему вниманию, был главным героем этой дружеской церемонии. На всех были белые шерстяные широкие тоги с пурпуровой обшивкой. Часовой с первого взгляда понял, что это были люди очень высокопоставленные, провожавшие на корабль друга после ночного пира. Дальнейшие подробности мы узнаем, если обратим внимание на их разговор.
– Нет, мой Квинт, – говорил один из них, обращаясь к человеку в лавровом венке. – Фортуна поступает зло, лишая нас так скоро тебя; ведь ты только вчера вернулся с моря по ту сторону Гибралтара. Ты даже не успел и ступить-то хорошенько на землю.
– Клянусь Кастором, если только мужчине дозволяется бабья клятва, – вмешался другой несколько пьяный, – не будем жаловаться на судьбу. Наш Квинт отправляется только отыгрывать то, что он потерял за последнюю ночь. Кости на корабле, распустившем паруса, не кости на суше: как думаешь, Квинт?
– Не клевещите на фортуну, – восклицает третий, – она ни слепа, ни обманчива. В Антиуме она улыбается ему, а на море руководит его рулем. Она берет его от нас, но разве не каждый раз возвращает его нам с новой победой?
– Греки берут его от нас, – вставляет свое слово четвертый, – будем обвинять их, а не богов. Отдавшись торговле, они разучились воевать.
С этими словами компания проходит в ворота, вступает на мыс, и бухта во всей своей красоте обрисовывается пред ней при утреннем свете. Для старого ветерана блеск волн подобен любовному привету. Он полной грудью вдыхает в себя морской воздух, как будто он для него благоуханнее нарда, и, освобождая свою руку, восклицает серьезно:
– Дары ожидают меня в Пренести, а не в Антиуме, и глядите: ветер дует с запада. Благодарю тебя, фортуна, бывшая всегда для меня матерью!
Друзья повторяют его восклицание, а рабы махают факелами.
– Вон она плывет, – продолжает он, указывая на приближающуюся галеру. – И к чему моряку другая любовница? Разве твоя Лукреция, Кай, грациознее ее?
Он смотрел с гордостью на приближавшийся корабль, белый парус которого прикреплен был к нижней мачте, а весло с замечательной правильностью то поднималось на воздух, то снова опускалось через несколько мгновений в лоно вод.
– Да хранят нас боги, – заметил он серьезно, не отводя глаз от галеры. – Они посылают нам благоприятный случай, и наша вина, если мы не сумеем им воспользоваться. Что же касается до греков, то ты забываешь, что пираты, наказывать которых я отправляюсь, тоже греки, и одна победа над ними стоит ста побед над африканцами.
– Значит, ты направляешься в Эгину?
Глаза моряка были всецело обращены на галеру.
– Сколько грации и какой свободный полет! Даже птица не сумела бы так легко рассекать своими крыльями. Смотри! – Но, немедленно спохватившись, он заметил: – Извини, Лентул. Да, я отправляюсь в Эгину и час моего отъезда так близок, что я сообщу тебе мою задачу, только храни ее в тайне. Я не желал бы, чтобы ты говорил о ней при встрече с дуумвиром, так как мы с ним большие друзья. Торговля Греции с Александрией, как вы, может быть, слышали, едва уступает торговле Александрии с Римом. Народ в этой части света забыл праздновать Церсалии и Триптолем и жестоко отплатим им. Во всяком случае торговля эта так обширна, что не терпит ни малейшего перерыва. И вы, может быть, слышали о херсонских пиратах, свивших себе гнездо на понте Евксинском и смелых донельзя, клянусь Бахусом! Вчера в Риме получено известие, что они спустились по Босфору, потопили византийские и халкедонские галеры, разграбили Пропонтиду и, не довольствуясь всем этим, вторглись в Эгейское море. Торговцы хлебом, корабли которых в восточной части Средиземного моря, испугавшись, просили аудиенции у императора, и сегодня из Раввены отправляется сотня галер и из Мизенума… – он приостановился, как бы подстрекая любопытство друзей, и закончил не без эффекта: – Одна!
– Счастливый Квинт! Поздравляем тебя!
– Это избрание тебя предвещает повышение. Мы приветствуем тебя как дуумвира, не менее.
– Квинт Аррий, дуумвир, звучит лучше, чем Квинт Аррий – трибун.
Так осыпали они его поздравлениями.
– Я вполне доволен всем, – сказал подвыпивший приятель; – очень рад, но я предпочитаю поступать как деловой человек, и прежде, чем решать, добро или зло имели в виду боги, посылая тебе это назначение, – я узнаю, какая кость выпадет тебе в этой игре.
– Благодарю, тысячу раз благодарю вас, – сказал Аррий, обращаясь ко всем вместе. – И будь только у вас светильники, я бы сказал, что вы авгуры. Но я пойду дальше в своей откровенности и докажу вам, какие вы мастера угадывать. Возьмите и читайте. – Он вытащил из-под складок тоги сверток бумаги и передал его им, говоря: – Это получено от Сеяна, во время нашего последнего ночного пира.
Имя это пользовалось в то время громкой славой в Римском мире, но не той позорной славой, какую оно приобрело впоследствии.
– Сеян?! – воскликнули они в один голос, принимаясь за чтение бумаги:
«Сеян к Цецилию Руфу, дуумвиру.
Рим. XIX Кал. сед.
Цезарь имеет хорошие сведения о Квинте Аррии, трибуне, в особенности же о его заслугах на западных морях, и потому переводит его немедленно на Восток. Такова далее наша императорская воля: чтобы сто первоклассных, вполне снабженных кораблей были посланы без замедления против пиратов, появившихся в Эгейском море, и чтобы Квинт был назначен их начальником. Дальнейшие подробности приказа предоставляю для приведения в исполнение тебе, Цецилий.
Необходимость отправки не допускает отлагательства и потому поручаю тебе прилагаемый приказ сообщить вышеупомянутому Квинту.
Сеян».
Аррий не обращал внимания на чтение. Чем ближе приближался корабль, тем с большим энтузиазмом смотрел он на него. Наконец, приподняв опущенные края тоги, он начал махать ими, в ответ на что на опахалообразном укреплении на корме взвился пурпуровый флаг; а на больварке появилось несколько матросов, которые, взобравшись по канатам на реи, свертывали паруса. Нос корабля потянулся ходом, весла задвигались быстрее, и галера понеслась прямо по тому направлению, где стояли Аррий и его друзья. Аррий во все глаза следил за этими маневрами, так как верность направления руля и стойкость хода корабля были особенно важны для боевого судна.
– Клянусь нимфами! – воскликнул один из друзей, возвращая сверток. – Мы не можем более говорить, что наш друг будет велик, – он велик уже и теперь. И любовь наша встретит обильную пищу в его великих делах. Что имеется у тебя еще нового для нас?
– Ничего более, – отвечал Аррий. – То, что нам известно, как новость, об этом деле, уже давно не новость в Риме, особенно же между дворцом и форумом. Дуумвир скрытен: что мне предстоит делать, где встретить флот, я узнаю на корабле, где меня ждет запечатанный пакет. Если же вы думаете сделать сегодня приношение богам, то молите их о друге, плывущем по направлению к Сицилии. Но вот галера уже пристает, – сказал он, обративши снова внимание на корабль. – Меня интересуют ее матросы, ведь я буду вместе с ними плавать и сражаться; не легко управлять таким кораблем.




















