Читать онлайн Блокадные нарративы (сборник) бесплатно
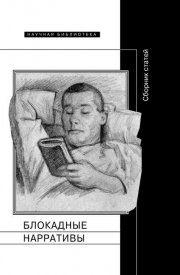
Памяти Сергея Ярова
© П. Барскова, Р. Николози, составление, предисловие, 2017
© Авторы, 2017
© Переводчики, 2017
© Е. Спицына, иллюстрации
© ООО «Новое литературное обозрение», 2017
Полина Барскова, Риккардо Николози
Разговор о том, как и зачем изучать блокадные нарративы
(вместо предисловия)
Полина Барскова
Хочу начать наш письменный разговор с середины вещей. В конце второго дня нашей конференции «Narrating the Siege: The Blockade of Leningrad and its Transmedial Narratives», прошедшей в мюнхенском Университете Людвига-Максимилиана летом 2015 года и итоги которой составляют этот сборник, произошла встреча участников с режиссерами Джессикой Гортер и Сергеем Лозницей, авторами важных документальных киновысказываний о блокаде: «Блокада» (2005) и «900 дней» (2011). У этих фильмов на первый взгляд больше различий, чем точек пересечения. Лозница работает с хроникальным материалом, Гортер берет интервью у жителей современного Петербурга. Лозница, работающий, за исключением озвучивания, с архивным материалом, говорит о блокаде с точки зрения блокады – как бы из/от того времени, в то время как фильм Гортер документирует блокадную память, современное восприятие блокады.
Однако одна проблема объединяет оба этих высказывания: у зрителя обоих фильмов может возникнуть ощущение, что о блокаде говорить нельзя; невозможность производить текст о блокаде является для режиссеров и предметом исследования, и приемом, с помощью которого они конструируют свой нарратив. Лозница отказывается сопровождать кадры хроники текстом «от автора», отказывается объяснять и связывать обрывки блокадной кинореальности для (комфорта) современного зрителя. Персонажи Гортер то и дело неловко и напряженно замолкают перед камерой в своих попытках выразить отношение к блокаде; одной из самых примечательных и мучительных, на мой взгляд, сцен фильма является момент, когда родители, прошедшие блокаду, объясняют снимающему, почему они ничего не рассказали сыну. Родители оправдываются, а сам этот сын «успокаивает» всех наблюдением, что он, собственно, и не хочет ничего об этом знать, что он и доволен, что родители ничего ему не рассказали о блокадном опыте.
Родившийся через много лет после конца блокады Лозница отказывается говорить о блокаде, глядя (на) хронику, блокадники тоже отказываются говорить о блокаде за пределами узко определенных идеологических клише, проторенных «звуковых дорожек» о героизме и стоицизме. Мы можем наблюдать, как блокадная катастрофа (и во время, и уже после непосредственно событий) вызывает парадоксальный кризис самоописания: она порождает в своих субъектах ощущение, что и говорить, и молчать об этих событиях равно невозможно.
Может быть, самой часто повторяемой фразой, которая встречается в блокадных дневниках, причем и у школьников, и у профессоров, и у рабочих, и у поэтов, является следующая: это нельзя, невозможно описать, как восклицает, например, безвестная блокадная школьница:
- Бомбежки… Пожары… Пылают дома…
- Удел наш – и голод, и холод, и тьма.
- <…>
- Как призраки, люди живые бредут.
- А сколько на саночках мертвых везут!
- У морга их грудой грузят, как дрова.
- Нет сил описать! Слишком слабы слова!
При этом в отчаянии повторяя, что описать, показать, репрезентировать блокаду невозможно, блокадники ее описывают и показывают постоянно, самим актом письма нарушая сегодняшние представления о возможном и невозможном. Они пишут во тьме, пишут опухшими, гноящимися руками, они пишут под страхом ареста и казни, они пишут, зная, что у них не будет читателей, но они не могут не писать. Этот сборник – важное коллективное усилие в рассмотрении громадного (хотя бы по объему корпуса) явления истории и культуры советского века – блокадного письма. В центре внимания авторов прежде всего культурный текст, культурный документ, возникший как отклик на события блокады. Авторы рассматривают в большинстве случаев письменные тексты (частные дневники и произведения литературы), но также и явления, как сказал бы Юрий Тынянов, «примыкающих рядов» – кино и даже блокадные слухи. Тексты поражают разнообразием подходов, жанров, точек зрения. Какими же могут быть стратегии по приведению этого корпуса в порядок, по осмыслению этого потока и хаоса голосов?
Риккардо Николози
Множественность голосов наших авторов, гетерогенность их подходов к блокадному письму и, в конечном счете, различные «блокады», которые проступают из этих текстов, действительно стали неожиданным итогом нашей мюнхенской конференции и ее письменной фиксации в этом сборнике. Неожиданным, так как мы не только дали авторам общий объект исследования, но и предложили соответствующий методологический аппарат.
Обилие взглядов на блокадное письмо, отраженное в статьях, не было предусмотрено заранее, но, без сомнения, стало сильной стороной сборника: полилог исследователей восстанавливает ту многослойность и сложность Ленинградской блокады, которую игнорирует современный российский дискурс Великой Отечественной войны. Однако мне представляется важным вначале прояснить, что произошло с нашим первоначальным концептом и что привело к указанному тобой разнообразию авторских подходов.
Фокус нашего сборника нацелен на его объект: для того чтобы закрыть зияющую дыру в исследовании Ленинградской блокады, мы сосредоточились на интермедиальном измерении блокадного письма, то есть на формах и функциях репрезентации блокады в различных медиа (в художественной и фактографической литературе, кино, радио, устном пересказе и т. д.)[1]. Блокада с самого начала породила настоящий поток репрезентаций, очевидная функция которых заключалась в вербализации пережитого и тем самым переводе его в категорию опыта; в желании придать смысл внезапному началу войны и блокады; в стремлении сделать непредставимое и неописуемое представленным и описанным. В этом плане тот парадокс между провозглашаемой неописуемостью пережитого и необходимостью изобразить блокаду, на который ты, Полина, указываешь, на самом деле никакой не парадокс, напротив, он – необходимое условие для появления письма, ищущего решения для проблемы изображаемости как таковой.
Важно подчеркнуть, что блокадное письмо было не более чем общим предметом исследования; методологический подход к блокадному письму, как мы его замышляли, должен был обладать своей спецификой, а именно быть исследованием нарративного измерения блокадной репрезентации. И именно здесь проявились те методологические расхождения, которые привели к неожиданному для меня результату. Я не уверен, что наши авторы, включая и нас, подразумевают под «нарративностью» блокады одно и то же. Понятие нарратива лично я использую не в качестве синонима «текста» (как в литературоведческом, так и в семиотическом смысле)[2] или «дискурса» (в смысле Мишеля Фуко), а в более общем нарратологическом смысле. В этом я опирался на устоявшуюся и продолжающую разрабатываться традицию, рассматривающую нарративность как феномен, свойственный не только литературным текстам. Самое позднее с появлением семиологии Ролана Барта или метаистории Хайдена Уайта стало ясно, что люди являются в первую очередь производителями историй: наша картина мира состоит по большей части из рассказов о нем, и культуры определяют себя через нарративы – взять, к примеру, истории о начале времен[3].
Какова познавательная мощность нарративов? Они способны придавать фактам осмысленность посредством определенных операций: установлением начального и конечного моментов, выбором событий и их линеарной организацией в определенном порядке, сополаганием персонажей, моделированием пространства и т. д. Нарративы – это структуры порядка, побеждающие контингентность и вводящие причинно-следственную связь в хаос чистой событийности. Они представляют собой исключительно гибкие конструкты, легко совмещающие истинное и придуманное, факт и фикцию; их сила – в способности придавать рассказу логичность и правдоподобие лишь посредством его цельности. Такие рассказы рождаются всегда в коллективном коммуникативном контексте и стоят друг с другом в определенной связи: рассказы рождают другие рассказы. Часто это просто вариации одной модели, одного masterplot: как подчеркивал Х. Портер Эббот, такой masterplot «может повторяться от рассказа к рассказу» и тем не менее «обладать сильным риторическим воздействием. Мы склонны доверять нарративам, структурированным именно так»[4].
Важно подчеркнуть, что нашей целью не было разработать единственный masterplot, своеобразный «нарративный архетип» блокады, составленный из различных текстов и медиа разных эпох: ведь даже постоянно меняющийся советский блокадный дискурс не отличается единством стратегий репрезентации. Тем не менее сама блокада как историческое событие подчинена законам времени, моделируемым в текстах и медиа нарративно. Это не просто формальный момент, а, по моему убеждению, главное условие любой концептуализации блокады. Поэтому столь важно установить, с помощью каких нарративных стратегий вербализуется блокадный опыт; можно ли вычленить за текстами и медиа различной природы некие структурные константы – например, на уровне моделирования пространства и времени; какие модели нарративной аутентичности работают в исследуемых произведениях и в каком отношении находятся друг к другу миметическое и антимиметическое, фактографическое и фикциональное.
Интересно, что лишь некоторые наши авторы воспользовались таким методологическим предложением, в то время как другие искали подходы к теме блокадного письма, руководствуясь совершенно иными теоретическими предпосылками. Результат – отмеченное многообразие взглядов, причины которого коренятся, по-моему, не только в гетерогенности исследуемого материала. Как можно было бы, на твой взгляд, систематизировать эту панораму методологических подходов в нашем сборнике? Как наши авторы понимают нарративность блокады? И какие новые, неожиданные импульсы они смогли придать этой теме?
Полина Барскова
Начну с последнего вопроса: о том, что на конференции и в сборнике было для меня предсказуемым, а что – неожиданным. В связи с ощущением, что мы стоим в начале долгого, трудного пути по осмыслению блокадной текстологии, я не рассчитывала, что нашим участникам будет так просто найти общий теоретический знаменатель, включиться в него, тем более что спектр направлений блокадного письма настолько велик и сложен, что зарегистрировать, обозначить этот объем – вот что казалось мне наиболее важным отправным шагом.
Ближе всего к твоему методологическому запросу, как мне кажется, подошли те исследователи, которые писали о блокаде с точки зрения соцреализма, Евгений Добренко и Татьяна Воронина, что неудивительно, поскольку соцреализм, по крайней мере если верить тому, как эту систему описывает Катерина Кларк, – это именно ригидная система masterplots, где допускается лишь слабая вариативность[5].
Из этих исследований мы узнаем, как блокадное соцреалистическое письмо относится к порождающему его Другому – советскому соцреалистическому письму о Второй мировой войне, и здесь для меня было интересным открытием, как слабо отличались эти нарративы, насколько писавшие блокаду с точки зрения соцреализма ориентировались на Большую землю: такие обязательные элементы, как самопожертвование, преодоление страдания, ориентация на менторское, руководящее участие партии, повсеместны; при этом реальные особенности ситуации (например, то, что враг личной персоной в городе был как бы невидим и неощутим, а сражаться приходилось с собственной личностью, разрушаемой голодом и ужасом) фактически стираются ради властвующих нарративных схем.
В области официального письма присутствие masterplots очевидно, и, наверное, наибольшим открытием для меня стала возможность сравнения советского и немецкого официального письма о блокаде, а вернее, письма о блокаде в прессе оккупированных территорий, о котором мы узнали из исследования Бориса Равдина. Я пришла в крайнее изумление, возможно простодушное, узнав, что советская и русско-нацистская пропаганда использовали иногда буквально одни и те же тексты (перепечатывались материалы из центральной советской печати). При перепечатке позаимствованные у вражеской пропаганды тексты становились частью противоположных, но равно ригидных статичных нарративов: в советском случае нарратива о героическом преодолении, в немецком – о бесчеловечном отношении большевиков к собственному гражданскому населению. Когда речь идет о пропаганде, об официальном письме, создается впечатление, что ты имеешь дело с «конструктором», где небольшой набор идеологически и даже эстетически выверенных элементов может слегка переставляться, но сумма, то есть послание, от этого не меняется.
Однако ситуация представляется мне иной, когда речь идет о текстах, не предназначенных для публикации. В принципе, здесь для меня пролегает водораздел между обсуждаемыми текстами: тексты о блокаде, не направленные на советскую аудиторию, как будто создаются по совсем иным законам, и друг от друга они тоже отличаются очень значительно. Из всего корпуса конференционных докладов, ставших статьями, выделяются исследования, посвященные блокадным дневникам: здесь также имеет смысл размышлять о наличии masterplot, и, мне кажется, одним из важных следующих шагов в нашем сотрудничестве было бы создание форума, где будет происходить «внимательное чтение» только и именно дневников, с прицелом, в частности, на выявление общих мест, «строительных блоков» этих нарративов.
Однако в разговоре о дневниках, произошедшем на конференции, меня поразило скорее выявление их разительных отличий, в частности дисциплинарных. Это мне показалось интересным. Дело не только в том, что дневники анализировали представители разных дисциплин (среди нас были представители филологии, истории и историографии, антропологии, социологии), но и в том, что авторы блокадных дневников искали, с точки зрения какой дисциплины их блокадный опыт может быть описан наиболее полно, наиболее точно и, возможно, с наибольшей степенью остранения.
Наиболее пристальными взглядами на эту проблему мне представляются исследования Ирины Паперно и Эмили Ван Баскирк: они вглядываются в два блокадных дневника, выдающиеся по своей проницательности и оригинальности взгляда, – дневник Ольги Фрейденберг и дневник Лидии Гинзбург. Оба автора – профессиональные филологи, при этом Фрейденберг пытается читать, осваивать блокаду как этнограф, а Гинзбург как психолог. Они вступают в диалог, я бы даже сказала в поединок, со своим представлением об этих научных системах, делают это, возможно, не всегда последовательно, но результаты их блокадных дневниковых исследований поражают не в последнюю очередь необычностью взгляда, свежестью вопросополагания. Ирина Паперно так описывает особую «трудность» блокадного дневника Фрейденберг:
Делая живую жизнь, исполненную страдания, объектом этнографического исследования, она не останавливается перед описанием отвратительного ни в сфере физиологии, ни в широкой области человеческого поведения в экстремальных условиях. Она преступает при этом не только общепринятые правила приличия и благопристойности, но, как можно предположить, и внутренние психологические преграды, которые останавливали других блокадников даже в радикальных дневниках от описания как экскрементов, так и амбивалентных чувств по отношению к ближнему, а это требует не только профессиональной квалификации, но и особого темперамента и большого мужества.
Мне бы также хотелось поговорить с тобой о жанровых особенностях блокадной репрезентации и возможностях изучения блокадной культуры с точки зрения жанра: очевидно, что жанровое разнообразие здесь огромно, даже если говорить только о текстах, о письме, о литературе (где есть все – от частушки до эпопеи, от подписи к открытке до водевиля), а ведь блокада нашла отражение по всему медиальному спектру: в искусстве, музыке, кино. Как тебе кажется, по результатам конференции и сборника, имеет ли аналитический смысл «читать» вместе блокадную текстологию и блокадное, скажем, кино? Или так: мне был крайне интересен доклад Владимира Пянкевича о блокадной сплетне: как обогащает разговор о блокадной текстологии обращение к «примыкающим» жанрам?
Риккардо Николози
Чтобы ответить на твой вопрос о гетерогенности жанров блокадного письма, я хотел бы вернуться к методологической проблеме нарративности блокады. Я не думаю, что этот нарратив находит свое выражение лишь через masterplots и что возможно выделить несколько основных нарративных моделей, лежащих в основе различных текстов или жанров. Напротив, нарративные структуры блокадных текстов необычайно разнообразны прежде всего в силу того, что в создании блокадного дискурса, пребывающего в состоянии постоянного изменения, участвуют многие жанры и медиа, и этот процесс пермутации связан с изменениями идеологических и культурных дискурсов советского времени.
Мне представляется гораздо более важным понять, в какой степени новый взгляд на блокадные тексты может быть обусловлен исследованием не столько тем, мотивов, идеологий и «атмосферы», сколько форм и функций повествования. Многие статьи в нашем сборнике, эксплицитно или имплицитно, показывают, что дело обстоит именно так, хотя представления наших авторов о нарративности и их понятийная база различаются и зависят в первую очередь от традиций тех дисциплин, к которым они принадлежат. Мне кажется, что к столь разным результатам приводят различия именно в методологии, а не в жанрах изучаемого материала. Это видно на примере статей Евгения Добренко и Татьяны Ворониной, исследующих блокадную литературу соцреализма, но руководствующихся в своих подходах совершенно разными принципами – что приводит, разумеется, и к различным результатам. Воронина ориентируется на модель соцреалистического masterplot Катерины Кларк и констатирует в повествовательных структурах блокадной литературы исключительную когерентность и единообразие форм. Ее взгляд направлен на определенные функции текстов (положительный герой, его инициация и т. д.), повторяющиеся от раза к разу. С этой точки зрения возникает ощущение, что авторы соцреализма пишут один и тот же блокадный текст, присутствующий в советской культурной памяти неизменным и выполняющий одни и те же функции. Добренко же опирается на другие методологические предпосылки и вскрывает структурные и тематические различия блокадных повествовательных моделей военного времени в их отношении к «большому рассказу» о войне – или, точнее, о победе. Нарративные элементы в его статье представляют собой не инструменты гипостазирования неизменных базовых категорий, а динамические функции текстов, благодаря чему авторы могут по-разному решать проблемы в изображении блокадного быта.
Интересный и опять-таки совершенно другой подход мы встречаем в статье Джеффри К. Хасса. Он исследует архивные документы, не предназначавшиеся для публикации (в том числе дневники), и их функцию как медиаистолкования и смыслополагания того страдания, которое авторы пережили во время блокады. Хасс выступает как антрополог и показывает, что эта форма секулярной теодицеи глубоко структурирована нарративом, однако не в узком литературоведческом смысле. Так, центральными нарративными элементами этой теодицеи для Хасса являются поиск причинно-следственных связей, формы выражения агентности, а также идея сообщества. С литературоведческой точки зрения наличие причинно-следственных связей – необходимое условие для любой формы повествования либо же попросту для любого вида аргументации, но не элемент нарративной структуры, как и сообщество и его поиск – в первую очередь мотив, но не основа нарратива. Перспектива Хасса позволяет выявить «нарративы страдания», в центре которых находятся различные процессы, протекающие внутри общества. Владимир Пянкевич в статье о блокадной сплетне и Борис Равдин в уже упомянутом тобой тексте о русскоязычной пропаганде немцев на оккупированной территории, в принципе, обходятся без какой бы то ни было концептуализации нарративности и исследуют тематические и мотивные элементы блокады (сами по себе исключительно интересные).
Я не вполне согласен с тобой еще в одном аспекте блокадного письма, а именно в строгом различении между официальной и неофициальной литературой. Ты пишешь, что «тексты о блокаде, не направленные на советскую аудиторию, на немедленную публикацию, как будто создаются по совсем иным законам, и друг от друга они тоже отличаются очень значительно». Я вижу скорее переходные феномены между официальным и неофициальным дискурсами, поскольку последний утверждает себя через неприятие официального письма или противопоставление себя ему. Лилия Гинзбург в «Записках блокадного человека» отмечает, что во время блокады «настоящая бабушка разговаривает точно как бабушка из очерков и рассказов», и делает вывод, что между народной речью и языком газет нет никакой разницы[6]. Сила официального, стереотипного повествования о блокаде – феномен, который можно наблюдать с самого начала. Даже аналитическая острота блокадных текстов Ольги Фрейденберг и Лидии Гинзбург имеет своим источником официальный нарратив: мотивация для вербализации блокадного опыта объясняется не только необходимостью назвать невыразимое и изобразить произошедшее, дабы понять его, но и стремлением предложить альтернативу «упрощенному» официальному дискурсу, чтобы расширить границы высказываемого. В своей интерпретации «Записок блокадного человека» я стремился указать именно на этот аспект. Экстремальный физический и психический блокадный опыт словно бы понуждает Фрейденберг и Гинзбург к письму и приводит, с одной стороны, к беспощадной интроспекции, а с другой – к тем антропологическим наблюдениям, на которые указали в своих статьях Ирина Паперно и Эмили Ван Баскирк. В этих текстах я вижу еще один пример того, как отличия методологических предпосылок приводят к иному типу чтения. Ван Баскирк исследует структурные элементы «Рассказа о жалости и о жестокости» Гинзбург, убедительно разделяя нарративные и аргументационные стратегии (ведь не всё в повествовательном тексте является нарративной структурой!). Паперно, в свою очередь, сосредотачивает внимание на техниках письма в блокадных записках Фрейденберг, осциллирующих между «автоэтнографией» и мифопоэтикой, не стремясь при этом свести их к одному общему нарративу. Различие подходов можно объяснить глубокими различиями исследуемых текстов и их авторов; однако, с другой стороны, при различных методологических подходах сложно решить, что было раньше: текстуальное яйцо или методологическая курица.
Гетерогенность блокады, о которой свидетельствует наш сборник, может зависеть также и от фокусировки взгляда – на определенных текстах одного конкретного автора и особенностях его нарратива или на сопоставлении различных текстов и жанров. Во втором случае на первый план выступают общие элементы блокадной репрезентации; в первом, как во многих уже отмечавшихся текстах, а также в статьях Кэтрин Ходжсон об Ольге Берггольц и Ильи Кукуя о Павле Зальцмане, мы погружаемся в блокадные миры художников, функционирующие каждый по своим собственным законам.
На твой последний вопрос о возможности распространить исследование блокадных текстов на другие медиа отвечает, как мне кажется, статья Наталии Арлаускайте. Ее анализ режимов визуальности при использовании документальных съемок в советском игровом кино о блокаде вплоть до 1960-х годов показывает на конкретных примерах, насколько большую роль в репрезентации блокады играет слияние фактуальности и фикциональности и как этот процесс можно описать на уровне приемов.
Некоторую неуверенность вызывает у меня роль поэзии в художественном дискурсе блокады, поскольку поэзия – за исключением баллады – организована, как правило, не нарративно и следует другим изобразительным законам, чем повествовательные тексты. С другой стороны, эта структурная особенность поэзии открывает возможность иного моделирования блокады, выделения других аспектов. Ведь именно об этом свидетельствует твоя статья о лирической интимности блокадной поэзии, как и текст Андрея Муждабы о блокадных стихотворениях Геннадия Гора, не так ли? Как бы ты могла описать отношения, в которые вступают эти статьи с другими материалами сборника? Кроме того, не стоило ли затронуть феномены интермедиальности, поскольку именно синкретичность медиа является одним из наиболее примечательных свойств советской культуры? Какую роль в блокадном нарративе играли другие виды искусств и другие медиа – живопись, плакат, радио и телевидение?
Полина Барскова
Вопрос о блокадной поэзии представляется мне крайне важным и увлекательным: глядя именно на эту специфическую форму высказывания, мы можем представить себе, насколько богатым, противоречивым, полным сложных внутренних связей был мир блокадной литературы. Область блокадной поэзии представляется мне своего рода призмой: глядя на эти преломления исторических событий в желании найти для них адекватную лирическую репрезентацию, можно многое узнать о том, какими возможностями обладали блокадописатели, что они могли, хотели, умели. Взгляд через призму поэзии позволяет нам мощнее, яснее формулировать некоторые важные вопросы: например, до какой степени блокадная литература исключительна, поскольку описывает исключительное событие, а до какой органически связана с эпохой, которую мы называем советские «долгие сороковые», например, как блокадная поэзия связана с общим развитием советской лирики в 1930-х и 1940-х годах? Даже если мы посмотрим на, казалось бы, исключительный случай «блокадной тетради» Геннадия Гора: вот, как неоднократно было высказано исследователями, поэзия только и именно блокадная, порожденная катастрофой и ни к чему, кроме катастрофы, не применимая, избегающая любой внеблокадной публикации, поскольку автор, вероятно, сомневался, может ли у такой поэзии вообще быть читатель вне блокады.
Именно поэтому мне кажется такой важной статья Андрея Муждабы о том, что «блокадная тетрадь» Гора не является чудовищной и блестящей аберрацией, что эти стихи органически связаны с его творчеством и до, и после блокады; мне кажется очень важным рассматривать блокадную литературу как порождение разнообразных контекстов и традиций, а не как дискурсивную зону исключения.
Случаю «невидимой» блокадной поэзии Гора в сборнике (а именно в моей статье) противостоит случай блокадной поэзии Берггольц, которая, казалось бы, была максимально и, я бы даже сказала, идеально публичной, «публикабельной» и официальной; по крайней мере, такая нацеленность на публикацию была первейшей заботой автора. Однако при ближайшем рассмотрении мы видим, что поэзия Берггольц, по всем параметрам, казалось бы, пропагандистская, очень сложна, и это ставит перед нами парадоксальный вопрос: может ли быть конструктивно сложным пропагандистское высказывание? Берггольц создает уникально гибкого, «подвижного» адресата лирического обращения, и так же изобретательна ее работа с темпоральностью: ее версия истории полна неожиданных потайных дверей с надписью «выход» (что, вероятно, связано с травмой тюремного заключения, продублированной блокадной изоляцией); письмо Берггольц находится как бы одновременно в разных временах – эта изобретательность скорее подтверждает твою идею, Риккардо, о том, что между публикабельным и непубликабельным блокадным письмом существовали сложные связи, да хотя бы и в письме одного автора, поскольку теперь, когда до нас дошел блокадный дневник Берггольц, мы можем задумываться над тем, как один автор разграничивал, разделял блокадное письмо в стол и блокадное письмо для немедленной публикации.
Илья Кукуй в статье о блокадных дневниках Павла Зальцмана также смотрит на то, как колеблется блокадное письмо в зависимости от формата, заданного автором: почему «в дополнение» к стихам блокадный автор может ощущать необходимость в создании ретроспективного дневника, как лирическое и дневниковое письмо дополняют друг друга, а в чем, возможно, друг другу противоречат. На твой вопрос, как занятие блокадными нарративами связано с интермедиальностью, я отмечу вновь, что это начало значительного разговора: когда мы говорим о блокадном кинематографе (причем и художественном, и документальном) или о таких пропагандистских формах выражения, как плакаты и открытки, когда мы говорим о блокадных музыкальных формах (например, о жанре блокадной песни), то встает вопрос о том, как блокадный нарратив сочетается с иными формами репрезентации. Этих вопросов еще очень много.
* * *
В завершение нужно сказать об участии в нашей мюнхенской конференции Сергея Ярова, исследователя, чей вклад в науку о блокадных нарративах кажется нам особым не только из за объема «освоенных» им блокадных дневников, но из-за того, какого рода вопросы он решался затрагивать в своих исследованиях. Сергея Ярова не стало вскоре после нашей конференции, именно тогда, когда его книги о блокаде в самом деле стали находить внимательного читателя: две его монографии «Повседневная жизнь блокадного Ленинграда» и «Блокадная этика. Представления о морали в Ленинграде 1941–1942 годов» стали значительными общественными событиями и вызвали широкий резонанс. В этих монографиях блокадный город представлен как особая цивилизация, живущая и выживающая по собственным законам. Яров не только стремился писать о блокаде без ретуши, погружаясь в ее самые тяжкие эпизоды, но также стремился предъявлять к изучаемым им материалам новые вопросы и методы, открывая таким образом новые пути читателям, пришедшим к блокаде после него.
У Сергея Ярова не было возможности предоставить статью для этого сборника. Он уже не успел этого сделать. Мы публикуем библиографию его научных работ и посвящаем наш сборник его светлой памяти.
Мюнхен / Амхерст, декабрь 2016 г.
Евгений Добренко
Блокада реальности: ленинградская тема соцреализме
После революции советская нация формировалась вокруг Октябрьского мифа, ставшего для нее центральным легитимирующим событием[7]. Однако со временем деформации прокламированных ею целей стали настолько очевидными, люди, ее сделавшие, настолько дискредитированными и неподходящими к новой политической реальности, культура, ею порожденная, настолько отличной, новый идеологический вектор настолько зримым, а «Большой возврат» настолько явным, что чем дальше, тем больше в своих прежних политических коннотациях Революция становилась скорее обузой, чем основанием для «полезной истории». Только в Победе в войне советская нация обрела наконец миф основания. Поскольку сталинская революция кардинально изменила политико-идеологические и социально-культурные вехи Октября 1917 года, он превратился из главного «учредительного события» довоенной Советской России в центральное событие предыстории советской нации. Последняя, будучи продуктом сталинизма, приобретала теперь адекватную фокальную точку: миф основания соединился с основным легитимирующим событием сталинизма и кульминацией его торжества – Победой в войне.
Известно, что Сталин не любил вспоминать войну. Но Война и Победа в ней – не одно и то же: фокальной точкой и фундаментом мифа основания советской нации была не Война, но именно Победа. Когда исход войны стал определяться все яснее, советская идеологическая машина (печать, литература, кино, визуальные искусства) начала разводить реальный опыт войны (в который она была погружена до 1943 года) и грядущую Победу, а затем целенаправленно заменять Победой Войну. Опыт войны начал на глазах заменяться протезирующей историзацией. В той мере, в какой Сталину не нужна была сама Война, ему нужна была Победа. В результате Война как трагический опыт потерь превратилась в героический путь обретений – путь к Победе. Проблема блокадной темы в сталинизме состоит в том, что она всецело относится к опыту Войны и с трудом переписывается в нарратив Победы. Именно об этом переписывании в соцреализме и пойдет речь.
То, что впоследствии станет известно как «ленинградская тема», возникло внутри советской военной поэзии первых месяцев войны и мало чем отличалось от основной ее тенденции. Большая часть этой поэтической продукции была полностью выдержана в традициях соцреалистической героики. Одной из сторон этой героизации была русификация советской доктрины, которой способствовала частичная реабилитация Русской православной церкви.
Отличительной чертой ленинградских текстов периода войны была демонстративная эстетизация идеологического сообщения. Обращение к темам искусства не способствовало приближению к массовому читателю. Но – и это тоже стало отличительной особенностью ленинградской темы – она не стеснялась прямой апелляции к читателю интеллигентному, что не только подчеркивало особенный, европейский статус Ленинграда как культурной столицы страны, но и было особой ленинградской версией патриотизма. «Культурность» блокадных текстов была ленинградской версией русско-советского национализма в советской военной литературе. Русское было здесь прежде всего культурно русским. Так, в стихотворении Веры Инбер «Дневной концерт» из цикла «Душа Ленинграда» (октябрь 1941 года) говорится о воздушной тревоге во время концерта, о «мелодии могучих летных звеньев» советской авиации, о «басовом гудении зенитных, морских батарей». И когда все услышали «серебристое соло: / Пропели фанфары отбой» и вернулись в концертный зал, «снова из «Пиковой дамы» / Любимый раздался дуэт, / Созданье родного поэта, / Сумевшее музыкой стать… / И только подумать, что это / Хотели фашисты отнять!». Бой идет за то, «чтоб русскую девушку Лизу / Спасти от фашистских солдат. / Советские танки и пушки – / Грядущей победы залог, / Чтоб жили Чайковский и Пушкин. / И Глинка, и Гоголь, и Блок».
Наконец, в довоенных конвенциях берет свое начало историзация ленинградской обороны в первый период войны. Она вписывалась в общую тенденцию историзирующего дискурса, который должен был воскресить тени великих героев прошлого, вставших на защиту Отечества. Но специфика ленинградского историзирующего дискурса состояла в том, что он апеллировал не к Кутузову или Суворову, но к советской истории, поскольку в советском идеологическом пространстве Ленинград был «колыбелью революции», а его дореволюционное «полезное прошлое» было связано почти исключительно с культурой (в отличие от Москвы, которая связывалась не с царизмом, как Петербург, но с патриотизмом – с Мининым и Пожарским, Отечественной войной 1812 года и т. д.). В одном из первых произведений, обозначивших рождение ленинградской темы и канонизированных в этом качестве Сталинской премией первой степени за 1942 год, поэме Николая Тихонова «Киров с нами» (1941), историческая глубина совсем не велика – это рубеж 1920-х – начало 1930-х годов, символом которых и является Киров.
Однако историзирующие стратегии, как и остальные конвенции соцреалистической героики в условиях войны, продемонстрировали полную неэффективность и потому подлежали замене через своего рода обнажение приема. В литературе о Ленинградской блокаде уже начального периода войны происходит тематизация героизма: сама тема героики и героизма превращается в центральную. Эта литература занята снижением конвенциальной соцреалистической героики. Таковы «Ленинградские рассказы» Николая Тихонова, написанные в первую военную зиму. Вышедший в марте 1942 года отдельным изданием сборник назывался «Черты советского человека». Каждый из десяти рассказов раскрывал новую «черту». Но истории были намеренно будничными. И чем тривиальнее они казались, тем более возвышенным должно было восприниматься читателем изображаемое. Здесь демонстрируется не только «негероичность» героев, но и намеренная негероичность их поступков: их поведение не героично, но естественно – они ведут себя так, как вели бы в мирное время. Героизм не есть нечто экстраординарное. Он лишь – продолжение естественного для советского человека поведения.
Отсутствие «внешней героики» (то есть конвенциального героизма 1930-х годов) должно было приближать описываемое к читателю, интимизировать общий опыт войны, делать его персональным. Казалось бы, такая «лиризация» должна была усиливать ощущение трагизма. Но картина блокадной реальности должна была предстать «суровой», а не трагичной. Поэтому в установке на снижение героики легко прочитываются стратегии не столько дегероизации, сколько снятия трагизма.
Героика была результатом распада мифологической модели мира, которую объединяло с мифом и ритуалом наличие бессмертных богов и смертных полубогов – героев, в лице которых «искусство утверждает бессмертие смертного – новую, немифологическую, личную форму бессмертия: чтобы достичь его, нужно не родиться бессмертным, а стать героической личностью, совершив – хотя бы и ценой собственной гибели – подвиг как акт свободного приятия необходимости»[8]. В этом акте происходит полное слияние личности с социальной ролью. Трагизм исторически являлся продуктом кризиса и разложения героики: личность в нем оказывалась шире социальной роли. В трагизме, говоря словами Бахтина, «подлинная жизнь личности совершается как бы в точке этого несовпадения человека с самим собою, в точке выхода его за пределы всего, что он есть как вещное бытие»[9]. Если «в героической архаике (дорефлексивной героике) самоопределение героя изнутри и завершение его извне практически неразличимы», а само это «самоопределение целиком сводится к приятию внешнего завершения (судьбы) и не предполагает выбора»[10], то трагическая личность находится в дисгармонии с предопределенным выбором и социальной ролью, совершает акт самоопределения.
Так обстоит дело в традиционной эстетике. Для соцреализма уступка трагизму была вынужденной, вызванной требованиями мобилизации, а потому сугубо ограниченной. Согласно соцреализму, трагическое находится в полной зависимости от героического: «В искусстве и эстетике социалистического реализма трагическое выступает как один из частных случаев, как одно из проявлений героического». Из того факта, что «гибель героического не есть необходимость, внутренне заложенная в самом героизме» и что «героизм чаще всего венчается победой, торжеством героя», делался вывод о том, что «героизм связан с определенным риском, с преодолением трудностей и опасностей, трагическое есть частный случай и одна из конкретных форм проявления героического»[11]. Соответственно, «в эстетике социалистического реализма трагическое становится одним из частных проявлений непримиримой борьбы нарождающегося, нового с отживающим, старым. В нашем искусстве трагическое отражает героическую гибель отдельных носителей нового, прогрессивного в их непримиримой борьбе со старым, отживающим, с обреченным, но еще сильным противником, отражает гибель, утверждающую неодолимость нового, его конечную победу, его неминуемое торжество»[12]. Трагическое – это не просто есть героическое. Оно, по сути, служит ему:
В литературе и искусстве социалистического реализма трагическое не только по-новому оптимистично, не только полно высокого пролетарского гуманизма, неодолимости нового и является одним из частных случаев героического, наряду с этим оно является одним из духовных источников победы нового, одним из способов воспитания героических черт характера[13].
Превращение литературы в государственный институт в 1930-х годах резко снизило ее потенциал быть доменом личного высказывания, персонального опыта и частной памяти. Погруженная в праздничное воспевание счастливой советской жизни, бесконечные славословия «творцу всенародного счастья» и радостную «поэзию творческого труда», советская литература не только не была готова к оборонительной войне, живописуя будущие сражения как марши «на территории противника» и его разгром «малой кровью, могучим ударом», но и вообще не знала, как описывать целые пласты политических, идеологических, психологических коллизий, неконтролируемых эмоций и непредсказуемых реакций на события, связанные с поражением, близостью собственной смерти и массовой гибелью людей, потерей близких, насилием, страданиями, голодом, виктимностью, разрушением всего уклада жизни, всего того, что обрушилось на страну в июне 1941 года и что застало советский идеологический аппарат врасплох. Но его перестройка началась незамедлительно, и множество устоявшихся идеологических схем приходилось менять на ходу. Начался процесс очеловечивания идеологии[14].
Пересмотру подлежали прежде всего прежние героические конвенции, которые при стопроцентной «идеологической выдержанности» оказались полностью неэффективными, когда главной задачей искусства стала мобилизационная. Героика, исходящая из совпадения личности со своей социальной ролью и занятая их гармонизацией, не была ориентирована на реальность войны, требовавшей проработки экзистенциальных проблем, неожиданно вставших перед каждым. Необходимо было ответить на страхи и физические страдания, осмыслить всю сферу личностных переживаний, далекую от соцреалистического «живого человека», все сложности которого сводились к решению семейно-производственных проблем. В предвоенной советской литературе постижение ситуации современного человека было подменено риторически-идеологическим проектированием, имевшим целью формирование и поддержание новой – специфически советской – коллективной идентичности. Эту проективную и в то же время психологически ограничительную функцию советской литературы Илья Кукулин называет «риторической редукцией субъекта»[15].
Этой редукции подлежали «прежде всего неконтролируемые и непредсказуемые переживания: страх, физический и психологический дискомфорт (боль, голод, холод), чувство крушения всей довоенной картины мира, агрессивные проявления животного начала в человеке в экстремальных обстоятельствах (столь же частые, как и героизм). Особая военная антропология формируется также через новое ощущение телесности – тело человека на войне или в тылу оказывается болезненным и тяготящим и в то же время воспринимается как часть единого страдающего коллективного тела»[16]. Во время войны все эти факторы резко усугубляются из-за «государственного давления на все сегменты общества, многократно усиливавшего собственно тяготы войны: террор и принуждение на фронте (политотделы, заградотряды) и в тылу (депортация народов, «превентивные аресты» и аресты за «пораженческие разговоры» и пр.), репрессии в отношении военнопленных, людей, бывших в окружении или живших на оккупированной территории»[17].
Столкновение мобилизационных задач, новой реальности и на глазах отменяемых эстетических конвенций создало новую ситуацию «дискомфортного» письма. Его возникновение превратило историю советской литературы о войне в историю адаптации эмоционально дискомфортного опыта для нового обоснования советской идентичности и историю отвержения опыта, дискомфортного экзистенциально. Это разделение позволяет понять характер мобилизационной задачи советской военной литературы, состоящей в блокировке экзистенциально дискомфортного самоощущения за счет расширения зоны эмоционального дискомфорта. Последний требовал отказа от прежних героических конвенций, вообще чуждых какому-либо дискомфорту, но не позволял сложиться принципиально новой эстетике изображения войны. Да, «при такой смене оптики принципиально важным оказалось фиксировать ежедневные “мелкие” ощущения, саму ткань повседневного восприятия мира <…> Следствием такого отношения к описываемой реальности становится деидеологизация текста»[18], но функция этого письма состояла прежде всего в блокаде реальности. Именно к ней сводилась новая, очеловеченная эстетика соцреализма.
Побочным продуктом разрешенного трагизма стала интимизация опыта. Разучившись говорить с читателем без посредства соцреалистических конвенций, литература обратилась к дневниковой форме. Ни одно направление (течение, тема) в советской литературе не породило (в пропорциональном отношении) такого количества дневников. Более того, именно дневники занимают центральную часть среди значимых литературных текстов «ленинградской темы». Одни из них были канонизированы в советской литературе (так, «Почти три года (Ленинградский дневник)» Веры Инбер и ее поэма «Пулковский меридиан» (по сути, дневник в стихах) были удостоены Сталинской премии). В подчеркнуто дневниковой форме были выдержаны «Февральский дневник», «Ленинградская поэма», «Говорит Ленинград», «Дневные звезды» Ольги Берггольц. Апелляция к аутентичному опыту, превращающая литературный текст в документ, позволила эксплицировать сам процесс оформления этого опыта. Советская литература перерабатывала Опыт в Историю, одновременно транспонировала трагедию в героику, вырабатывая новые конвенции героического нарратива. Этот процесс адаптации травматической памяти в рамках советско-риторических моделей был важнейшим этапом в процессе замены Войны Победой.
Первый тип письма (назовем его нарративом идеологического дискомфорта) настолько близок к довоенному нарративу, что, кажется, еще не вышел из него. Этот модус письма просто игнорирует эмоциональный дискомфорт, будучи полностью погруженным в идеологию. Образцовый текст такого рода – военные дневники Всеволода Вишневского. Прежде всего обращает на себя внимание почти полное отсутствие в них тяжелого блокадного быта, которым были наполнены, к примеру, тексты Инбер или Берггольц. Вишневский весь погружен в досужие рассуждения на геополитические темы. На многих страницах он обсуждает «стратегические перспективы положения англичан» в Северной Африке, виды на скорое открытие второго фронта, проблемы с производством боеприпасов, детали военных операций, ситуацию на Дальнем Востоке и т. д. Кадровый военный, ставший драматургом, он, как несостоявшийся стратег, рассуждает о роли России после войны, строит планы оккупации Германии, обдумывает послевоенное устройство мира и проблему зон влияния после войны. Будучи вхожим в кабинеты больших военачальников, Вишневский говорит обо всем как посвященный. Подобными записями пестрят военные дневники Вишневского за конец зимы 1942 года, когда горожане умирали от голода на улицах, а паек достиг 125 граммов хлеба в день. Но, как кажется, этот «эмоциональный дискомфорт» вообще не замечаем Вишневским, тяготы блокады его как будто не касаются. Мельком, как о чем-то малозначащем, он упоминает: «К обеду сегодня дали стопку водки, суп с сушеным американским (надоевшим) мясом, рис…» Или в другом месте: «Вечером пили чай всей группой… на столе масло, хлеб, консервы… Шутки, остроты». И тут же: «Ночью читал о Маяковском. Волнительные думы об искусстве»[19]. Такой дневник мог вестись в Москве, Свердловске или вообще где угодно.
Будучи высокопоставленным писателем-пропагандистом, Вишневский жил в параллельной реальности, скроенной из геополитических фантазий. Его авторское Я полностью растворено в пропагандистском нарративе, производством которого он занимался всю жизнь профессионально, а во время войны – исключительно и непрестанно. Он верил в те речи, которые произносил на митингах в воинских частях, – иной реальности для него просто не было. Его не надо было заставлять подчинять свои оценки некоей «правильной» линии. Он сам был в непрерывном поиске этой линии, занятый постоянной подгонкой своих суждений под нее. Его дневники описывают, кажется, бесконечно сменяющие одно другое совещания, встречи, митинги, беседы, политинформации, чаепития, работу с делегациями, перемещения по штабам, разговоры с военачальниками разных рангов, обсуждения того, что пишут сегодня американские газеты, и т. д. Часто трудно разобрать, где завершается дневниковая запись и начинается нарративный поток – настоящие извержения идеологической лавы. Неудивительно, что человек, целыми днями выступающий на митингах, даже в дневнике говорит тем же языком. Но интересна полная отстраненность от того, что он наблюдает вокруг. В его записях, сделанных в самые страшные дни блокады, нет даже оттенка живого чувства.
Если это письмо не фиксирует никаких деталей, всецело пребывая в пространстве идеологических абстракций, то противоположный полюс – письмо, полностью погруженное в повседневность, фиксирующее подробности, мелочи быта, обыденные детали и т. д., – может быть названо эмоционально дискомфортным. Образцом письма такого рода могут служить тексты Веры Инбер. Если дневники Вишневского находятся вне блокадной повседневности, если Берггольц стремится к публицистическим и лирическим обобщениям, то дневник Инбер весь – в постоянной фиксации, в непрерывном пребывании в повседневности. Одним из немногих, кто пойдет до конца, будет Лидия Гинзбург, сосредоточившаяся на экзистенциальной проблематике блокадной повседневности. В мире Вишневского таких вопросов просто не возникало. Его письмо максимально комфортно (в той, разумеется, степени, в какой военное письмо вообще может быть комфортным). В его мир пропагандистско-идеологических фантазмов повседневность долетает глухими отдаленными звуками. Письмо Инбер, напротив, эмоционально дискомфортно, но она сознательно обходит любые сколько-нибудь сложные вопросы, имеющие политические или идеологические импликации, не говоря уже об экзистенциальных темах. Берггольц подойдет к этим темам ближе Инбер, обозначив их границы, лишь иногда пробуя их пересечь. Гинзбург только на них и концентрируется, находясь полностью за их пределами, для нее ситуации повседневности – лишь точка отталкивания. Сумев прорвать блокаду риторики, возвыситься до рефлексии при формулировании позиции отказа от риторики борьбы и победы, в своих «Записках блокадного человека» Гинзбург стала «одним из самых антиутопических и неидеологических авторов в русской литературе ХХ века»[20]. Во многом это достигается за счет строгого отбора материала, куда более строго, чем у Инбер или Берггольц, подчинявших этот материал риторическим задачам. У Гинзбург, напротив, по точному замечанию Ирины Паперно,
биографический факт и сырая эмоция не находят себе места на страницах строго организованных записных книжек, которые заполнены тщательно продуманными ситуациями, максимами и мыслями; но ощущение интимности, истории и катастрофического опыта, которым отмечены другие мемуары, здесь присутствует[21].
Потому-то эти тексты находились в советское время за пределами публичного поля.
Перед нами – четыре модели переработки опыта: вытеснение (Вишневский), фиксация и риторическая генерализация (Инбер), тестирование границ (Берггольц), проблематизация (Гинзбург). По степени ухода от рефлексии в риторику борьбы и победы, отказа от проработки опыта эти модусы письма различны, как различны формы этого ухода. Каждый раз задача сводится к тому, чтобы не встречаться с войной глаза в глаза – думать, но не продумывать; смотреть, но не видеть; переживать, но не обобщать… Это стратегии сознательного недомыслия. Первые две, Вишневского и Инбер, представляют собой две стратегии дереализации войны. Третья основана на попытке выйти за пределы эмоционального опыта к экзистенциальному, но, будучи построена на постоянном самоконтроле и самоограничении, она фиксирует лишь дискомфорт и фрустрацию от собственной неспособности завершить работу выходом к экзистенциальным темам. И только Гинзбург выходит к письму экзистенциального дискомфорта.
Блокадные тексты Инбер интересны как противоположный Вишневскому полюс. В отличие от него она очень лично переживала происходящее вокруг. Ее дневник «Почти три года», опубликованный в 1946 году, был одновременно и историей написания поэмы «Пулковский меридиан» (1941–1943), начавшей публиковаться в 1942 году. Сталинская премия, освятившая тему Ленинградской блокады, не случайно была присуждена за обе эти книги в 1946 году. Дневник и поэма дополняют друг друга: дневник детализирует, поэма обобщает. Дневник наполнен шокирующе точными деталями, которые усиливаются образом автора – сугубо цивильного, непривычного и не приспособленного к тяготам военной жизни. Это делает бесконечные описания смерти от голода, холода и болезней особенно контрастными. Разумеется, быт Инбер, жены одного из руководителей медицины в блокадном городе, был далек от обычного. В ее дневнике обобщений почти нет. Это, как кажется, сугубо приватный документ. Между тем сам факт его почти немедленной публикации снимает границу между личным и публичным, размывая определяющее свойство дневника – его приватность.
Но главное – дневник, фиксирующий повседневность, находится в прямой связи с поэмой, работа над которой (процесс написания, переработки, публичные читки) стала едва ли не делом жизни для Инбер в дни блокады. Связь эта не просто событийная. Поэма как будто выжимала из повседневности те смыслы, которые Инбер могла из нее извлечь, превращая повседневность в жмых. Уход от рефлексии в риторику борьбы и победы, отказ от проработки опыта оказываются здесь настолько полными, что разводятся даже жанрово. Повседневность-дневник и генерализация-поэма не встречаются. Поэма берет у повседневности шокирующие детали и последовательность, представляя собой, по сути, параллельный дневник. Но в действительности речь идет о бегстве от опыта настоящего, еще не остывшего и длящегося, который объявляется прошлым. Повседневность сворачивается в Историю, еще не наступив. Победа в войне одновременно является здесь победой над опытом. «Пулковский меридиан» не случайно стал каноническим текстом советской литературы периода войны: он представляет собой настоящее собрание конвенций военной литературы, в которых заложен механизм удержания письма в рамках эмоционального дискомфорта, направленного на мобилизацию, но не на постановку, а тем более не на проработку экзистенциальных вопросов, поставленных осмыслением опыта. А потому эти конвенции одновременно являются механизмом его последующего стирания.
Поэма начала писаться в октябре 1941 года, а была закончена в ноябре 1943 года, когда от трагедийного письма не осталось и следа. Еще не освобожденный город рисуется в последней главе возвращающимся к жизни после двух лет блокады, и автор радуется появлению «птиц и маленьких детей», которые «опять щебечут в гнездах Ленинграда». Героика и оптимизм – мощные транквилизаторы. Но ценой снятия боли оказывается отказ от проблематизации опыта и в конечном счете отказ от него. Единственной, кто пытался тестировать границы адаптации опыта к советской идентичности, была Ольга Берггольц.
Ее поэзия занимает в литературе Ленинградской блокады особое место потому, что сам статус Берггольц был амбивалентным – совмещающим правоверную партийность с диссидентством. Ее поэзия совмещала в себе оба этих, казалось бы, взаимоисключающих начала. Прежде всего речь идет о выражении неконтролируемых переживаний, неожиданных чувств, невозможных эмоций. В литературе, всецело посвященной войне и мобилизации (а этим Берггольц занималась на протяжении всей блокады, выступая по Ленинградскому радио и активно участвуя в работе институтов пропаганды в осажденном городе), в сентябре 1941 года она вдруг говорит не о мести и ненависти, но о любви: «…Я никогда с такою силой, / как в эту осень, не жила. / Я никогда такой красивой, / такой влюбленной не была…» Ее восприятие происходящего зачастую неожиданно, реакции парадоксальны, а разрыв с соцреалистическими конвенциями демонстративен: «Не знаю, что случилося со мной, / но так легко я по земле хожу, / как не ходила долго и давно. / И так мила мне вся земная твердь, / так песнь моя чиста и высока… / Не потому ль, что в город входит смерть, / а новая любовь недалека?..» («Из блокнота сорок первого года»). Способность говорить о любви в 1941 году была сродни праву говорить о свободе в 1942 году: «В грязи, во мраке, в голоде, в печали, / где смерть, как тень тащилась по пятам, / такими мы счастливыми бывали, / такой свободой бурною дышали, / что внуки позавидовали б нам» («Февральский дневник», 1942).
Очеловечивание идеологии проявляется в подчеркивании глубоко личной связи защитников города с происходящим, укрупнении и приближении его. Призыв к защите Ленинграда максимально интимизирован. Эта стратегия направлена на обоснование права говорить о трагическом опыте войны без описательности и натурализма, рассчитанных на прямой мобилизационный эффект, и она формировала специфику ленинградской темы: ее авторы не свидетели, а участники. Собственно, само участие и было основой героизма «оставшихся в Ленинграде». Как писала по этому поводу Гинзбург, «эта принадлежность сама по себе стала неиссякаемым источником переживания автоценности, источником гордости, оправдательных понятий и в особенности чувства превосходства над уехавшими», хотя за этим «героизмом» стоял сложный механизм забвения:
Каждый почти наивно и почти честно забыл очень многое – они забыли, как колебались, уезжать или не уезжать. Как многие остались по очень личным и случайным причинам, как временами они жалели о том, что остались, как уклонялись от оборонных работ, как они теряли облик человеческий.
В результате
то, что было инстинктом самосохранения и темным проявлением общей воли к победе, – сейчас предстает им гораздо более очищенным и сознательным. И предстает им с прибавлением того героического самоощущения, которого тогда у них не было[22].
Героизмом оказывалось само выживание. Именно об этом Берггольц скажет в «Февральском дневнике»: «Я никогда героем не была, / не жаждала ни славы, ни награды. / Дыша одним дыханьем с Ленинградом, / я не геройствовала, а жила». Это было отстаивание очень личностного права на артикуляцию опыта и важной частью ее поэтической идентичности. Оно было мощной подпоркой в обосновании права говорить о том, что «уже страданьям нашим не найти / ни меры, ни названья, ни сравненья», избегая при этом их описания. Берггольц описывает не сами ужасы блокады, но переживание их – сам их опыт.
В годы блокады Берггольц работала в Радиокомитете. В книге «Говорит Ленинград» собраны ее многочисленные выступления. В них интересна трансформация категории нормальности в процессе постоянного переписывания прошлого в свете настоящего. Прежде всего речь идет о новом переживании и переосмыслении идеализируемого предвоенного прошлого. На фоне бесконечных историй страданий и гибели рассказы о чудесах взаимопомощи должны были показать, что «вопреки попыткам врага посредством страшных испытаний разобщить нас, поссорить, бросить друг на друга, мы, наоборот, сплотились, стали единым трудовым коллективом, единой семьею». Именно во время войны происходит радикальная переоценка довоенной жизни, «на фоне» которой воспринималось происходящее. Психологический аспект этого общего опыта тоже важен. Именно после войны появляется пережитое – тот общий легитимный опыт, которого не было до войны. Весь советский коллективный довоенный опыт представлялся цепью праздничного восхождения и бесконечного торжества, а опыт травмы оставался сугубо индивидуальным. Теперь возникал общий опыт травмы. В свете предвоенного опыта им становился опыт войны.
«Говорит Ленинград» – это книга политработника, каковым, по сути, была Ольга Берггольц в дни войны. Ее выступления в течение трех лет блокады, представленные здесь и выдержанные в жанре бесед с ленинградцами, – свидетельства огромных терапевтических усилий, предпринимавшихся властью для снятия напряжения и одновременно мобилизации населения города. В этом Берггольц похожа на Вишневского. Но одновременно она пребывает в повседневности войны, доместифицирует идеологические абстракции и разрывает идеологический круг, выходя к экзистенциальным проблемам. В этом она невероятно далека от него. Обе эти тенденции постоянно боролись в литературе блокады.
В декабре 1943 года в одной из бесед Берггольц признавалась:
Я солгала бы, если бы сказала, что мне сейчас не страшно. Я солгала бы, если б сказала, что мне безразлично. Нет, какая-то тоска, похожая на чувство глубокого одиночества, сжимает сердце и словно тянет его вниз… Это, наверно, тоска человека в нечеловеческих условиях. Это сильнее и страшнее страха. Минутами хочется лечь прямо на пол, лицом в ладони, и застонать от этой глубокой, тянущей сердце тоски, от боли за тех, кто сейчас погибает… Но я не позволю себе сделать этого.
Эти пронзительно откровенные признания, вспышки искренности находятся в остром контрасте с официозным нарративом, которым пронизаны эти тексты. Но история ее книги показывает, как трансформировалась блокадная тема после войны.
«Говорит Ленинград» вышла первым изданием в 1946 году как документальная книга – с подзаголовком «Сборник радиовыступлений за 1941–1945 годы». В 1967 году Берггольц не только снимает подзаголовок, но и пишет большое лирическое вступление «Об этой книге» и добавляет в конце два очерка – «Вечно юный» (1957) и «Ленинский призыв» (1959). Новая «рама» сильно смещала акценты, поскольку тематически, стилистически и функционально-идеологически отличалась от основного корпуса текстов. Тексты эти были посвящены повседневности блокады, тогда как вступление и добавленные очерки – либо воспоминаниям о времени работы в Радиокомитете, либо вовсе – о событиях, происшедших после войны. Тексты книги выдержаны в разговорно-публицистической манере – это были радиопередачи, обращенные к собеседнику-слушателю, добавленный же позже материал был сугубо литературным, выдержанным в лирически-мемуарном ключе и лишенным мобилизационного пафоса; задача радиопередач была суггестивно-мобилизующей, тогда как добавленные тексты делали ее мемориально-законченной. Переработка книги имела своей целью историзацию блокады, вписывание ее в новую историческую матрицу. И здесь Берггольц бессознательно давала ключ к своему письму. В 1967 году в моде была апелляция к революции вперемешку с антисталинским фрондерством.
Первое представлено здесь Вишневским. Вспоминая об атмосфере тех лет, Берггольц заявляет:
Если говорить о стиле митинговом, призывном, то ленинградец, живший в городе в дни блокады, никогда не забудет страстных выступлений по радио Всеволода Вишневского. Именно радио, стихия которого – звук, голос, тембр, целиком доносило до всех его неповторимую интонацию балтийского матроса времен «Авроры», времен взятия Зимнего, гражданской войны, ту интонацию, ту манеру, которая сама по себе была уже живой связью с революционной историей Питера – Ленинграда. И ведь эта манера – эта балтийская удаль, эта беззаветность «братишки» – уже однажды великолепно оправдала себя в дни Октябрьской революции, в войну гражданскую, и вот она вновь звучит, живая, подлинная, дорогая сердцу! Только балтийский «братишка» теперь очень возмужал, посуровел, и его страстные, порой сбивчивые речи так обнадеживали и так нужны были тогда, именно осенью сорок первого года, в отчаянные дни штурма, и именно городу, который не просто хранит традиции, а живет ими…
Вишневский – фигура знаковая. Он знаменует связь с Октябрем, «отблеск костра» революции.
И есть совсем другая, если не сказать противоположная линия, возникающая в дописанных в 1960-х годах воспоминаниях Берггольц. Вспоминает она еще одно выступление
в передаче «Говорит Ленинград» – в конце сентября 1941 года, в дни жесточайших артиллерийских и воздушных налетов, выступление Анны Андреевны Ахматовой. Мы записывали ее не в студии, а в писательском доме, так называемом «недоскребе», в квартире М. М. Зощенко. Как назло, был сильнейший артобстрел, мы нервничали, запись долго не налаживалась. Я записала под диктовку Анны Андреевны ее небольшое выступление, которое она потом сама выправила, и этот – тоже уже пожелтевший – листок я тоже до сих пор храню бережно, как черновичок выступления Шостаковича. И если до сих пор, через два десятка лет, звучит во мне глуховатый и мудро-спокойный голос Шостаковича и почти клокочущий, то высокий, то страстно-низкий голос Вишневского, то не забыть мне и того, как через несколько часов после записи понесся над вечерним, темно-золотым, на минуту стихшим Ленинградом глубокий, трагический и гордый голос «музы плача».
Берггольц полностью воспроизводит в своей книге речь Ахматовой. Кажется, она хочет говорить одновременно как Ахматова и Вишневский. Драма этой несовместимости пронизывает все ее письмо.
Берггольц была едва ли не единственной, кто параллельно доминировавшей беллетристической линии продолжал ленинградскую тему после войны в лирико-дневниковом ключе: тема памяти останется для нее центральной и найдет свое разрешение в, пожалуй, самой известной ее строке, сочиненной для мемориала на Пискаревском кладбище в 1959 году, но ставшей символом памяти о войне на многие десятилетия, повторяясь на бесчисленных памятниках по всей стране: «Никто не забыт, ничто не забыто».
О том, что остается в памяти вместо опыта травмы, говорят два очерка, которыми Берггольц завершает новое издание книги «Говорит Ленинград». Очерк 1957 года «Вечно юный» посвящен судьбам нескольких участников обороны Ленинграда. Основная мысль его сводится к идее бессмертия, которое заключено в бессмертии вечно молодеющего города. С одной стороны, автору «в глубине сердца чуть-чуть грустно от происходящих изменений», поскольку «у меня, человека, жизнь уже сокращается, а он, город, наоборот, идет к вечной юности, к расцвету». И тут же возникает другая мысль – вполне религиозная по своему смыслу:
все мои радости, все горести, весь труд – и не только мои, а и дяди Леши, и Тодорова, и сотен тысяч других – ведь это же все останется в нем, как остались жизнь и труд предыдущих поколений и отдельных людей. Значит, ничто не исчезнет. Значит, пока стоит Ленинград, вечно будут живы те, кто его любил, кто вложил в него жизнь и веру…
Это, условно говоря, голос Ахматовой («для славы мертвых нет»).
Очерк «Ленинский призыв» (1959) связан с шестидесятническим культом Ленина. В центре – попытка связать сакральное время революции с сакральным временем Отечественной войны. Связующей метафорой становится ленинский призыв, состоявшийся в 1924 году после смерти Ленина. Этот призыв, инициированный Сталиным, немало способствовал сталинизации партии и размыванию ее «ленинского ядра». Берггольц рассказывает историю вступления в партию вполне зрелого инженера в годы войны, которого рекомендовал в партию старый большевик ленинского призыва. И этот новый призыв она называет «ленинским призывом Великой Отечественной войны». Эта связка двух призывов позволяет сделать революционное прошлое снова актуальным. В год пятидесятилетия Октябрьской революции, когда вышло новое издание книги «Говорит Ленинград», оказывается важным не только связать в сакральном времени революцию и войну, но и спроецировать эту сакральность на современность.
Связкой здесь становится перенос празднования ленинских дней со дня смерти вождя на день его рождения (как если бы, в противовес православной традиции, акцент переносился с Пасхи на Рождество). И здесь вступает второе Я Берггольц, условно говоря, голос Вишневского:
Как правильно поступила Партия, когда перенесла ленинские дни на день его рождения. Ведь в самом деле, ежегодно в день смерти Ленина народ отчитывался перед своим бессмертным вождем, и, несмотря ни на какие издержки нашего строительства, с каждым годом все радостнее было отчитываться народу в своих победах. И победы – зримые и еще незримые тогда – все-таки, несмотря ни на что, нарастали, и мы не могли не радоваться им. Так день траура перестал быть днем скорби; но волею истории, волею народа превращался в день торжества. Так пусть же наше торжество будет полным, пусть вечно отмечает Земля один из лучших своих дней – день рождения Владимира Ленина. Вот уже почти столетие прошло со дня его рождения и более тридцати шести лет со дня смерти, но расстояние между живущими людьми и Лениным не нарастает – века не отдалят Ленина от людей, от мира! Наоборот! Ленинский призыв разворачивается во всем мире. Уже не только русский рабочий класс – целые народы всех пяти частей земного шара поднимаются по ленинскому призыву на строительство нового общества – на создание скалы Любовь. И все ближе и ближе Ленин сердцу человеческому – величайший человек, отдавший всю жизнь свою за счастье людей.
Этот квазирелигиозный текст (траур превращается в день торжества и т. п.) вписывает блокадный опыт («ленинский призыв Великой Отечественной войны») в круговорот советской истории. Во всех этих смещениях и пертурбациях перспектива блокады полностью смещается и замещается. Сакрализуясь, она теряет персональное измерение. Мы имеем дело со стратегиями дереализации опыта.
Если есть «полезное прошлое», должна быть и «полезная эстетика», которая это прошлое создает. История как когерентный нарратив всегда связана с гармонизацией и героикой, основанной на совпадении личности и социальной роли. Трагедия, напротив, связана с дисгармонией. История связана с примирением и, соответственно, с запретом на трагедию, которая связана с возмущением и экзальтацией. Поэтому памятников героям куда больше, чем памятников жертвам, а история искусства и литературы дает нам бесконечную галерею героев и куда скупее на трагедийные сюжеты, которых в прошлом было куда больше героических. Объяснение в том, что трагедия – удел побежденных, а историю пишут победители, которым незачем стесняться в самооценках, представляя себя в героическом ореоле. Можно сказать, что героика – эстетический агент истории, а трагедия – настоящего.
Искренность, которую отстаивала Берггольц, пронизана трагизмом. В трагедии «Верность» (1946), посвященной обороне Севастополя, Берггольц сама подчеркивает эту связь:
- От сердца к сердцу.
- Только этот путь
- я выбрала себе. Он прям и страшен.
- Стремителен. С него не повернуть.
- Он виден всем и славой не украшен.
- Я говорю за всех, кто здесь погиб.
- В моих строках глухие их шаги,
- их вечное и жаркое дыханье.
- Я говорю за всех, кто здесь живет,
- кто проходил огонь, и смерть, и лед,
- я говорю как плоть твоя, народ.
- По праву разделенного страданья.
- …И вот я становлюся многоликой,
- и многодушной, и многоязыкой.
- Но мне же суждено – самой собой
- остаться в разных обликах и душах
- и в чьем-то горе, в радости чужой
- свой тайный стон и тайный шепот слушать.
Речь здесь идет о коллективном трагическом опыте, о прошлом. И хотя в творчестве Берггольц очень много героики и официального оптимизма, именно эти трагические ахматовские интонации выделяют ее из среды поэтов-блокадников. Лишь очень немногие художники смогли удерживать их: помимо Ахматовой, пожалуй, лишь Шостакович. Их не следует смешивать с минором, видя в проблесках света непременную дань героике. Финал Ленинградской симфонии написан в до мажор, но это отнюдь не тема грядущей победы, не триумфальный финал: в нем звучит все та же трагедийная тема нашествия, это утверждение трагедии в настоящем. Для трагического мироощущения будущее – это настоящее, ставшее прошлым. Оно не утрачивает своего трагизма. Именно об этом – «Дневные звезды». Книга, написанная в 1959 году и положившая начало одному из самых полнокровных течений в послесталинской литературе – так называемой лирической прозе, была, по сути, итогом размышлений о блокаде – главном событии в творческой биографии Берггольц. И хотя значительная часть текста не могла войти в книгу по цензурным соображениям, сама лиризация травмы стала откровением для советского читателя. Опыт войны и блокады был экзистенциальным опытом, выход к работе с которым был наглухо заперт в сталинской литературе.
Прямой противоположностью лирическому субъективизму является документ. Но когда сам документ оказывается продуктом фиксации субъективного восприятия повседневности (дневник) или работы памяти (воспоминания), он лишь усиливает эту субъективную тенденцию. Его природа оксюморонна. Такова «Блокадная книга» Алеся Адамовича и Даниила Гранина (1977–1981). Подобно лирической прозе, документы композиционно выстроены здесь в соответствии с законами лирического монтажа. Стратегия «Блокадной книги» близка к стратегии лирической прозы и так же, как и она, направлена на разрушение истории как конвенциального нарратива и сохранение памяти как субъективного опыта. Но был здесь и другой актуальный план. Как заметил по поводу другого документального проекта подобного же рода – «Черной книги» – Михаил Рыклин,
лиричность этому повествованию придавало завершающееся сталинское время, когда необходимость вытеснения огромных блоков социальной памяти была чистой и абсолютной. Нацистские преступления были более чем преступлениями нацизма, они были также метафорой тех многочисленных преступлений, о которых нельзя было сказать (не просто потому, что это было запрещено, но и потому, что отсутствовал язык, на котором это можно было бы сделать); будучи к тому времени завершенным явлением, нацизм был для его советских жертв узким окошком в мир истории. Он совершил преступления, которые уже приобрели буквальный называемый смысл[23].
Беллетристика была куда более прочной почвой. Характерно, что против документальной тенденции во второй половине 1970-х годов активно выступала критика. Так, Игорь Золотусский в статье «Лучшая правда – вымысел» доказывал, что «документу не хватает философского дыхания» и что «вымысел выше факта»[24], а Владимир Кардин утверждал, что «документалистика – зло, мешающее художественному творчеству»[25]. Парадоксальным образом, лирическая проза, хотя постоянно апеллировала к памяти, была, в сущности, антимемуарной.
Берггольц прославилась активными и страстными выступлениями в защиту «самовыражения» против охранительной критики. Это и вызвавшая бурную дискуссию вышедшая сразу после смерти Сталина статья «Разговор о лирике» (1953), а затем «В защиту лирики» (1954), и, наконец, выступление на II съезде писателей (1954) против наиболее ортодоксальных советских поэтов Николая Грибачева и Анатолия Софронова за право художника на творческую свободу. Но сама концепция «Дневных звезд», как представляется, была глубоко двойственной в том, что касается идеи самовыражения. Сам образ дневных звезд, отражающихся только в глубоких колодцах памяти, – символ очень личного и одновременно коллективного опыта и коллективной памяти. Личный опыт автора становился коллективным потому, что




















