Читать онлайн Зигмунд Фрейд. Знаменитые случаи из практики бесплатно
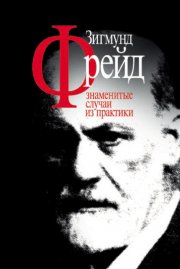
Предисловие
В настоящее время исследователи творческого наследия Фрейда располагают документальной информацией о 43 его пациентах. Вклад, который внесло описание этих случаев в развитие психоаналитической теории, разумеется, неравноценен. Благодаря одним из них были открыты такие феномены терапевтического процесса, как перенос и контрперенос, негативная терапевтическая реакция и др., легшие в основу важнейших теоретических постулатов Фрейда; другие скорее представляют собой убедительные иллюстрации к его теоретическим положениям. Как бы то ни было, все эти случаи служили фактическим материалом, который позволял Фрейду со всей убежденностью отстаивать свою теорию.
Среди случаев, к которым в той или иной степени имел отношение Фрейд, особняком стоят шесть,– они включены в данное издание. Собственно говоря, только три из них – примеры непосредственной терапевтической работы самого Фрейда – случаи Доры, Вольфсманна и Раттенманна («человека-волка» и «человека-крысы», как называют этих пациентов иные авторы, не особо задумываясь над тем, насколько некорректно, оскорбительно и даже абсурдно звучат эти имена). К трем другим случаям – Анны О., маленького Ганса и Шребера – Фрейд имел косвенное отношение: лечением Анны О. занимался старший коллега Фрейда Й. Брейер, лечением маленького Ганса – отец мальчика, ученик Фрейда, а анализ случая Шребера был проведен на основе мемуаров больного.
Случай Анны О., который справедливо признан первым шагом, сделанным на пути развития психоанализа, и по сей день продолжает привлекать внимание разных авторов – как ортодоксальных психоаналитиков, так и представителей современных направлений в психоанализе. Новые и неожиданные подходы к толкованию этого случая читатель сможет найти у Саммерса (1999), Толпина (1993), Хиршмюллера (1989) и др.
Случай Анны О. был описан еще до того, как была разработана структурная модель, и понятие «я», разумеется, здесь относится к личности в целом, а не к структурной инстанции. Чтобы избежать путаницы и не обременять текст излишними примечаниями, два этих термина мы будем различать с помощью написания: «я» будет использоваться для обозначения личности, а Я – для обозначения структуры психики.
Наверное, нет надобности подробно останавливаться на разборе случаев, описание которых включено в эту книгу. Всю необходимую информацию читатель найдет в предварительных замечаниях к каждой главе, а также в статье Мартина Гротьяна, в которой рассказывается о дальнейшей судьбе пациентов.
Рассматривая эти работы с современных позиций, мы видим, что далеко не все верно в подходе Фрейда к анализу. Мы замечаем, что наряду с совершенно удивительными озарениями у него есть тенденция подгонять полученный материал под заготовленные схемы. Мы отдаем себе отчет в том, что многочисленные трактовки, которые для Фрейда не подлежат сомнению, сейчас устарели и едва ли отвечают реальному положению вещей. Все это так. Но не будем забывать, что в то время это был неизведанный путь, по которому нередко приходилось пробираться на ощупь. И мы можем быть только благодарны основателю психоанализа за то, что он отважился пойти этим путем и обогатил нас множеством знаний о движущих силах и внутренних конфликтах человеческой психики.
А. Боковиков
Случай истерии
Фройляйн Анна О. [1895]
Предварительные замечания издателей
Издание на немецком языке:
Breuer J., Freud S. Studien über Hysterie. Leipzig, Wien, 1895.
Случай Анны О.– самый известный в кругу психоаналитиков. Псевдоним Анна О. был дан Берте Паппенгейм (1859–1936), заболевшей во время ухода за больным кавернозным туберкулезом отцом. «Разоблачил» пациентку Э. Джонс, автор знаменитой трехтомной биографии Фрейда (1953). О лечении пациентки Фрейд узнал от Брейера через несколько месяцев после его завершения (1882, ноябрь). Фрейда настолько увлекла история ее болезни, что он не мог понять, почему Брейер не желает ее опубликовать, как и рассказать о созданном новом методе лечения – «катартической психотерапии». И только спустя год Брейер откровенно признался молодому коллеге, что он столь сильно был вовлечен в лечение Анны О., что вызвал ревность жены. Ему пришлось сказать пациентке, что навсегда прерывает лечение. Вечером этого же дня его срочно вызвали к пациентке, лежавшей в «родовых схватках» от ложной беременности и выкрикивающей: «На свет появится ребенок доктора Брейера!» Брейер погрузил пациентку в гипнотическое состояние и попытался успокоить, а на следующий день вместе с женой уехал в Венецию. В том же самом году, через месяц после завершения лечения Брейером состояние пациентки ухудшилось настолько, что ее вынуждены были поместить для стационарного лечения в знаменитый нервный санаторий «Бельвью» в Кройцлингене на Боденском озере, где она находилась с середины июля до конца октября 1882 года. Там Анну О. лечили от различных соматических симптомов (в том числе и от невралгии тройничного нерва), причем для этого использовали большие дозы морфия. По вечерам она теряла способность говорить по-немецки и переходила на английский или французский язык. В письме Стефану Цвейгу Фрейд писал: «Что на самом деле произошло с пациенткой Брейера, мне удалось разгадать только много лет спустя после нашего с ним разрыва… При последней встрече с пациенткой у него в руках был ключ, которым он мог открыть дверь к тайнам жизни, но он позволил ему выпасть. При всей духовной одаренности у Брейера не оказалось в характере ничего от Фауста. Ужаснувшись содеянному, он спасся бегством, предоставив попечение за больной одному из своих коллег» (Freud S. Briefe 1873–1939. Frankfurt a. M., 1968. S. 427). И этим еще дело не закончилось, как пишет Джонс в первом томе биографии Фрейда: «Спустя примерно десять лет уже в то время, когда Фрейд лечил пациентов в сотрудничестве с Брейером, последний пригласил Фрейда посмотреть его другую истерическую пациентку. Перед тем как отправиться к ней, Брейер подробно описал ее симптомы, после чего Фрейд сказал, что это очень типично для воображаемой (ложной) беременности. Такое повторение прежней ситуации Брейеру было трудно перенести. Не сказав ни слова, он взял свою шляпу с тростью и быстро покинул Фрейда» (Jones E. Das Leben und Werk von Sigmund Freud. Bern, 1960. S. 269). Какое-то время Анна О. злоупотребляла морфием. Позже, обходясь без какой-либо врачебной помощи, полностью посвятила себя общественной деятельности. Она была довольно известна как борец за эмансипацию женщин, прежде всего евреек. Знаменитый еврейский философ Мартин Бубер (1878–1965) как-то сказал: «Есть люди духа, есть люди страсти, и тех, и других не так-то уж часто можно встретить, но еще большей редкостью являются люди, объединяющие в себе дух и страсть. Вот таким человеком страстного духа и была Берта Паппенгейм» (1939). На свои личные сбережения она основывает «Приют для девушек, подвергшихся насилию, и для внебрачных детей». Попечение за несчастными детьми сполна замещает ей отсутствие своих собственных детей. Но воспоминания о проведенном катартическом лечении продолжают преследовать ее и позднее, она строго-настрого запрещает любой вид психоаналитического лечения людей, находящихся в основываемых ею заведениях. О том, что Берта Паппенгейм в течение всей своей жизни относилась с «враждебностью к анализу», вспоминает и Анна Фрейд (см. статью «Эпизоды из жизни Берты Паппенгейм (Анны О.)», опубликованную Берндом Ницшке в ведущем немецком психоаналитическом журнале «Psyche» [1990]. S. 819). Сама же Берта Паппенгейм говорит о психоанализе следующее: «Психоанализ в руках врача – то же самое, что исповедь в руках католического священника; только от их личности и искусства владения своим методом будет зависеть то, окажется ли их инструмент добром или обоюдоострым мечом» (см. сборник под редакцией D. Edinger: Bertha Pappenheim. Leben u. Schriften. Frankfurt a. M., 1963. S. 12–13). А свою общую жизненную позицию Анна О. описывала следующим образом: «Каждый, независимо от того, мужчина он или женщина, должен делать то, что он должен делать, используя то свою силу, то свою слабость». Для Фрейда понимание мощи переноса и контрпереноса, обнаруживающихся в этой истории болезни, стало отправным пунктом на пути перехода от катартической терапии к психоанализу. В некрологе на смерть Брейера (1925) Фрейд писал: «Брейер столкнулся с неизбежно существующим переносом пациентки на врача и не смог понять внеличностную природу этого феномена». Приняв чувства переноса за реальные чувства пациентки, Брейер ответил на них массивной реакцией бессознательного контрпереноса, которая и спустя годы не позволяла ему признать сексуальную природу симптомов Анны О., Брейер в письме, датированном 21 ноября 1907 года, пишет знаменитому психиатру Августу Форелю: «Должен тебе признаться, мой вкус претит мне погружаться в область сексуальности как в теории, так и на практике. Но при чем тут мой вкус и мои ощущения, если дело касается истины, обнаружения того, с чем на самом деле мы встречаемся… Случай Анны О. доказывает, что достаточно тяжелый случай истерии может возникнуть, сохраняться и устраняться без того, чтобы какую-либо роль в нем играли сексуальные элементы… Моя заслуга состоит в основном в том, что я догадался понять, что судьба послала мне в руки необычайно поучительный, важный для науки случай, который мне удалось внимательно и в течение довольно продолжительного времени наблюдать, причем не нарушая его простого и естественного течения каким-либо предвзятым подходом. Тогда я очень многому научился, я узнал много удивительно ценного для науки. Но я узнал и то, на что необходимо обращать первоочередное внимание в практической деятельности. Для частнопрактикующего врача-терапевта невозможно заниматься лечением подобных случаев без того, чтобы полностью не разрушить свою деятельность и жизненный уклад. Я хвалю себя за принятое мною тогда решение не допускать больше подобных нечеловеческих испытаний. Если у меня появлялись пациенты, у которых были прекрасные показания для аналитического лечения, которых я сам лечить не мог, то я направлял их к доктору Фрейду, который приобрел богатый практический опыт в Париже и Сальпетриере, к доктору, с которым я находился в самых дружеских отношениях, а также в плодотворных научных контактах» (1907).
Случай Анны О.
Анна О., которой к началу заболевания (1880) был 21 год, имела, по-видимому, наследственную предрасположенность к невропатологическими заболеваниям, к тем психозам, которыми иногда страдают члены знаменитых семей; хотя родители ее были здоровы. Сама же больная до этого была здорова, без каких-либо признаков нервности в период развития; с очень высоким интеллектом, поразительным даром на разного рода выдумки и глубокой интуицией; ее удивительные логические способности были под стать солидной духовной пище, они, попросту говоря, нуждались в таковой, но после окончания школы она перестала ее получать. Богатая поэтическая одаренность и склонность фантазировать находились под контролем очень острого и критичного рассудка. Именно он-то и делал Анну О. совершенно несклонной к внушениям; только логические аргументы могли оказывать на нее влияние, а любые просьбы были бесполезны. Воля ее была крепкой, Анна О. отличалась большой выдержкой и выносливостью, по временам даже доходившей до упрямства. От своей цели она отказывалась только из желания получить одобрение других.
В характере ее обращали на себя внимание доброта и милосердие. Постоянно проявляемая ею забота и уход за бедными и больными послужили на пользу и ей самой во время ее болезни. Состраданием к бедам других Анна О. удовлетворяла одну из своих самых больших потребностей. Ей всегда была присуща некоторая склонность к экзальтации: или веселье, или грусть. А отсюда и свойственная ей некоторая капризность. Поражало полное отсутствие каких-либо сексуальных интересов; больная, о жизни которой я был хорошо осведомлен, как никто другой, никогда не испытывала чувства любви; в громадном количестве ее галлюцинаций так ни разу и не всплыл сексуальный элемент душевной жизни.
Фройляйн Анна О., несмотря на переполнявшую ее духовную жажду, вела в пуританской семье родителей необычайно монотонную жизнь, которую она умудрялась скрасить особым образом, что, по-видимому, вообще, характерно для ее болезни. Девушка систематически предавалась грезам, которые она называла личным «частным театром». В то время как окружающие люди считали, что она участвует в разговоре, она на самом деле жила духом своей сказочной мечты, но всегда, когда бы ее только ни окликнули, Анна О. легко отзывалась, так что никто не подозревал о том, что с нею происходило. Наряду с домашней работой, которую она выполняла всегда безупречно, незаметно и почти непрерывно протекала ее духовная деятельность в виде неустанного фантазирования. Немного позже я сообщу о том, каким образом ее привычные здоровые грезы перешли в патологические.
Течение ее болезни легко членится на несколько фаз; таковыми будут следующие:
А) Латентный инкубационный период, время зарождения болезни; он занял примерно полгода, с середины 1880 года приблизительно до 10 декабря. Своеобразие излагаемого клинического случая предоставило возможность такого глубокого рассмотрения этой фазы, обычно лишенной нашего понимания, что уже только из-за одного этого случай Анны О. заслуживает нашего пристального внимания. Чуть позже я подробно изложу эту часть истории болезни.
Б) Заболевание проявилось в особого рода психозе, парафазии (паралалии), конвергентном страбизме (косоглазии), тяжелом расстройстве зрения, контрактурах-параличах, полностью захвативших правую верхнюю и обе нижние конечности, а частично еще и левую верхнюю, парезе (ослаблением двигательных функций) затылочных мышц. Постепенное уменьшение контрактуры правосторонних конечностей. Некоторое улучшение, прерванное пережитой в апреле тяжелой психической травмой в результате смерти отца. За этой фазой следует
В) Период продолжительного сомнамбулизма, позднее начавшего чередоваться с нормальным состоянием сознания. Сохранение целого ряда симптомов до декабря 1881 года.
Г) Постепенное исчезновение указанных патологических состояний и феноменов (период длившийся до июня 1882 года).
В июле 1880 года заболевает отец пациентки, которого она страстно любила. Его не смогли вылечить от периплевритного абсцесса, и в апреле 1881 года он умер. В течение первых месяцев болезни отца Анна О. со всей энергией своего молодого организма отдалась уходу за больным. Никого не удивляло, что с каждым днем девушка все больше измучивала себя. Никто, да возможно, и сама больная, не догадывался о том, что происходило с ней. Но постепенно ее состояние слабости, анемия, отвращения к пище стали настолько болезненными и заметными, что пациентку пришлось отстранить от ухода за отцом. Непосредственным поводом обращения ко мне был очень сильный кашель, в результате жалоб на который я и исследовал ее впервые. Это был типичный нервный кашель. Вскоре у больной появилась выраженная потребность отдыхать в послеобеденное время, а по вечерам ее стало одолевать схожее со сном состояние, к которому чуть позже присоединилось сильное беспокойство.
В начале декабря возник конвергентный страбизм. Врач-окулист объяснил это (по ошибке) парезом отводящей мышцы. 11 декабря пациентка слегла в постель и оставалась там до 1 апреля.
Быстро сменяя друг друга, появлялось и исчезало, причем, по-видимому, впервые в жизни больной, множество тяжелых расстройств: левосторонняя боль в затылке; из-за переживаемого беспокойства стал гораздо более выраженным конвергентный страбизм (доходя до диплопии – удвоения изображения); жалобы на то, что на нее могут обрушиться стены (страх наклоненных пространств). Трудно диагностируемые расстройства зрения; парез передних шейных мышц, так что под конец двигать головой она могла лишь посредством того, что вдавливала ее назад между приподнятыми плечами и уже тогда передвигала вместе со всем туловищем. Контрактура (ограничение подвижности суставов) и анестезия правой верхней конечности, а спустя некоторое время и правой нижней конечности; она вынуждена была держать конечности в вытянутом состоянии прямыми, словно бы прикованными к телу, они несколько выворачивались вовнутрь; позднее подобное происходит с левой нижней конечностью, а затем с левой рукой, но пальцы ее до некоторой степени продолжают сохранять подвижность. Да и плечевые суставы с обеих сторон были не полностью обездвижены. Максимально выраженная контрактура была в мышцах предплечья, а когда позднее мы смогли поточнее выявить зоны нечувствительности, наиболее нечувствительным оказался у пациентки район локтя. Вначале болезни нам не удавалось достаточно точно выявить участки кожи, лишенные чувствительности. Это было связано с сопротивлением больной, вызванным имевшимися у нее страхами.
Вот в таком состоянии больной я принялся за лечение. Вскоре мне пришлось убедиться в наличии у нее явно выраженных изменений психики. У пациентки было два совершенно разных состояния сознания, довольно часто и совершенно непредсказуемо сменявших друг друга; в ходе болезни эти состояния все дальше расходились друг от друга. В одном из них пациентка довольно хорошо ориентировалась в своем окружении, была печальна и боязлива, но относительно здорова; в другом она видела галлюцинации, была «невоспитанна», т. е. ругалась, бросалась подушками в людей, отрывала еще способными двигаться пальцами кнопки с белья и покрывала и совершала многие другие действия, подобные этим. Если во время этой фазы в комнате происходили какие-либо изменения, кто-нибудь входил или выходил, то больная жаловалась на то, что у нее нет времени, и тогда обнаруживались провалы в ее памяти. Так как на ее жалобы, что она сходит с ума, окружающие пытались отвечать успокаивающим обманом, говоря, что у нее все в полном порядке, то после метания подушек и прочих подобных действий следовали новые жалобы, что ей умышленно наносят вред, оставляя ее в таком смятенном состоянии, и т. д.
Эти абсансы (периоды кратковременного отсутствия сознания) наблюдались еще до того, как она слегла в постель; в такие моменты речь ее останавливалась на середине фразы, она повторяла последнее сказанное ею слово, чтобы спустя короткое время продолжать свою речь. Постепенно состояние больной стало все больше походить на описанную нами картину. Во времена обострения болезни, когда контрактура захватывала и левую сторону, в течение всего дня больная лишь на короткое время в какой-то мере становилась нормальной. Но и в эти моменты относительно ясного сознания она не была полностью избавлена от расстройств; молниеносные смены настроения от одной крайности в другую, мимолетная веселость, обычно нелегко переносимые состояния сильной тревоги, упорное сопротивление по отношению к любым терапевтическим мероприятиям, видение страшных галлюцинаций, в которых царили черные змеи, их она видела в своих волосах, на шнурках и т. п. И при этом она еще умудрялась успокаивать себя, что нельзя же быть до такой степени глупой, что это всего-навсего ее волосы и т. д. В периоды совершенно ясного сознания она жаловалась на полный мрак в голове, на то, что она не способна думать, что вскоре станет слепой и глухой, что в ее душе присутствуют два «я», «я» истинное и «я» другое, плохое, принуждающее ее совершать что-то злое, и т. д.
После обеда она находилась в сомноленции (патологическом состоянии сонливости), заканчивавшейся обычно только спустя примерно час после захода солнца. Проснувшись, пациентка жаловалась на то, что ее что-то мучает, но чаще всего она просто монотонно повторяла один и тот же глагол: мучить, мучить…
Одновременно с появлением контрактур наступила глубокая функциональная дезорганизация речи. Вначале было заметно, что больной явно не хватает запаса слов, постепенно это становилось все более очевидным. Ее речь начала терять грамматическую стройность, стали искажаться синтаксические конструкции, появились ошибки, связанные со спряжением глаголов, а под конец она вообще перешла к использованию единственной формы – неопределенной формы глагола, причем, естественно, делала она это с ошибками, а уж об артиклях[1] так и говорить не приходится. В ходе дальнейшего развития заболевания пациентка стала почти целиком забывать слова. Она пыталась с огромными усилиями сконструировать предложение, привлекая на помощь четыре-пять разных языков, теперь ее было весьма затруднительно понять. И даже когда она пыталась передать свои мысли письменно (когда этому не мешали контрактуры), она использовала тот же самый непонятный жаргон. Две недели подряд у нее сохранялся мутизм[2], и как ни пыталась она произнести хотя бы одно слово, из уст ее не раздавалось ни единого звука. Именно тогда и стал мне впервые понятен психический механизм ее расстройства. Насколько я смог выяснить, она была чем-то обижена и в отместку решила молчать. Когда я это разгадал и мне удалось разговорить пациентку, то сразу была устранена помеха, не позволявшая ей говорить.
По времени это совпало с возвратившейся подвижностью в левосторонних конечностях (март 1881 года). Парафазия отступила, но теперь она говорила только по-английски, по-видимому, и сама не догадываясь о том, что говорит на иностранном языке; она бранилась с сиделкой, которая, конечно же, не понимала ни слова из того, что произносила больная; лишь спустя несколько месяцев мне удалось убедить ее в том, что она говорит по-английски. Сама она каким-то образом умудрялась понимать речь окружающих говорящих на ее родном языке. И только в моменты сильной тревоги, испытываемой больной, ее речь полностью пропадала или же становилась совершенно непонятной из-за смешения разных идиом. В наиболее приятные для себя часы Анна О. говорила по-французски или по-итальянски. Но, находясь в одном из этих состояний (когда она говорила на этих языках или на английском), она ничего не могла вспомнить о другом, о котором у нее была полная амнезия. Постепенно уменьшился страбизм, появляющийся теперь лишь в минуты особенно большого волнения, мышцы вновь стали послушны пациентке. 1 апреля Анна О. впервые за долгое время оставила постель.
И тут 5 апреля умирает обожаемый ею отец, которого во все время своей болезни она могла видеть лишь изредка, да и то на короткие мгновенья. Из всех существующих на свете потрясений, это было для Анны О. самым ужасным. Первоначальное неистовое возбуждение сменилось глубоким ступором (состояние психической и двигательной заторможенности), который длился около двух дней; из него она вышла совершенно другим существом. Она выглядела намного более спокойной, чем обычно, ее тревожность заметно ослабела. Контрактура правой руки и ноги не исчезла, так же, как и не пропала незначительно выраженная потеря чувствительности в этих членах. Поле зрения было значительно сужено. Из всего спектра цветов, которые приводили ее в удивительно радостное настроение, она способна была воспринимать только один цвет. Пациентка жаловалась, что не узнает людей. Обычно же она легко вспоминала лица, для чего ей не требовалось никаких усилий. Сейчас же приходилось прибегать к очень хлопотливой «recognizing work» («работа по узнаванию»), говоря самой себе примерно следующее: да, нос у него такой, волосы такие, следовательно, это должен быть господин такой-то. Все люди превратились для нее в какое-то подобие восковых фигур, не имеющих к ней никакого отношения. Присутствие некоторых близких родственников стало для нее необычайно мучительным, а этот «негативный инстинкт» к тому же разрастался все больше и больше. Если в комнате появлялся кто-то из тех людей, кого Анна О. раньше встречала с огромной радостью, то теперь она разделяла с ним общество лишь на короткое время, чтобы затем опять погрузиться в свои раздумья, человек для нее исчезал. И только меня она никогда не теряла из своего поля зрения. Когда бы я ни появился, она неизменно проявляла ко мне участие, сразу становясь оживленной при моем обращении. И только при совершенно неожиданно появлявшихся галлюцинаторных абсансах этот контакт прерывался.
Теперь она говорила только по-английски и уже ничего не понимала из того, что ей говорили на родном (немецком) языке. Все ее окружение должно было изъясняться на английском и даже сиделки в какой-то мере научились кое-что понимать. Но читала пациентка только на французском и итальянском языках, а когда какое-либо место ей нужно было прочитать вслух, то она с вызывающей восхищение легкостью и свободой делала удивительно точный перевод прочитанного с листа на английский язык.
Она опять начала писать, но делала это на особый манер. Она писала сохранявшей подвижность левой рукой, выискивая в имеющемся у нее издании Шекспира редкие типографские знаки.
Если ранее она самостоятельно еще принимала хотя бы минимальное количество пищи, то теперь полностью отвергала любую пищу, но позволяла мне кормить себя, так что, несмотря ни на что, она быстро набирала вес. И лишь хлеб она категорически отказывалась есть. После кормления Анна О. никогда не забывала прополоскать рот, причем делала она это даже тогда, когда по какой-либо причине ничего не ела; это означало, что для нее был безразличен сам процесс еды.
Сомноленция после обеда и глубокий ступор после заката солнца продолжали сохраняться и далее. А когда пациентка была способна высказываться (я еще буду говорить подробнее об этом), то ее сознание становилось ясным, а сама она спокойной и веселой.
Но это относительно сносное состояние продолжалось не особенно долго. Примерно через десять дней после смерти отца к пациентке был приглашен врач-консультант. Во время моего рассказа об особенностях ее состояния она полностью игнорировала присутствие консультанта, поступая с ним так, как это делала со всеми незнакомыми ей людьми. «That’s like an examination» (это словно экзамен), сказала она смеясь, после того как я попросил ее прочесть нам французский текст на английском языке. Приглашенный врач, желая обратить на себя ее внимание, попытался вмешаться, чтобы она наконец-то его заметила, но все наши усилия были напрасны. Это (игнорирование присутствия другого человека) было поистине «негативной галлюцинацией», которую можно было легко воспроизводить в любое время. Наконец врачу удалось сломить ход событий, пустив пациентке в лицо целый столб дыма от сигары. Внезапно Анна О. увидела перед собой чужого человека, она ринулась к двери, чтобы вытащить ключ и без чувств упала на пол; а далее последовал небольшой гневный взрыв, который сменил приступ страха, и лишь с большим трудом мне удалось устранить переживаемую пациенткой тревогу. К несчастью, я должен был уезжать в тот же самый вечер, а когда вернулся через несколько дней, то состояние больной стало намного хуже. Все это время она соблюдала пост, испытывая постоянную тревогу. У нее было множество галлюцинаторных абсансов с ужасающими образами в виде голов мертвецов и пугающих скелетов. Так как, переживая это, пациентка чаще всего драматически воссоздавала виденное ею и даже вступала с виденными ею образами в прямой диалог, окружающие люди были хорошо осведомлены о содержании ее галлюцинаций. После обеда – сомноленция, а на закате солнца она погружалась в особое состояние, напоминающее глубокий гипноз. Для этого состояния Анна О. даже придумала особое наименование «clouds» (витание в облаках). Если ей удавалось рассказать о виденных ею в течение дня галлюцинациях, то после этого она становилась удивительно спокойной и веселой, принималась за работу, рисовала и писала в течение всей ночи, причем делала она все это совершенно разумно; а около четырех часов ночи ложилась спать, чтобы утром заново воспроизвести прежнюю сцену. Обращала на себя внимание удивительная противоположность между двумя ее состояниями: невменяемой больной, охваченной днем устрашающими галлюцинациями, и девушкой, пребывающей по ночам в ясном сознании.
Однако, несмотря на эйфорию Анны О., испытываемую ею по ночам, ее психическое состояние ухудшалось с каждым днем. Появилась сильная склонность к самоубийству, что сделало нецелесообразным нахождение больной на четвертом этаже дома. Поэтому, вопреки ее желанию она была перевезена в другой дом в пригороде Вены (7 июня 1881 года). Хотя я никогда не угрожал пациентке тем, что она будет лишена возможности жить в домашней обстановке, она загодя отчаянно сопротивлялась переезду, тихо его ожидая и боясь. В ситуации переселения стало хорошо заметно, насколько сильно была выражена тревога у Анны О. (как это имело место после смерти отца). После того как произошло то, чего больная опасалась – переселение из родительского дома, – Анна О. успокоилась (все это напоминало ситуацию, сложившуюся после смерти отца). Конечно, это не обошлось без того, чтобы переезд на новое место не отнял у нее три дня и три ночи, в течение которых она пыталась прийти в себя, обходясь совершенно без сна и без пищи, бесконечно пытаясь покончить с собой (конечно, в условиях дачи это было совершенно безопасно), разбивая стекла в окнах и т. п., испытывая галлюцинации без абсанса, эти галлюцинации нисколько не были похожи на прежние. Спустя три дня она успокоилась, позволила сиделке накормить себя, а вечером даже приняла хлорал[3].
До того как я начну описывать дальнейшее течение болезни, я должен возвратиться назад и показать своеобразие этого клинического случая, о чем я до сих пор поведал только мимолетно.
Я уже говорил, что в течение всего описанного периода болезни каждый раз после обеда Анна О. впадала в сомноленцию, переходившую на закате солнца в глубокий сон (clouds). (Эта периодичность, по-видимому, лучше всего объясняется обстоятельствами ухода за больным отцом, чему она месяцами отдавалась с огромным усердием. Тогда ночами пациентка бодрствовала, внимательно прислушиваясь к каждому движению отца, или лежала, не смыкая глаз, в своей постели, переполненная тревогой за его здоровье; после обеда больная ложилась на некоторое время отдохнуть, как это принято у сиделок; такой ритм ночного бодрствования и дневного сна, вероятно, незаметным образом наложился на ее собственную болезнь, сохраняясь даже тогда, когда сон давным-давно сменился гипнотическим состоянием.) Если сопор (глубокое помрачнение сознания) продолжался час, то пациентка становилась беспокойной, постоянно переворачивалась с боку на бок, выкрикивала: «Мучить, мучить», делая все это с закрытыми глазами. С другой стороны, было хорошо заметно, что в своих дневных абсансах Анна О. всегда пыталась изобразить какую-либо ситуацию или историю, о содержании которых можно было догадываться по отдельным словам, которые бормотала пациентка. Происходило и такое. Кто-то из близких людей намеренно (в первый раз это произошло совершенно случайно) проговаривал одно из таких ключевых слов в те периоды, когда пациентка начинала заговаривать о «мучениях» – и Анна О. тотчас включала подброшенное слово в существовавшую в ее воображении ситуацию, вначале запинаясь на своем парафазном жаргоне, но чем дальше, тем все ровнее и свободнее лилась речь больной, пока, наконец, пациентка не начинала говорить на абсолютно правильном немецком языке (в первое время болезни, еще до того как она полностью оказалась в плену английского языка). Истории, сочиняемые находящейся в глубоком трансе пациенткой, всегда были прекрасны, иногда даже поражали слышавших их людей, чем-то напоминая сказки Андерсена, а вероятно и создавались они по образу и подобию историй знаменитого сказочника; чаще всего исходным и центральным пунктом всей истории была девушка, переживающая тревогу у постели больного; но появлялись и совершенно противоположные мотивы, которые искусно вуалировались. Вскоре после рассказанной истории Анна О. просыпалась, по-видимому, успокоенная ходом выдуманной ею истории; сама пациентка называла такое состояние «приятностью». Позже, ночью, пациентка опять становилась беспокойной, а утром, после двухчасового сна, становилось ясно как божий день, что она находится в совершенно другом психическом состоянии. Если Анне О. не удавалось в вечернем гипнозе до конца рассказать всю созданную ею историю, то вечернее умиротворенное настроение не возникало, и на следующий день, чтобы улучшить свое состояние, ей приходилось рассказывать две истории.
В течение всего полуторалетнего периода наблюдения за пациенткой основные проявления ее болезни оставались теми же самыми: частые и тяжелые абсансы в вечерних аутогипнотических состояниях, действенные продукты фантазии в качестве психических стимулов для активности, уменьшение, а то и временное полное устранение симптомов после использования возможности выговориться в гипнозе.
Естественно, что после смерти отца рассказываемые Анной О. истории стали еще более трагичными, резко бросалось в глаза ухудшение психического состояния пациентки, следовавшее за мощным вторжением в ее жизнь сомнамбулизма, о котором я только что рассказывал, отчеты пациентки перестали иметь более (или) менее свободный поэтический характер, превратившись в ряд ужасных, пугающих галлюцинаций, о содержании которых можно было догадываться еще днем по поведению больной. Я уже рассказывал о том, насколько искусно освобождалась ее душа от потрясений, вызванных галлюцинациями, страхом и ужасом, после того как Анне О. удавалось воспроизвести все увиденные ею ужасные образы и выговориться до конца.
На даче, куда у меня не было возможности ездить каждый день, чтобы посещать больную, события развивались следующим образом: я приезжал по вечерам в те периоды, когда, как я знал, она находилась в аутогипнотическом состоянии, и выслушивал новый ряд химер (фантазмов), накопившихся у нее со дня моего последнего посещения. Для достижения благоприятного эффекта пациентка должна была выговориться до конца: тогда она успокаивалась, была на следующий день любезной, послушной, прилежной, чрезвычайно веселой. Но на второй день все менялось: Анна О. становилась капризной, упрямой и неуправляемой, что еще больше усиливалось в третий день. Когда она находилась в таком состоянии, то ее даже в гипнозе не всегда удавалось побудить выговориться до конца. Для последней процедуры пациентка придумала хорошо подходящее, толковое название «talking cure» (лечение разговором), шутливо называя это «chimney-sweeping» (прочисткой труб). Анна О. хорошо знала, что после того, как сможет выговориться, она потеряет всю свою строптивость и «энергию». Когда пациентка после долгого отсутствия спонтанных «процедур» исцеления пребывала в дурном настроении и отказывалась от речи, тогда мне приходилось добиваться откровений Анны О. при помощи принуждений и просьб, а также некоторых искусственных приемов, наподобие проговаривания в ее присутствии каких-либо стандартных начальных фраз из уже рассказанных ею историй. Но никогда пациентка не начинала говорить, хорошенько не убедившись в моем присутствии, осуществляя это путем тщательного ощупывания моих рук. В ночи, накануне которых у нее не было возможности выговориться и когда она была беспокойна, приходилось прибегать к назначению хлоралгидрата. Я экспериментировал с разными дозами, оптимальными оказались 5 грамм. Сну предшествовало многочасовое наркотическое опьянение, которое в моем присутствии сопровождалось весельем, а без меня вызывало у пациентки необычайно неприятное состояние тревоги. (Мимоходом следует заметить, что даже такое тяжелое опьянение никак не сказывалось на контрактурах.) Я мог бы избежать применения наркотического средства, так как возможность выговориться всегда успокаивала пациентку, а иногда приводила ко сну. Но ночи, проводимые на даче, когда не было возможности получить гипнотическое облегчение, были настолько непереносимы, что приходилось прибегать к хлоралгидрату; правда, постепенно необходимость в этом стала отпадать.
Исчез сомнамбулизм, продолжавшийся в течение долгого времени, хотя чередование двух состояний сознания сохранялось. В середине разговора у Анны О. могли появиться галлюцинации, тогда она начинала убегать, пыталась вскарабкаться на дерево и т. п. Если ее удавалось задержать, то спустя короткое время она продолжала оборванное на полуслове предложение, как бы не замечая того, что произошло в промежутке. Все эти галлюцинации она заново переживала позже в гипнозе.
В общем можно сказать, что в состоянии Анны О. наметились улучшения. Она могла хорошо есть, без всякого сопротивления позволяя сиделке вводить пищу в рот, и только хлеб, несмотря на желание есть, пациентка отталкивала всякий раз, как только его подносили к ее губам; существенно уменьшились контрактуры-парезы ноги; пациентка наконец-то смогла по достоинству оценить и крепко привязаться к еще одному врачу, посещавшему ее, моему другу доктору Б. Немалую помощь в выздоровлении оказывал и ньюфаундленд, которого Анна О. получила в подарок и страстно полюбила. Действительно, надо было видеть, как эта слабая девушка храбро брала в левую руку кнут и отстегивала им огромного зверя, своего любимца, ради того, чтобы спасти его жертву – кошку, на которую он набросился. Несколько позже пациентка стала уделять много внимания бедным и больным людям, что было, несомненно, полезно для нее.
Наиболее явное доказательство патогенного, возбуждающего влияния на абсансы особого мира представлений пациентки, созданного альтернативным сознанием, а также возможности устранять патологическое состояние посредством предоставления пациентке возможности выговориться в гипнозе я получил после возвращения из отпуска (я не видел Анну О. в течение нескольких недель). Никакого «talking cure» за это время не было, так как больную невозможно было побудить рассказывать создаваемые ею истории. Не удалось это и доктору Б., которому во всем другом девушка охотно подчинялась. Я нашел Анну О. в печальном и подавленном настроении, она стала ленивой, строптивой, капризной и даже озлобленной. Ее вечерний рассказ показал, что ее склонность к поэтическим фантазиям, по-видимому, начала утрачиваться. То, что поведала пациентка, походило на отчет об имеющихся у нее галлюцинациях и о том, что злило ее в течение прошедших дней; элементы фантазии, которые встречались в ее рассказе, были скорее прочно занявшими свое место клише, чем чем-то, имеющим какое-либо отношение к поэзии. Более сносное состояние наступило у пациентки лишь после того, как я позволил ей съездить на неделю в город и в течение нескольких вечеров принуждал ее рассказывать мне истории (их набралось три–пять). Оказалось, что мы обсудили с Анной О. все, что накопилось за несколько недель моего отсутствия. В настроении пациентки стал проявляться прежний ритм. На следующий день после использованной возможности выговориться Анна О. была любезной и веселой, на второй – более раздраженной и неприступной, а уж на третий день просто «отвратительной». Ее эмоциональное состояние находилось во власти времени, которое вело свой отсчет с момента предоставленной ей возможности выговориться. Любой патологический образ, созданный фантазией пациентки, любой факт, выхваченный болезненной частью ее души, продолжал оказывать свое воздействие до тех пор, пока Анна О. не рассказывала о них в гипнозе, после чего она полностью избавлялась от их патологического влияния.
Когда осенью пациентка возвратилась в город (но уже в другую квартиру, не в ту, в которой она заболела), то состояние ее было вполне сносным, причем как физически, так и душевно; и лишь только некоторые с особой силой захватывающие ее переживания могли превратиться в патологические психические раздражители. У меня были большие надежды на постепенное улучшение состояния Анны О. в результате предоставляемой ей возможности выговориться, что должно было защитить ее психику от тяжелых перегрузок новыми раздражителями. Но в самом начале меня постигло разочарование. В декабре психическое состояние Анны О. резко ухудшилось, она была сильно возбуждена, ею завладел пессимизм, не было ни одного сносного дня, хотя внешне она пыталась ничем не выдавать свое состояние. В конце декабря, в рождественские праздники, она испытывала особенно сильное беспокойство, всю неделю ничего нового от нее я не услышал, разве что только рассказ о химерах, которые она тщательно создавала в праздничные дни 1880 года под воздействием испытываемых ею сильных аффектов тревоги. После того как пациентка смогла рассказать о целой серии подобных образов, у нее наступило огромное облегчение.
Прошел год с тех пор, как ее отстранили от ухода за отцом, и она вынуждена была сама слечь в постель. Вот именно в это время состояние Анны О. прояснилось, упорядочилось. Оба чередующихся друг с другом состояния сознания ранее существовали таким образом, что утром, с началом дня, учащались абсансы, т. е. доминировало альтернативное сознание, а по вечерам оно оставалось без своей противоположности. Теперь же все было иначе: если раньше в одном из состояний сознания она была здоровой, а в другом в полную силу заявляли о себе психопатологические синдромы, то теперь различия имели совершенно иной характер. В первом из состояний она жила по времени, как и все мы, зимой 1881–1882 года, а во втором – как бы заново проживала зиму 1880– 1881 года, причем складывалось впечатление, что она полностью позабыла все, что произошло потом в течение целого года, чаще всего здесь доминировало переживание смерти отца. Перемещение по времени в прошедший год происходило настолько интенсивно, что, находясь в новой квартире, посредством галлюцинаций Анна О. воссоздавала свою прежнюю комнату; когда она хотела подойти к двери, то натыкалась на печь, которая точно так же располагалась по отношению к окну, как в прежней квартире дверь. Переход из одного психического состояния в другое происходил спонтанно и с необычайной легкостью, достаточно было одного мимолетного впечатления, вызывающего в памяти живые события прошедшего года. Можно было просто подержать перед ней апельсин (основная ее пища в течение начального периода заболевания) и она полностью переносилась из года 1882 в год 1881. Это перемещение в прошедший год происходило вовсе не случайным образом, день за днем пациентка последовательно проживала прошлую зиму. Я мог бы считать это всего-навсего надуманной гипотезой, если бы Анна О. во время ежевечерних гипнозов не перебирала всего того, что взволновало ее именно в этот день ровно год назад, и если бы не было личного дневника матери за 1881 год, по которому можно легко убедиться в точности упоминаемых пациенткой событий, относящихся к конкретным дням. Возобновление переживаний прошедшего года продолжалось вплоть до полного исцеления от болезни (июнь 1882 год).
Можно было наблюдать, как заново переживаемые в альтернативном сознании психические события оказывали влияние на ее здоровое сознание.
Однажды утром больная, смеясь, сказала мне, что не понимает, почему она злится на меня; зная содержание дневника матери, я хорошо понимал, что она имеет в виду. Позже в вечернем гипнозе это действительно подтвердилось. В такой же точно календарный день вечером в 1881 году я чем-то очень сильно рассердил пациентку. В другой же раз она сказала, что с ее глазами происходит что-то необычное, что она неправильно воспринимает цвета. Но оказалось, что в тесте на различение цветов она все видит четко и правильно, она неправильно воспринимала только материал своей одежды. Причиной же было то, что в те дни в 1881 году (год назад) пациентка много времени отдавала работе со шлафроком отца, который был из такого же материала, что и ее платье, только другого, синего цвета. Частенько было хорошо заметно, что всплывающие воспоминания начинали мешать работе здорового сознания задолго до того, как постепенно стали припоминаться альтернативным сознанием.
Вечерние гипнозы довольно сильно обременяли пациентку тем, что ей приходилось вести рассказ не только о новоиспеченных химерах, но и о переживаниях и «мистике», относящихся к 1881 году (к счастью, в то время уже были устранены химеры 1881 года). Проводимая пациенткой и врачом работа была необычайно трудоемкой из-за наличия особого рода расстройств, которые также приходилось устранять, я имею в виду психопатологические проявления самого начального периода болезни, относящиеся к периоду с июля по декабрь 1880 года, те явления, которые привели к появлению истерических феноменов. После того как пациентке предоставлялась возможность выговориться, симптомы эти исчезали.
Я был просто поражен, когда после рассказа пациентки, пребывавшей в вечернем гипнозе, о мучающем ее симптоме он внезапно исчез, несмотря на то, что давал о себе знать довольно длительное время. Она рассказывала о лете, когда стояла необычайная жара, она ужасно страдала от жажды, и все из-за того, что безо всякого видимого повода вдруг возникли проблемы с утолением жажды: как только ее губы соприкасались со столь желанным для нее стаканом воды, она резко отталкивала его от себя, словно бы страдала гидрофобией. Очевидно, в эти секунды она находилась в абсансе. Утолить мучившую ее жажду в какой-то степени удавалось фруктами, арбузами и т. п. Это продолжалось около шести недель. Как-то в гипнозе она стала говорить о своей англичанке-компаньонке, которую явно недолюбливала. С выраженным отвращением пациентка рассказывала, как вошла в комнату англичанки и увидела ее маленькую собачку, отвратительнейшая собачка пила из стакана. Тогда она ничего не сказала, так как не хотела показаться невежливой. Какое-то время после рассказанной ею истории пациентка предавалась бушевавшей в ней злобе, затем попросила попить, без всяких препятствий выпила несколько стаканов воды и вышла из гипноза, держа стакан возле губ. Вот так навсегда исчез ее симптом. Подобным же образом исчезали и другие ее закоренелые причуды, достаточно было всего-навсего рассказать о событии, которое действительно послужило для них поводом. Но самым большим достижением было исчезновение под воздействием такой процедуры первого устойчивого симптома – контрактуры правой ноги, хотя и до этого она уже значительно уменьшилась. Истерические симптомы пациентки сразу же исчезали, стоило только в гипнозе воспроизвести событие, спровоцировавшее появление симптома в первый раз. Вот из таких наблюдений и была создана терапевтическая техника, безупречная в отношении логичности, последовательности и систематичности. Внимание уделялось каждому отдельному симптому этой порядочно запутанной болезни, всем поводам, которые могли спровоцировать их появление. Рассказ о них начинался в обратном по времени порядке с тех дней, когда пациентка слегла в постель и до тех событий, которые послужили поводом для их первого возникновения. Если о них удавалось рассказать, то симптомы исчезали бесследно и навсегда.
Так были «выговорены» контрактуры-парезы и анестезия кожной чувствительности, различного рода расстройства зрения и слуха, невралгии, нервные кашель и дрожь и т. п., а под конец расстройства речи. Последовательно, например, исчезли следующие расстройства зрения: конвергентный страбизм с удвоением предметов; двойное косоглазие вправо: хватающая рука всегда промахивалась, оказываясь левее предмета; сужение поля зрения; центральная амблиопия (понижение остроты зрения без обнаруживаемых объективных изменений в зрительном аппарате); макропсия; видение вместо отца головы мертвеца; невозможность читать. И только к некоторым феноменам, появившимся уже в постельный период, такой подход не срабатывал, например, к распространению контрактуры-пареза на левую сторону; по-видимому, на нем никак не сказались какие-либо психические факторы.
Совершенно безуспешными оказались все попытки ускорить дело посредством попыток напрямую пробудить в воспоминаниях пациентки первый повод для появления симптома. Она не могла его отыскать, впадала в замешательство, и лечение шло даже медленнее, чем в том случае, когда больной позволяли спокойно и безопасно размотать до конца подхваченную ею нить воспоминаний. Лечение посредством вечерних гипнозов происходило слишком медленно из-за того, что пациентка во время процесса «выговаривания» была вынуждена отвлекаться на два других ряда тревожащих ее психических феноменов. Да и сами воспоминания, по-видимому, нуждались в определенном временном периоде, чтобы успевать появляться в первоначальной яркости. Сформировалась следующая процедура лечения. Я заходил к пациентке утром, гипнотизировал ее (опытным путем были найдены очень простые гипнотические техники), а когда она успевала достаточно сконцентрироваться на мыслях об очередном симптоме, спрашивал ее о жизненных обстоятельствах, в которых он появился впервые. В быстрой последовательности посредством небольших ключевых фраз пациентка перечисляла внешние поводы, которые я тут же записывал. А на вечернем гипнозе, опираясь на сделанные мною записи, больная довольно подробно описывала конкретные обстоятельства появления симптома. О том, насколько исчерпывающей была информация, предоставляемая пациенткой, можно судить хотя бы по следующему примеру. Частенько бывало так, что пациентка не слышала, когда к ней обращались. Эту временную «глухоту» можно разделить на следующие группы:
А) незамечание того, что кто-то вошел в комнату; здесь мною подробно зарегистрировано 108 случаев; приведены обстоятельства, лица, а часто и даты; первым в списке упоминается отец;
Б) неспособность разобрать слова, когда несколько человек говорят одновременно; 27 случаев; первые в списке – отец и один из знакомых пациентки;
В) полное погружение в себя, не замечает, что обращаются непосредственно к ней; 50 случаев; самое первое воспоминание этого типа – отец просит ее принести вина;
Г) наступающая из-за тряски (в вагоне и т. п.) глухота; 15 случаев; первый случай в списке – младший брат выследил пациентку, когда она ночью подслушивала у двери в комнату больного отца, брат от негодования стал ее трясти;
Д) временная глухота как реакция на пережитый пациенткой сильный испуг из-за внезапного шороха; 37 случаев; первый случай – приступ удушья у отца, когда он подавился;
Е) глухота, наступающая в состоянии глубокого абсанса; 12 случаев;
Ж) глухота из-за столь упорного и усиленного прислушивания к тому, что говорят, что под конец, когда к ней кто-то обращался, она уже ничего не слышала; 54 случая.
Конечно, эти феномены имеют нечто общее. Их, например, можно свести к проявлению рассеянности в состоянии абсанса или к аффектам испуга (ужаса). Но в воспоминаниях больной эти явления были столь четко разграничены на отдельные категории, что стоило ей сбиться, как у нее возникала потребность заново восстановить нарушенный порядок, иначе работа застревала. Многочисленные незначительные подробности, а также стремление к удивительной точности при их припоминании наводили на подозрение в надуманности. Многое из рассказанного пациенткой невозможно было проверить, так как относилось к субъективным, внутренним переживаниям. А некоторые обстоятельства, с которыми было связано появление симптомов, удалось восстановить с помощью близких людей пациентки.
Ничего нового по сравнению с «выговариванием» симптомов не происходило. Упоминаемое пациенткой психопатологическое явление само начинало отчетливо выступать на передний план. Например, во время анализа эпизодов глухоты у пациентки настолько ухудшался слух, что по временам для продолжения общения с нею мне приходилось прибегать к запискам. И всегда поводом для появления таких эпизодов был какой-либо ужас, пережитый ею во время ухода за отцом, или непростительное упущение, проявленное с ее стороны, и т. п.
Припоминание прежних событий не всегда шло гладко, иногда больной приходилось делать для этого огромные усилия. А однажды так вообще дело застопорилось на длительный период. Одно из воспоминаний никак не желало возникать; оно относилось к пугающей пациентку галлюцинации: вместо привычного образа отца, за которым она ухаживала, она видела голову трупа. Анна О. и близкие ей люди вспомнили, как однажды, когда она еще была совершенно здорова, пациентка решила навестить свою родственницу, открыла двери ее квартиры и тотчас упала в обморок. Чтобы справиться с этим, Анна О. поехала туда еще раз, но, как и прежде, рухнула без сознания на пол, успев переступить только порог комнаты. В вечернем гипнозе было обнаружено и устранено препятствие: входя в комнату родственницы, в стоящем напротив зеркале пациентка увидела свое бледное лицо, и даже не свое, а отца – голову трупа. В работе с Анной О. часто страх перед тем, что воспоминания могут выдать нечто тайное, сдерживал их появление, так что пациентке или врачу приходилось прибегать к дополнительным усилиям.
Убедить в логичности выстроенной пациенткой внутренней психической жизни может среди всего прочего следующее событие. Как уже было замечено, по ночам пациентка неизменно пребывала в «альтернативном сознании», т. е. переносилась в 1881 год. Как-то ночью она проснулась, утверждая, что ее сейчас увезут из дому. Пациентка пришла в неописуемое возбуждение и переполошила весь дом. А причина ее состояния была весьма проста. В предыдущий вечер посредством «talking cure» у пациентки удалось устранить зрительные расстройства (это относилось и к альтернативному сознанию). Проснувшись посреди ночи, пациентка обнаружила себя в незнакомой для нее комнате, так как весной 1881 года семья сменила квартиру. Подобные неприятные переживания устранялись посредством того, что по вечерам (по ее просьбе) я закрывал ей глаза, внушая, что она не сможет их открыть, пока я сам не сделаю этого утром. Подобный переполох в доме повторился еще только один раз, когда пациентка бурно разрыдалась во сне и, проснувшись, открыла глаза.
Так как детальный анализ симптомов приводил к событиям, относящимся к лету 1880 года, когда только-только зарождалось заболевание пациентки, мне удалось получить довольно полное представление об инкубационном периоде и патогенезе описываемого случая истерии, что я и хочу здесь вкратце изложить.
В июне 1880 года, находясь на даче, отец тяжело заболел первичным гнойным плевритом; ухаживали за ним мать и Анна. Однажды ночью пациентка проснулась в большой тревоге и нетерпении из-за ожидавшегося прибытия венского хирурга, который должен был оперировать отца. Мать вышла на некоторое время, и Анна О. осталась одна у постели больного. Пациентка сидела, опираясь правой рукой на подлокотник стула. Анна О. находилась в состоянии грез наяву, она видела, как черная змея со стены приблизилась к больному, чтобы его укусить. (Вполне возможно, что на лугу за домом действительно обитали змеи, которых боялась девушка, теперь эти змеи стали источником переживаемых ею галлюцинаций.) Она хотела защитить от опасности, но была словно парализована; правая рука, свисавшая через подлокотник, «застыла» и онемела, присмотревшись, девушка с ужасом увидела, как ее пальцы превращаются в маленьких змей с головами мертвецов на месте ногтей. Скорее всего, девушка попыталась прогнать змей парализованной правой рукой, потому в ассоциациях онемение и паралич руки совпадают с галлюцинациями о змеях. Когда видение змей исчезло, пациентка, продолжая находиться в состоянии ужаса, захотела помолиться, но язык не слушал ее, она не могла вымолвить ни слова ни на каком языке, пока, наконец, ей не удалось продекламировать английский детский стишок. С тех пор она могла думать и молиться только на этом языке.
Гудок локомотива, привезшего долгожданного врача, прервал суматоху в доме. Когда на следующий день пациентка потянулась, чтобы достать из кустов обруч, случайно попавший туда во время игры, то наклонившаяся ветка опять спровоцировала у пациентки галлюцинацию змей, и тотчас правая рука вытянулась и одеревенела. Подобные происшествия стали теперь повторяться постоянно, как только находился более или менее подходящий объект для провоцирования галлюцинаций, достаточно было лишь отдаленного сходства со змеей. Но подобно контрактуре, возникали они лишь в короткие периоды абсансов, которые становились все более частыми после той злополучной ночи. (Постоянной контрактура руки стала только в декабре, когда полностью обессилевшая пациентка не могла больше покидать постель.) По какой-то причине к контрактуре правой руки присоединилась контрактура правой ноги. Упоминания о причине я не нахожу в своих записях, а о событии, относящемся к новому симптому, я запамятовал.
Теперь у пациентки появилась склонность аутогипнотически впадать в абсансы. На следующий (за ночью ожидания хирурга) день пациентка настолько погрузилась в себя, что уже не слышала того, как в комнате появился врач. Неослабевающее тревожное состояние пациентки создавало помехи для приема пищи, а дополнительно у Анны О. постепенно начало формироваться чувство отвращения к пище. Все конкретные истерические симптомы обычно возникали у нее на фоне переживания сильных эмоций. Появлялись ли они только в состоянии коротких абсансов, прояснить не удалось. Скорее всего, так оно и было, так как в здоровом состоянии пациентка ничего не знала о существовании у себя столь сильных аффектов.
И лишь небольшое количество симптомов, по-видимому, возникло не в момент абсанса, а в бодрствующем состоянии, на пике переживаемого ею аффекта, чтобы позже проявляться в сходных ситуациях. Так, большинство зрительных расстройств объяснялось отдельными, более или менее ясно понятными причинами, например, когда пациентка с глазами, полными слез, сидела у постели больного, тот попросил ее сказать, который час; из-за слез девушка видела все расплывчато, она предпринимала отчаянные попытки получше рассмотреть циферблат, подносила часы вплотную к своим глазам, вот именно тогда и показался ей циферблат ужасно огромным (макропсия и конвергентный страбизм); девушка делала неимоверные усилия, чтобы скрыть от больного слезы.
Одна из ссор, когда пациентке удалось сдержаться, чтобы не ответить обидным словом, вызвала у нее голосовые судороги, которые стали возникать в любой сходной ситуации.
Речь у нее могла пропадать:
а) из-за страха (такое стало появляться после пережитой ночной галлюцинации);
б) после упомянутой ссоры, когда она сдержалась, чтобы не ответить на оскорбление (активное подавление);
в) после того, как она была однажды несправедливо получила выговор;
г) во всех аналогичных ситуациях (обида).
Нервный кашель появился в первый раз тогда, когда во время дежурства у постели больного отца из соседнего дома доносилась танцевальная музыка и естественное желание оказаться там, вызвало у пациентки сильные самообвинения. С тех пор во все время своей болезни пациентка реагировала на любую по-настоящему ритмичную музыку нервным кашлем.
Я не слишком расстроен тем, что некоторые из моих записей из-за недостаточной полноты сведений не позволяют прийти к выводу о том, что весь этот случай заболевания истерией можно полностью свести к реакциям на обстоятельства, в которых впервые возникали симптомы. Почти везде пациентке удавалось обнаружить первичный повод, приводивший к появлению симптома, за исключением того эпизода, о котором упомянуто выше. И каждый симптом после рассказа об обстоятельствах его возникновения бесследно исчезал.
Вот так и было завершено лечение пациентки. Больная сама решила, что в годовщину вынужденного переезда на дачу она должна справиться со своим недугом. Поэтому с начала июня Анна О. предавалась «talking cure»[4] с огромной, всепоглощающей энергией. В последний день лечения с моей помощью пациентка вспомнила о том, что свою комнату она обустроила так, как выглядела комната, где лежал больной отец. Пациентка заново со всей яркостью пережила описанную выше галлюцинацию, столь сильно пугавшую ее и бывшую корнем всего заболевания; под ее воздействием Анна О. могла думать и молиться только по-английски. И сразу же после этого она заговорила на немецком языке, став полностью свободной от бесчисленных симптомов, в таком обилии демонстрируемых ею ранее. На какое-то время Анна О. оставила Вену и отправилась в путешествие, но прошло довольно много времени, прежде чем ей удалось полностью восстановить психическое равновесие. С тех пор она наслаждается абсолютным здоровьем.
Несмотря на то, что я опустил многие не лишенные интереса подробности, история болезни Анны О. оказалась намного пространнее, чем, казалось бы, заслуживает столь необычный случай истерии. Не было иного способа ясно изложить этот клинический случай, как войти в детали истории болезни, без которых теряется все своеобразие описываемого заболевания, именно это и может оправдать меня в глазах читателей за то, что я так долго злоупотреблял их вниманием. Ведь яйца иглокожих не потому имеют столь большое значение для эмбриологических исследований, что морской еж является на редкость интересным животным, а потому, что его протоплазма достаточно прозрачна для того, чтобы проследить в ней многие физиологические процессы и перенести потом соответствующие выводы на яйца, имеющие мутную протоплазму.
Интерес представленного здесь случая истерии состоит прежде всего в его ясности и в понимании патогенеза заболевания.
В качестве предрасполагающих к истерии факторов мы можем отметить существующие у Анны О. два психических качества:
– монотонную жизнь в семье родителей, когда у пациентки отсутствовала возможность заняться активной духовной деятельностью, огромный избыток психической энергии оставался нерастраченным, так что ничего другого не оставалось, как только уйти в непрерывное фантазирование и
– склонность грезить («частный театр»), позволяющая сформироваться диссоциированной (множественной) личности.
Однако и это еще может оставаться в границах нормы; спонтанные мечтания или медитация сами по себе никоим образом не приводят к патологическому расщеплению сознания, так как его можно легко устранить, например, призывая человека собраться, восстанавливая этим единство сознания, да и амнезии в таких случаях практически никогда не бывает. В описываемом нами клиническом случае все обстояло по-другому. Расщепление создало предрасполагающий фундамент, а после того как однажды обычные мечтания приняли форму галлюцинаторного абсанса, получил постоянную прописку аффект тревоги и ожидание несчастья. Обращает на себя внимание то, насколько совершенными в этом первом проявлении зарождающегося заболевания выступают его основные черты, остающиеся затем в течение почти двух лет константными: существование альтернативного сознания, вначале проявлявшегося в виде преходящего абсанса, а позднее формирующегося в альтернативное сознание, исчезновение речи под влиянием переживаемой тревоги с некоторым ослаблением ограничений после того, как на помощь пришел английский детский стишок; последующее появление парафазии и потеря способности владеть немецкой речью, полностью замещенной английским языком; наконец, случайно возникший паралич правой руки, приводящий впоследствии к правосторонней контрактуре – парезу и потере чувствительности. Механизм возникновения последнего расстройства полностью соответствует теории Шарко о травматической истерии, а именно: травматическая истерия является не чем иным, как гипнотическим состоянием, в котором будущий невротик заново воссоздает в облегченной форме пережитую им психическую травму.
Но если при экспериментальном вызывании у больных истерического паралича профессор Шарко тотчас восстанавливал у них прежнее состояние, и у носителей травматического невроза, до глубины души потрясенных ужасной травмой, последний спустя небольшое время спонтанно исчезал, то нервная система нашей юной пациентки еще целых четыре месяца успешно сопротивлялась исцелению. Контрактура, как и другие постепенно добавляющиеся расстройства, появлялась только в короткие промежутки абсансов альтернативного сознания, в здоровом же состоянии пациентка обладала полной властью над своим телом и чувствами, так что ни она сама, ни окружающие ее люди не замечали происходящих в ней изменений и не догадывались о них. Всеобщее внимание полностью сконцентрировалось на заболевшем мужчине (отце), а потому все другое игнорировалось.
Но абсансы, сопровождающиеся полной амнезией и истерическими феноменами, становились все более частыми после первого галлюцинаторного аутогипноза, увеличивалась их длительность и повышалась возможность формирования новых симптомов, а те, что уже были сформированы, в результате учащающихся повторений приобретали еще большую устойчивость. Кроме того, оказалось, что со временем каждый мучающий пациентку аффект начал оказывать действие, подобное абсансу (если последний не возникал одновременно с мучительной эмоцией), случайные совпадения могли приводить к новым патологическим связям, расстройству органов чувств или движений, которые появлялись теперь синхронно с мучительными аффектами. Но до того как пациентка полностью слегла в постель, все продолжалось только какие-то мгновенья, исчезая затем бесследно; несмотря на то, что в то время у Анны О. существовал целый букет истерических феноменов, никто об их существовании не догадывался. Лишь когда больная оказалась полностью сломленной физическим истощением, бессонницей и непрекращающейся ни на миг тревогой, пребывая большую часть времени в состоянии альтернативного сознания, тогда только истерическим феноменам удалось вторгнуться в здоровое психическое состояние пациентки, превращаясь из временных, проявляющихся в форме припадков расстройств в хронические симптомы.
Нам еще нужно прояснить, насколько можно доверять тому, что рассказывала пациентка, действительно ли существовавшие у нее патологические феномены возникали именно в результате тех событий, о которых говорила Анна О. Достоверность сообщаемого ею относительно наиболее значительных и фундаментальных феноменов не вызывала у меня никаких сомнений. Здесь я опираюсь не только на то, что после того, как пациентке удавалось выговориться до конца, симптомы исчезали; такое очень легко можно объяснить действием внушения со стороны врача. Больной девушке всегда была присуща искренность, рассказываемые ею вещи были крепко связаны с тем, что было для нее самым святым; полностью подтверждались все факты, доступные проверке в разговоре с окружающими пациентку лицами. Да и вообще даже самой одаренной девушке наверняка не удалось бы выстроить систему данных, которой была бы присуща столь мощная логика, как это проявлялось в изложенной здесь истории болезни Анны О. Несмотря на это и даже как раз именно в результате существования такой сильной логики возникновению некоторых симптомов были приписаны поводы (причем с самыми лучшими намерениями), которых в действительности не существовало. Но и такой ход вещей я считаю вполне закономерным. Как раз незначительность подобных поводов, их иррациональность оправдывает их существование. Больной было непонятно, почему в ответ на доносящиеся звуки танцевальной музыки она вынуждена была кашлять. Какая-либо произвольно вымышленная конструкция была бы здесь просто бессмысленной. Конечно, мне было легко представить, что укоры совести вызывали у пациентки судороги голосовых связок, а побуждения совершить движения превращали судороги в нервный кашель; так могла реагировать чуть ли не каждая девушка, страстно любящая танцы. Так что, как видит читатель, я считаю рассказы больной совершенно надежными и правдоподобными.
Насколько справедливо предполагать, что и у других больных развитие истерии пойдет аналогичным образом, что подобное будет происходить и там, где нет столь явно выраженной организации «condition seconde»[5]? Я хотел бы обратить внимание читателей на то, что история развития событий, связанных с заболеванием, могла бы остаться неизвестной как самой пациентке, так и врачу, если бы не присущая Анне О. описанная нами ранее способность вспоминать в гипнозе и рассказывать об этом. Причем в обычном здоровом состоянии она ничего подобного припомнить не могла. Так что и у других больных ничего существенного не удастся обнаружить в результате расспросов в бодрствующем сознании. Они не смогут предоставить нам каких-либо ценных сведений даже при наличии у них на то доброй воли. А насколько слепы в этом отношении люди, окружающие невротиков, я уже упоминал выше. Что на самом деле происходит с больными людьми, можно, следовательно, узнать, только применив метод, схожий с аутогипнозом Анны О. Конечно, справедливо было бы предположить, что подобное спонтанное самораскрытие происходит чаще, чем это допускает наше слабое знание патогенных механизмов.
Когда больная слегла в постель, а ее сознание попеременно выбирало между здоровым и альтернативным состоянием, к массе по отдельности возникавших истерических симптомов добавилась еще одна группа патологических феноменов, имеющих, на первый взгляд, другое происхождение: контрактуры —левосторонние параличи конечностей и парезы мышц шеи, управляющих движениями головы. Я выделяю их из всей массы истерических симптомов, так как если от них удавалось избавиться хотя бы один раз, то они уже больше ни разу не появлялись, даже в форме кратковременного эпизода или в какой-либо завуалированной форме; это относится и к заключительной фазе лечения, когда многие другие симптомы вновь ожили после долгой дремоты. Потому-то и рассказы о них ни разу не появились в гипнотических анализах, что происхождение их трудно приписать воздействию аффектов или фантазий пациентки. Я склонен считать, что упомянутая группа двигательных расстройств обязана своим появлением не психическому процессу, вызвавшему остальные психопатологические симптомы, а является вторичным расширением неизвестного пока нам состояния, служащего соматическим фундаментом истерических феноменов.
На протяжении всего болезненного процесса у пациентки бок о бок сосуществовали два состояния сознания: первичное, в котором она была психически совершенно здорова, и «другое», альтернативное, которое мы могли бы приравнять к сновидению на основании разнообразия появляющихся в нем фантастических образов, галлюцинаций, больших провалов памяти при попытках их вспомнить, отсутствию контроля за их течением. В этом втором состоянии сознания пациентка была невменяемой. Теперь я думаю, что это позволяет нам разобраться в сути, по меньшей мере, одного вида истерических психозов и прийти к выводу, что психическое состояние больной вообще зависело от вторжения вторичного сознания в здоровое. Каждый новый сеанс вечернего гипноза приводил к новым доказательствам, что ощущения и желания пациентки были нормальными, а ей самой все было ясно и понятно, если никакой продукт, порожденный вторичным сознанием, не подпитывался энергией бессознательного. Явные психотические проявления, активизирующиеся при каждой большой паузе в процедуре освобождения от страданий, ярко свидетельствуют о том, в какой сильной степени продукты вторичного сознанию влияют на психические процессы здорового состояния. Было очень трудно удерживаться от того, чтобы не принимать больную за расколовшуюся на две части личность, из которых одна была психически здоровой, а другая – душевнобольной. Такое резкое размежевание психических состояний, наблюдавшееся у нашей больной, может хорошо объяснить загадочное поведение многих истериков. В поведении Анны О. поражало то, насколько сильно продукты «дурного “я”», как больная сама называла свое альтернативное сознание, влияли на ее нравственную конституцию. Если бы их не удалось удалить, мы бы имели в Анне О. истеричку самого злокачественного типа, строптивую, ленивую, обозленную, грубую; а после устранения патологических феноменов тотчас стал проявляться ее истинный характер, полностью противоположный характеру, присущему «дурному “я”».
Хотя оба состояния были полностью размежеваны друг с другом, не только вторичное состояние легко вторгалось в нормальное сознание, но хотя бы иногда это происходило и в обратном направлении. Даже в самом тяжелом состоянии в каком-нибудь уголке ее мозга сидел, как выражалась сама пациентка, проницательный и спокойный наблюдатель, рассматривавший весь тот вздор, который порождало ее альтернативное сознание. Такое существование островка ясного мышления во время доминирования психоза довольно примечательно обнаружилось у пациентки во время преходящей депрессии, наступившей после устранения истерических феноменов. Тогда Анна О. среди прочих несущественных опасений и самообвинений высказала мысль, что она вовсе не была больной, что это была всего-навсего симуляция. Нечто подобное пациентка высказывала несколько раз.
Когда после исцеления от страдания оба состояния сознания сливаются в одно целое, уже ретроспективно пациенты начинают рассматривать себя как единую нераздельную личность, которая и раньше в период болезни была хорошо осведомлена о бессмыслице происходящего с ними. Пациенты даже считают, что могли бы самостоятельно справиться со своим страданием, если бы только захотели, т. е., что они намеренно учиняли безобразия. Но не вызывает никакого сомнения то, что логическое мышление в период доминирования альтернативного сознания отличается сильной неустойчивостью, а большей частью так и вообще отсутствует.
Я уже описал чудесное воздействие от предоставления пациентке возможности выговориться в гипнозе, приводящее к полному устранению патологических феноменов альтернативного сознания. К сказанному нечего добавить, разве что уверить читателей, что это не было моим изобретением, оно спонтанно проявилось в реакциях пациентки. Столкнувшись с этим в первый раз, я был просто-таки поражен. Но необходима была еще целая серия спонтанных исчезновений истерических симптомов, прежде чем на основе происходящего я создал терапевтическую технику.
Несколько слов еще заслуживает окончание лечения. Завершающий этап шел описанным выше способом. Явно заметно повысилась тревожность больной, ухудшилось ее психическое состояние. Создавалось впечатление, что огромная масса дремавших ранее продуктов альтернативного сознания с огромной силой вырвалась наружу, заставляя пробуждать о себе воспоминания, хотя опять же вначале это происходило в «condition seconde», тревожа и обременяя здоровое состояние сознания. Неплохо было бы исследовать, не имеют ли и все другие случаи психозов, которыми завершается хроническая истерия, такое же происхождение.
Фрагмент анализа одного случая истерии
Дора [1905]
Предварительные замечания издателей
Издания на немецком языке:
(1901, 24 января: завершение первого варианта под названием «Сновидение и истерия».)
1905 Mschr. Psychiat. Neurol., т. 18 (4 и 5), октябрь и ноябрь, 285–310 и 408–467.
1909 S. K. S. N., т. 2, 1–110. (1912, 2-е изд.; 1921, 3-е изд.)
1924 G. S., т. 8, 1–126.
1932 Vier Krankengeschichten, 5–141.
1942 G. W., т. 5, 161–286.
Опубликованный только в октябре и ноябре 1905 года, этот случай большей частью был описан еще в январе 1901 года, когда Фрейд работал также над последними главами книги «Психопатология обыденной жизни» (1901b). Некоторые указания на это, относящиеся к тому времени, содержатся в его письмах Вильгельму Флиссу (Freud, 1950а).
14 октября 1900 года (письмо 139) Фрейд сообщает Флиссу, что у него есть новый случай «одной восемнадцатилетней девушки». Этой девушкой, очевидно, была «Дора»; как нам известно из описания самого случая, ее лечение завершилось примерно через три месяца, 31 декабря. В следующем месяце Фрейд описал этот случай.
25 января (письмо 140) он пишет: «Вчера закончил “Сновидение и истерию”…» (Таким первоначально было название, как мы знаем из собственного предисловия Фрейда) Он продолжает: «Это – фрагмент анализа истерии, в котором объяснения группируются вокруг двух сновидений, то есть, по существу, это продолжение книги о сновидении». («Толкования сновидений», 1900a.) «Кроме того, в нем пути разрешения истерических симптомов и взгляды на сексуально-органический фундамент целого. И все же это – самое деликатное из того, что я до сих пор написал, и будет отпугивать еще больше обычного. Но ведь исполняют свой долг и пишут не на день. Работа уже принята Циеном…» Циен был одним из издателей «Ежемесячника психиатрии и неврологии», в котором в конечном счете и появилась эта работа. Через несколько дней, 30 января (письмо 141), Фрейд пишет: «Наверное, ты не должен быть разочарован “Сновидением и истерией”. Главное здесь – это по-прежнему психологическое, использование сновидения, некоторые особенности бессознательных мыслей. На органическое имеются лишь намеки, а именно на эрогенные зоны и на бисексуальность. Но, главное – это признано, обозначено и подготовлено для подробного изображения в другой раз. Это истерия с tussis nervosa и афонией, которые можно свести к характеру “сосунка”, а в борющихся между собой мыслительных процессах главную роль играет противоречие между симпатией к мужчине и симпатией к женщине». Эти выдержки свидетельствуют о том, что данная работа образует связующее звено между «Толкованием сновидений» (1900а) и «Тремя очерками по теории сексуальности» (1905d). Она написана с оглядкой на первую и предвосхищает вторую.
Таким образом, хотя Фрейд закончил работу еще в начале 1901 года и, несомненно, намеревался ее незамедлительно опубликовать, по причинам, которые не совсем нам известны, он задержал ее еще на четыре с лишним года. От Эрнеста Джонса (1962, т. II, с. 304–305) мы узнаем, что сначала (еще до того, как ее получил Циен) рукопись была направлена в «Журнал психологии и неврологии», издатель которого, Бродманн, ее, однако, вернул, очевидно, мотивируя это тем, что Фрейд разглашает врачебную тайну. Вполне возможно, что эта точка зрения оказала на Фрейда некоторое влияние, но еще более важную роль, чем соблюдение врачебных конвенций, сыграла его обеспокоенность, что, какой бы маловероятной ни была такая возможность, эта публикация могла навредить пациентке. Собственное отношение Фрейда к этой проблеме становится ясным из его предисловия.
Насколько Фрейд переделал рукопись, прежде чем в 1905 году он отдал ее наконец в печать, мы оценить не можем. Но если судить по внутренней логике текста, то он мог внести лишь незначительные изменения. Последний раздел «Послесловия», без сомнения, был добавлен; по меньшей мере это относится также к некоторым пассажам в «Предисловии» и к отдельным сноскам. Не считая этих небольших дополнений, мы, тем не менее, имеем все основания предположить, что эта работа отражает технические методы и теоретические представления Фрейда в период непосредственно после публикации «Толкования сновидений». Может показаться сомнительным, что его теория сексуальности за много лет до появления «Трех очерков» (1905d), которые, правда, были опубликованы почти одновременно с данной работой, уже достигла столь дифференцированного уровня развития. Однако примечание в конце предисловия недвусмысленно подтверждает этот факт. Кроме того, тот, кто прочел письма Флиссу, знает, что значительная часть этой теории уже существовала гораздо раньше.
Странным образом в своих более поздних работах Фрейд неоднократно неправильно указывает год лечения «Доры»: вместо 1900-го – 1899-й. Эта ошибка также дважды повторяется в 1923 году в примечании, добавленному к данной работе. И тем не менее осень 1900 года – безусловно, верная дата, поскольку, помимо вышеупомянутых доказательств, в конце работы указан 1902 год.
Следующее хронологическое резюме, которое основывается на данных, приведенных при описании случая, должно помочь читателю следовать за событиями, о которых сообщается в истории болезни.
1882 – Год рождения Доры.
1888 (6 лет) – Заболевание отца табесом. Семья переезжает в Б.
1889 (7 лет) – Недержание мочи.
1890 (8 лет) – Одышка.
1892 (10 лет) – Отслоение сетчатки у отца.
1894 (12 лет) – Из-за приступа спутанности отец консультируется у Фрейда. Дора страдает мигренью и нервным кашлем.
1896 (14 лет) – Сцена поцелуя.
1898 (16 лет) – (Раннее лето:) Первый визит Доры к Фрейду. (Конец июня:) Сцена на озере. (Зима:) Смерть тети. Дора в Вене.
1899 (17 лет) – (Март:) Аппендицит. (Осень:) Семья переезжает из Б. в поселок, где расположена фабрика.
1900 (18 лет) – Переезд семьи в Вену. Угроза самоубийства. (С октября по декабрь:) Лечение у Фрейда.
1901 – (Январь:) Описание случая.
1902 – (Апрель:) Последний визит Доры к Фрейду.
1905 – Публикация случая.
Предисловие
Решившись все же после долгой паузы подкрепить выдвинутые мною в 1895 и 1896[6] годах утверждения о патогенезе истерических симптомов и о психических процессах при истерии подробным изложением истории болезни и лечения, я не могу обойтись без этого предисловия, которое, с одной стороны, должно в разных отношениях оправдать мои действия, а с другой стороны, несколько умерить ожидания, которые они вызывают.
Разумеется, публиковать результаты исследования, причем неожиданные и вызывающие недоверие, перепроверка которых со стороны коллег неизбежно ничего бы не дала, было рискованно. Но не меньше риска теперь, когда я делаю доступной для всеобщего обозрения часть материала, из которого я получил те результаты. В любом случае мне не избежать упрека. Если тогда он гласил, что я ничего не сообщаю о моих больных, то теперь он будет гласить, что я рассказываю о моих больных то, чего сообщать не следует. Надеюсь, что теми, кто таким способом сменит предлог для своего упрека, окажутся те же самые люди, и, капитулируя перед этими критиками, заранее признаю, что никогда не смогу избежать их упрека.
Публикация моих историй болезни остается для меня трудноразрешимой задачей, даже если я больше уже не огорчаюсь из-за этих неразумных недоброжелателей. Отчасти эти трудности имеют технический характер, отчасти они проистекают из сущности самих условий. Если верно, что причину истерических заболеваний следует искать в интимных подробностях психосексуальной жизни больных и что истерические симптомы являются выражением их самых сокровенных вытесненных желаний, то прояснение какого-либо случая истерии не может быть ничем иным, как раскрытием этих интимных подробностей и разгадкой этих тайн. Несомненно, больные никогда бы ничего не сказали, если бы им пришло в голову, что существует возможность научной оценки их признаний, и точно так же несомненно, что было бы совершенно бесполезно просить у них самих позволения на публикацию. Деликатные, пожалуй, также осторожные люди при таких обстоятельствах поставили бы на передний план долг врача хранить тайну и сожалели бы, что не могут здесь ничем послужить науке. Однако я думаю, что врач берет на себя обязательства не только перед отдельными больными, но и перед наукой. Перед наукой, в сущности, означает не что иное, как перед многими другими больными, которые страдают или еще будут страдать от подобного. Публичное сообщение о том, что, как думается, известно о причине и механизме истерии, становится обязанностью, а упущение – постыдной трусостью, если только при этом можно избежать непосредственного нанесения личного вреда больному. Я думаю, что сделал все для того, чтобы исключить нанесения такого вреда моей пациентке. Мною выбран человек, судьба которого складывалась не в Вене, а в небольшом городке, расположенном на отдалении, то есть чьи личные отношения должны были быть в Вене неизвестны; с самого начала я так тщательно оберегал тайну лечения, что только один-единственный достойный всякого доверия коллега[7] мог знать о том, что девушка была моей пациенткой. После завершения лечения я еще четыре года не спешил с публикацией, пока не услышал об одной перемене в жизни пациентки, которая позволила мне предположить, что ее собственный интерес к рассказываемым здесь событиям и душевным процессам теперь мог поблекнуть. Само собой разумеется, не осталось ни одного имени, которое могло бы навести на след кого-либо из читателей, не принадлежащих к медицинскому кругу; впрочем, публикация в строго научном журнале для специалистов должна быть защитой от такого некомпетентного читателя. Естественно, я не могу воспрепятствовать тому, чтобы сама пациентка не испытала неприятного чувства, если по случайности ей попадет в руки собственная история болезни. Но она не узнает из нее ничего, что она бы уже не знала, и, возможно, задаст себе вопрос, кто другой может узнать из нее, что речь идет о ее персоне.
Я знаю, что – по крайней мере, в этом городе – имеется немало врачей, которые – и это весьма отвратительно – захотят прочесть такую историю болезни не в качестве вклада в исследование психопатологии неврозов, а как предназначенный для их увеселения роман, в котором изображены фактические события и лишь изменены имена героев. Читателей этого рода я заверяю, что все мои истории болезни, которые будут сообщены несколько позже, будут защищены от их проницательности такими же гарантиями тайны, хотя из-за такого намерения мне придется чрезвычайно ограничить материал, имеющийся в моем распоряжении.
В этой истории болезни, в которую я внес ограничения, связанные с врачебным тактом и неблагоприятным стечением обстоятельств, со всей откровенностью обсуждаются сексуальные отношения, своими настоящими именами называются органы и функции половой жизни, и целомудренный читатель, основываясь на моем изложении, может прийти к убеждению, что я не побоялся на таком языке беседовать на эту тему с юной персоной женского пола. Наверное, я должен теперь защититься и от такого упрека? Я просто обращусь к правам гинеколога – или, скорее, к гораздо более скромному, чем эти права – и объясню это проявлением извращенной и своеобразной похотливости, если кому-то захочется предположить, что такие разговоры – хорошее средство для возбуждения или удовлетворения сексуального вожделения. Впрочем, я испытываю желание выразить свое мнение об этом несколькими заимствованными словами.
«Печально, что таким возражениям и заверениям приходится отводить место в научном труде, но не упрекайте меня за это, а вините дух времени, из-за которого мы благополучно дошли до того, что ни одна серьезная книга уже не отвечает жизни»[8].
Теперь я поделюсь, каким образом в этой истории болезни я преодолел технические трудности, связанные с представлением сообщения. Эти трудности весьма значительны для врача, который вынужден проводить шесть или восемь таких психотерапевтических лечений ежедневно и во время сеанса с больным не может даже делать записей, чтобы этим не пробудить недоверие больного и не помешать себе в осмыслении воспринимаемого материала. Для меня также остается нерешенной проблемой то, каким образом я мог бы фиксировать для сообщения историю лечения, продолжавшегося долгое время. В представленном здесь случае мне пришли на помощь два обстоятельства: во-первых, то, что продолжительность лечения не превышала трех месяцев, во-вторых, то, что объяснения сгруппировались вокруг двух – рассказанных в середине и в конце лечения – сновидений, дословный текст которых записывался непосредственно после сеанса и которые оказались надежной опорой для последующего переплетения толкований и воспоминаний. Саму историю болезни я записал по памяти только после завершения лечения, пока мое воспоминание еще было свежим, а из-за интереса к публикации – обостренным[9]. Таким образом, эта запись не верна абсолютно, то есть фонографически, но она может претендовать на высокую степень достоверности. Ничего существенного в ней не изменено за исключением последовательности объяснений в некоторых местах, что сделано мною ради связности.
Теперь я отмечу то, что можно найти в этом сообщении и чего в нем недостает. Первоначально работа имела название «Сновидение и истерия», поскольку она казалась мне особенно пригодной для демонстрации того, каким образом толкование сновидений вплетается в историю лечения и как с его помощью можно добиться восполнения амнезий и объяснения симптомов. Задуманным мною публикациям по психологии неврозов я не без оснований предпослал в 1900 году кропотливый и глубокий научный трактат о сновидении[10], однако также и в том, как его приняли, можно увидеть, с каким все еще недостаточным пониманием коллеги относятся к подобным усилиям в настоящее время. В этом случае упрек, что мои положения из-за скудности материала не позволяют прийти к убеждению, основанному на повторной проверке, также был безосновательным, ибо каждый может привлечь для аналитического исследования свои собственные сновидения, а технику толкования снов легко изучить благодаря мною данным указаниям и примерам. Сегодня, как и тогда[11], я вынужден утверждать, что неизбежной предпосылкой понимания психических процессов при истерии и других психоневрозах является углубление в проблемы сновидения и что ни у кого нет шансов продвинуться в этой области даже на несколько шагов, если он хочет избавить себя от такой подготовительной работы. Таким образом, поскольку эта истории болезни предполагает знание толкования сновидений, ее чтение окажется чрезвычайно неудовлетворительным для каждого, кто не отвечает этому предварительному условию. Он будет лишь изумлен вместо того, чтобы найти в ней искомое объяснение, и, несомненно, будет склонен проецировать причину этого изумления на автора, объявляемого фантазером. В действительности такое изумление связано с проявлениями самого невроза; оно скрыто от нас лишь нашей врачебной привычкой и вновь обнаруживает себя при попытке объяснения. Полностью его устранить можно было бы только в том случае, если бы удалось всецело вывести невроз из обстоятельств, которые нам уже стали известны. Но все говорит о том, что в результате изучения невроза мы, напротив, испытаем импульс допустить много нового, которое затем постепенно может стать предметом надежных знаний. Новое же всегда вызывало изумление и сопротивление.
Ошибкой было бы думать, что сновидения и их толкование во всех психоанализах занимают такое же исключительное место, как в этом примере.
Если данная история болезни выглядит предпочтительной с точки зрения использования сновидений, то в других пунктах она оказалась более скудной, чем мне бы этого хотелось. Но ее недостатки связаны как раз с теми условиями, которым она обязана возможностью своей публикации. Я уже говорил, что не сумел бы справиться с материалом истории лечения, которая тянется более года. Эту же всего лишь трехмесячную историю можно окинуть взглядом и вспомнить; но ее результаты остались неполными в нескольких отношениях. Лечение не было доведено до поставленной цели, а прервалось по желанию пациентки, когда был достигнут определенный пункт. К этому времени за некоторые загадки заболевания мы еще совсем не брались, другие прояснили только не полностью, тогда как продолжение работы, несомненно, позволило бы продвинуться по всем пунктам вплоть до последнего возможного объяснения. Поэтому я могу здесь предложить только фрагмент анализа.
Быть может, читатель, знакомый с техникой анализа, изложенной в «Этюдах об истерии» [1895d], удивится тому, что за три месяца не нашлось возможности довести до их полного разрешения хотя бы те симптомы, за устранение которых мы взялись. Но это станет понятным, если я сообщу, что со времени «Этюдов» психоаналитическая техника коренным образом изменилась. В то время в своей работе мы исходили из симптомов и ставили целью их последовательное устранение. С тех пор я отказался от этой техники, поскольку счел ее совершенно не отвечающей более тонкой структуре неврозов. Теперь я позволяю самому больному определять тему ежедневной работы и, следовательно, исхожу из соответствующей поверхности, которая привлекает его внимание к бессознательному. Но тогда то, что связано с устранением симптома, я получаю разделенным на части, вплетенным в различные взаимосвязи и распределенным на периоды времени, отстоящие далеко друг от друга. Несмотря на этот кажущийся недостаток, новая техника во многом превосходит старую и, безусловно, является единственно возможной.
Ввиду неполноты моих аналитических результатов мне не оставалось ничего другого, как последовать примеру тех исследователей, которым посчастливилось из вековых захоронений извлечь на свет дня бесценные, хотя и искалеченные, остатки древности. Я дополнил незавершенное по лучшим образцам, известным мне их других анализов, но, подобно добросовестному археологу, я не упускал случая показать, где моя конструкция смыкается с достоверным.
Неполноту другого рода я преднамеренно создал сам. То есть работу по толкованию, которую нужно было произвести с мыслями и сообщениями больной, в целом я не представил, а изложил только ее результаты. Таким образом, техника аналитической работы, если не считать толкования сновидений, была раскрыта лишь в немногих местах. В данной истории болезни я хотел показать детерминацию симптомов и внутреннее строение невротического заболевания; если бы я одновременно попытался выполнить и другие задачи, то это лишь создало бы неустранимую путаницу. Для обоснования технических, большей частью эмпирически найденных правил, пожалуй, нужно было бы собрать материал из нескольких историй лечения. Между тем сокращение, связанное с сокрытием техники, в данном случае можно считать не очень значительным. Как раз о самой трудной части технической работы с этой больной вопрос не стоял, поскольку момент «переноса», о котором идет речь в конце истории болезни, во время короткого лечения не затрагивался.
За третьего рода неполноту данного сообщения не несут ответственности ни больная, ни автор. Напротив, само собой разумеется, что одна-единственная история болезни, даже если бы она была завершена и не вызывала никаких сомнений, не может дать ответа на все вопросы, возникающие в связи с проблемой истерии. Она не может познакомить со всеми типами заболевания, всеми формами внутренней структуры невроза, всеми возможными при истерии видами взаимосвязи между психическим и соматическим. По справедливости от одного случая и нельзя требовать большего, чем он в состоянии дать. Также и тот, кто до сих пор не желал верить во всеобщую и не знающую исключений психосексуальную этиологию истерии, едва ли приобретет это убеждение, ознакомившись с одной историей болезни. В лучшем случае он отложит свое суждение до тех пор, пока собственной работой не обретет право на убеждение[12].
I
Болезненное состояние
После того как в моей опубликованной в 1900 году книге «Толкование сновидений» я доказал, что сновидения в целом доступны истолкованию и что после завершенной работы по толкованию они могут заменяться безупречно оформленными мыслями, вводимыми в известных местах в душевную взаимосвязь, я хотел бы на последующих страницах привести пример того единственного практического применения, которое, по-видимому, допускает искусство толкования снов. В моей книге[13] я уже упоминал, каким образом я вышел на проблему сновидений. Я обнаружил ее на своем пути, когда пытался лечить психоневрозы с помощью особого метода психотерапии, в котором больные среди прочих событий из их душевной жизни сообщали мне сновидения, по-видимому, стремившиеся к включению в давно созданную взаимосвязь между симптомом недуга и патогенной идеей. Тогда я и научился тому, как нужно переводить язык сновидения на понятный безо всякого дальнейшего содействия способ выражения, присущий языку нашего мышления. Это знание – смею утверждать – необходимо для психоаналитика, ибо сновидение представляет собой один из путей, по которым может достигнуть сознания тот психический материал, который в силу противодействия, вызываемого его содержанием, изолировался от сознания, вытеснился и тем самым стал патогенным. Короче говоря, сновидение – это один из окольных путей для обхода вытеснения, одно из основных средств так называемого косвенного способа выражения в психике. То, каким образом толкование сновидений вмешивается в работу анализа, должен теперь показать данный фрагмент из истории лечения одной истерической девушки. Одновременно он должен дать мне возможность впервые публично представить часть моих взглядов на психические процессы и органические условия истерии с уже не вызывающей недоразумений обстоятельностью. Пожалуй, мне не нужно больше извиняться за такую обстоятельность, с тех пор как признается, что за огромными требованиями, которые истерия предъявляет врачу и исследователю, можно угнаться лишь путем самого заинтересованного углубления в проблему, но не самонадеянного пренебрежения к ней. Разумеется:
- Здесь мало знанья и уменья —
- Здесь ты не обойдешься без терпенья[14]
Предпосылать не имеющую пробелов и завершенную историю болезни означало бы заранее помещать читателя в совершенно иные условия, чем те, в которых находился наблюдающий врач. То, что сообщают родственники больного – в данном случае отец 18-летней девушки, – чаще всего представляет собой весьма непонятную картину течения болезни. Хотя я затем начинаю лечение с просьбы рассказать мне всю историю болезни и жизни, то, что я слышу в ответ, по-прежнему еще недостаточно для ориентации. Этот первый рассказ можно сравнить с несудоходной рекой, русло которой то уложено грудами скал, то разделено песчаными отмелями и становится неглубоким. Я могу лишь удивляться тому, как у некоторых авторов появляются гладкие и точные истории болезней истериков. В действительности больные не способны давать о себе подобные сведения. Правда, они могут в достаточной мере и связно информировать врача о том или ином времени жизни, но затем наступает другой период, когда их сведения становятся поверхностными и оставляют пробелы и загадки, а в другой раз снова сталкиваешься с совершенно темными отрезками времени, которые нельзя прояснить никаким пригодным сообщением. Взаимосвязи, также и мнимые, большей частью разорваны, последовательность различных событий неопределенна; во время самого рассказа больной по нескольку раз корректирует сведения, дату, чтобы затем после долгих колебаний вернуться, к примеру, к первому высказыванию. Неспособность больных к упорядоченному изложению своих биографий, если они совпадают с историями болезни, не только характерна для невроза[15] – она не лишена также и большого теоретического значения. Этот недостаток имеет, собственно, следующие обоснования. Во-первых, больная сознательно и намеренно скрывает часть того, что ей хорошо известно и что она должна была рассказать, по не преодоленным еще мотивам робости и стыда (такта, если затрагиваются другие люди); это – компонент сознательной неискренности. Во-вторых, часть ее анамнестических сведений, которыми больная обычно располагает, пропускается во время этого рассказа безо всякого сознательного умысла; это – компонент бессознательной неискренности. В-третьих, всегда имеются действительные амнезии, провалы памяти, в которые попали не только старые, но и даже совсем свежие воспоминания, и ложные воспоминания, которые вторично образовались для заполнения этих пробелов[16]. Там, где сами события сохранились в памяти, намерение, лежащее в основе амнезии, столь же надежно достигается посредством устранения взаимосвязи, а взаимосвязь надежнее всего разрывается, когда меняется хронологический порядок событий. Последний всегда также оказывается и самой уязвимой, чаще всего подвергающейся вытеснению составной частью в кладовой памяти. Некоторые воспоминания находятся, так сказать, в первой стадии вытеснения, они проявляются обремененные сомнением. Через какое-то время это сомнение заменилось бы забыванием или ложным воспоминанием[17].
Такое состояние воспоминаний, относящихся к истории болезни, является неизбежным, теоретически предполагаемым коррелятом симптомов болезни. Затем в ходе лечения больной возмещает то, что он скрывал или что ему не приходило на ум, хотя он всегда знал об этом. Ложные воспоминания оказываются непрочными, пробелы в воспоминании заполняются. Только в конце лечения можно окинуть взглядом последовательную, понятную и лишенную пропусков историю болезни. Если практическая цель лечения состоит в том, чтобы устранить всевозможные симптомы и заменить их осознанными мыслями, то в качестве другой, теоретической, цели можно поставить задачу излечить больного от всех нарушений памяти. Обе цели совпадают; если достигнута одна, то достигается и другая; один и тот же путь ведет к ним обеим.
Из природы вещей, которые образуют материал психоанализа, следует, что в наших историях болезней мы должны уделять такое же внимание чисто человеческим и социальным отношениям больных, как и соматическим данным и симптомам болезни. Прежде всего наш интерес обращается к семейным отношениям больных, а также, как это будет показано, к другим отношениям, если только они связаны с исследуемой наследственностью.
Семейный круг 18-летней пациентки, помимо самой ее, охватывал родителей и старшего на полтора года брата. Главной фигурой в семье был отец – благодаря как своему интеллекту и свойствам характера, так и условиям его жизни, которые послужили остовом для истории детства и болезни пациентки. В то время, когда я приступил к лечению девушки, это был зажиточный крупный промышленник, мужчина в возрасте около пятидесяти лет, обладавший незаурядными способностями и энергией. Дочь была нежно к нему привязана, а из-за рано пробудившейся у нее критики тем более была шокирована некоторыми его поступками и особенностями характера.
Кроме того, эта нежность усиливалась из-за многочисленных тяжелых заболеваний, которым был подвержен отец с тех пор, как пошел шестой год ее жизни. В то время его заболевание туберкулезом стало поводом к переезду семьи в небольшой, климатически более благоприятный город в одной из наших южных провинций; легочная болезнь тут же пошла на убыль, но из-за необходимой предосторожности этот городок, который я буду называть Б., в последующие приблизительно десять лет оставался основным местом проживания как родителей, так и детей. Отец, когда чувствовал себя хорошо, иногда уезжал, чтобы посетить свои фабрики; в середине лета подыскивался высокогорный курорт.
Когда девочке было лет десять, из-за отслоения сетчатки отцу понадобилось лечение темнотой. Следствием этого случая болезни стало непреходящее ограничение поля зрения. Самое серьезное заболевание случилось примерно два года спустя; оно состояло в приступе спутанности, к которому добавились проявления паралича и легкие психические расстройства. Один из друзей больного, роль которого еще будет нас занимать позднее, побудил тогда едва поправившегося отца поехать вместе со своим врачом в Вену, чтобы проконсультироваться у меня. Некоторое время я колебался, не следовало ли мне допустить у него табетический паралич, но затем решился поставить диагноз диффузного сосудистого поражения, и после того, как больной признался в том, что заразился специфической инфекцией до брака, предпринял энергичное противосифилитическое лечение, в результате которого все сохранившиеся нарушения были устранены. Пожалуй, этому удачному вмешательству я обязан тем, что четырьмя годами позднее отец представил мне свою дочь, ставшую явно невротичной, а еще через два года направил ее ко мне для психотерапевтического лечения.
Между тем я также познакомился в Вене со старшей сестрой пациента, у которой пришлось признать тяжелую форму психоневроза без характерных истерических симптомов. Эта женщина умерла от не совсем ясных проявлений быстро прогрессирующего маразма, прожив жизнь в несчастливом браке.
Старший брат пациента, которого мне иногда доводилось видеть, был ипохондрическим по складу характера холостяком.
Девушка, ставшая в восемнадцать лет моей пациенткой, с давних времен своими симпатиями была на стороне семейства отца и с тех пор, как заболела сама, видела образец для себя в упомянутой тете. Для меня также было несомненно, что как по своей одаренности и раннему интеллектуальному развитию, так и по болезненной предрасположенности она принадлежала этому семейству. С матерью я не познакомился. По сведениям, полученным от отца и девушки, у меня создалось впечатление, что она была малообразованной, но – главное – неумной женщиной, которая, особенно после заболевания и последующего отчуждения своего мужа, сосредоточила все свои интересы на домашнем хозяйстве и, таким образом, представляла собой картину того, что можно назвать «психозом домохозяйки». Нисколько не понимая живых интересов своих детей, она все дни напролет занималась уборкой и поддержанием в чистоте квартиры, мебели и приборов, из-за чего использовать их и получать от этого удовольствие было практически невозможно. Нельзя не заметить, что это состояние, признаки которого довольно часто встречаются у обычных домохозяек, напоминает формы навязчивого умывания и других видов навязчивости, связанной с чистоплотностью; однако у таких женщин, как и у матери нашей пациентки, полностью отсутствует сознание болезни и, таким образом, важный признак «невроза навязчивости». Отношения между матерью и дочерью уже много лет были очень недружелюбными. Дочь не замечала матери, резко критиковала ее и полностью избегала ее влияния[18].
Единственный, старший на полтора года брат девушки в ранние годы был для нее образцом, на который были устремлены ее честолюбивые помыслы. Отношения между братом и сестрой в последние годы охладели. Молодой человек пытался по возможности избегать семейных неурядиц; если же ему приходилось за кого-либо заступаться, то он вставал на сторону матери. Таким образом, обычная сексуальная притягательность отца и дочери, с одной стороны, матери и сына – с другой, сближала их еще больше.
Наша пациентка, которую впредь я буду называть Дорой, уже в возрасте восьми лет обнаружила нервные симптомы. Она стала страдать непрерывной, приступообразно усиливавшейся одышкой, которая впервые возникла после небольшой горной прогулки и поэтому была отнесена на счет переутомления. Это состояние в течение полугода постепенно прошло благодаря рекомендованному ей покою и щадящему режиму. Домашний врач, по-видимому, нисколько не сомневался в диагнозе чисто нервного расстройства и исключении органических причин диспноэ, но, очевидно, считал такой диагноз совместимым с этиологическим моментом переутомления[19].
Малышка перенесла обычные детские инфекционные болезни без каких-либо осложнений. Как она (с символизирующим намерением!) рассказала, сначала обычно заболевал ее брат, болезнь которого протекала легко, после чего следовало ее заболевание с тяжелыми проявлениями. В двенадцатилетнем возрасте у нее возникли похожие на мигрень, односторонние головные боли и приступы нервного кашля, вначале проявлявшиеся одновременно, пока оба симптома не разделились и не претерпели разное развитие. Мигрени стали более редкими и в шестнадцать лет исчезли полностью. Приступы tussis nervosa[20], которым, по-видимому, дал толчок обычный катар, сохранялись все время. Когда в восемнадцать лет Дора пришла лечиться ко мне, она все последнее время характерным образом кашляла. Число этих приступов нельзя было установить, продолжительность их составляла от трех до пяти недель, однажды даже несколько месяцев. В первой половине такого приступа – во всяком случае в последние годы – наиболее тягостным симптомом было полное отсутствие голоса. Диагноз – в том смысле, что речь снова шла о нервозности – был давно установлен; разнообразные распространенные виды лечения, в том числе гидротерапия и локальная электризация, оставались безуспешными. Ребенок, выросший в таких условиях, превратился в зрелую, очень самостоятельную в суждениях девушку, привыкшую поднимать на смех усилия врачей и в конце концов отказавшуюся от врачебной помощи. Впрочем, она уже с давних пор противилась обращаться за советом к врачу, хотя к персоне их домашнего доктора не испытывала никакой антипатии. Всякое предложение проконсультироваться у нового врача вызывало ее сопротивление, и ко мне ее заставило прийти только властное слово отца.
Впервые я увидел ее в шестнадцать лет в начале лета, обремененную кашлем и хрипотой, и уже тогда предложил психическое лечение, от которого затем отказались, когда и этот несколько дольше затянувшийся приступ также спонтанно прошел. Зимой следующего года после смерти своей любимой тети она жила в Вене в доме дяди и его дочери и заболела лихорадкой; это болезненное состояние было диагностировано тогда как воспаление слепой кишки[21]. Этой же осенью вся их семья окончательно покинула курорт Б., поскольку, по всей видимости, это позволяло здоровье отца; вначале она переехала в городок, где находилась фабрика отца, а годом позже надолго поселилась в Вене.
Тем временем Дора превратилась в цветущую девушку с интеллигентными и приятными чертами лица, доставлявшую, однако, своим родителям много хлопот. Главной особенностью ее болезни стали дурное настроение и изменение характера. Она явно была недовольна ни собой, ни близкими, недружелюбно обращалась с отцом и совсем не выносила матери, которая хотела во что бы то ни стало привлечь ее к домашним делам. Она старалась избегать общения; насколько это могли позволить усталость и рассеянность, на которые она жаловалась, Дора слушала лекции для дам и занималась более серьезной учебой. Однажды родители были повергнуты в ужас письмом, найденном на письменном столе (или в столе) девушки, в котором она прощалась с ними, потому что не могла больше выносить такой жизни[22]. Хотя благодаря своей немалой проницательности отец сумел догадаться, что девушкой не завладело серьезное намерение совершить самоубийство, он все же был потрясен, и когда однажды после незначительной перепалки между отцом и дочерью у последней случился первый приступ с потерей сознания[23], о котором она затем не помнила, было решено, несмотря на ее сопротивление, направить ее ко мне на лечение.
История болезни, которую я до сих пор описывал, наверное, в целом кажется не заслуживающей сообщения. «Petite hystérie»[24] вместе с самыми обыденными соматическими и психическими симптомами: диспноэ, tussis nervosa, афония, ну, может быть, еще мигрени, кроме того, дурное настроение, истерическая неуживчивость и, вероятно, не задуманное всерьез taedium vitae[25]. Несомненно, были опубликованы более интересные истории болезни истериков и очень часто более тщательно записанные, ибо также никаких стигм кожной чувствительности, ограничений поля зрения и тому подобного в продолжении не обнаружится. Я только позволю себе замечание, что все эти коллекции редких и удивительных феноменов при истерии не многим способствовали познанию этого по-прежнему загадочного заболевания. Что нам требуется, так это как раз объяснение самых обычных случаев и типичных, чаще всего встречающихся их симптомов. Я был бы удовлетворен, если бы обстоятельства позволили мне на этом примере малой истерии дать им полное объяснение. Исходя из своего опыта лечения других больных я не сомневаюсь в том, что моих аналитических средств для этого было бы достаточно.
В 1896 году, вскоре после публикации моих с доктором Й. Брейером «Этюдов об истерии» [1895d], я спросил мнение одного выдающегося коллеги о представленной в них психологической теории истерии. Он ответил без обиняков, что считает ее неправомерным обобщением выводов, которые могут быть справедливы только в отношении отдельных немногочисленных случаев. С тех пор я наблюдал многие случаи истерии, каждым из них занимался днями, неделями или годами и ни разу не было так, чтобы в них отсутствовали те психические условия, которые постулированы в «Этюдах»: психическая травма, конфликт аффектов и, как я добавил в последующих публикациях, влияние сексуальной сферы. Конечно, когда речь идет о вещах, ставших патогенными из-за их стремления к сокрытию, нельзя ожидать, что больные откроют их врачу, или довольствоваться первым «Нет», которое противопоставляется исследованию[26].
В работе с моей пациенткой Дорой я был благодарен уже не раз упоминавшейся проницательности отца за то, что мне не требовалось самому искать связь заболевания с жизненными событиями, во всяком случае, если говорить о последнем проявлении болезни. Отец рассказал мне, что он, как и его семья, в городе Б. тесно сблизился с одной супружеской парой, которая проживала там уже несколько лет. Госпожа К. заботилась об отце во время его тяжелой болезни и этим завоевала непреходящее право на его благодарность. Господин К. всегда был очень любезен с его дочерью Дорой, совершал с ней прогулки, когда бывал в Б., делал ей небольшие подарки, но никто не находил в этом чего-то дурного. Дора самым заботливым образом ухаживала за двумя маленькими детьми супружеской пары К., словно заменяя им мать. Когда отец и дочь посетили меня летом два года назад, они как раз собирались в поездку к господину и госпоже К., которые проводили летний отпуск на одном из наших альпийских озер. Дора должна была пару недель погостить в доме К., а отец хотел через несколько дней вернуться. В эти дни господин К. тоже присутствовал. Но когда отец готовился к отъезду, девушка вдруг с необычайной решимостью заявила, что поедет с ним, и действительно настояла на своем. Только через несколько дней она дала объяснение своему странному поведению, рассказав матери, чтобы заручиться дальнейшей поддержкой отца, что господин К. на одной из прогулок по озеру осмелился сделать ей любовное предложение. Обвиняемый, у которого при следующей встрече отец и дядя потребовали объяснений, самым убедительным образом отрицал какие-либо поступки со своей стороны, заслуживавшие такого истолкования, и начал подозревать девушку, которая, по рассказам госпожи К., проявляла интерес лишь к литературе по вопросам секса и даже читала в их доме на озере «Физиологию любви» Мантегаццы и подобные книги. Вероятно, разгоряченная таким чтением, она «вообразила» себе всю эту сцену, о которой рассказывает.
«Я не сомневаюсь, – сказал отец, – что в этом происшествии повинно дурное настроение Доры, ее раздражение и мысли о самоубийстве. Она требует от меня, чтобы я прекратил общение с господином и особенно с госпожой К., которых она раньше прямо-таки почитала. Но я не могу этого сделать, ибо, во-первых, сам считаю рассказ Доры о безнравственном предложении мужчины фантазией, которая у нее возникла, во-вторых, я связан с госпожой К. искренней дружбой и не хочу ее огорчать. Бедная женщина очень несчастлива со своим мужем, о котором, впрочем, я не лучшего мнения; она сама была очень нервной и видит во мне единственную опору. При моем состоянии здоровья мне, пожалуй, не нужно вас уверять, что за этими отношениями ничего недозволенного не скрывается. Мы два несчастных человека, которые, насколько это возможно, утешают друг друга дружеским участием. О том, что к своей собственной жене я ничего не испытываю, вам известно. Но Дору, которая такая же упрямая, как и я, заставить отказаться от своей ненависти к К. невозможно. Ее последний приступ случился после разговора, в котором она снова выдвинула мне то же самое требование. Попытайтесь теперь вы наставить ее на путь истинный».
Этим откровениям не совсем соответствовало то, что в других высказываниях отец пытался переложить главную вину на нетерпимость своей дочери к матери, особенности характера которой внушали отвращение ко всему дому. Но я уже давно решил отложить вынесение своего суждения о действительном положении вещей до тех пор, пока не услышу также другую сторону.
Таким образом, в переживании, связанном с господином К., – в любовном ухаживании и последующем оскорблении чести – для нашей пациентки Доры заключалась психическая травма, которую в свое время Брейер и я выдвинули в качестве непременного предварительного условия для возникновения истерического болезненного состояния[27]. Но этот новый случай демонстрирует также все трудности, которые с тех пор побудили меня выйти за эту теорию[28], увеличившиеся новой трудностью особого рода. Собственно говоря, известная нам психическая травма в истории жизни, столь часто встречающаяся в историях болезни истериков, не годится для объяснения своеобразия симптомов, их детерминации; мы столь же много или столь же мало узнали бы о взаимосвязи, если бы следствием травмы были другие симптомы, а не tussis nervosa, нервный кашель, афония и taedium vitae. Но теперь добавляется, что часть этих симптомов – кашель и отсутствие голоса – была продуцирована больной уже за несколько лет до травмы и что первые проявления вообще относятся к детству, поскольку приходятся на восьмой год жизни. Таким образом мы должны, если не хотим отказаться от теории травмы, вернуться в детство, чтобы отыскать там влияния или впечатления, которые могут действовать аналогично травме, и весьма примечательно то, что к прослеживанию истории жизни вплоть до первых детских лет побудило меня изучение случаев, где первые симптомы возникли уже не в детстве[29].
После того как были преодолены первые трудности лечения, Дора рассказала мне о более раннем переживании, связанном с господином К., которое даже еще лучше подходило для того, чтобы воздействовать в качестве сексуальной травмы. Тогда ей было четырнадцать лет. Господин К. договорился с ней и своей женой, что после обеда дамы придут в его магазин на центральной площади Б., чтобы оттуда наблюдать церковное празднество. Однако он уговорил свою жену остаться дома, отпустил приказчиков и, когда девочка вошла в магазин, был там один. Когда подошло время церковной процессии, он попросил девушку подождать его у дверей, которые вели из магазина к лестнице на верхний этаж, пока он опустит роликовые жалюзи. Затем он вернулся и вместо того, чтобы выйти в открытую дверь, внезапно прижал девочку к себе и запечатлел поцелуй на ее губах. Пожалуй, это была ситуация, способная вызвать у 14-летней нетронутой девочки отчетливое ощущение сексуального возбуждения. Но Дора ощутила в этот момент сильнейшую тошноту, вырвалась и, минуя мужчину, помчалась к лестнице и оттуда к двери дома. Тем не менее общение с господином К. продолжалось; никто из них ни разу не упомянул об этом небольшом инциденте, и она сохраняла его в тайне вплоть до исповеди на лечении. Впрочем, в дальнейшем она избегала всякой возможности оставаться с господином К. наедине. В то время супруги К. договорились совершить многодневную прогулку, в которой должна была участвовать также Дора. После поцелуя в магазине она отказалась от своего участия, не указав причин.




















