Читать онлайн Ревизор бесплатно
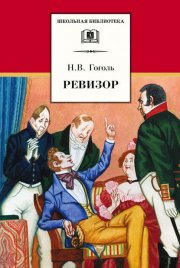
© Издательство «Детская литература». Оформление серии, 2003
© В. А. Воропаев. Вступительная статья, 2003
© И. А. Виноградов, В. А. Воропаев. Комментарии, 2003
© В. Бритвин. Иллюстрации, 2003
* * *
Над чем смеялся Гоголь. О духовном смысле комедии «Ревизор»
Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово, и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел, и тотчас забыл, каков он.
Иак. 1, 22—24
У меня болит сердце, когда я вижу, как заблуждаются люди. Толкуют о добродетели, о Боге, а между тем не делают ничего.
Из письма Гоголя к матери. 1833
«Ревизор» – лучшая русская комедия. И в чтении, и в постановке на сцене она всегда интересна. Поэтому вообще трудно говорить о каком бы то ни было провале «Ревизора». Но, с другой стороны, трудно и создать настоящий гоголевский спектакль, заставить сидящих в зале смеяться горьким гоголевским смехом. Как правило, от актера или зрителя ускользает что-то фундаментальное, глубинное, на чем зиждется весь смысл пьесы.
Премьера комедии, состоявшаяся 19 апреля 1836 года на сцене Александринского театра в Петербурге, по свидетельству современников, имела колоссальный успех. Городничего играл Иван Сосницкий, Хлестакова Николай Дюр – лучшие актеры того времени. «Общее внимание зрителей, рукоплескания, задушевный и единогласный хохот, вызов автора <…>, – вспоминал князь Петр Андреевич Вяземский, – ни в чем не было недостатка».
Но этот успех почти сразу стал казаться каким-то странным. Непонятные чувства охватили и артистов, и зрителей. Характерно признание актера Петра Григорьева, исполнявшего роль судьи Ляпкина-Тяпкина: «…эта пиеса пока для нас всех как будто какая-то загадка. В первое представление смеялись громко и много, поддерживали крепко, – надо будет ждать, как она оценится со временем всеми, а для нашего брата, актера, она такое новое произведение, которое мы, может быть, еще не сумеем оценить с одного или двух раз».
Даже самые горячие поклонники Гоголя не вполне поняли смысл и значение комедии; большинство же публики восприняло ее как фарс. Мемуарист Павел Васильевич Анненков подметил необычную реакцию зала: «Уже после первого акта недоумение было написано на всех лицах (публика была избранная в полном смысле этого слова), словно никто не знал, как должно думать о картине, только что представленной. Недоумение это возрастало потом с каждым актом. Как будто находя успокоение в одном предположении, что дается фарс, большинство зрителей, выбитое из всех театральных ожиданий и привычек, остановилось на этом предположении с непоколебимой решимостью. Однако же в этом фарсе были черты и явления, исполненные такой жизненной истины, что раза два <…> раздавался общий смех. Совсем другое произошло в четвертом акте: смех по временам еще перелетал из конца залы в другой, но это был как-то робкий смех, тотчас же и пропадавший; аплодисментов почти совсем не было; зато напряженное внимание, судорожное, усиленное следование за всеми оттенками пьесы, иногда мертвая тишина показывали, что дело, происходившее на сцене, страстно захватывало сердца зрителей».
Пьеса воспринималась публикой по-разному. Многие видели в ней карикатуру на российское чиновничество, а в ее авторе бунтовщика. По словам Сергея Тимофеевича Аксакова, были люди, которые возненавидели Гоголя с самого появления «Ревизора». Так, граф Федор Иванович Толстой (по прозванию Американец) говорил при многолюдном собрании, что Гоголь – «враг России и что его следует в кандалах отправить в Сибирь». Цензор Александр Васильевич Никитенко записал в своем дневнике 28 апреля 1836 года: «Комедия Гоголя «Ревизор» наделала много шуму. Ее беспрестанно дают – почти каждый день. <…> Многие полагают, что правительство напрасно одобряет эту пьесу, в которой оно так жестоко порицается».
Между тем достоверно известно, что комедия была дозволена к постановке на сцене (а следовательно, и к печати) вследствие высочайшего разрешения. Император Николай Павлович прочел комедию в рукописи и одобрил; по другой версии «Ревизор» был прочитан царю во дворце. 29 апреля 1836 года Гоголь писал Михаилу Семеновичу Щепкину: «Если бы не высокое заступничество Государя, пьеса моя не была бы ни за что на сцене, и уже находились люди, хлопотавшие о запрещении ее». Государь император не только сам был на премьере, но велел и министрам смотреть «Ревизора». Во время представления он хлопал и много смеялся, а выходя из ложи, сказал: «Ну, пьеска! Всем досталось, а мне – более всех!»
Гоголь надеялся встретить поддержку царя и не ошибся. Вскоре после постановки комедии он отвечал в «Театральном разъезде» своим недоброжелателям: «Великодушное правительство глубже вас прозрело высоким разумом цель писавшего».
Разительным контрастом, казалось бы, несомненному успеху пьесы звучит горькое признание Гоголя: «Ревизор» сыгран – и у меня на душе так смутно, так странно… Я ожидал, я знал наперед, как пойдет дело, и при всем том чувство грустное и досадно-тягостное облекло меня. Мое же создание мне показалось противно, дико и как будто вовсе не мое» («Отрывок из письма, писанного автором вскоре после первого представления «Ревизора» к одному литератору»).
Недовольство Гоголя премьерой и толками вокруг нее («все против меня») было столь велико, что, несмотря на настойчивые просьбы Пушкина и Щепкина, он отказался от предполагавшегося участия в постановке пьесы в Москве и вскоре уехал за границу. Много лет спустя Гоголь писал Василию Андреевичу Жуковскому: «Представленье «Ревизора» произвело на меня тягостное впечатление. Я был сердит и на зрителей, меня не понявших, и на себя самого, бывшего виной тому, что меня не поняли. Мне хотелось убежать от всего».
Комическое в «Ревизоре»
Гоголь был, кажется, единственным, кто воспринял первую постановку «Ревизора» как провал. В чем здесь дело, что не удовлетворило автора? Отчасти несоответствие старых водевильных приемов в оформлении спектакля совершенно новому духу пьесы, не укладывавшейся в рамки обычной комедии. Гоголь настойчиво предупреждает: «Больше всего надобно опасаться, чтобы не впасть в карикатуру. Ничего не должно быть преувеличенного или тривиального даже в последних ролях» («Предуведомление для тех, которые пожелали бы сыграть как следует «Ревизора»).
Создавая образы Бобчинского и Добчинского, Гоголь воображал их «в коже» (по его выражению) Щепкина и Василия Рязанцева – известных комических актеров той эпохи. В спектакле же, по его словам, «вышла именно карикатура». «Уже пред началом представления, – делится он своими впечатлениями, – увидевши их костюмированными, я ахнул. Эти два человечка, в существе своем довольно опрятные, толстенькие, с прилично приглаженными волосами, очутились в каких-то нескладных, превысоких седых париках, всклоченные, неопрятные, взъерошенные, с выдернутыми огромными манишками; а на сцене оказались до такой степени кривляками, что просто было невыносимо».
Между тем главная установка Гоголя – полная естественность характеров и правдоподобие происходящего на сцене. «Чем меньше будет думать актер о том, чтобы смешить и быть смешным, тем более обнаружится смешное взятой им роли. Смешное обнаружится само собою именно в той сурьезности, с какою занято своим делом каждое из лиц, выводимых в комедии».
Примером такой «естественной» манеры исполнения может служить чтение «Ревизора» самим Гоголем. Иван Сергеевич Тургенев, присутствовавший однажды на таком чтении, рассказывает: «Гоголь… поразил меня чрезвычайной простотой и сдержанностью манеры, какой-то важной и вместе с тем наивной искренностью, которой словно и дела нет – есть ли тут слушатели и что они думают. Казалось, Гоголь только и заботился о том, как бы вникнуть в предмет, для него самого новый, и как бы вернее передать собственное впечатление. Эффект выходил необычайный – особенно в комических, юмористических местах; не было возможности не смеяться – хорошим, здоровым смехом; а виновник всей этой потехи продолжал, не смущаясь общей веселостью и как бы внутренне дивясь ей, все более и более погружаться в самое дело – и лишь изредка, на губах и около глаз, чуть заметно трепетала лукавая усмешка мастера. С каким недоумением, с каким изумлением Гоголь произнес знаменитую фразу городничего о двух крысах (в самом начале пиесы): «Пришли, понюхали и пошли прочь!» Он даже медленно оглянул нас, как бы спрашивая объяснения такого удивительного происшествия. Я только тут понял, как вообще неверно, поверхностно, с каким желанием только поскорей насмешить – обыкновенно разыгрывается на сцене «Ревизор».
На протяжении работы над пьесой Гоголь беспощадно изгонял из нее все элементы внешнего комизма. По Гоголю, смешное скрывается повсюду, даже в самых обычных деталях быта. Смех Гоголя – это контраст между тем, что говорит герой и как он это говорит. Вот в первом действии Бобчинский и Добчинский спорят, кому из них начать рассказывать новость.
«Бобчинский (перебивая). Приходим с Петром Ивановичем в гостиницу…
Добчинский (перебивая). Э, позвольте, Петр Иванович, я расскажу.
Бобчинский. Э, нет, позвольте уж я… позвольте, позвольте… вы уж и слога такого не имеете…
Добчинский. А вы собьетесь и не припомните всего.
Бобчинский. Припомню, ей-богу, припомню. Уж не мешайте, пусть я расскажу, не мешайте! Скажите, господа, сделайте милость, чтоб Петр Иванович не мешал».
Эта комическая сцена не должна только смешить. Для героев очень важно, кто именно из них расскажет. Вся их жизнь заключается в распространении всевозможных сплетен и слухов. И вдруг двоим досталась одна и та же новость. Это трагедия. Они из-за дела спорят. Бобчинскому все надо рассказать, ничего не упустить. Иначе Добчинский будет дополнять.
«Бобчинский. Позвольте, позвольте: я все по порядку… Так я, вот изволите видеть, забежал к Коробкину. А не заставши Коробкина-то дома, заворотил к Растаковскому, а не заставши Растаковского, зашел вот к Ивану Кузьмичу, чтоб сообщить ему полученную вами новость, да идучи оттуда, встретился с Петром Ивановичем…
Добчинский (перебивая). Возле будки, где продаются пироги».
Это очень важная подробность. И Бобчинский соглашается: «Возле будки, где продаются пироги».
Почему же – спросим еще раз – Гоголь остался недоволен премьерой? Главная причина заключалась даже не в фарсовом характере спектакля – стремлении рассмешить публику, – а в том, что при карикатурной манере игры сидящие в зале воспринимали происходящее на сцене без применения к себе, так как персонажи были утрированно смешны. Между тем замысел Гоголя был рассчитан как раз на противоположное восприятие: вовлечь зрителя в спектакль, дать почувствовать, что город, обозначенный в комедии, существует не где-то, но в той или иной мере в любом месте России, а страсти и пороки чиновников есть в душе каждого из нас. Гоголь обращается ко всем и каждому. В этом и заключено громадное общественное значение «Ревизора». В этом и смысл знаменитой реплики городничего: «Чему смеетесь? Над собой смеетесь!» – обращенной к залу (именно к залу, так как на сцене в это время никто не смеется). На это указывает и эпиграф: «На зеркало неча пенять, коли рожа крива». В своеобразных театрализованных комментариях к пьесе – «Театральный разъезд» и «Развязка «Ревизора», – где зрители и актеры обсуждают комедию, Гоголь как бы стремится разрушить стену, разделяющую сцену и зрительный зал.
В «Ревизоре» Гоголь заставил современников смеяться над тем, к чему они привыкли и что перестали замечать (выделено мной. – В. В.). Но самое главное, они привыкли к беспечности в духовной жизни. Зрители смеются над героями, которые погибают именно духовно. Обратимся к примерам из пьесы, которые показывают такую гибель.
Городничий искренне считает, что «нет человека, который бы за собою не имел каких-нибудь грехов. Это уже так Самим Богом устроено, и волтерианцы напрасно против этого говорят». На что Аммос Федорович Ляпкин-Тяпкин возражает: «Что же вы полагаете, Антон Антонович, грешками? Грешки грешкам – рознь. Я говорю всем открыто, что беру взятки, но чем взятки? Борзыми щенками. Это совсем иное дело».
Судья уверен, что взятки борзыми щенками и за взятки считать нельзя, «а вот, например, если у кого-нибудь шуба стоит пятьсот рублей, да супруге шаль…». Тут городничий, поняв намек, парирует: «Зато вы в Бога не веруете; вы в церковь никогда не ходите; а я по крайней мере в вере тверд и каждое воскресенье бываю в церкви. А вы… О, я знаю вас: вы если начнете говорить о сотворении мира, просто волосы дыбом поднимаются». На что Аммос Федорович отвечает: «Да ведь сам собою дошел, собственным умом».
Гоголь – лучший комментатор своих произведений. В «Предуведомлении…» он замечает о судье: «Он даже не охотник творить неправду, но велика страсть ко псовой охоте… Он занят собой и умом своим, и безбожник только потому, что на этом поприще есть простор ему выказать себя».
Городничий полагает, что он в вере тверд. Чем искреннее он высказывает это, тем смешнее. Отправляясь к Хлестакову, он отдает распоряжение подчиненным: «Да если спросят, отчего не выстроена церковь при богоугодном заведении, на которую назад тому пять лет была ассигнована сумма, то не позабыть сказать, что начала строиться, но сгорела. Я об этом и рапорт представлял. А то, пожалуй, кто-нибудь, позабывшись, сдуру скажет, что она и не начиналась».
Поясняя образ городничего, Гоголь говорит: «Он чувствует, что грешен; он ходит в церковь, думает даже, что в вере тверд, даже помышляет когда-нибудь потом покаяться. Но велик соблазн всего того, что плывет в руки, и заманчивы блага жизни, и хватать все, не пропуская ничего, сделалось у него уже как бы просто привычкой».
И вот, идя к мнимому ревизору, городничий сокрушается: «Грешен, во многом грешен… Дай только, Боже, чтобы сошло с рук поскорее, а там-то я поставлю уж такую свечу, какой еще никто не ставил: на каждую бестию купца наложу доставить по три пуда воску». Мы видим, что городничий попал как бы в замкнутый круг своей греховности: в его покаянных размышлениях незаметно для него возникают ростки новых грехов (купцы заплатят за свечу, а не он).
Как городничий не чувствует греховности своих действий, потому что все делает по застарелой привычке, так и другие герои «Ревизора». Например, почтмейстер Иван Кузьмич Шпекин вскрывает чужие письма исключительно из любопытства: «…смерть люблю узнать, что есть нового на свете. Я вам скажу, что это преинтересное чтение. Иное письмо с наслаждением прочтешь – так описываются разные пассажи… а назидательность какая… лучше, чем в «Московских ведомостях»!»
Судья замечает ему: «Смотрите, достанется вам когда-нибудь за это». Шпекин с детской наивностью восклицает: «Ах, батюшки!» Ему и в голову не приходит, что он занимается противозаконным делом. Гоголь разъясняет: «Почтмейстер – простодушный до наивности человек, глядящий на жизнь как на собрание интересных историй для препровождения времени, которые он начитывает в распечатываемых письмах. Ничего больше не остается делать актеру, как быть простодушну сколько возможно».
Простодушие, любопытство, привычное делание всякой неправды, вольнодумство чиновников при появлении Хлестакова, то есть по их понятиям ревизора, вдруг сменяются на мгновение приступом страха, присущего преступникам, ожидающим сурового возмездия. Тот же закоренелый вольнодумец Аммос Федорович, находясь пред Хлестаковым, говорит про себя: «Господи Боже! не знаю, где сижу. Точно горячие угли под тобою». А городничий, в том же положении, просит о помиловании: «Не погубите! Жена, дети маленькие… не сделайте несчастным человека». И далее: «По неопытности, ей-богу по неопытности. Недостаточность состояния… Сами извольте посудить: казенного жалованья не хватает даже на чай и сахар».
Гоголь особенно остался недоволен тем, как играли Хлестакова. «Главная роль пропала, – пишет он, – так я и думал. Дюр ни на волос не понял, что такое Хлестаков». Хлестаков не просто фантазер. Он сам не знает, что говорит и что скажет в следующий миг. Словно за него говорит некто, сидящий в нем, искушающий через него всех героев пьесы. Не есть ли это сам отец лжи, то есть дьявол?» Кажется, что Гоголь это именно и имел в виду. Герои пьесы в ответ на эти искушения, сами того не замечая, раскрываются во всей своей греховности.
Искушаемый лукавым Хлестаков сам как бы приобретал черты беса. 16 мая (н. ст.) 1844 года Гоголь писал С. Т. Аксакову: «Все это ваше волнение и мысленная борьба есть больше ничего, как дело общего нашего приятеля, всем известного, именно – чорта. Но вы не упускайте из виду, что он щелкопер и весь состоит из надуванья.<…> Вы эту скотину бейте по морде и не смущайтесь ничем. Он – точно мелкий чиновник, забравшийся в город будто бы на следствие. Пыль запустит всем, распечет, раскричится. Стоит только немножко струсить и податься назад – тут-то он и пойдет храбриться. А как только наступишь на него, он и хвост подожмет. Мы сами делаем из него великана… Пословица не бывает даром, а пословица говорит: Хвалился чорт всем миром овладеть, а Бог ему и над свиньей не дал власти»[1]. В этом описании так и видится Иван Александрович Хлестаков.
Герои пьесы все больше и больше ощущают чувство страха, о чем говорят реплики и авторские ремарки (вытянувшись и дрожа всем телом). Страх этот как бы распространяется и на зал. Ведь в зале сидели те, кто боялся ревизоров, но только настоящих – государевых. Между тем Гоголь, зная это, призывал их, в общем-то христиан, к страху Божьему, к очищению совести, которой не страшен будет никакой ревизор, ни даже Страшный суд. Чиновники, как бы ослепленные страхом, не могут увидеть настоящего лица Хлестакова. Они смотрят всегда себе под ноги, а не в небо. В «Правиле жития в мире» Гоголь так объяснял причину подобного страха: «…все преувеличивается в глазах наших и пугает нас. Потому что мы глаза держим вниз и не хотим поднять их вверх. Ибо если бы подняли их на несколько минут вверх, то увидели бы свыше всего только Бога и свет, от Него исходящий, освещающий все в настоящем виде, и посмеялись бы тогда сами слепоте своей».
Смысл эпиграфа и «Немой сцены»
Относительно эпиграфа, появившегося позднее, в издании 1842 года, скажем, что эта народная пословица разумеет под зеркалом Евангелие, о чем современники Гоголя, духовно принадлежавшие к Православной Церкви, прекрасно знали и даже могли бы подкрепить понимание этой пословицы, например, знаменитой басней Крылова «Зеркало и Обезьяна». Здесь Обезьяна, глядясь в зеркало, обращается к Медведю:
- «Смотри-ка, – говорит, – кум милый мой!
- Что это там за рожа?
- Какие у нее ужимки и прыжки!
- Я удавилась бы с тоски,
- Когда бы на нее хоть чуть была похожа.
- А ведь, признайся, есть
- Из кумушек моих таких кривляк пять-шесть;
- Я даже их могу по пальцам перечесть». —
- «Чем кумушек считать трудиться,
- Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?» —
- Ей Мишка отвечал.
- Но Мишенькин совет лишь попусту пропал.
Епископ Варнава (Беляев) в своем капитальном труде «Основы искусства святости» (1920-е годы) связывает смысл этой басни с нападками на Евангелие, и именно такой (помимо других) был у Крылова смысл. Духовное представление о Евангелии как о зеркале давно и прочно существует в православном сознании. Так, например, святитель Тихон Задонский – один из любимых писателей Гоголя, сочинения которого он перечитывал неоднократно, – говорит: «Христианине! что сынам века сего зеркало, тое да будет нам Евангелие и непорочное житие Христово. Они посматривают в зеркала и исправляют тело свое и пороки на лице очищают. <…> Предложим убо и мы пред душевными нашими очами чистое сие зеркало и посмотрим в тое: сообразно ли наше житие житию Христову?»
Святой праведный Иоанн Кронштадтский в дневниках, изданных под названием «Моя жизнь во Христе», замечает «нечитающим Евангелия»: «Чисты ли вы, святы ли и совершенны, не читая Евангелия, и вам не надо смотреть в это зерцало? Или вы очень безобразны душевно и боитесь вашего безобразия?..»
В выписках Гоголя из святых отцов и учителей Церкви находим запись: «Те, которые хотят очистить и убелить лице свое, обыкновенно смотрятся в зеркало. Христианин! Твое зеркало суть Господни заповеди; если положишь их пред собою и будешь смотреться в них пристально, то оне откроют тебе все пятна, всю черноту, все безобразие души твоей».
Примечательно, что и в своих письмах Гоголь обращался к этому образу. Так, 20 декабря (н. ст.) 1844 года он писал Михаилу Петровичу Погодину из Франкфурта: «…держи всегда у себя на столе книгу, которая бы тебе служила духовным зеркалом»; а спустя неделю – Александре Осиповне Смирновой: «Взгляните также на самих себя. Имейте для этого на столе духовное зеркало, то есть какую-нибудь книгу, в которую может смотреть ваша душа…»
Как известно, христианин будет судим по евангельскому закону. В «Развязке «Ревизора» Гоголь вкладывает в уста Первому комическому актеру мысль, что в день Страшного суда все мы окажемся с «кривыми рожами»: «…взглянем хоть сколько-нибудь на себя глазами Того, Кто позовет на очную ставку всех людей, перед которыми и наилучшие из нас, не позабудьте этого, потупят от стыда в землю глаза свои, да и посмотрим, достанет ли у кого-нибудь из нас тогда духу спросить: «Да разве у меня рожа крива?»[2]
Известно, что Гоголь никогда не расставался с Евангелием. «Выше того не выдумать, что уже есть в Евангелии, – говорил он. – Сколько раз уже отшатывалось от него человечество и сколько раз обращалось».
Невозможно, конечно, создать какое-то иное «зеркало», подобное Евангелию. Но как всякий христианин обязан жить по евангельским заповедям, подражая Христу (по мере своих человеческих сил), так и Гоголь-драматург по мере своего таланта устраивает на сцене свое зеркало. Крыловской Обезьяной мог бы оказаться любой из зрителей. Однако получилось так, что этот зритель увидел «кумушек… пять-шесть», но никак не себя. О том же позднее говорил Гоголь в обращении к читателям в «Мертвых душах»: «Вы посмеетесь даже от души над Чичиковым, может быть, даже похвалите автора… И вы прибавите: «А ведь должно согласиться, престранные и пресмешные бывают люди в некоторых провинциях, да и подлецы притом немалые!» А кто из вас, полный христианского смирения… углубит вовнутрь собственной души сей тяжкий запрос: «А нет ли и во мне какой-нибудь части Чичикова?» Да, как бы не так!»
Реплика городничего – «Чему смеетесь? Над собой смеетесь!» – появившаяся, как и эпиграф, в 1842 году, также имеет свою параллель в «Мертвых душах». В десятой главе, размышляя об ошибках и заблуждениях всего человечества, автор замечает: «Видит теперь все ясно текущее поколение, дивится заблужденьям, смеется над неразумием своих предков, не зря, что… отовсюду устремлен пронзительный перст на него же, на текущее поколение; но смеется текущее поколение и самонадеянно, гордо начинает ряд новых заблуждений, над которыми также потом посмеются потомки».
Главная идея «Ревизора» – идея неизбежного духовного возмездия, которого должен ожидать каждый человек. Гоголь, недовольный тем, как ставится «Ревизор» на сцене и как воспринимают его зрители, попытался эту идею раскрыть в «Развязке «Ревизора».
«Всмотритесь-ка пристально в этот город, который выведен в пьесе! – говорит Гоголь устами Первого комического актера. – Все до единого согласны, что этакого города нет во всей России… <…> Ну, а что, если это наш же душевный город и сидит он у всякого из нас? <…> Что ни говори, но страшен тот ревизор, который ждет нас у дверей гроба. Будто не знаете, кто этот ревизор? Что прикидываться? Ревизор этот – наша проснувшаяся совесть, которая заставит нас вдруг и разом взглянуть во все глаза на самих себя. Перед этим ревизором ничто не укроется, потому что по Именному Высшему повеленью он послан и возвестится о нем тогда, когда уже и шагу нельзя будет сделать назад. Вдруг откроется перед тобою, в тебе же, такое страшилище, что от ужаса подымется волос. Лучше ж сделать ревизовку всему, что ни есть в нас, в начале жизни, а не в конце ее».
Речь здесь идет о Страшном суде. И теперь становится понятной заключительная сцена «Ревизора». Она есть символическая картина именно Страшного суда. Появление жандарма, извещающего о прибытии из Петербурга «по именному повелению» ревизора уже настоящего, производит ошеломляющее действие на героев пьесы. Ремарка Гоголя: «Произнесенные слова поражают как громом всех. Звук изумления единодушно излетает из дамских уст; вся группа, вдруг переменивши положение, остается в окаменении» (курсив мой. – В. В.).
Гоголь придавал исключительное значение этой «немой сцене». Продолжительность ее он определяет в полторы минуты, а в «Отрывке из письма…» говорит даже о двух-трех минутах «окаменения» героев. Каждый из персонажей всей фигурой как бы показывает, что он уже ничего не может изменить в своей судьбе, шевельнуть хотя бы пальцем, – он перед Судией. По замыслу Гоголя, в этот момент в зале должна наступить тишина всеобщего размышления.
В «Развязке» Гоголь предложил не новое толкование «Ревизора», как иногда думают, а лишь обнажил его главную мысль. 2 ноября (н. ст.) 1846 года он писал Ивану Сосницкому из Ниццы: «Обратите ваше внимание на последнюю сцену «Ревизора». Обдумайте, обмыслите вновь. Из заключительной пиесы «Развязка «Ревизора» вы постигнете, почему я так хлопочу об этой последней сцене и почему мне так важно, чтобы она имела полный эффект. Я уверен, что вы взглянете сами другими глазами на «Ревизора» после этого заключения, которого мне, по многим причинам, нельзя было тогда выдать и только теперь возможно».
Из этих слов следует, что «Развязка» не придавала нового значения «немой сцене», но лишь разъясняла ее смысл. Действительно, в пору создания «Ревизора» в «Петербургских записках 1836 года» появляются у Гоголя строки, прямо предваряющие «Развязку»: «Спокоен и грозен Великий пост. Кажется, слышен голос: «Стой, христианин; оглянись на жизнь свою».
Однако данное Гоголем истолкование уездного города как «душевного города», а его чиновников как воплощения бесчинствующих в нем страстей, сделанное в духе святоотеческой традиции, явилось неожиданностью для современников и вызвало неприятие. Щепкин, которому предназначалась роль Первого комического актера, прочитав новую пьесу, отказался играть в ней. 22 мая 1847 года он писал Гоголю: «…до сих пор я изучал всех героев «Ревизора» как живых людей… Не давайте мне никаких намеков, что это-де не чиновники, а наши страсти; нет, я не хочу такой переделки: это люди, настоящие живые люди, между которыми я взрос и почти состарился. <…> Вы из целого мира собрали несколько лиц в одно сборное место, в одну группу, с этими людьми в десять лет я совершенно сроднился, и вы хотите их отнять у меня».
Между тем гоголевское намерение вовсе не предполагало цели сделать из «живых людей» – полнокровных художественных образов – некую аллегорию. Автор только обнажил главную мысль комедии, без которой она выглядит как простое обличение нравов. «Ревизор» – «Ревизором», – отвечал Гоголь Щепкину около 10 июля (н. ст.) 1847 года, – а примененье к самому себе есть непременная вещь, которую должен сделать всяк зритель изо всего, даже и не «Ревизора», но которое приличней ему сделать по поводу «Ревизора».
Во второй редакции окончания «Развязки» Гоголь разъясняет свою мысль. Здесь Первый комический актер (Михал Михалч) на сомнение одного из героев, что предложенная им трактовка пьесы отвечает авторскому замыслу, говорит: «Автор, если бы даже и имел эту мысль, то и в таком случае поступил бы дурно, если бы ее обнаружил ясно. Комедия тогда бы сбилась на аллегорию, могла бы из нее выйти какая-нибудь бледная нравоучительная проповедь. Нет, его дело было изобразить просто ужас от беспорядков вещественных не в идеальном городе, а в том, который на земле… <…> Его дело изобразить это темное так сильно, чтобы почувствовали все, что с ним надобно сражаться, чтобы кинуло в трепет зрителя – и ужас от беспорядков пронял бы его насквозь всего. Вот что он должен был сделать. А это уж наше дело выводить нравоученье. Мы, слава Богу, не дети. Я подумал о том, какое нравоученье могу вывести для самого себя, и напал на то, которое вам теперь рассказал».
И далее на вопросы окружающих, почему только он один вывел столь отдаленное, по их понятиям, нравоучение, Михал Михалч отвечает: «Во-первых, почему вы знаете, что это нравоученье вывел один я? А во-вторых, почему вы считаете его отдаленным? Я думаю, напротив, ближе всего к нам собственная наша душа. Я имел тогда в уме душу свою, думал о себе самом, потому и вывел это нравоученье. Если бы и другие имели в виду прежде себя, вероятно, и они вывели бы то же самое нравоученье, какое вывел и я. Но разве всяк из нас приступает к произведенью писателя, как пчела к цветку, затем, чтоб извлечь из него нужное себе? Нет, мы ищем во всем нравоученья для других, а не для себя. Мы готовы ратовать и защищать все общество, дорожа заботливо нравственностью других и позабывши о своей. Ведь посмеяться мы любим над другими, а не над собой…»
Нельзя не заметить, что эти размышления главного действующего лица «Развязки» не только не противоречат содержанию «Ревизора», но в точности соответствуют ему. Более того, высказанные здесь мысли органичны для всего творчества Гоголя.
Идея Страшного суда должна была получить развитие и в «Мертвых душах», так как она действительно вытекает из содержания поэмы. Один из черновых набросков (очевидно, к третьему тому) прямо рисует картину Страшного суда: «Зачем же ты не вспомнил обо Мне, что Я на тебя гляжу, что Я твой? Зачем же ты от людей, а не от Меня ожидал награды и вниманья, и поощренья? Какое бы тогда было тебе дело обращать внимание, как издержит твои деньги земной помещик, когда у тебя Небесный Помещик? Кто знает, чем бы кончилось, если бы ты до конца дошел, не устрашившись? Ты бы удивил величием характера, ты бы наконец взял верх и заставил изумиться; ты бы оставил имя, как вечный памятник доблести, и роняли бы ручьи слез, потоки слезные о тебе, и как вихорь ты бы развевал в сердцах пламень добра». Потупил голову, устыдившись, управитель и не знал, куды ему деться. И много вслед за ним чиновников и благородных, прекрасных людей, начавших служить и потом бросивших поприще, печально понурили головы». Заметим, что тема Страшного суда пронизывает все творчество Гоголя[3], и это соответствовало его духовной жизни, его стремлению к иночеству. А монах и есть человек, покинувший мир, готовящий себя к ответу на суде Христовом. Гоголь остался писателем и как бы иноком в миру. В своих сочинениях он показывает, что не человек плох, а действующий в нем грех. То же всегда утверждало и православное монашество. Гоголь верил в силу художественного слова, могущего указать путь к нравственному возрождению. С этой верой он и создавал «Ревизора».
В. Воропаев
Ревизор
Комедия в пяти действиях
На зеркало неча пенять, коли рожа крива.
Народная пословица
Действующие лица
Характеры и костюмы
Замечания для господ актеров
Городничий, уже постаревший на службе и очень неглупый по-своему человек. Хотя и взяточник, но ведет себя очень солидно; довольно сурьезен; несколько даже резонер; говорит ни громко, ни тихо, ни много, ни мало. Его каждое слово значительно. Черты лица его грубы и жестки, как у всякого, начавшего тяжелую службу с низших чинов. Переход от страха к радости, от низости к высокомерию довольно быстр, как у человека с грубо развитыми склонностями души. Он одет, по обыкновению, в своем мундире с петлицами и в ботфортах со шпорами. Волоса на нем стриженые, с проседью.
Анна Андреевна, жена его, провинциальная кокетка, еще не совсем пожилых лет, воспитанная вполовину на романах и альбомах, вполовину на хлопотах в своей кладовой и девичьей. Очень любопытна и при случае выказывает тщеславие. Берет иногда власть над мужем потому только, что тот не находится что отвечать ей; но власть эта распространяется только на мелочи и состоит в выговорах и насмешках. Она четыре раза переодевается в разные платья в продолжение пьесы.
Хлестаков, молодой человек лет двадцати трех, тоненький, худенький; несколько приглуповат и, как говорят, без царя в голове, – один из тех людей, которых в канцеляриях называют пустейшими. Говорит и действует без всякого соображения. Он не в состоянии остановить постоянного внимания на какой-нибудь мысли. Речь его отрывиста, и слова вылетают из уст его совершенно неожиданно. Чем более исполняющий эту роль покажет чистосердечия и простоты, тем более он выиграет. Одет по моде.
Осип, слуга, таков, как обыкновенно бывают слуги несколько пожилых лет. Говорит сурьезно, смотрит несколько вниз, резонер и любит себе самому читать нравоучения для своего барина. Голос его всегда почти ровен, в разговоре с барином принимает суровое, отрывистое и несколько даже грубое выражение. Он умнее своего барина и потому скорее догадывается, но не любит много говорить и молча плут. Костюм его – серый или синий поношенный сюртук.
Бобчинский и Добчинский, оба низенькие, коротенькие, очень любопытные; чрезвычайно похожи друг на друга; оба с небольшими брюшками; оба говорят скороговоркою и чрезвычайно много помогают жестами и руками. Добчинский немножко выше и сурьезнее Бобчинского, но Бобчинский развязнее и живее Добчинского.
Ляпкин-Тяпкин, судья, человек, прочитавший пять или шесть книг, и потому несколько вольнодумен. Охотник большой на догадки, и потому каждому слову своему дает вес. Представляющий его должен всегда сохранять в лице своем значительную мину. Говорит басом с продолговатой растяжкой, хрипом и сапом – как старинные часы, которые прежде шипят, а потом уже бьют.
Земляника, попечитель богоугодных заведений, очень толстый, неповоротливый и неуклюжий человек, но при всем том проныра и плут. Очень услужлив и суетлив.
Почтмейстер, простодушный до наивности человек.
Прочие роли не требуют особых изъяснений. Оригиналы их всегда почти находятся пред глазами.
Господа актеры особенно должны обратить внимание на последнюю сцену. Последнее произнесенное слово должно произвесть электрическое потрясение на всех разом, вдруг. Вся группа должна переменить положение в один миг ока. Звук изумления должен вырваться у всех женщин разом, как будто из одной груди. От несоблюдения сих замечаний может исчезнуть весь эффект.
Действие первое
Комната в доме городничего.
Явление I
Городничий, попечитель богоугодных заведений, смотритель училищ, судья, частный пристав, лекарь, два квартальных.
Городничий. Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие: к нам едет ревизор.
Аммос Федорович. Как ревизор?
Артемий Филиппович. Как ревизор?
Городничий. Ревизор из Петербурга, инкогнито. И еще с секретным предписаньем.
Аммос Федорович. Вот те на!
Артемий Филиппович. Вот не было заботы, так подай!
Лука Лукич. Господи Боже! еще и с секретным предписаньем!
Городничий. Я как будто предчувствовал: сегодня мне всю ночь снились какие-то две необыкновенные крысы. Право, этаких я никогда не видывал: черные, неестественной величины! пришли, понюхали – и пошли прочь. Вот я вам прочту письмо, которое получил я от Андрея Ивановича Чмыхова, которого вы, Артемий Филиппович, знаете. Вот что он пишет: «Любезный друг, кум и благодетель (бормочет вполголоса, пробегая скоро глазами)… и уведомить тебя». А! вот: «Спешу, между прочим, уведомить тебя, что приехал чиновник с предписанием осмотреть всю губернию и особенно наш уезд (значительно поднимает палец вверх). Я узнал это от самых достоверных людей, хотя он представляет себя частным лицом. Так как я знаю, что за тобою, как за всяким, водятся грешки, потому что ты человек умный и не любишь пропускать того, что плывет в руки…» (остановясь), ну, здесь свои… «то советую тебе взять предосторожность, ибо он может приехать во всякий час, если только уже не приехал и не живет где-нибудь инкогнито… Вчерашнего дни я…» Ну, тут уж пошли дела семейные: «…сестра Анна Кириловна приехала к нам с своим мужем; Иван Кирилович очень потолстел и все играет на скрыпке…» – и прочее, и прочее. Так вот какое обстоятельство!
Аммос Федорович. Да, обстоятельство такое… необыкновенно, просто необыкновенно. Что-нибудь недаром.
Лука Лукич. Зачем же, Антон Антонович, отчего это? Зачем к нам ревизор?
Городничий. Зачем! Так уж, видно, судьба! (Вздохнув.) До сих пор, благодарение Богу, подбирались к другим городам; теперь пришла очередь к нашему.
Аммос Федорович. Я думаю, Антон Антонович, что здесь тонкая и больше политическая причина. Это значит вот что: Россия… да… хочет вести войну, и министерия-то, вот видите, и подослала чиновника, чтобы узнать, нет ли где измены.
Городничий. Эк куда хватили! Еще умный человек! В уездном городе измена! Что он, пограничный, что ли? Да отсюда, хоть три года скачи, ни до какого государства не доедешь.
Аммос Федорович. Нет, я вам скажу, вы не того… вы не… Начальство имеет тонкие виды: даром что далеко, а оно себе мотает на ус.
Городничий. Мотает или не мотает, а я вас, господа, предуведомил. Смотрите, по своей части я кое-какие распоряженья сделал, советую и вам. Особенно вам, Артемий Филиппович! Без сомнения, проезжающий чиновник захочет прежде всего осмотреть подведомственные вам богоугодные заведения – и потому вы сделайте так, чтобы все было прилично: колпаки были бы чистые, и больные не походили бы на кузнецов, как обыкновенно они ходят по-домашнему.
Артемий Филиппович. Ну, это еще ничего. Колпаки, пожалуй, можно надеть и чистые.
Городничий. Да, и тоже над каждой кроватью надписать по-латыни или на другом каком языке… это уж по вашей части, Христиан Иванович, – всякую болезнь: когда кто заболел, которого дня и числа… Нехорошо, что у вас больные такой крепкий табак курят, что всегда расчихаешься, когда войдешь. Да и лучше, если б их было меньше; тотчас отнесут к дурному смотрению или к неискусству врача.
Артемий Филиппович. О! насчет врачеванья мы с Христианом Ивановичем взяли свои меры: чем ближе к натуре, тем лучше, – лекарств дорогих мы не употребляем. Человек простой: если умрет, то и так умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет. Да и Христиану Ивановичу затруднительно было б с ними изъясняться: он по-русски ни слова не знает.
Христиан Иванович издает звук, отчасти похожий на букву и и несколько на е.
Городничий. Вам тоже посоветовал бы, Аммос Федорович, обратить внимание на присутственные места. У вас там в передней, куда обыкновенно являются просители, сторожа завели домашних гусей с маленькими гусёнками, которые так и шныряют под ногами. Оно, конечно, домашним хозяйством заводиться всякому похвально, и почему ж сторожу и не завесть его? только, знаете, в таком месте неприлично… Я и прежде хотел вам это заметить, но все как-то позабывал.
Аммос Федорович. А вот я их сегодня же велю всех забрать на кухню. Хотите, приходите обедать.
Городничий. Кроме того, дурно, что у вас высушивается в самом присутствии всякая дрянь и над самым шкапом с бумагами охотничий арапник. Я знаю, вы любите охоту, но все на время лучше его принять, а там, как проедет ревизор, пожалуй, опять его можете повесить. Также заседатель ваш… он, конечно, человек сведущий, но от него такой запах, как будто бы он сейчас вышел из винокуренного завода, – это тоже нехорошо. Я хотел давно об этом сказать вам, но был, не помню, чем-то развлечен. Есть против этого средства, если уже это действительно, как он говорит, у него природный запах: можно ему посоветовать есть лук, или чеснок, или что-нибудь другое. В этом случае может помочь разными медикаментами Христиан Иванович.
Христиан Иванович издает тот же звук.
Аммос Федорович. Нет, этого уже невозможно выгнать: он говорит, что в детстве мамка его ушибла, и с тех пор от него отдает немного водкою.
Городничий. Да я так только заметил вам. Насчет же внутреннего распоряжения и того, что называет в письме Андрей Иванович грешками, я ничего не могу сказать. Да и странно говорить: нет человека, который бы за собою не имел каких-нибудь грехов. Это уже так Самим Богом устроено, и волтерианцы напрасно против этого говорят.
Аммос Федорович. Что ж вы полагаете, Антон Антонович, грешками? Грешки грешкам – рознь. Я говорю всем открыто, что беру взятки, но чем взятки? Борзыми щенками. Это совсем иное дело.
Городничий. Ну, щенками или чем другим – всё взятки.
Аммос Федорович. Ну нет, Антон Антонович. А вот, например, если у кого-нибудь шуба стоит пятьсот рублей, да супруге шаль…
Городничий. Ну, а что из того, что вы берете взятки борзыми щенками? Зато вы в Бога не веруете; вы в церковь никогда не ходите; а я по крайней мере в вере тверд и каждое воскресенье бываю в церкви. А вы… О, я знаю вас: вы если начнете говорить о сотворении мира, просто волосы дыбом поднимаются.
Аммос Федорович. Да ведь сам собою дошел, собственным умом.
Городничий. Ну, в ином случае много ума хуже, чем бы его совсем не было. Впрочем, я так только упомянул об уездном суде; а по правде сказать, вряд ли кто когда-нибудь заглянет туда: это уж такое завидное место, Сам Бог ему покровительствует. А вот вам, Лука Лукич, так, как смотрителю учебных заведений, нужно позаботиться особенно насчет учителей. Они люди, конечно, ученые и воспитывались в разных коллегиях, но имеют очень странные поступки, натурально неразлучные с ученым званием. Один из них, например, вот этот, что имеет толстое лицо… не вспомню его фамилии, никак не может обойтись без того, чтобы, взошедши на кафедру, не сделать гримасу, вот этак (делает гримасу), и потом начнет рукою из-под галстука утюжить свою бороду. Конечно, если он ученику сделает такую рожу, то оно еще ничего: может быть, оно там и нужно так, об этом я не могу судить; но вы посудите сами, если он сделает это посетителю, – это может быть очень худо: господин ревизор или другой кто может принять это на свой счет. Из этого черт знает что может произойти.
Лука Лукич. Что ж мне, право, с ним делать? Я уж несколько раз ему говорил. Вот еще на днях, когда зашел было в класс наш предводитель, он скроил такую рожу, какой я никогда еще не видывал. Он-то ее сделал от доброго сердца, а мне выговор: зачем вольнодумные мысли внушаются юношеству.
Городничий. То же я должен вам заметить и об учителе по исторической части. Он ученая голова – это видно, и сведений нахватал тьму, но только объясняет с таким жаром, что не помнит себя. Я раз слушал его: ну, покамест говорил об ассириянах и вавилонянах – еще ничего, а как добрался до Александра Македонского, то я не могу вам сказать, что с ним сделалось. Я думал, что пожар, ей-богу! Сбежал с кафедры и что силы есть хвать стулом об пол. Оно, конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать? от этого убыток казне.
Лука Лукич. Да, он горяч! Я ему это несколько раз уже замечал… Говорит: «Как хотите, для науки я жизни не пощажу».
Городничий. Да, таков уже неизъяснимый закон судеб: умный человек – или пьяница, или рожу такую состроит, что хоть святых выноси.
Лука Лукич. Не приведи Бог служить по ученой части! Всего боишься: всякий мешается, всякому хочется показать, что он тоже умный человек.
Городничий. Это бы еще ничего, – инкогнито проклятое! Вдруг заглянет: «А, вы здесь, голубчики! А кто, скажет, здесь судья?» – «Ляпкин-Тяпкин». – «А подать сюда Ляпкина-Тяпкина! А кто попечитель богоугодных заведений?» – «Земляника». – «А подать сюда Землянику!» Вот что худо!
Явление II
Те же и Почтмейстер.
Почтмейстер. Объясните, господа, что, какой чиновник едет?
Городничий. А вы разве не слышали?
Почтмейстер. Слышал от Петра Ивановича Бобчинского. Он только что был у меня в почтовой конторе.
Городничий. Ну, что? Как вы думаете об этом?
Почтмейстер. А что думаю? война с турками будет.
Аммос Федорович. В одно слово! я сам то же думал.
Городничий. Да, оба пальцем в небо попали!
Почтмейстер. Право, война с турками. Это все француз гадит.
Городничий. Какая война с турками! Просто нам плохо будет, а не туркам. Это уже известно: у меня письмо.
Почтмейстер. А если так, то не будет войны с турками.
Городничий. Ну что же, как вы, Иван Кузьмич?
Почтмейстер. Да что я? Как вы, Антон Антонович?
Городничий. Да что я? Страху-то нет, а так, немножко… Купечество да гражданство меня смущают. Говорят, что я им солоно пришелся, а я, вот ей-богу, если и взял с иного, то, право, без всякой ненависти. Я даже думаю (берет его под руку и отводит в сторону),




















