Читать онлайн Лев в тени Льва. История любви и ненависти бесплатно
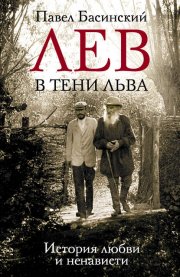
Выражаю сердечную благодарность всем, кто помогал мне в написании книги:
советнику президента по культуре В. И. Толстому, директору Государственного музея Л. Н. Толстого Н. А. Калининой, заместителю директора музея по научной работе Л. В. Калюжной, главному хранителю рукописей фонда Л. Н. Толстого Т Г. Никифоровой и сотрудникам музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна».
Тот, кто понимает Толстого,
не следует за ним. А тот,
кто следует за ним,
не понимает его.
В. А. Маклаков
Осторожно, Толстой!
Осенью 1916 года у последнего секретаря Льва Толстого Валентина Федоровича Булгакова случилась беда. К нему в Москву из Сибири приехала мама́ с твердой уверенностью, что у нее рак. При обследовании в Москве известный женский врач Козловский подтвердил ее опасения и посоветовал обратиться к знаменитому гинекологу Владимиру Федоровичу Снегиреву.
Однако добиться его приема было непросто.
– Нужно платить двадцать пять рублей за визит! – сказал «респектабельный» лакей, отворивший парадную дверь особняка Снегирева на Девичьем Поле.
– Эти деньги будут заплачены, но нам важно знать, когда больная будет принята.
– Недели через полторы, в порядке записи.
– А раньше нельзя?
– Никак нельзя.
«Грустные, отошли мы от двери, – пишет Булгаков в воспоминаниях. – Маме, прежде всего, вовсе не улыбалось проживаться в Москве, в гостинице, а главное, она была так напугана и взволнована страшной болезнью, лечение которой она запустила, что откладыванье решения об операции на каждый лишний день казалось ей едва ли не равносильным смертному приговору».
И тогда Булгаков решил обратиться за помощью к своей «второй матери», которой он считал Софью Андреевну Толстую. На глазах последнего секретаря Толстого разыгрался весь тяжелейший семейный конфликт, предшествовавший уходу Толстого из Ясной Поляны. Он жил в яснополянском доме и после смерти писателя, с декабря 1912-го по август 1916 года, занимаясь описанием личной библиотеки Толстого. В это время он особенно сблизился с Софьей Андреевной, с которой у него установились сыновьи отношения. Булгакову, когда он впервые поселился в Ясной Поляне в январе 1910 года, незадолго до ухода и смерти Толстого, не было и 24 лет. Настоящие сыновья Софьи Андреевны и Льва Николаевича, Сергей, Илья, Лев, Андрей и Михаил, жили отдельно в своих имениях, в Москве, Петербурге и за границей, бывая в Ясной только наездами с женами и детьми. И так уж вышло, что всегда деликатный и сочувствовавший Софье Андреевне «Булгаша» заменил ей сына.
Профессор Снегирев был близок к семье Толстых. Осенью 1906 года прямо в яснополянском доме он на свой страх и риск сделал Софье Андреевне срочную и сложную операцию по удалению гнойной кисты, на которую в этих условиях не решился бы обычный хирург. Он спас супруге писателя жизнь. Булгаков телеграммой попросил Софью Андреевну замолвить за него слово перед Снегиревым. «На другой день я получил от милой Софьи Андреевны телеграфный ответ, что мое желание ею выполнено».
На этот раз «респектабельный» лакей был предупредителен и о 25 рублях речи не вел.
– Пожалуйте!
Осмотрев маму, Снегирев также определил рак и через несколько дней в лечебнице своего ассистента доктора Полилова, который 10 лет назад помогал ему оперировать Софью Андреевну сделал больной операцию. Операция прошла успешно, да и опухоль, к счастью, оказалась не раковой.
«Мы с мамой еще раз ходили в особнячок: благодарить профессора. Тут он, оставивши свою бывшую пациентку в приемной, увел меня в кабинет и завел разговор о Толстом.
– Помните, – говорил он, – что Толстой поглощает людей. Всех, кто к нему приближается, он поглощает без остатка, и как бы ни был талантлив тот или иной человек, он, увлекшись Толстым, всё отдает ему, и от него уже ничего не остается…»
Странность этого высказывания была в том, что прозвучало оно из уст человека, который всегда глубоко почитал Толстого. Но еще более интересно, что говорились эти слова спустя шесть лет после смерти яснополянского старца, а говорились при этом так, как если бы Толстой был всё еще жив и опасность «приближения» к нему равнялась бы физической опасности.
«Осторожно, Толстой!»
Булгаков, который не просто любил, а боготворил Толстого, как, впрочем, почти все, кто находился с ним в близких отношениях, слова Снегирева запомнил на всю жизнь. «Слова эти я часто вспоминал потом, когда мне казалось, что я сам стою на границе своего полного «поглощения» яснополянским мудрецом и гениальным человеком. Хотелось спасти остатки «своего»…» И это было написано Булгаковым, чья жизнь непосредственно возле Толстого прошла по касательной, в последние месяцы жизни гения.
Но представьте себе человека, который не просто был близко связан с Толстым, а являлся его родным сыном, его плотью и кровью, и при этом постарался разделить убеждения отца, стать в буквальном смысле «толстовцем» и пройти весь путь отца, повторяя его во всем, кроме одного, в чем его невозможно было повторить – в его гениальности. Нельзя придумать более несчастной судьбы! Но самым, быть может, роковым обстоятельством этой судьбы стало то, что имя сына было ЛЕВ ТОЛСТОЙ. Это была минутная ошибка родителей ценой в сломанную человеческую жизнь.
Глава первая
Яша Полянов
Один сын – не сын, два сына – полсына, три сына – сын.
Народная пословица
Первый роман, третий сын
Лев Львович Толстой, или Лёва, Лёвушка, Лёля, как его называли в семье, был четвертым ребенком и третьим сыном Софьи Андреевны и Льва Николаевича Толстых. Он родился 20 мая 1869 года в Ясной Поляне на том же самом кожаном диванчике, на котором родился Лев Николаевич, его братья и сестра, два первых сына Сергей и Илья и дочь Татьяна…
Роды были тяжелыми и затягивались. Потому кроме обычной в таких случаях акушерки пригласили из Тулы доктора Кнерцера. Но мужчины, Толстой и доктор, так устали ждать, что отправились в лес Чепыж прогуляться. Оставшись вдвоем с акушеркой, Софья Андреевна благополучно родила крепкого мальчика с черными длинными волосами. «Он энергично дрыгал ногами и кричал во всё горло, возвещая о своем приходе в мир, который показался ему враждебным после блаженного покоя под материнским сердцем», – фантазирует по этому поводу автор книги «Дети Толстого» внук писателя Сергей Михайлович Толстой.
Этой же версии своего рождения придерживался и сам Лев Львович. «Я появился на свет в дамском обществе…» (книга воспоминаний «Опыт моей жизни»). В мемуарах Софьи Андреевны «Моя жизнь» также упоминается доктор Кнерцер, который «ужасно волновался» и «не переставая за ужином ел раков», и ничего не говорится об его участии в родах. Но исключить своего мужа из этого события жена Толстого не могла. И как-то так получилось, что доктора при родах не было, но Лев Николаевич в самый ответственный момент все-таки оказался у двери. «Наконец к 11-ти часам вечера раздался крик ребенка и, как всегда, вслед за ним – рыдания Льва Николаевича».
Эти «рыдания» и «как всегда» выдают Софью Андреевну с головой, тем более что писались ее мемуары гораздо позже. По-видимому, в семье знали, что Льва Николаевича не было при родах: он в это время гулял с доктором в лесу. Отсюда семейное предание. Но у Софьи Андреевны было особое отношение к рождению Лёвы. Недаром в ее мемуарах он упоминается чаще остальных детей. Он не был первенцем, но тревожно долгожданным ребенком. После рождения Сергея, Татьяны и Ильи у жены Толстого случились подряд два выкидыша. Между тем муж страстно мечтал об умножении семьи, а она боготворила мужа. Именно в 1869 году он закончил «Войну и мир» и стал великим писателем. Она помогала ему в создании романа, переписывала частями по нескольку раз, подсказывала какие-то детали для женских образов и даже будто бы втайне от мужа правила неудачные, по ее мнению, фразы. Наконец она знала, что в образ замужней Наташи Ростовой Толстой вложил ее черты, создав образец счастливой семейной женщины. Рождение Лёвы в год рождения «Войны и мира» как бы соединяло две области, правду и художественный вымысел, в гармоническое целое. Наверное, 1869 год был самым счастливым годом в жизни этой семьи.
Мы не знаем причин, по которым третьего в семье мальчика назвали Львом, как не знаем и того, почему так назвали самого Льва Николаевича. Толстой не отличался семейным тщеславием, и до самого позднего времени его дети даже не знали, что их папа́ – великий писатель. Об этом не было принято говорить в семье. Но можно понять настроение женщины, подарившей любимому мужу долгожданного третьего сына, да еще и в год его величайшего писательского триумфа. А с другой-то стороны, в 1869 году это была еще обычная дворянская семья. В то время никто, ни сам Толстой, не могли подумать, что спустя примерно пятнадцать лет имя Лев станет тяжелым наказанием для мальчика, поводом для насмешек («Как тебя зовут? Ты – Лев Толстой?!») и причиной неисцелимой рефлексии по этому поводу. Да что же это, в конце концов, означает, что он не кто-нибудь, а сам Лев Толстой?!
Это случится позже, когда имя Толстого прогремит по всему миру, когда его идеям будет сочувствовать половина человечества, а вторая половина, по крайней мере, о них знать. А в 1869 году Толстой еще просто писатель, написавший огромный семейно-исторический роман, который привел в восторг читающую публику, но отнюдь не большинство критиков. Только Николай Николаевич Страхов написал золотые слова: «Какая громада и какая стройность! Тысячи лиц, тысячи сцен, всевозможные сферы государственной и частной жизни, история, война, все ужасы, какие есть на земле, все страсти, все моменты человеческой жизни, от крика новорожденного ребенка до последней вспышки чувства умирающего старика, все радости и горести, доступные человеку, всевозможные душевные настроения, от ощущений вора, укравшего червонцы у своего товарища, до высочайших движений героизма и дум внутреннего просветления, – всё есть в этой картине… «Война и мир» произведение гениальное».
Но в это же самое время в газете «Петербургский листок» язвительно замечали: «Гением признает графа Толстого один только Страхов», – а в «Петербургской газете» писали, что над такими критиками «можно порой посмеяться, когда они измыслят что-нибудь особенно дикое, вроде, например, заявления о мировом значении романов графа Льва Толстого». А в газете «Искра» популярный пародист Дмитрий Минаев печатал стихи:
- П о в р е ж д е н н ы й к р и т и к (бредит)
- Да, гений он!..
- Постой, постой!..
- Кто – Бенедиктов?
- К р и т и к:
- Лев Толстой!..
- Н е к т о:
- Ты покраснел, я вижу… Дело!..
- Болтать нельзя, без краски, зря.
Достоевский по первым впечатлениям от чтения назвал «Войну и мир» «помещичьей литературой» и только гораздо позже отдал дань этому великому произведению Льва Толстого.
Салтыков-Щедрин вовсе говорил, что этот роман «болтовня нянюшек и мамушек», что все военные сцены это «ложь и суета», а Багратион и Кутузов «кукольные генералы».
Тургенев тоже не сразу понял значение «Войны и мира»: «…как это всё мелко и хитро, и неужели не надоели Толстому эти вечные рассуждения о том, – трус, мол, я или нет? – Вся эта патология сражения? Где тут черты эпохи? Где краски исторические?» И лишь позже он скажет, что «в этом романе столько красот первоклассных, такая жизненность, и правда, и свежесть, что нельзя не согласиться, что с появлением «Войны и мира» Толстой стал на первое место между всеми нашими современными писателями…»
В 1869 году ничто не предвещает, что Толстой станет учителем человечества, создателем нового религиозного движения. Впрочем, летом этого года по дороге в Пензенскую губернию его настигнет знаменитый «арзамасский ужас», предвестник будущего духовного переворота. Всё лето после рождения Лёвы он читает Шопенгауэра и Гегеля, но до собственных религиозно-философских открытий еще далеко, если не считать исторических рассуждений в «Войне и мире», которые меньше всего заинтересовали читателей и возбудили насмешки критиков.
Быть сыном просто писателя, даже известного писателя и при этом носить не только его фамилию, но и имя, это в порядке вещей. Это не исключает и того, чтобы самому стать писателем. Уже есть Александр Дюма-сын, почему бы не появиться Толстому-сыну? Но вот носить имя и фамилию не просто писателя, а властителя дум и чувств, великого проповедника, которого ставили рядом с Христом и Магометом, это совсем другое! Двух Львов Толстых ни одна культура выдержать не в состоянии…
Лёва Толстой, родившийся в Ясной Поляне цветущим маем 1869 года, еще не знает о своем будущем. Он еще просто мальчик Лёля, сын графа Льва Николаевича Толстого, написавшего гениальный роман о войне 1812 года.
Черненькие и беленькие
Софья Андреевна до пожилого возраста оставалась жгучей брюнеткой с темными карими глазами. Лев Николаевич был светловолосым, глаза у него были серые. Всех детей в семье так и делили на «черненьких» и «беленьких» – в зависимости от цвета глаз и волос. «Черненькие» были похожи на мать, «беленькие» – на отца. После рождения Лёли в семье наступил паритет – двое «черненьких», Таня и Лев, и двое «беленьких», Сергей и Илья. Через два года родилась «беленькая» Маша; за Машей, год спустя, – брюнет Петя; еще через год – «черненький» Николушка; за ними – Варя, прожившая только полчаса.
Всего же у Толстых родилось тринадцать детей, но лишь восемь из них дожили до зрелого возраста. В «Опыте моей жизни» Лев Львович поделился интересным наблюдением: «…из умерших моих братьев маленькими детьми трое были с темными глазами, типа «черных», что показывает, что этому типу нашей семьи жизнь давалась труднее».
Другое наблюдение: «…моя старшая сестра Таня и я – «черные» дети семьи – больше взяли умственных особенностей, которые можно назвать внутренним или духовным обликом человека, от отца и его линии, но физически мы больше похожи на мать; остальные дети, хотя в них и было много отцовского с физической стороны (брат Илья, например, был внешностью очень похож на отца), всё же по духовному и умственному складу они мало походили на него. Письма брата Ильи, например, до смешного похожи на письма матери».
Все дети Толстых были по-своему умны и талантливы. Но в «черных», Татьяне и Льве, это проявилось в более, что ли, насыщенном виде. А главное – это дало ощутительные результаты. Татьяна была незаурядной художницей, чей рисунок ценил Илья Репин, говоря, что он даже «завидует» ему. Что касается Льва, он проявил себя во множестве «жанров»: от литературы и скульптуры до общественной деятельности и крайне своеобразной философии.
При этом, как писатель, Илья, был, пожалуй, талантливей Льва. Его повесть «Труп» (с тем же почти сюжетом, что и «Живой труп» отца) и рассказы предвещали рождение большого писателя. А вот Лев, напечатавший много рассказов, повестей, несколько романов, книгу пьес и множество очерков и статей, не стал крупным писателем – просто по среднему качеству своего литературного таланта. И это понимали все, даже искренне любившие Льва Львовича родные и друзья. Но понимал ли это он сам – это большой вопрос.
Тем не менее, Ильи Толстого как писателя в истории русской литературы фактически не существует. Вернее, он занимает в ней какое-то очень частное место. А Лев Толстой-младший – вполне реальная фигура литературного процесса начала XX века. О нем много писала критика. Его знали ведущие издатели. С ним переписывались Антон Чехов, Николай Лесков, Максим Горький… Конечно, огромную роль здесь играли его имя и фамилия. Но в не меньшей степени – упорство и литературное трудолюбие. Главное – страстное желание быть профессиональным писателем.
Можно сделать и еще одно наблюдение. В «черненьких» было больше вкуса, изящества. Того, что называется comme il faut[1]. Татьяна в юности была неисправимой модницей, любила балы и имела много аристократических поклонников. Она умела покорять сердца. Ее обожали и мать, и отец. И как бы затем ни складывалась тяжело ее жизнь, что бы с ней ни происходило, Татьяна никогда не теряла внешней формы.
То же можно сказать и о ее младшем брате. Встретившись с ним во Франции в 1928 году, его племянник Сергей Михайлович Толстой таким увидел своего дядю: «Он приближался к своему шестидесятилетию, но был худой, сильный, элегантный, походка гибкая и легкая. Со спины он казался моложе лет на двадцать, но морщинистое лицо отражало страсти, которые испепеляли всю его более, чем бурную жизнь».
Толстой и его дети
Толстой не слишком жаловал своих детей, пока они были маленькими. Это обижало Софью Андреевну, но муж не любил возиться с «бебичками», как тогда называли младенцев в дворянских семьях от английского «baby».
В 1872 году в письме к тетушке Александре Андреевне Толстой он признался: «…я не люблю детей до 2–3 лет – не понимаю. Говорил ли я вам про странное замечание? Есть два сорта мущин – охотники и неохотники. Неохотники любят маленьких детей – беби, могут брать в руки; охотники имеют чувство страха, гадливости и жалости к беби. Я не знаю исключения этому правилу».
Толстой тогда был заядлый охотник.
Но в этом же письме он делает «реестр» своих родившихся на тот момент шестерых детей – Сергея, Татьяны, Ильи, Льва, Маши и Петра. Прозорливость Толстого, в главном угадавшего будущее своих детей, просто поразительна! Она говорит о том, что он, может быть, и не любил «бебичек», но присматривался к ним зорко.
«Старший белокурый – не дурен. Есть что-то слабое и терпеливое в выражении и очень кроткое. Когда он смеется, он не заражает, но когда он плачет, я с трудом удерживаюсь, чтобы не плакать. Все говорят, что он похож на моего старшего брата. Я боюсь верить. Это слишком бы было хорошо. Главная черта брата была не эгоизм и не самоотвержение, а строгая середина. Он не жертвовал собой никому, но никогда никому не только не повредил, но не помешал. Он и радовался и страдал в себе одном. Сережа – умен, математический ум и чуток к искусству, учится прекрасно, ловок прыгать, гимнастика; но gauche[2] и рассеян… Самобытного в нем мало…»
Сергей Львович Толстой (1863–1947) родился в счастливое для своего отца число – 28-го июня (отец родился 28 августа 28-го года). Сергей закончил физико-математический факультет Московского университета, отдав некоторую дань либеральным и даже радикальным настроениям студенческой молодежи. Он был поклонником науки, и в этом расходился с отцом. Он был музыкально одарен: прекрасно играл, занимался историей и теорией музыки, сам сочинял. Работал в Тульском и Петербургском отделениях Крестьянского банка, работал земским начальником, попробовал себя в качестве помещика. Не совпадая с отцом по взглядам, он всегда ему, тем не менее, сочувствовал и лично сопровождал в Канаду духоборов, в переселении которых его отец принял горячее участие, пожертвовав на это гонорар от «Воскресения». Единственный из братьев Сергей Львович полностью поддержал отца во время его «ухода». А после его смерти сделал все возможное, чтобы сохранить Ясную Поляну как музей. Он занимался толстовским музеем в Москве, изданием полного собрания сочинений, писем и дневников отца, написал несколько превосходных книг («Мать и дед Л. Н. Толстого», «Музыка в жизни Толстого» и другие). Единственный из детей Толстого он остался жить в Советской России. И большевики, как пишет его племянник Сергей Михайлович, уважали его… Но было что-то невыразимо грустное в его судьбе. В первом браке он оказался несчастен, его жена скончалась от туберкулеза. Последние годы его жизни были скрашены Ясной Поляной и общением с Николаем Павловичем Пузиным, ведущим сотрудником яснополянского музея.
Но продолжим «реестр» Толстого…
«Илья 3-й. Никогда не был болен. Ширококост, бел, румян, сияющ. Учится дурно. Всегда думает о том, о чем ему не велят думать. Игры выдумывает сам. Аккуратен, бережлив; «мое» для него очень важно. Горяч и violent[3], сейчас драться; но и нежен, и чувствителен очень. Чувствен – любит поесть и полежать спокойно. Когда он ест желе смородинное и гречневую кашу у него губы щекотит. Самобытен во всем. И когда плачет, то вместе злится и неприятен, а когда смеется, то и все смеются. Всё непозволенное имеет для него прелесть, и он сразу узнает…
Если я умру, старший, куда бы ни попал, выйдет славным человеком, почти наверно в заведении будет первым учеником, Илья погибнет, если у него не будет строгого и любимого им руководителя».
Илья Львович Толстой (1866–1933) прожил бурную жизнь. Он не закончил гимназии, больше увлекаясь охотой в Ясной Поляне и Подмосковье, влюбился в Сонечку Философову, дочь вице-президента Академии художеств, первым из сыновей женился и подарил родителям первую внучку – Анну. В письме к Илье, написанном еще до его женитьбы, отец прозорливо предрекал, что «из 100 шансов 99, что, кроме несчастья, от брака ничего не выйдет», потому что «жениться, чтобы веселее было жить, никогда не удастся». Тем не менее, долгое время Илья Львович и Софья Николаевна Толстые были счастливы. Они поселились в селе Гринёве, принадлежавшем матери Ильи Софье Андреевне, затем он купил свое имение Мансурово в Калужской губернии. Но ни Гринёвка, ни Мансурово не приносили дохода. Между тем семья росла – после Анны родились Андрей, Михаил, Илья, Владимир, Вера, Кирилл. Илья просил денег у матери, но она считала, что «слепо давать деньги своим детям, не руководя их делами, невозможно». Всё же она очень сочувствовала Илье: «Как-то он, бедный, живет в своей неясной, бестолковой среде хозяйства, семьи и вечного сомнения и недовольства судьбой». Однако при всех трудностях и нелепостях жизнь Илья казалась благополучной! Он был прекрасным охотником, «лошадником», веселым, общительным, всеми любимым человеком. Он был талантлив во всем: в сельском хозяйстве, которому отдавался со всей страстью, в своих писательских опытах, которые оценил и его отец, и даже такой ревнивый судья, как Иван Бунин, с которым Илья Львович дружил. Иван Бунин написал о нем, что «это был веселый, жизнерадостный, очень беспутный и очень талантливый по природе человек». Зимой в деревне Илья никогда не скучал: плотничал, столярничал, ремонтировал мебель, переплетал книги.
При этом – что удивительно! – его отец был уверен, что Илья будет несчастен, причем в то время, когда ничто не предвещало этого. Именно когда Илья казался всем счастливым, Толстой записывает в дневнике: «Главное, он несчастлив совсем. Как для паука уж дождь, когда только начинается сырость, так для меня он уж несчастлив так, как будет через двадцать лет».
Заботы о семье заставили Илью отказаться от помещичьих занятий. Он скитался по городам и весям, жил в Пензе, Саратове, Симбирске, Москве, Петербурге, работая гласным от земства, страховым агентом, оценщиком Крестьянского банка. После смерти отца он написал сценарий фильма по рассказу «Чем люди живы», где сам исполнил роль барина, а падшего ангела играл тогда еще молодой певец Александр Вертинский. Во время Первой мировой войны служил корреспондентом на Балканах. В 1916 году отправился в Америку читать лекции об отце, а в 1917-м, бросив семью в России, обосновался в Америке окончательно. Некоторое время благодаря своему имени он был знаменит как лектор и журналист, комментатор событий, происходивших на его родине. Он гордо считал себя связующим звеном между Россией и Америкой, человеком «международного значения», призванным сблизить две молодые демократии мира. Но после разрыва дипломатических отношений между Америкой и СССР интерес к его выступлениям угас. Он подвизался в Голливуде, выступая экспертом фильмов по романам отца «Анна Каренина» и «Воскресение», и сыграл роль самого Льва Толстого в одном из них. В пожилом возрасте он стал поразительно похож на отца внешне, так что некоторые дамы при его виде падали в обморок.
Илья Львович вторично женился на теософке Надежде Катульской, о которой его сестра Александра, тоже жившая в Америке, писала как об особе неприятной и бесхозяйственной… Венцом его американского благополучия стал маленький дом в Russian Village («Русской деревне»), штат Коннектикут, в месте, которое он шутливо называл «мои поросятники». Он писал Саше: «Одно утешение – это лето, когда можно уйти в природу… хоть и не та природа, что в России. Земля не так пахнет, цветы не так цветут, деревья растут иначе – всё же это природа».
На руках своей младшей сестры Александры он и скончался от рака в госпитале Нью-Хейвена, попрощавшись в письмах со всеми родными и попросив у них прощения. Не смог от слабости завершить на себе крестное знамение, которое его рукой завершила сестра…
Не ошибся Толстой и в судьбе старшей дочери Татьяны, второго ребенка Толстых и всеобщей любимицы.
«Таня – 8 лет. Все говорят, что она похожа на Соню, и я верю этому, хотя это также хорошо, но верю потому, что это очевидно. Если бы она была Адамова старшая дочь и не было бы детей меньше ее, она была бы несчастная девочка. Лучшее удовольствие ее возиться с маленькими. Очевидно, что она находит физическое наслаждение в том, чтобы держать, трогать маленькое тело. Ее мечта теперь сознательная – иметь детей… Она не любит работать умом, но механизм головы хороший. Она будет женщина прекрасная, если Бог даст мужа. И вот, готов дать премию огромную тому, кто из нее сделает новую женщину».
Детство Татьяны Львовны Толстой (1864–1950) пришлось на самое счастливое время в жизни семьи. Толстой работал над «Войной и миром», жена была ему и подругой, и помощницей, а ссоры между ними случались редко. «Я выросла среди людей, любящих друг друга и меня, – напишет Татьяна в воспоминаниях. – Мне казалось, что такое отношение естественно и свойственно человеческой природе».
Таня впитала в себя атмосферу семейного согласия и гармонично соединила в себе отцовские и материнские черты характеров. Любила красиво одеваться, танцевать, пользовалась исключительным успехом на балах, но в то же время была серьезной, начитанной и целеустремленной девушкой. Она сочетала в себе хозяйственные таланты с любовью к живописи, в которой достигла немалых успехов, закончив Школу живописи, ваяния и зодчества, где ее учителями были Василий Григорьевич Перов и Леонид Осипович Пастернак. Своими советами ее поддерживали друзья семьи Николай Николаевич Ге и Илья Ефимович Репин. Но известной художницей она не стала. Две страсти определили ее судьбу.
Первая – любовь к отцу. С середины восьмидесятых годов Татьяна, пережив множество светских увлечений, имея в прошлом более десятка женихов, среди которых был цвет московской «золотой» молодежи: князья Урусов и Мещерский, граф Капнист, Олсуфьев, Стахович и другие – вдруг отказалась от света и стала преданно служить отцу, его новым идеям, хотя внутренне их не всегда разделяла. Можно даже сказать, что как мужчина он затмил для нее всех остальных. Она не видела никого равного отцу по уму и по обаянию. «Да, это такой соперник моим Любовям, которого никто не победил», – записывает она в дневнике. Она переписывала его рукописи, заместив на этом посту Софью Андреевну, разошедшуюся с мужем в его новых воззрениях. Она принимала деятельное участие в толстовском народном издательстве «Посредник». Постепенно она стала необходимой отцу как воздух, но именно в силу этого он… перестал ее замечать. «Когда она тут, я ее не замечаю только потому, что она точно часть меня, точно она – это я сам. Очень уж она мне близка».
Однако Татьяна не была и не могла быть его «частью». Другая страсть, не менее сильная, чем любовь к отцу, жила в ней – мечты о своем муже, своих детях, своей семье. Внешне она мирилась с эгоистичностью отца, последовательно отказавшего всем ее женихам и прямо убеждавшего ее никогда не выходить замуж. Но глубокий инстинкт жены и матери, который отец заметил в ней в восьмилетнем возрасте, никуда не исчез и стал для нее, уже немолодой девушки, причиной страданий. Однажды она напишет в дневнике: «Очень грустно. Жалко молодости. Хочется любви».
Это написано в 1895 году, когда Татьяна увлеклась женатым последователем отца Евгением Ивановичем Поповым. Из-за этого запоздалого и бессмысленного романа терзалась она сама, мучился Попов, переживал отец… Наконец, в 1896 году она окончательно влюбилась в тоже женатого, многодетного и пожилого помещика Михаила Сергеевича Сухотина. После смерти его жены они скромно обвенчались в 1899 году. Ей было тридцать пять лет, ему – сорок девять. Родители были ошеломлены. «Молодые» чувствовали себя смущенными.
Впрочем, Михаил Сергеевич Сухотин оказался добрым и порядочным человеком, заслужившим расположение всей семьи Толстых. Но судьба еще раз горько посмеялась над Татьяной: в течение первых пяти лет замужества она каждый год рожала мертвых младенцев (один раз – двойню). Наконец, в 1905 году родилась единственная дочь Танечка. В 1914 году умер Сухотин. Танечка росла слабой и болезненной, не раз была на волосок от смерти. Но именно дочь в эмиграции обеспечила матери счастливую старость. В Риме она принимала участие в гастрольном спектакле по пьесе Толстого «Живой труп». В театре присутствовал знаменитый журналист Луиджи Альбертини, бывший владелец ведущей итальянской газеты Corriere della Sera. Он пригласил труппу к себе во дворец, где в Танечку влюбился его сын Леонардо, доктор юридических наук. Через несколько месяцев он женился на ней. Последние годы жизни Татьяна Львовна провела рядом с дочерью и ее мужем в Риме, где вновь смогла окунуться в знакомую ей светскую атмосферу. В доме Альбертини собиралась вся интеллектуальная и аристократическая элита страны.
Зная судьбу второй дочери Толстого – Марии, с особым чувством читаешь строки, посвященные ей, в письме отца тетушке Александре Андреевне. «5-я Маша, 2 года, та, с которой Соня была при смерти. Слабый, болезненный ребенок. Как молоко, белое тело, курчавые белые волосики; большие, странные, голубые глаза; странные по глубокому, серьезному выражению. Очень умна и некрасива. Это будет одна из загадок. Будет страдать, будет искать, ничего не найдет; но будет вечно искать самое недоступное…»
Обстоятельства рождения Марии Львовны Толстой (1871–1906) связаны с первым серьезным конфликтом между Львом Николаевичем и Софьей Андреевной. Кормя грудью годовалого Лёвушку, жена Толстого вновь почувствовала себя беременной. Это ее не обрадовало. Она устала от родов и кормлений, устала непрерывно ощущать себя не женщиной, а самкой. К тому же после преждевременных родов Маши у нее началась родильная горячка, и она едва не умерла. Врачи посоветовали ей больше не иметь детей. Но муж был категорически против этого. Он не представлял себе семейной жизни без рождения детей. Это чуть не привело к разводу.
Сергей Михайлович Толстой, автор книги «Дети Толстого», пишет, что детство Маши «прошло незаметно в шумной группе старших детей: Сергея, Татьяны, Ильи и Льва, которые обращались с ней, как с Золушкой, оставляя ей самую черную работу». И она с детства привыкла не избегать этой работы.
В шутку и всерьез поговаривали, что у Маши было психическое заболевание, которое англичане называют «as you like it». To есть ты всегда делаешь не то, что ты хочешь, а то, что хотят от тебя другие.
Очень рано Мария стала преданной тенью Толстого. Уже подростком она разделила все его новые взгляды: отказалась от света, была строгой вегетарианкой. Она переписывала тексты Льва Николаевича, вела его корреспонденцию, была связующим звеном в практических вопросах с его учеником и издателем Владимиром Григорьевичем Чертковым, с которым, впрочем, часто вступала в разногласия, ревнуя отца к Черткову. В свою очередь, дочь Татьяна ревновала отца к Марии.
Маша была единственным взрослым ребенком Толстого, с которым Лев Николевич был сентиментален, позволяя ей так же обращаться и с ним. С другими детьми Лев Николаевич не позволял себе нежностей. И это во многом объяснялось характером самой Маши – всегда отзывчивой, приветливой, готовой прийти на помощь.
Кроме служения отцу она помогала всем крестьянам Ясной Поляны. Умная, тонкая, знавшая в совершенстве несколько иностранных языков, Мария косила с крестьянами, доила их коров, тушила пожары, перекрывала крыши погоревших изб, учила крестьянских детей грамоте, лечила крестьянок, принимала роды…
Бабы и мужики ее обожали. Да, пожалуй, не было ни одного человека, который не подпал бы под обаяние этой девушки, некрасивой внешне, но прекрасной своей внутренней красотой. Отказавшись от света, она не отказывалась вовсе от земных радостей: пела и плясала с домашними и крестьянками, принимала участие в любительских спектаклях в Ясной Поляне.
Но… С ней случилась та же история, что и с Татьяной. Как ни старалась она отказаться от своей женской природы ради служения отцу и простым людям, природа брала свое. Первым ее увлечением стал последователь отца Павел Иванович Бирюков, замечательный человек, которого очень любили в семье Толстых. Дело шло к свадьбе, в которой многие были уверены. Однако Толстой отказал Бирюкову и отговорил дочь выходить замуж. Можно определенно сказать, что он боялся потерять для себя ценную помощницу.
Вторым серьезным увлечением Маши стал сын друга Толстого Ивана Ивановича Раевского – Петя Раевский. Но и здесь Толстой был непреклонен. «Неужели свет сошелся клином и на этом клину только один человек, – писал он дочери. – Мне-то со стороны видно, что этот один человек заслоняет от тебя мир, и, чем скорее он устранится, тем тебе светлее и лучше».
Третьим избранником оказался скромный домашний учитель музыки – Николай Зандер. Однако и ему Толстой написал хотя и вежливое, но определенное письмо с отказом. Ведь Зандер был еще и не ровня Маше по социальному происхождению. Но на этот раз дочь заупрямилась. Она не сразу отказала Зандеру, тайно встречалась с ним к ужасу отца, который не мог в это поверить. Всё закончилось тем, что в возрасте двадцати шести лет Маша влюбилась во внучатого племянника своего отца князя Николая Леонидовича Оболенского, внука сестры Льва Николаевича Марии Николаевны Толстой. Будучи князем, он был практически нищим, но добрым и любящим Машу человеком. В общем-то они могли быть счастливы. Но и здесь она разделила судьбу сестры.
Один за другим у нее рождались мертвые дети.
Софья Андреевна считала, что главной причиной неудачных беременностей дочери было ее вегетарианство. Но ее свекровь Елизавета Валериановна Оболенская была уверена, что Маша испортила здоровье «непосильными работами в поле, наравне с крестьянами; во время пожара на деревне она, стоя по пояс в воде, передавала ведра…» Так или иначе, а родить нормального ребенка Мария не смогла…
Отношение к этому отца было поразительным! Конечно, он жалел любимую дочь и старался ее утешать. Но странным образом… Например, после очередных неудачных родов он писал ей: «А как ни печально это в материальном смысле, для духовной жизни твоей это несомненно в пользу…»
В 1906 году в возрасте тридцати пяти лет Маша скоропостижно скончалась от воспаления легких на руках отца, который не отходил от ее постели. Гроб Маши несли на руках через всю деревню. Крестьяне выходили и передавали деньги священнику, заказывая непрерывные литии по любимой «барышне». Крестьянки плакали. Лев Николаевич проводил дочь до конца деревни, но на кладбище не пошел, вернулся обратно.
Менее интересна запись Толстого о самом младшем сыне Петре. «6-й Петр великан. Огромный, прелестный беби, в чепце, вывертывает локти, куда-то стремится. И жена приходит в восторженное волнение и торопливость, когда его держит; но я ничего не понимаю. Знаю, что физический запас есть большой. А есть ли еще то, для чего нужен запас – не знаю». Но проверить это не удалось. Петр Львович Толстой (1872–1873) умер в возрасте одного года.
Много лет спустя, незадолго до смерти, в разговоре Павлом Ивановичем Бирюковым Толстой вспомнил об этом письме 1872 года к тетушке о своих детях и сказал, что «так и вышло», как он предвидел. «Кроме предсказания о Лёве». Что же отец писал о своем сыне-тезке?
«Хорошенький, ловкий, памятливый, грациозный. Всякое платье на нем сидит, как по нем сшито. Всё, что другие делают, то и он, и всё очень ловко и хорошо. Еще хорошенько не понимаю».
Старшие и младшие
Мы не поймем особенностей характера Льва Львовича, не обратив внимания на одно тонкое обстоятельство… Это был самый младший из старших сыновей Толстого.
Но можно ли отчетливо разделить детей Толстого на старших и младших, если его жена с 1863 по 1888 годы – на протяжении двадцати пяти лет – непрерывно рожала детей?
По-видимому, доктора не только из сочувствия не советовали Софье Андреевне не иметь детей после тяжелых родов Маши. Трое, родившихся после этого, умерли во младенчестве – Петр, Варя и Николай. И только в 1877 году, спустя шесть лет после рождения Марии, на свет появился Андрей, который дожил до зрелого возраста. В 1879-м родился Михаил, доживший до преклонных лет; в 1881-м – Алексей, умерший пятилетним; в 1884-м – Александра, оказавшаяся долгожительницей (скончалась в США в возрасте девяноста пяти лет); в 1888-м – Иван, Ванечка, самый любимый в семье ребенок, который умер в семь лет от скарлатины.
Таким образом и получилось, что старшими детьми оказались Сергей, Татьяна, Илья, Лев и Мария, а младшими – Андрей, Михаил и Александра.
Отличить старших от младших было просто. Старшие к матери обращались на «вы», а к отцу – на «ты». Младшие – наоборот: к отцу – на «вы», к матери – на «ты». Почему так произошло? До написания «Войны и мира» и «Анны Карениной», а главное – до духовного переворота, явившего миру нового Толстого, отец был для детей просто отцом. Мать была просто матерью, а не женой великого учителя мира. Основные заботы по воспитанию старших детей, конечно, ложились на мать, потому что отец был поглощен творчеством и одновременно заботами по умножению богатства семьи и приобретению новых имений. На мать в том числе ложилась ответственность держать детей в строгости и повиновении. Отец же с ними занимался гимнастикой, охотой, рыбной ловлей, коньками и прочими радостями…
С начала восьмидесятых годов ситуация переменилась. Толстой перестал быть просто отцом, а стал великим проповедником, о котором ежедневно писали в газетах, так, что почти невозможно было найти номера, где бы не упоминалось его имя. В доме стали появляться знаменитости – писатели, композиторы, художники, артисты, режиссеры, общественные деятели. Они трепетали перед отцом, называли его почтительно «Лев Николаевич» и гордились знакомством с ним. Стали появляться странные люди, называвшие себя «толстовцами» и считавшиеся духовными детьми Толстого. Наконец внешне отец всё больше становился седобородым старцем с пронзительным взором из-под густых бровей, от которого невозможно было спрятаться. Все отмечали, что Толстой своим стальным взглядом выворачивал в людях душу наизнанку. А мать, продолжая оставаться для детей просто матерью, оказалась еще и женой этого великого человека, но такой, которая не разделила его взглядов, не пошла за ним, пребывала в материальных заботах, за что ее осуждали «толстовцы» и склоняли в газетах. К тому же внешне она оставалась моложавой до самого позднего возраста, да и моложе она была Толстого на четырнадцать лет.
Льва и Марию угораздило родиться в то время, когда отец стал великим писателем. Их детство прошло в доме великого писателя и зарождавшегося религиозного проповедника, а отрочество попало на тот момент, когда с их отцом окончательно случился его духовный переворот, начались серьезные разногласия с женой, и вся жизнь семьи пошла вкривь и вкось. Отроками они оказались перед невольным выбором: кто прав? кого слушать? за кем идти? кому подражать?
«Светленькая» Маша сделала безоговорочный выбор в пользу отца и пошла за ним. И если бы не ее женская природа, она могла быть вполне счастливой как верная спутница своего отца. А вот со Львом всё получилось намного сложнее.
Сюська под соусом
Как же Софья Андреевна плакала, когда раньше времени отнимала от груди своего Лёвушку, вновь почувствовав себя беременной! На всю жизнь она запомнила эту дату – 1 июня 1870 года, когда «молилась о нем, тосковала, точно провожала его куда-то на дальнейшую жизнь, благословляла его» (книга мемуаров «Моя жизнь»).
Лев Львович стал самым любимым сыном Софьи Андреевны. За исключением, конечно, последыша Ванечки, в которого она вложила всю свою душу и материнскую любовь и от ранней утраты которого не могла оправиться очень долго.
Но Ванечка родился, когда в семье окончательно обозначился неразрешимый конфликт, приведший к финальной семейной трагедии. А Лёвушка с молоком матери словно впитал в себя не только жизненные соки, но и безграничную любовь совсем молодой двадцатипятилетней Сонечки к мужу. Когда в сентябре 1869 года он находился в Пензенской губернии с целью покупки нового имения, она писала ему: «Когда кормлю Лёвушку всегда философствую, мечтаю, думаю о тебе, и потому это мои любимые минуты».
Лёля родился на вершине семейного счастья и перед началом его заката. Это был самый красивый ребенок, с каштановыми золотистыми кудрями, большими черными глазами, веселый, здоровый, подвижный, всегда прыгавший на руках у матери и своей тетушки Татьяны Андреевны Кузминской, младшей сестры Софьи Андреевны, знаменитой как прототип юной Наташи Ростовой в «Войне и мире». В октябре того же года, когда родился Лёля, Татьяна Кузминская родила дочь Машу. Сестры иногда менялись младенцами: Соня кормила грудью Машу, Татьяна – Лёву. Можно сказать, что его выкормили сразу две Наташи Ростовых. Ведь известно, что в этом образе Толстой объединил обеих сестер.
Его крестными были тетушка Толстого по отцовской линии Пелагея Ильинична Юшкова и князь Сергей Семенович Урусов – удивительный человек, генерал-майор, историк, математик, богослов, лучший в то время русский шахматист.
Маленького Лёлю любила не только мать. Его выделяли и баловали все взрослые. Больше всех сыновей Толстого его любил гувернер Федор Федорович Кауфман. Всё это не могло не вызывать ревность у старших братьев, Сергея и Ильи. Они не пускали Лёлю в свои игры, называя его с Машей «little ones» («маленькие»), в то время, как они считались «big ones» («большие»). Они дразнили его «Сюськой под соусом», потому что он сюсюкал и как-то облил себя соусом. Пожалуй, это было единственное, что омрачало радость его детства, если не считать смертей двух тетушек отца, живших в их доме, Пелагеи Ильиничны и Татьяны Александровны, а также ранних смертей братьев Петра и Николеньки и сестры Вареньки.
Его любили, им любовались!
«Лёвушка делается очень мил, – пишет Софья Андреевна, когда муж лечится кумысом в Самарской губернии. – Я его спрашиваю, указывая на мама́ (теща Толстого Любовь Александровна Берс – П. Б.) кто это? Он говорит: бабика. Потом посмотрел на Пелагею Ильиничну, засмеялся и говорит: «много бабики». Так это было смешно. Теперь у него привычка всем говорить «милая»…»
Он часто вызывал во взрослых это чувство: умиление. Не ребенок, а херувимчик! Летом 1871 года его причащали в храме Николая Чудотворца в селе Кочаки. «Лёвушка, как и везде, и тут особенно отличился, – пишет мужу Софья Андреевна. – Других причащали и дали пить теплое и есть просвиру, а он поднял головку и кричит: «И Лёли, полалуста»…» Получив свою порцию, ребенок сказал по-английски: «Please, some more for Leila»[4]. «Все даже засмеялись», – пишет Софья Андреевна.
И Толстой запомнил этот эпизод из письма жены. Он затем появится в восьмой главе третьей части «Анны Карениной», где Долли Облонская причащает своих детей в деревенской церкви. Слова «please, some more» произносит меньшая дочь Лили, которая «прелестна своим наивным удивлением пред всем».
В дамском обществе
Сознательно или нет Толстой в романе поменял пол своего сына, при этом лишь слегка изменив его детское имя: Лёля на Лили? Это не праздный вопрос. Мы хорошо знаем, как относилась к Лёле его мать, братья и даже гувернер. Но мы почти ничего не знаем о том, как воспринимал его отец. Нет ни одного упоминания о Лёле в дневниках Толстого вплоть до марта 1884 года, когда мальчик приближался к пятнадцатилетию: «Вечер хорошо работал сапоги. Пришли Илья и Лёля и очень весело работали». То есть сын удостоился внимания отца тогда, когда начал шить сапоги. Так вышло, конечно, случайно. Но это символично. Лёля в глазах отца обретает пол и характер не когда сюсюкает по-английски в церкви, а когда берет в руки кожу, шило, дратву, гвозди.
Вторым тонким, но важным обстоятельством раннего детства Лёли было то, что как родился он «в дамском обществе», так и воспитывался в нем поначалу.
Илья и Сергей, не сильно отличаясь по возрасту, играли и проводили время вместе. С ними была и старшая дочь Татьяна. Подругами же Лёлиного детства стали две сестры Маши, родная и двоюродная, Толстая и Кузминская.
В 1898 году в журнале для детского чтения «Родник» вышла повесть Льва Львовича «Яша Полянов» – пожалуй, лучшее из всего, что он написал. По сути, это воспоминания о раннем яснополянском детстве – отсюда и имя главного героя. Повесть эта многое дает нам для понимания атмосферы, в которой воспитывалась душа этого ребенка.
Это женский мир!
Сначала, кроме матери, им занималась простая русская няня Марья Афанасьевна Арбузова, которая вынянчила всех пятерых старший детей Толстых, «…типичная нянюшка, – пишет о ней Илья Львович Толстой. – Маленькая, кругловатая, с черным чепчиком на голове, добрая, бесцветная, иногда ворчливая».
С нее и начинается «Яша Полянов». «Мы долго ходили с няней по лесам и посадкам нашего Михайловского, находя кое-где последние рябые застарелые грибы, и, наконец, усталые, незадолго до обеда вернулись домой».
И раз уж название Ясная Поляна автор незатейливо изменил на пушкинское Михайловское, то и литературное имя няни стало не Марья Афанасьевна, как на самом деле, но Арина Васильевна – почти Арина Родионовна…
Но больше ничего, кроме имен и названий, в повести не является вымыслом… Однажды няню сменила английская гувернантка miss Emilie Tabor[5], настоящее имя которой Лев Львович в своей повести даже не стал менять. Толстой-отец писал о ней: «Эмили мне очень нравится – полнокровная, степенная, смешливая, добрая, твердая, но грубоватая, не в смысле натуры, но в смысле воспитания и манер». А Софья Андреевна вспоминала, что miss Emilie была особенно хороша с младшими из старших детей, «очень скоро привязала к себе хилую, слабенькую, двухлетнюю Машу, и Лёва тоже ее полюбил». Маша же настолько привязалась к англичанке, что вскоре у девочки появились языковые проблемы: в раннем детстве она хуже говорила по-русски, чем по-английски.
Самым первым воспоминанием детства Яши Полянова было то, как мать кормила его молоком. «Когда я пишу эти воспоминания, мне всё кажется, что я помню не только, как Петю и других моих братьев купали в ванной, присыпали желтым порошком, пеленали, кормили, но и меня самого. Мне всё кажется теперь, что это я сам лежал на коленях матери и сосал ее теплое, сладковатое молоко, она с любовью наклоняется надо мной и внимательно меня разглядывает. А я так занят моим делом, так старательно втягиваю в себя вкусное молоко, что не хочу отрываться и все-таки приятно сознаю, что мать занимается мной и с любовью меня изучает…»
Вторым воспоминанием – как его передавали от няни к гувернантке, поселив с ней в одной комнате. Няня плакала. Мальчик был безутешен.
«Я догнал ее, подбежал к ней совсем близко и, схватив ее за указательный палец левой руки, крепко сжал его. Этот палец у няни был с отрубленным ногтем и поэтому всегда красный и лоснящийся на кончике. Когда она еще прежде, до моего рождения, жила одно время у нас в доме не нянею, а экономкой, то нечаянно отрубила себе палец, когда колола сахар. Не знаю уже почему, но в минуты какого-нибудь душевного волнения, хотя я страстно любил этот нянин уродливый палец, как любил ее всю, он раздражал меня, и я сильнее замечал его, в то же время не желая на него смотреть…
– Прощай, миленький мой, – проговорила няня, – видно, отжили мы с тобой наше время.
– Прощай, нянюшка милая, – горячо выговорил я, и опять слезы брызнули у меня из глаз».
Первое сочувствие к гувернантке тоже связано со слезами. Однажды ночью мальчик видит, как девушка из чужой страны достает из сундучка фотографию, ставит перед собой на столе и долго и пристально смотрит на нее. «В это время две крупные слезы одна за другой выкатились из глаз miss Emilie и повисли на ее ресницах. Она тихо заплакала. «О чем это она, о ком? – подумал я с беспокойством. – Бедная, бедная miss Emilie: приехала далеко в чужую страну одна, без родных, без семьи и сидит здесь со мной и плачет. Господи, как же помочь ей теперь?»
С этой минуты я почувствовал, что полюбил ее…»
А первым по-настоящему серьезным потрясением в жизни, с которым автор «Яши Полянова», собственно, и связывает конец детства, была передача его в комнату мальчиков под руководство гувернера-немца. Об этом событии, перевернувшим душу ребенка, много рассказывается в повести. Ему придается такое же важное значение, какое Толстой-отец в своем «Детстве» придает смерти матери главного героя, вместе с которой кончается уже его детство.
Мать Яши вступает в конфликт с отцом, уговаривая его не отрывать мальчика от женского общества. «…это безбожно, это ужасно, – говорит она рыдая, – Разве ты не видишь, что он еще мал, что ему лучше бы побыть еще с нами, что это не такой ребенок».
«Да что такое? Какой ребенок? Чего он боится?» – не понимает отец. А Яша думает: «Он всё равно не поймет, он не поймет, как мне грустно и одиноко, как я жалею miss Emilie и Катю, как мне страшно здесь. Он не знает, как я жил там хорошо с няней и miss Emilie, Катей и Верочкой, как они любили и ласкали меня, как я любил их и был счастлив там. Он не поймет этого».
«Яша Полянов» заканчивается страстным гимном женщинам. «Всё то время, что я был внизу с мальчиками… мне недоставало той любви и ласки, того нежного, чуткого ухода и руководства, какие можно иметь только от матери или от хорошей няни, только от любящей женской души. И я часто думал и думаю до сих пор, что чем дольше оставляют нас детьми в том обществе, в какое мы попали с ранних наших лет, – обществе матерей или нянь, тем лучше. Чем неотлучней и внимательней следит за нами зоркий глаз их и чем это бывает продолжительней, тем свежее и чище вырастаем мы и тем позднее начинаем видеть грязь и зло людское. И пусть балуют нас старые няни и слабые матери. Пусть балуют сколько хотят. Баловство их не опасно, как часто себе воображают это отцы».
Лев и львята
Между тем, Лёля обожал отца! Как, впрочем, и все дети. Обожал в буквальном смысле – боготворил, видел в нем какое-то особенное существо. В отличие от матери, которая была теплой, близкой, но понятной…
«Главный человек в доме – мама», – пишет в воспоминаниях сын Толстого Илья Львович. «Отцовское влияние в доме было сильнее материнского», – замечает дочь Татьяна Львовна.
В этом не было противоречия. Софья Андреевна была заботливой матерью и хозяйкой, а Лев Николаевич – непререкаемым отцовским авторитетом. Поэтому мать любили, а отца обожали.
«Она – наша… Она должна всё для нас делать, – вспоминает Илья Львович. – Она следит за нашей едой, она шьет нам рубашки, лифчики и штопает наши чулки, она бранит нас, когда мы по росе намочим башмаки… Что бы ни случилось: «Я пойду к мама». «Мама́, меня Таня дразнит»… «Где мама?» На кухне, или шьет, или в детской, или переписывает. Ее легкие частые шаги то и дело раздаются по всем комнатам дома, и везде она успевает всё сделать и обо всех позаботиться… Никому из нас в голову не могло прийти, чтобы мама́ могла когда-нибудь устать, или быть не в духе, или чтобы мама́ что-нибудь захотела для себя. Мама живет для меня, для Сережи, для Тани, для Лёли, для всех нас, и другой жизни у нее и не может и не должно быть».
Отец – совсем другое. «Мы обожали его и боялись, когда он был «не в духе», – пишет Лев Львович. – «Папа́́ не в духе, не в духе», – повторяли все, и тогда надо было ждать, чтобы настроение его улучшилось…»
«В раннем детстве я обожал отца, – дальше признается он, – любил запах его бороды, любил его руки и голос…»
Об особом запахе бороды отца, пахнувшей Жуковским[6] табаком, вспоминали и другие дети, тоже обожавшие отца, но именно поэтому державшиеся от него на значительном удалении. Это не значило, что отец был недоступен для детей. Как раз с ним были связаны самые азартные моменты жизни. Отец носил сыновей на плечах, позволял дочерям забираться к нему на колени и щекотать его до тех пор, пока он не молил о пощаде, бегал с ними на перегонки и катался на коньках, привозил из Москвы диковинное развлечение – «гигантские шаги», охотился вместе с детьми, ловил рыбу и читал вслух Жюля Верна. Он давал смешные клички – «Чурка» (Таня), «Сергулевич» (Сергей).
Однако была непреодолимая стена не только между отцом и детьми, но и между отцом и всеми домашними. «Папа́ днем уходил в свой кабинет и «занимался», и тогда мы не должны были шуметь и никто не смел к нему входить. Чем он там «занимался», мы, конечно, не знали, но с самого раннего детства мы привыкли его уважать и бояться», – вспоминает Илья Львович. «Если он “хорошо занимался”, хорошо и много писал, от него шли бесконечно яркие лучи света, веселья, доброты и счастия, – добавляет Лев Львович. – Если творчество не удавалось ему, он был скучен и мрачен, как ночь…»
«Папа́́ не в духе, не в духе…»
Он не наказывал детей, тем более не бил их, что все-таки иногда могла позволить себе Софья Андреевна. Он почти никогда не повышал на них голоса. Но… «За всю мою жизнь меня отец ни разу не приласкал, – пишет Илья Львович. – Бывало, в детстве ушибешься – не плачь, ноги озябли – слезай, беги за экипажем, живот болит – вот тебе квасу с солью – пройдет, – никогда не пожалеет, не приласкает. Если нужно сочувствие, нужно «пореветь» – бежишь к мама. Она и компрессии положит, и приласкает, и утешит».
А Лев Львович на всю жизнь запомнил, как отец в качестве особого к нему расположения и в виде исключения взял его как-то с собой морозной ночью прогуляться на деревню.
«Великолепная, тихая и звездная ночь постепенно обнимает нас своими чарами. Твердый снег скрипит под ногами, вся окрестность блестит мириадами бриллиантов под серебряными лучами полной луны. Леса в белых ризах густого инея, яблочный сад изрезан причудливыми тенями от стволов и ветвей деревьев. Мы спускаемся к Кислому Колодцу и поднимаемся к задворкам деревни. Около рощи отец останавливается и кричит звонким сильным голосом:
– Осип! Осип! Ты здесь?
– Здеся я, здеся, ваше сиятельство, – отвечает из ближнего сарая старческий мужицкий голос, и дед Осип, седой, как снег, выползает к нам из ворот навстречу. В руке у него старая одностволка, белая шапка низко опущена на волосатую голову.
– Ну что, зайцы есть? – спрашивает папа́.
– Есть, есть. Много! Вчерась одного сшиб. Погода хорошая. Дай немного попозднее, наверняка еще убью…»
«В детстве наше первое удовольствие состояло в том, чтобы отец так или иначе занимался с нами, чтобы он взял нас с собой на прогулку, по хозяйству, на охоту или в какую-нибудь поездку, чтобы он нам что-нибудь рассказывал, делал с нами гимнастику и т. д.», – вспоминает старший сын Сергей Львович.
И в то же время дети боялись его, даже старшие, обращавшиеся к нему на «ты». «Для нас его суждения были беспрекословны, его советы – обязательны. Мы думали, что он знает все наши мысли и чувства и только не всегда говорит, что знает, – пишет Сергей Львович. – Я плохо выдерживал взгляд его пытливых небольших стальных глаз, а когда он меня спрашивал о чем-нибудь, – а он любил спрашивать о том, на что не хотелось отвечать, – я не мог солгать, даже увильнуть от ответа, хотя часто мне этого хотелось».
«Отец очень редко наказывал нас, – продолжает он, – не ставил в угол, редко бранил, даже редко упрекал, никогда не бил, не драл за уши и т. п., но, по разным признакам, мы чувствовали, как он к нам относится. Наказание его было – немилость: не обращает внимания, не возьмет с собою, скажет что-нибудь ироническое. В нашем детстве и даже позднее в зависимости от нашего поведения, а иногда и без видимой причины, у него были временные любимцы, то один из нас, то другой. Постоянных любимцеву него не было».
В чем отличие любви от обожания? Любовь ищет взаимности и понимания. Обожание довольствуется милостью. А если милости нет, то предмет обожания может быть страшен.
«Иногда с ним бывает очень весело… Он лучше всех ездит верхом, бегает скорее всех, и сильнее его никого нет. Он почти никогда нас не наказывает, а когда он смотрит в глаза, то он знает всё, что я думаю, и мне делается страшно», – пишет Илья Львович.
«Я тоже, как Илья, не сомневаюсь в том, что папа́ самый умный, справедливый и добрый человек на свете, и что ошибиться он никогда не может», – вторит ему Татьяна Львовна.
И вспоминает о том, как однажды она, еще маленькой девочкой, чуть было не усомнилась в непогрешимости отца, «но я тотчас же ответила себе, что у него должны быть какие-нибудь неизвестные мне причины, чтобы поступать именно так, как он поступил…»
Таня стремглав бежала к нему, когда он возвращался с охоты из Чепыжа. «На нем были высокие болотные сапоги, ружье через одно плечо и ягдташ через другое. Я бегу к нему навстречу, хватаю его своей маленькой рукой за указательный палец и подпрыгиваю возле него. Но он озабочен и выпрастывает свой палец от моей руки…
– Погоди, Чурка, погоди, – говорит он и останавливается. Я слежу за тем, что он хочет делать, и вижу, что он вынимает из ягдташа подстреленного и не совсем еще убитого вальдшнепа. Вальдшнеп трепещет у него в руке. Папа выдергивает из него перо и втыкает ему где-то около головы это перо. Вальдшнеп перестает шевелиться».
Но почему Толстой проделал это на глазах малолетней дочери? Потому что поступал правильно! Поступал честно! Он сокращал мучения подстреленной птицы. В этом жесте весь Толстой!
«Я могу солгать перед мама, а перед папа́ не могу, потому что он всё равно сразу узнает… – пишет Илья Львович Толстой. – И все наши секреты он тоже знает. Когда мы играли в домике под кустами сирени, у нас было три больших секрета, и никто, кроме Сережи, Тани и меня, этих секретов не знал. Вдруг папа́ пришел и сказал, что он знает все три наших секрета и что все они начинаются на букву “б”, и это была правда. Первый секрет был, что у мама́ скоро будет “бебичка”, второй, что Сережа влюблен в “баронессу”, а третий – я не помню».
«Любили ли мы его? – задается вопросом Сергей Львович. – Разумеется, любили. Мы не только любили его: он занимал очень большое место в нашей жизни; и мы чувствовали, что он подавляет наши личности, так что иной раз хотелось вырваться из-под этого давления. В детстве это было бессознательное чувство, позднее оно стало сознательным, тогда у меня и моих братьев явился некоторый дух противоречия по отношению к отцу».
…В сентябре 1881 года большая семья Толстых переезжает из Ясной Поляны в Москву. Старшему Сергею нужно поступать в университет. Татьяна проявляет художественные способности и мечтает поступить в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Да и в свет ее пора вывозить – невеста уже! Илью и Льва нужно определять в гимназию. Заканчивается первый яснополянский период жизни Толстых. Вместе с ним закончивается детство Лёвы.
Глава вторая
Тонкий мальчик
Теперь пишет топкий мальчик.
Из письма Лёли Толстого
Потерял шапку
Отрочество и юность Лёли Толстого были счастливыми, как и детство. За исключением мелких неприятностей, они не отмечены никакими страданиями, которые могли бы в корне изменить натуру этого красивого, грациозного и рассудительного мальчика. И никому в голову не могло прийти, что через десять лет после переезда в Москву из этого мальчика получится несчастный неврастеник, больной какой-то неизвестной разрушительной болезнью.
В жизни Толстого-отца были вроде бы незначительные, но глубоко символические события, настоящий смысл которых понимаешь только в свете всей его судьбы. Например, когда он бежал из дома в конце октября 1910 года, он, как это следует из его дневника, потерял шапку ночью в своем саду и вынужден был вернуться, чтобы взять другую. Потерять шапку – потерять голову, считали в народе. Но это случилось с Толстым в конце жизни. А вот его сын Лёва потерял шапку в самом начале сознательной жизни.
Летом 1878 года отец взял Лёлю и Илью с французским гувернером мсье Ньефом в увлекательное путешествие. В марте того же года Толстой купил у барона Бистрома четыре тысячи десятин самарских степей по выгодной цене десять рублей пятьдесят копеек за десятину в расчете на то, что в будущем цена на эти жирные, нетронутые, плодородные земли сильно вырастет (так и случилось), а также намереваясь разводить в степи лошадей, скрещивая башкирскую и английскую породы.
Можно представить, с каким чувством девятилетний Лёля отправлялся с отцом в дальний путь ради такого серьезного мужского дела – осмотра приобретенного имения. Он как будто предчувствовал, что через четырнадцать лет, после раздела отцовской собственности, именно он станет хозяином этой земли.
Маршрут был такой: от Ясной Поляны до Москвы, из Москвы поездом до Нижнего Новгорода, оттуда пароходом до Самары, затем поездом до станции Богатое Оренбургской железной дороги и потом на лошадях до степного хутора на реке Моче. Всего пять дней.
Первое письмо с дороги Толстой посылает жене уже из Москвы. «Доехали вполне благополучно, если не считать того, что Лёля потерял шапку… Будь здорова, весела и спокойна, душенька». Однако Софья Андреевна не могла быть спокойной. «Как это Лёля шапку потерял? – пишет она. – У него в кармане был плохой полотняный картузик, догадались ли хоть его ему надеть?»
Незадолго до отъезда мужа с детьми Софье Андреевне приснился страшный сон: «Будто я с Лёлей и Машей подхожу в Страстную пятницу к большому собору, и вокруг собора ходит огромный позолоченный крест; когда он обошел три раза, он повернулся ко мне, остановился, и я увидела распятого Спасителя черного с ног до головы. Какой-то человек обтирал полотенцем Спасителя, и Спаситель вдруг весь побелел, открыл правый глаз, поднял, отставив от креста, правую руку и указал на небо. Потом мы будто пошли с Лёлей и Машей по шоссе и покатилось крымское яблочко по траве, и я говорю: не берите его, оно мое».
Она поняла этот сон так, что Господь посылает ей «крест – терпение», и это как-то связано с судьбой ее детей: «от меня откатится яблочко какое-нибудь…»
Она заказала в яснополянском доме молебен с водосвятием. Муж в это время был в Петербурге.
С этой поездкой было связано несколько неприятных случайностей. По дороге в Нижний Новгород, в Павловске, вернувшись в вагон, Толстой обнаружил, что у него пропал кошелек с двумястами семьюдесятью рублями – все имевшиеся деньги. То ли забыл в буфете, где ел стерлядку, то ли вытащили. И вот что значит разумная жена! За шапку выбранила, а за деньги – нисколечко! «Что это ты, милый мой, как ты смутился и точно растерялся от таких пустяков? Это на тебя, Лёвочка, не похоже». Из Нижнего Новгорода, из гостиницы, Толстой пишет, помня о своей оплошности с потерянной шапкой Лёли: «Спали все прекрасно. Лёлю прикрывал в твое воспоминание. Впрочем, он очень хорош и удобен…»
В письме, написанном на пароходе, Толстой опять вспоминает об этой злосчастной шапке: «В утешение Лёли мальчик Протопопов потерял нынче свою шляпу. Наши же держат на снурках новокупленных».
Понимая, как это непросто мужчине впервые оказаться в дальней поездке с двумя детьми, Софья Андреевна пишет супругу: «Очень рада, что Лёля так удобен в дороге; целую милых мальчиков и очень много о них думаю».
18 июня, добравшись до хутора, Толстой сообщает жене: «Ночевали все рядом, в амбаре, и Mr. Nief и Лёля страдали от блох, но Лёля во сне чесался и меня брыкал…»
Между папа́ и мама́
Несчастной особенностью Лёвы было то, что он слишком зависел от влияния одновременно и папа́, и мама.
Это был умный, энергичный, но не самостоятельный мальчик. Внешностью и характером – в мать. Но в своем духовном и умственном развитии он старался повторять отца. Как бы ни были близки между собой Лев Николаевич и Софья Андреевна, особенно в первые пятнадцать лет совместной жизни, они были разными и во многом противоположными людьми. Лёля соединял в себе особенности обоих родителей, и таким образом семейный конфликт переживался им как глубоко внутренний…
Гораздо раньше остальных детей он стал болезненно реагировать на родительские ссоры. Сергей, Илья и Татьяна до поры до времени не придавали этому особого значения. Положение мама́ и папа́ в доме было настолько понятным и очевидным, что не вызывало сомнений и раздумий, а если родители ссорились, то это же их дело! Они – взрослые, сами разберутся!
«В то время мне казалось, – пишет Сергей Львович, – что весь строй нашей жизни идет сам собой, заботы моей матери мы принимали как должное, как само собой разумеющееся. Я не замечал, что, начиная с пищи и одежды и кончая нашим учением и перепиской для отца, всем заведовала она. Отец только давал иногда, так сказать, директивы, которые моя мать иногда игнорировала. В то же время она нередко болела и постоянно или ожидала ребенка, или кормила».
Но Лёля что-то чувствовал… Его детская душа, как эолова арфа, отвечала на малейшие колебания семейной атмосферы. «Помню ярко одну ссору между отцом и матерью, – пишет он в воспоминаниях, – на площадке около лестницы перед дверью на чердак. Мать что-то доставала за дверью в чулане, а отец стоял подле нее и кричал на нее. Из-за чего произошла эта ссора? Конечно, из-за какого-нибудь пустяка. Но оба они были в отчаянии. Мать плакала и отвечала редко, он настаивал на чем-то и что-то доказывал. Я подбежал тогда к матери, обнял ее за колени и сказал отцу: “Зачем ссориться? Это ведь ни к чему!” Мне стало жаль матери. Я за нее заступился. Отец замолчал, посмотрел на меня и проговорил: “Блаженны миротворцы”. Ссора потухла».
В дневнике его сестры Татьяны тоже упоминается присутствие Лёвы во время ссоры мама́ и папа́ в августе 1882 года. «Лёля говорит, что он нечаянно вошел в кабинет и видел, что оба плачут».
Именно Лёва оказался главным свидетелем страшного конфликта 17 июля 1884 года в Ясной Поляне, когда Толстой собрал котомку и ушел из дома, несмотря на то, что жена была на последних днях беременности и в ночь с 17-го на 18-е родила дочь Сашу…
«Я догнала его и спросила, куда он идет. “Не знаю, куда-нибудь, может быть, в Америку, и навсегда. Я не могу больше жить дома…” – со злобой и почти со слезами говорил он. “Но ведь мне родить, я сейчас уже чувствую боли, – говорила я. – Опомнись, что случилось?” Но Лев Николаевич всё прибавлял шагу и вскоре скрылся. У меня начались родовые схватки. Было уже около 12-ти часов вечера. Я села на лавочку на крокет-граунд и начала горько плакать. Пришла моя акушерка Мария Ивановна и начала меня утешать, умоляя взойти в дом. Я сказала ей, что у меня начались боли, и пусть я умру, я не могу больше так жить. Помню, пришли еще мой сын Лёва и сын Madame Seuron Alcide и так добро и нежно уговаривали меня взойти в дом. Они подняли меня с лавки, взяв под руки с обеих сторон, и бережно довели меня до спальни».
Лёве тогда было пятнадцать лет… В доме находились два старших брата – Сергей и Илья. Это их заметил отец, когда ночью вернулся домой с полдороги в Тулу. «Дома играют в винт бородатые мужики – молодые мои два сына», – с неприязнью пишет он в дневнике. В доме, по-видимому, находилась и вся семья, включая дочерей Татьяну и Машу, потому что, несмотря на переезд в Москву, лето Толстые проводили в Ясной Поляне.
Но утешать мама́ почему-то пришел пятнадцатилетний Лёля с сыном французской гувернантки…
Нет, он не был «маменькиным сынком». Он так же, как Илья, обожал охоту и так же, как Сергей, старался в учебе. Но было в его натуре что-то «женское», чего совсем не было в его братьях. Недаром он так переживал, что его раньше времени перевели от девочек к мальчикам.
«С раннего детства я был почти постоянно влюблен, – признается он в книге воспоминаний, – не только в жизнь и природу, но и в женщин, и временами это чувство заглушало во мне все остальные. Сначала болезненная привязанность к матери, нянькам и англичанкам, потом к различным девочкам моих лет и старше, а позднее к взрослым девушкам и женщинам».
В разные моменты жизни Лёва мог повести себя даже грубо по отношению к матери. Но каждый раз он чувствовал острую вину за это.
В декабре 1890 года Софья Андреевна записывает в дневнике: «Лёва весь дергается нравственно, и как подойдешь к нему – подпадаешь под его толчки, и больно бывает. Но он всегда чует, когда толкнул, и это хорошо…»
Проще всего сказать, что он пошел в мать. Не всё так просто… Как раз в этом Лёля был похож также и на отца. В книге «Правда о моем отце» Лев Львович подробно останавливается на родственниках Льва Толстого-старшего, и со стороны матери, и со стороны отца, и даже со стороны жены. И приходит к любопытному заключению: «…я вижу, что у отца совсем не было близкой мужской родни, кроме дяди Сережи (старшего брата – П. Б.), который в общем слабо и мало влиял на него. Вся родня была женская».
Как Льва Толстого-сына в раннем детстве воспитывали не отец, которому некогда было заниматься маленькими детьми, и не гувернеры-мужчины, которые больше повлияли на старших братьев Сергея и Илью, а мать, нянюшки и гувернантки, так и Львом Толстым-старшим в раннем детстве руководили не отец, у которого также не было времени на сына, а богобоязненные тетушки. Две из них, Татьяна Александровна Ёргольская и Пелагея Ильинична Юшкова, тихо доживали свой век и скончались в Ясной Поляне на глазах маленького Лёли.
Конечно, старшие братья, Николай и Сергей, по-своему повлияли на Льва Николаевича в детстве и особенно – в отрочестве и юности. Но и здесь была та же ситуация, что с Лёлей – для них он был слишком маленьким, «little one». Поэтому наперсницей в его детских играх оказалась Маша, младшая сестра, которую он и потом особенно любил.
На посторонних людей Толстой производил впечатление сильного и волевого мужчины. И только самые близкие знали о слабых сторонах его характера. О том, что он не выносит чужих слез и в каждой ссоре готов скорее уступить, чем настоять на своем. Наиболее ярко это проявлялось в нем в поздние годы.
«Ромен Роллан говорит, что в романах Толстого женские типы гораздо ярче и правдивее мужских, – пишет Лев Львович. – Не объясняется ли это только указанным семейным условием? Но не объясняется ли еще и самый характер мысли отца, даже его крайности, всё его миросозерцание, отчасти тем, что он был, как мужской ум, одинок и совершенно свободен от того строгого, неумолимого судьи, каким всегда бывает искренний ум близкого старшего родственника или хотя бы такого же сверстника?»
В Москву! В Москву!
«Перед тем, как наша семья переехала в 1881 году из Ясной Поляны в Москву, в доме царила нездоровая, нервная атмосфера. Мать уже не справлялась одна со всеми семейными заботами; отец, хотя и видел, что для воспитания выросших детей деревня не давала нужных условий, в то время переживал свой так называемый “религиозный кризис” и думал о переезде в город с большим неудовольствием», – пишет Лев Львович в «Опыте моей жизни».
Трудно сказать, насколько переезд в Москву был оправдан. Да, Сергею нужно было поступать в университет, Татьяне – выезжать в свет, чтобы выйти замуж, а Илье и Льву – учиться в гимназии. Но выезды Татьяны в свет не принесли ей семейного счастья. Университет закончил только Сергей Львович, но как раз он не учился в гимназии, а получил домашнее образование в Ясной Поляне. Илья учился в гимназии с грехом пополам. В то же время переезд в Москву совпал с началом семейного кризиса.
Одним из доказательств нездоровой семейной атмосферы было то, что искать пристанище в Москву поехала одна Софья Андреевна, находясь на шестом месяце беременности. Муж от участия в поисках жилья поначалу устранился. Летом 1881 года со слугой Сергеем Арбузовым он пешком ходил в Оптину пустынь и беседовал со старцем Амвросием, затем поехал в самарское имение с сыном Сережей, а вернувшись в Ясную Поляну, видимо, отказался помогать Софье Андреевне, хотя в письме из Самарской губернии обещал: «Даст Бог приеду, я тебе буду служить по московским делам усердно, только приказывай…»
В этих поисках нового жилья мама́ сопровождал сын Лёля, которого она взяла в Москву лечить зубы. Именно он наблюдал за тем, как неопытная в таких делах беременная женщина сначала пыталась купить дом, а затем решила снять квартиру в Денежном переулке, но она оказалась неудачной…
«Все меня смущали, – вспоминала Софья Андреевна, – всякий говорил свое мнение, и всякий находил что-нибудь неудобным в домах, которые я смотрела. Наконец, я остановилась на том, что дом я, во всяком случае, купить не решусь, а взяла довольно дешевую квартиру в Денежном переулке в доме (особняке) князя Волхонского. Мне понравился большой кабинет, выходивший на двор окнами и совершенно в стороне от других комнат. Но этот-то великолепный кабинет впоследствии приводил в отчаяние Льва Николаевича тем, что был слишком просторен и слишком роскошен…»
В выборе квартиры она руководствовалась мыслями о муже, а ради детей пошла почти на подвиг. «Жара была невыносимая, пыль, треск пролеток, одиночество – всё это было ужасно тяжело. Целыми днями я тряслась в извозчичьих пролетках, влезая и вылезая из них, чтобы осматривать квартиры и дома. Удивительно, что я не родила преждевременно от всего этого». А в результате? «Приехали в Денежный переулок, в дом Волхонского. Встретили нас там брат Петя с женой Ольгой. Всё было приготовлено: и чай, и холодный ростбиф, и постели всем; всё было освещено, всё обдуманно. Дом похвалили, но, несмотря ни на что, все сразу поверглись в уныние; и все легли спать с какой-то непобедимой тоской в душе».
«Дом на самом деле оказался вроде карточного, – вспоминал Сергей Львович. – Расположение комнат было таково, что в каждой комнате шум и разговор из других комнат был слышен. Это мешало работе отца, мешало и мне: я почти не находил времени играть на фортепиано, а когда было время, я боялся мешать отцу».
Толстой с его новыми настроениями был возмущен видом огромного кабинета, обставленного роскошной мебелью, которую с любовью подбирала жена. Софья Андреевна в отчаянии пишет сестре Т. А. Кузминской: «Лёвочка говорит, что если бы я его любила и думала о его душевном состоянии, то я не избрала бы эту огромную комнату, где ни минуты нет покоя, где всякое кресло составило бы счастье мужика, то есть эти 22 рубля дали бы лошадь или корову, что ему плакать хочется и т. д.».
В первые месяцы в Москве Софья Андреевна и Лев Николаевич постоянно плачут. «Вонь, роскошь, нищета, разврат, – пишет Толстой в дневнике о Москве. – Собрались злодеи, ограбившие народ, набрали солдат, судей, чтобы оберегать их оргию, и пируют». И собственная семейная жизнь ему видится в том же освещении. «Всё устраиваются. Когда же начнут жить? Всё не для того, чтобы жить, а для того, что так люди. Несчастные!»
«Лев Николаевич почти со мной не разговаривал и всё время давал мне чувствовать, что я его мучаю, что жизнь его отравлена мной; и я не переставая плакала». «Лёвочка впал не только в уныние, но даже в какую-то отчаянную апатию. – жалуется она своей сестре. – Он не спал и не ел, сам à la lettre[7] плакал иногда, и я думала, что я с ума сойду».
Отпадение Толстого
В мае 1880 года во время торжественного открытия памятника А. С. Пушкину в Москве, когда Достоевский произносил знаменитую «пушкинскую» речь, среди собравшихся писателей циркулировал слух, что Толстой в Ясной Поляне сошел с ума. 27 мая Достоевский писал жене: «Сегодня Григорович сообщил, что Тургенев, воротившийся от Льва Толстого, болен, а Толстой почти с ума сошел и даже, может быть, совсем сошел». И насколько же легко приняли этот слух братья-писатели, если на следующий день в письме к жене Достоевский сообщает: «О Льве Толстом и Катков подтвердил, что, слышно, он совсем помешался. Юрьев подбивал меня съездить к нему в Ясную Поляну: всего туда, там и обратно менее двух суток. Но я не поеду, хотя очень бы любопытно было».
В феврале 1881 года Достоевский скончался. Возможность знакомства великих писателей была навсегда потеряна.
Слухи о «сумасшествии» Толстого ходили не только среди писателей. В феврале 1881 года в Ясную Поляну приезжает родной брат Софьи Андреевны, Александр Берс. После его отъезда Софья Андреевна пишет сестре Татьяне Кузминской: «Меня Саша напугал, что находит в Лёвочке нравственную перемену к худшему, то есть боится за его рассудок. Ты знаешь, что когда Лёвочка чем-нибудь занят, то он весь отдается своей мысли. Так и теперь. Но религиозное и философское настроение всегда самое опасное. Теперь он здоров и весел, пополнел, и я ничего не вижу в нем опасного, и голова меньше стала болеть…»
В Туле тоже ходили разговоры о «помешательстве» Толстого. Сын Сергей считал, что этот слух пустил председатель земской управы Кислинский.
Но тот же Сергей Львович вспоминал: «В 1881 году финансовые дела нашей семьи были в блестящем состоянии… В то время у него скопилось много денег. Он продал мельницу в Никольском-Вяземском за 9 500 рублей, продал часть леса (Заказа) в Ясной Поляне, не помню за сколько, и получил за Полное собрание своих сочинений 25 000 рублей».
«Несмотря на перемену во взглядах, – пишет он дальше, – образ жизни отца в Ясной Поляне до переезда в Москву мало изменился. Он продолжал вести хозяйство в имениях, курить, есть мясо и даже охотиться. Только он стал гораздо меньше и как бы поневоле заниматься хозяйством и стал больше работать над своими писаниями, не давая себе отдыха летом. В 1881 году из большого предположенного им труда, состоявшего из четырех частей: 1) Введения («Исповедь»), 2) “Критики догматического богословия”, 3) “Исследования Евангелия” и 4) “Изложения веры”, первые две части уже были написаны, и он трудился над третьей».
Единственное, в чем он нуждается в это время, – это уединение и меньшая зависимость от хозяйственных забот. Он это вполне заслужил, ибо финансовые дела семьи идут успешно. Жена и дети сыты, одеты, обуты. Однако…
Кто страдает в Ясной Поляне?! Кто рвется в Москву, кроме Сергея и Татьяны, которые молоды и которым страстно хочется убежать из деревенской глуши? Он мечтает о студенческой жизни с ее свободой и независимостью. Она – о балах, нарядах, поклонниках! Но кому еще плохо в деревне?!
«…хочется много читать, образовываться, умствовать… хочется быть красивой», – пишет в дневнике 1878 года Софья Андреевна. «В это время был полный расцвет моего физического и умственного развития, – вспоминает она в “Моей жизни”. – Мне было 34 года, и, по словам всех без исключения, меня находили и тогда, и долго, долго после очень моложавой».
А что в Ясной Поляне?
«Перед обедом рассердилась на Илюшу и Лёлю, что утащили икры, и побила Илью и очень бранила обоих».
«Дети, то есть Илюша и Таня, всё в неудержимом духе: таскают мороженую клюкву у няни, бегают в кухню за редькой… Всё это меня суетит, и я чувствую себя несчастной и беспомощной».
«Была страшная ссора с Лёвочкой. Чувствую себя несчастной, но еще не чувствую себя виноватой. Как я всё ненавижу: и себя, и свою жизнь, и мое так называемое счастье».
«Я шью, шью, до дурноты, до отчаяния; спазмы в горле, голова болит, тоска… а всё шью, шью. Хочется иногда стены растолкать и вырваться на волю…»
«Сижу и жду каждую минуту родов, которые запоздали. Новый ребенок наводит уныние, весь горизонт сдвинулся, стало тёмно, тесно жить на свете…»
В 1879 году впервые через семнадцать лет после свадьбы и переезда в Ясную Поляну Софья Андреевна с Сергеем и Татьяной выезжает в Москву, чтобы отдохнуть и развлечься. Она оправдывается мыслью, что дети «дики и наивны», их надо «развивать». «В Москве мы пробыли недолго и побывали, где возможно. Всё для детей было ново и ужасно интересно. Дикие и всякие звери в Зоологическом саду, особенно слон; Румянцевский музей с картинами, статуями и восковыми фигурами… Потом мы обошли Кремль, дворец, соборы; ходили по магазинам делать покупки. А два вечера провели в опере. Давали “Бал-маскарад” Верди и “Линда ди Шамуни”… Побывали в Малом театре, где давали “В золоченой клетке”. Впечатлений дети мои набрались много. Я пишу сестре: “То-то мои дикари на всё удивлялись”».
Впоследствии Сергей Львович писал, что мать «страстно стремилась переехать» в Москву и что в этом ее поддерживали только он и сестра Татьяна, «…моя мать, сестра Таня и я, как чеховские три сестры, жили этой надеждой: «В Москву, в Москву!»
«Наоборот, Илья боялся гимназии, и ему жаль было лишиться в осеннее время охоты, к которой он пристрастился. Остальные – Лёва, Маша, Андрей и Миша – были слишком юны, чтобы определенно чего-то желать».
А отец?
Толстой смирился. Настолько, что, несмотря на свои новые взгляды и ненависть к городской жизни, настоящим обустройством в Москве занялся именно он, а не Софья Андреевна… После годового мучения в «карточной» квартире в Денежном переулке он оставляет семью на лето в Ясной Поляне и покупает дом купца Арнаутова в Долго-Хамовническом переулке. Сын Сергей присутствует при переговорах. «К нам вышел пожилой и некрасивый хозяин дома Арнаутов. Меня поразил его большой, узкий, красный и прыщеватый нос, повернутый на сторону. Он производил впечатление алкоголика».
Главным достоинством дома было уединенное расположение и сад размером почти в десятину (больше гектара). Но сам дом был недостаточен для большой семьи. Толстой приглашает архитектора и над первым этажом надстраивает три комнаты с паркетными полами, большой зал, гостиную и диванную. Для кабинета он выбирает одну из комнат с низким потолком и окнами в сад. Толстой сам подбирает обои и следит за перекладкой печей и покупает в дом мебель.
К началу октября 1882 года новый дом готов без непосредственного участия Софьи Андреевны, которая в письмах из Ясной Поляны как раз давала «директивные» указания мужу. Лёля одним из первых увидел этот дом и с восторгом описал его в письме к матери: «Дом принял форму очень хорошенькую, он цветом кремовый с зелеными ставнями, паркет с черными жилками, дядя Костя говорит, что всё это самый шик…»
В восторге была и Татьяна… «Наш дом чудесный, я не нахожу в нем никаких недостатков, на которые можно бы обратить внимание. А уж моя комната и сад – восхищение!»
Всё было сделано с любовью! Неудивительно, что и момент поселения в дом – 8 октября 1882 года – запомнился как светлое событие. «Мы приехали в Арнаутовку вечером, – пишет Татьяна. – Подъезд был освещен, зал тоже. Обед был накрыт, и на столе фрукты в вазе. Вообще первое впечатление было самое великолепное: везде светло, просторно и во всем видно, что папа́ всё обдумал и старался устроить как можно лучше, чего он вполне достиг… Я была очень тронута его заботами о нас; и это тем более мило, что это на него не похоже».
Но почему не похоже?!
Кто устраивал сыновей в престижную гимназию Поливанова, где учились отпрыски или богатых дворянских, купеческих или профессорских семей? Кто повез старшую дочь на первый московский бал? У кого было прочное положение в светских кругах, которое позволяло графине Софье Андреевне с дочерью бывать на вечерах в аристократических московских семьях? И наконец, кто притягивал магнитом в гостеприимный хамовнический дом цвет научного, писательского, артистического мира?
И совсем уж простой вопрос: на чьи деньги существовала семья? Кто позволял, как с девичьей наивностью пишет в дневнике Танечка, покупать «стульчики и кареты»? «По дороге заезжали к Родольфи мерить платья, которые мне привезли из Парижа». «Я разочла, что на одни туалеты я истратила около полутора тысяч за один сезон».
«На мне было белое тюлевое платье с белым атласом, а на мама́ – черное бархатное с множеством alençon[8]. Я танцевала нулевую кадриль с Борей Соловым, первую – с Мишей Сухотиным, вторую – с Обуховым-гусаром, третью – с Глебовым, четвертую – с Куколь-Яснопольским, мазурку с Кислинским, а котильон с дирижером – графом Ностицем… Ужин был великолепный, от Оливье, и оркестр Рябова, весь спрятанный в зелени. Мы приехали домой в половине седьмого».
Впрочем, Татьяна (девушка все-таки умная!) не без иронии описывает в дневнике светские разговоры:
«– Как вы похудели, графиня.
– Как вы похудели, князь.
– Как мы давно не видались, графиня.
– Как мы давно не видались, князь».
Вот рождественский вечер, на котором присутствовал фаворит Тани из московской золотой молодежи князь Иван Мещерский: «За обедом было очень весело: Манко притворялся, будто за мной ухаживает, Ваня тоже; потом побранили своих ближних, потом Ваня рассказывал, как он за мной ухаживал в прошлом году… После обеда мужчины все ушли курить и ликеры пить, а дамы пошли в гостиную пить кофе…»
А вот что происходит на вечере в доме Толстых: «Я велела ему (Ивану Мещерскому – П. Б.) петь, а он нарочно набил рот икрой и стал такие гримасы делать, просто ужас».
И весь этот «ужас» обеспечивается отцом с его связями, титулом, литературным именем и, наконец, гонорарами. А ему, с его новыми воззрениями, больно смотреть на всё это.
«…смысл человеческой жизни есть учение Христа, радость жизни есть стремление к исполнению учения и потому всё, что согласно с учением, мне любезно и радостно, всё, что противно, мне гадко и больно», – пишет он в «Записках христианина», представляющих его дневник 1881–1887 годов.
У Толстого широко открылись глаза. Он увидел море человеческого горя, которого раньше не видел или просто не обращал на него внимания.
«В нынешнем году осенью пришла Тита Борискина (наш мужик) баба. Старушка старого завета, тихая, кроткая, ласковая, иссохшая в щепку, всё желтое лицо в морщинках, морщинах и буграх между морщинами.
– Что скажешь?
– Да об своей горькой вдове – Ларивоновой. Дочь она мне, за Ларивоном была, кучером жил у вас.
Я вспомнил с трудом Ларивона.
– Умер он.
– Давно ли? Отчего помер?
– Бог его знает, сказывали, чахотка со скуки напала.
– Какая же скука, отчего?
– Как же, 2-й год в замке (в тюрьме – П. Б.).
– За что? Ведь он, кажется, хороший был малый.
– Малый такой, что на редкость, одно – выпивал, – оно, вино, и сгубило. А теперь дочь осталась, а ее деверь гонит, дочь мою. А куда она сама пята пойдет? Самой 2-их еще прокормить, а пятерых где ж прокормить. А наше дело тоже бедное…
…Я был в этом остроге и знаю его. Знаю запах этого острога, знаю пухлые, бледные лица, вшивые оборванные рубахи, параши в палатах, знаю, что такое для рабочих людей праздность взаперти день, два, три, каждый день с 24 часами, четыре, 5 – сотни дней, которые просиживают там несчастные, только думая о том и слушая о том, как отомстить тем, которые им отомстили. Туда попал Ларивон и снял поддевку, красную рубаху, надел вшивую рубаху и халат и попал в рабство к смотрителю. Зная тщеславие, самолюбие Ларивона, я могу догадаться, что с ним сделалось».
В это время его родная дочь Татьяна в Москве терзается вопросом: как незаметно обменяться на лицейском балу фотографическими карточками с Ваней Мещерским.
«В 10 часов меня одели в бледно-зеленое тюлевое платье с темно-зеленым бархатным corselet[9] и множеством крошечных птиц на платье и одной на голове. Как всегда, меня одевало пропасть народа: miss Lake, две горничные, Маша и даже дядя Костя и Лёля принимали участие…
В Лицее нас встретили Катков и Соловой (распорядитель бала) и свели в залу. Всё было очень красиво и богато, и я чувствовала себя такой счастливой и веселой».
«Как они не видят, что я не то, что страдаю, а лишен жизни, вот уже 3 года, – пишет Толстой в дневнике. – Мне придана роль ворчливого старика, и я не могу в их глазах выйти из нее: прими я участие в их жизни – я отрекаюсь от истины, и они первые будут тыкать мне в глаза этим отречением. Смотри я, как теперь, грустно на их безумство – я ворчливый старик, как все старики».
И он, конечно, испытывает обиду на семью!
«За что и почему у меня такое страшное недоразумение с семьей? Дома Сережа – сердитый. Они меня с Соней называли сумасшедшим». «Решительно нельзя говорить с моими. Не слушают. Им неинтересно. Они всё знают…»
Толстой по-новому присматривается к жене. Он замечает в ней новые черты. «Бедная, как она ненавидит меня. – Господи, помоги мне. Крест бы так крест, чтобы давил, раздавил меня. А это дерганье души – ужасно не только тяжело, больно, трудно. Помоги же мне!» «Дома праздность, обжорство и злость…»
И делает вывод, который не предвещает ничего хорошего… «Точно я один не сумасшедший живу в доме сумасшедших, управляемом сумасшедшими».
В 1881 году начинается отдаление Толстого от семьи… Он переходит во флигель хамовнического дома, где заканчивает рассказ «Чем люди живы» с проповедью всеобщей любви. Бог сокрушил на землю ангела, чтобы он понял, «чем люди живы», и возвестил об этом людям. И ангел понял, что «живы они одною любовью. Кто в любви, тот в Боге и Бог в нем, потому что Бог есть любовь».
Однако мысль о том, что «Бог есть любовь», приходит к нему в то время, когда любовные отношения в его семье как раз испытывают серьезный кризис. И ему всё больше и больше приходится убеждать себя, что он любит своих близких…
Война за детей
К пятому году жизни в Москве атмосфера в семье Толстых становится критической. В неотправленном письме к Черткову Толстой признается:
«С женой и старшим сыном начнешь говорить – является злоба, просто злоба, против которой я слаб и которая заражает меня. – Что же лучше делать? Терпеть и лгать, как я лгу теперь всей своей жизнью – сидя за столом, лежа в постели, допуская продажу сочинений, подписывая бумаги о праве на выборы, допуская взыскания с крестьян и преследования за покражу моей собственности, по моей доверенности? Или разорвать всё – отдаться раздраженью. Разорвать же всё, освободить себя от лжи без раздражения не умею, не могу еще. Молю Бога – т. е. ищу у Бога пути разрешения и не могу».
Трудность его положения заключалась еще и в том, что, не находя в семье религиозного утешения, он не мог обрести его и в церкви, как это затем произойдет с его младшей сестрой Марией Николаевной. В первом законченном, но неозаглавленном и до сих пор неопубликованном религиозно-философском сочинении, из которого выросли последующие работы: «Исповедь», «В чем моя вера», «Критика догматического богословия», – он пишет о православной церкви:
«Я теперь с этим словом не могу уже соединить никакого другого понятия, как несколько нестриженых людей, очень самоуверенных, заблудших и малообразованных, в шелку и бархате, с панагиями бриллиантовыми, называемых архиереями и митрополитами, и тысячи других нестриженых людей, находящихся в самой дикой, рабской покорности у этих десятков, занятых тем, чтобы под видом совершения каких-то таинств обманывать и обирать народ. Как же я могу верить этой церкви и верить ей тогда, когда на глубочайшие вопросы человека о своей душе она отвечает жалкими обманами и нелепостями и еще утверждает, что иначе отвечать на эти вопросы никто не должен сметь, что во всем том, что составляет самое драгоценное в моей жизни, я не должен сметь руководиться ничем иным, как только ее указаниями. Цвет панталон я могу выбрать, жену могу выбрать по моему вкусу, но остальное, то самое, в чем я чувствую себя человеком, во всем этом я должен спроситься у них – у этих праздных, обманывающих и невежественных людей».
Спорить с Толстым бесполезно. Это позиция, которая исключает спор. Гораздо важнее обратить внимание на то, что, отойдя от церкви, Толстой поставит в один ряд выбор жены и… цвета панталон. Если это оговорка, то характерная. В это время между супругами уже не только нет согласия, но, кажется, и вовсе нет ничего общего. Кроме детей. И если от хозяйственных дел Толстому удалось отказаться, написав на жену соответствующую доверенность, то выписать доверенность на воспитание детей невозможно. Дети остаются единственной сферой общих интересов и волнений. Но в силу разного понимания жизни супругами как раз здесь и проходит самый чувствительный раскол.
«Ушли не мы от тебя, а ты от нас, – пишет Софья Андреевна мужу 21 октября 1885 года, когда он задержался в Ясной Поляне. – Насильно не удержишь. – Ты забываешь часто, что ты в жизни впереди Сережи, например, на 35 лет; впереди Тани, Лёли, например, на 40, и хочешь, чтоб все летели и догоняли тебя».
Софья Андреевна убеждена, что если на стороне мужа и есть духовная правда, то защитницей семейных ценностей является только она, а муж в этом представляет собой даже опасность. Она этого не скрывает: «Спасибо, что дети ко мне [относятся] с доверием. И я оправдаю это доверие, потому что теперь только это мне и осталось… А пока я могу одно сказать: да, я хочу, чтоб он вернулся ко мне, так же как он хочет, чтоб я пошла за ним. Мое – это старое, счастливое, пережитое несомненно хорошо, светло и весело, и любовно, и дружно. Его – это новое, вечно мучающее, тянущее всех за душу, удивляющее и тяжело поражающее, приводящее в отчаяние, не только семью, но и его родных, близких, друзей».
Это не дневниковая запись… Это письмо к мужу от 2 3 декабря 1885 года, где Софья Андреевна обращается к нему в третьем лице. Фактически это ультиматум.
Но и у Толстого свои представления о том, что в первую очередь нужно детям. И он до поры до времени не желает уступать их жене, тем более, что чувствует вину за то, что в прежние годы воспитывал их в барском духе.
«Отчего я не поговорю с детьми: с Таней? – пишет он дневнике 24 апреля 1883 года. – Сережа невозможно туп. Тот же кастрированный ум, как у матери. Ежели когда-нибудь вы двое прочтете это, простите, это мне ужасно больно…»
Старший Сергей вызывает у него наибольшее раздражение, потому что, поступив в университет, ушел от влияния отца, а с матерью его продолжают связывать домашние интересы. Да и деньги сыну выдает она.
«Дома разговаривал с m-me Seuron (гувернантка – П. Б.) и Ильей. Он искал общения со мной… Спасибо ему. Мне было очень радостно…» (26 апреля 1883 года). Но, в конце концов, и Илья не радует отца. «Илья – хуже всех, грубеет – зол и эгоистичен» (26 июля).
Как и жена, Толстой жалеет детей, но понимает их счастье и несчастье по-своему, «…ужасно жаль детей. Я всё больше и больше люблю и жалею их…»
Толстой считает, что они развратили старших детей «роскошью», барскими привычками, не объяснили им нравственных основ жизни, не сделали из них настоящих христиан, воспитав их в духе «расы господ». И в этом была правда. В семье Толстых не баловали детей, но тем не менее они росли «барчуками».
«Мы росли настоящими «господами», – вспоминал Илья Львович, – гордые своим барством и отчуждаемые от всего внешнего мира. Всё, что не мы, было ниже нас и поэтому недостойно подражания… Я начал интересоваться деревенскими ребятами только тогда, когда стал узнавать от них некоторые вещи, которые я раньше не знал и которые мне было запрещено знать… Мне было тогда около десяти лет… Мы ходили на деревню кататься с гор на скамейках и завели было дружбу с крестьянскими мальчиками, но папа́ скоро заметил наше увлечение и остановил его…»
На всю жизнь Илья запомнил церемонию раздачи подарков в Ясной Поляне на Рождество. Их дарили и господским, и крестьянским детям, но разные. «Двери залы отпираются, в одну дверь втискивается толпа деревенских, в другую, из гостиной, вбегаем мы… Огромная кукла, «закрывающая глаза», и если ее потянуть за два шнурочка с голубыми бисеринками на концах, которые у нее привязаны между ногами, она кричала «папа́» и «мама́». Детская кухня, кастрюлечки, сковороды, тарелки и вилки, медведь на колесиках, качающий головой и мычащий, заводные машинки, разные всадники на лошадях, мышки, паровики и чего-чего только нам не даривали. У Сережи ружье, которое громко стреляет пробкой, и жестяные часы с цепочкой. В это время большие раздают деревенским детям скелетики[10], пряники, орехи и яблоки. Их впустили в другие двери, и они стоят кучей с правой стороны елки и на нашу сторону не переходят. “Тетенька, мне, мне куколку! Ваньке уже давали. Мне гостинцу не хватило”. Мы с гордостью хвалимся перед деревенскими ребятами своими подарками. Мы – особенные, и поэтому вполне естественным кажется, что у нас настоящие подарки, а у них только скелетики. Они должны быть счастливы и этим. О том, что они могли нам завидовать, и в голову не приходило».
Сам факт того, что Илья Львович впоследствии вспоминал об этом со стыдом, говорит о сильном влиянии на него отца. Собственно, это понимала и Софья Андреевна. Но на нее с того времени, как муж отказался от мирских проблем, свалилось такое количество забот, что она просто вынуждена была выбирать между ними и нравственной правотой мужа.
«Не будь у нее детей, она, может быть, и пошла бы за ним, – пишет Илья Львович, – но, имея в начале восьмидесятых годов семь, а потом и девять человек детей, она не могла решиться разбить жизнь всей семьи и обречь себя и детей на нищету».
Толстой не хотел этого понимать… «Она до моей смерти останется жерновом на шее моей и детей», – зло и несправедливо записывает он в дневнике 1883 года.
И вот в этой почти безвыходной ситуации находится единственный ребенок, который, всем сердцем любя мать, одновременно пытается всем сердцем разделить идеи отца.
Нежное сердце
В восьмидесятые годы Лёля Толстой у всех вызывал восхищение. Его двоюродная сестра Маша, дочь Сергея Николаевича Толстого, вспоминала о том, как он приезжал к ним в гости в Москве: «Особенно хорошо танцевал мой двоюродный брат (его тогда звали Лёля) Лев Львович Толстой. Он уже и раньше умел танцевать, но почти всегда участвовал в наших танцклассах. Всем доставляло большое удовольствие, в том числе и взрослым, смотреть, как он танцует мазурку. Моей матери особенно нравилась его манера танцевать; она вообще очень любила Лёву и говорила, что он ей напоминает Сергея Николаевича в молодости…»
Когда-то старший Сергей Николаевич был предметом зависти брата Льва Николаевича. «…Сережей я восхищался и подражал ему, любил его, хотел им быть, – писал он. – Я восхищался его красивой наружностью, его пением, – он всегда пел, – его рисованием, его веселием и, в особенности, как ни странно сказать, его непосредственностью, его эгоизмом».
Считается, что Сергей Николаевич Толстой был одним из прототипов князя Болконского в «Войне и мире».
Лёля тоже был красив, изящен, музыкален и покорял женские сердца.
«Лев Львович, кажется, ухаживал за многими, и было всегда приятно видеть его стройную фигуру с гибкими движениями, блеск его красивых черных глаз и приятную улыбку, – вспоминает Мария Сергеевна Бибикова о восьмидесятых годах. – Он часто подходил к роялю и играл какую-нибудь короткую вещь, большею частью его любимые в то время цыганские романсы “Очи черные”, “В час роковой”; из пьес “Газель”. Туше его было замечательно приятное, и музыка его всегда доставляла большое удовольствие. Когда он кончал, хотелось всегда его еще слушать, и всегда все его просили продолжать игру, на что он очень редко соглашался».
У него было нежное сердце.
«Он, правда, тебя очень любит, – пишет Софья Андреевна мужу из Ясной Поляны в Самарскую губернию 14 июня 1883 года. – Всегда первый прочтет твое письмо. Потом Таня-дочь и Таня-сестра, а Илья и Маша совсем равнодушны». В другом письме из Москвы сообщает, что Лёля заплакал во время представления оперы “Фауст” Шарля Гуно, когда “один убил другого на дуэли”. И еще тревожится о странном припадке лунатизма, который случился у Лёли накануне его тринадцатилетия: «Сплю я, вдруг слышу за перегородкой треск и шум. Я думала он упал с дивана, бросилась к его постели, – она пуста. Вижу я, бежит он в одной рубашке уже в залу. Я подошла, говорю: что ты, Лёля, куда? Вижу лицо его идиотское и он плаксиво мне отвечает: “да туда, сидеть, пустите, я пойду”».
В одном из писем родителям Лёля так выскажется о себе: «Теперь пишет тонкий мальчик».
По письмам Льва и Ильи гимназического периода заметно, что они отличались друг от друга. Илья был грубоват, что, впрочем, не мешало ему, как и Лёве, влюбляться в гимназисток. Илья был страстным охотником и плохим учеником. Лёля больше старался, может быть, чтобы угодить родителям. Но он был более нервным и неровным в поведении, «..характеру не хватает», – признается он в письме к отцу. И тут же жалуется, что мама, приехав в Москву, не поинтересовалась его баллами в гимназии. «Из алгебры уже 2 единицы получил, задач не решил и был огорчен… – отчитывается он, – а русские диктанты скоро диктует, одну 1 и одну 2 получил тоже скверно, да оно ничего привыкну, вот уже лучше теперь то 1, а теперь 2, а потом 3, 4, 5».
Из этого письма выясняются два факта. Во-первых, русский барчук в пятнадцатилетием возрасте весьма скверно владел русским письменным языком и имел слабое представление о расстановке запятых. Вероятно, это было следствием домашнего образования.
Во-вторых, Лев и Илья нередко оставались в Москве одни и были предоставлены самим себе. Отец не спешил из Ясной Поляны: он не любил город, ему лучше работалось в деревне. Софья Андреевна задерживалась в усадьбе после летних каникул ради мужа и младших детей, которые нуждались в деревенском воздухе.
Эта самостоятельность Лёле нравилась. «Славно жить одному, как рыба на мели», – пишет он мама.
Но эта самостоятельность имела и отрицательные стороны. В Москве Лёля начал курить и увлекся игрой на скачках.
Но в целом это был положительный мальчик.
Его письма к отцу и матери исполнены почтения и нежности. «Милый папа́, прочел твое доброе и доброе письмо к мама́ и мне захотелось тебе написать…»; «Милая мама…»; «Милые мои яснополянцы…»; «Здорово, папаша, мамаша, Танюша и Маша…»; «Прощайте же, надо уроки готовить, живите в Ясной подольше, но будьте живы и здоровы…»
Он чуток на чужую боль. Когда двоюродная сестра Маша Кузминская в Ясной Поляне ушибла ногу, Лёля справляется о ее здоровье: «Как нога Маши? И по какой причине она скучает, по той ли, что не может бегать, или по какой-либо другой?»
Он входит во все тонкости семейной жизни и для каждого находит приятное слово: «Маша, вот тебе письмо от Степановой, тебя madame целует, ты русский костюм не надевай. А ты, Таня, надевай и картинки пиши, ты умеешь. А ты, папа́, дрова руби и не уставай, как мама́ пишет. А мама́ гулять ходи и хоп-хоп малышам играй».
Однако в этих же письмах проявилась одна его особенность, которая впоследствии раздражала отца. Нельзя сказать, чтобы он совсем не был самокритичен. Но в своих неудачах, слабостях он был склонен винить не себя, а сложившиеся обстоятельства. У Толстых это называлось «архитектор виноват». Однажды маленький Илья, получив в подарок от родителей новую чашку, споткнулся о порог в залу и разбил ее. «Архитектор виноват!» – закричал он в слезах. Отсюда пошла семейная поговорка: если кто-нибудь винил в своих действиях не себя, а других, ему говорили: «Архитектор виноват?» У Лёли этот «архитектор» постоянно присутствует в его письмах.
«Если бы взглянули вы, милая мама, на мою жизнь, то сказали бы наверно: “как он хорошо живет!” Все хлопочут для меня одного. В гимназии учителя рано встают, чтобы поспеть на урок и учить меня. Дома дядя Костя живет, чтобы мне было приятнее и веселее, Виктор ходит за их Сиятельством и кухарка кормит их, ворочаясь у плиты целый день. Мне немного совестно, но ведь не я виноват, всё так уже налажено и устроено, что нельзя иначе», – пишет он 5 сентября 1888 года.
Впоследствии это разовьется у Льва Львовича в настоящую манию. Во многих, если не во всех, печальных обстоятельствах своей жизни он будет винить кого угодно, но только не себя.
Гимназия Поливанова
Лёля дважды поступал в гимназию. Первый раз – в 1881 году и второй – в 1884-м. Частную гимназию Поливанова для Лёли и Ильи нашел отец. Поначалу он хотел устроить их в казенное учебное заведение. Но там требовали подписки о «благонадежности» детей. И отец возмутился! «Я не могу дать такую подписку даже за себя. Как же я ее дам за сыновей?»
Подписка была формальностью. Но в этом жесте чувствовался новый Толстой, вступивший в противоречие с обычаями государства. К счастью, он узнал, что невдалеке от их квартиры в Денежном переулке находится частная мужская классическая гимназия, открытая в 1868 году выдающимся педагогом-словесником Львом Ивановичем Поливановым, поклонником его творчества. Толстой зашел туда и познакомился с Поливановым, который одновременно преподавал в гимназии русский язык и литературу. Гимназия ему понравилась. Подписки от него не требовали. Сыновей взяли туда сверх комплекта.
В гимназии учились известные писатели: Валерий Брюсов, Андрей Белый, Максимилиан Волошин, Вадим Шершеневич. Ее закончил шахматист Александр Алехин. О Поливанове как педагоге ходили легенды, и все его ученики, включая Льва Львовича, впоследствии вспоминали о нем с благодарностью.
«Лев Иванович Поливанов был готовый художественный шедевр, – писал о нем Андрей Белый, – тип, к которому нельзя было ни прибавить и от которого нельзя было отвлечь типичные черточки, ибо суммою этих черточек был он весь: не человек, а какая-то двуногая, воплощенная идея: гениального педагога. Всё прочее, что не вмещалось в “педагоге”, не было интересно в Поливанове…»
«Вспыльчивый и нервный, с седой гривой густых волос, зачесанных назад, худой и быстрый, Поливанов не только умел учить, но умел вызывать в учениках лучшие их чувства… – вспоминал Лев Львович. – Когда он сердился, он выходил из себя и сам не помнил, что говорил. Раз, в порыве гнева, он прокричал, грозя ученикам своим бледным, худым кулаком: “Здесь не кабак, а питейное заведение!” Он хотел сказать: учебное заведение».
Поливанов был чуток к художественному слову. Однажды отец помог Лёле написать сочинение о лошади, вписав туда полстраницы своего текста. Поливанов вернул сочинение, синим карандашом подчеркнув те места, которые сочинил Толстой-старший.
«– Скажите, пожалуйста, Толстой, то, что я подчеркнул, написали ведь не вы, а Лев Николаевич?
– Да! вы угадали!
– Очень хорошо, – сказал Поливанов, улыбнувшись мне самодовольно, и кивнул головой. Я поставил вам четверку».
Первый год в гимназии дался Лёле тяжело и по окончании третьего курса (Лёля поступил сразу на третий курс, Илья – на пятый) встал о вопрос о том, чтобы оставить его на второй год. На этом настаивал Поливанов, считавший, что Лёля – способный мальчик, но нуждающийся в строгой гимназической дисциплине. Мнение Поливанова разделяла и Софья Андреевна. Но этому воспротивился отец.
И здесь мы впервые сталкиваемся с ситуацией, когда новые воззрения Толстого в области воспитания своих детей оказывали на них скорее дурное влияние. Хороши или плохи были его старые взгляды, но старшие из детей, Сергей и Татьяна, выросли самыми разумными и позитивными людьми. Кстати, именно они во время ухода отца из Ясной Поляны психологически поддержали его, понимая всю сложность его положения в конфликте с их матерью, и были единственными из детей, кто ухаживал за ним в Астапове. (Кроме самой младшей дочери Саши. Но ее роль в это время осуждалась всеми детьми и впоследствии вызывало раскаяние самой Александры Львовны, ибо она, оказавшись во вражде с матерью, во многом спровоцировала уход отца).
Увлеченный своими идеями, отец всё меньше внимания уделял воспитанию и образованию детей. Но самое главное – он был внутренне против тех принципов воспитания и образования, которые сложились в его семье на основании его же собственных прежних взглядов. Прежде Толстой считал, что высокий уровень образования необходим, и на это тратилось немало средств и времени. Приглашенные домашние учителя, иностранные гувернеры и гувернантки и, наконец, уроки с родителями сделали свое дело. Сергей без труда поступил в московский университет и блестяще его закончил. А вот Илья и Лёва, получившие начальное образование в Ясной Поляне в семидесятые, уже проблемные для семьи годы, оказавшись в гимназии, стали получать колы и двойки.
Мотивы, по которым Толстой воспротивился мнению Поливанова и жены оставить Лёлю в гимназии на второй год, не совсем ясны. Но из его письма жене от 31 июля 1881 года можно догадаться, что вопрос этот был для него не главным, не таким, над которым стоит ломать голову. Ведь он был противником поступления Лёли в гимназию с самого начала. «Три дела, я понимаю, тебя мучают: Лёлин экзамен, Илюшино баловство и холодные полы. Из этих дел я больше всего признаю серьезность – полов… Второе по важности дело это Илюшино баловство… 3-е дело – Лёлька; я бы советовал вовсе оставить его в нынешнем году. В нынешнем году и так много хлопот, а он подучится дома и поступит в 4-й класс. Он такой мальчик, что ученье он скоро запоминает и скоро забывает».
Но если мальчик такой неустойчивый в учебе, если он всё скоро запоминает и скоро забывает, то тем более он нуждается в методическом образовании! Толстой противоречил сам себе.
Поливанов славился как методист, сторонник «логико-стилистического» направления в образовании. Учеба в его гимназии стоила дорого, но это давало ему независимость, которой не было в казенных учебных заведениях. Поэтому в его школу и стремились отдавать детей богатые люди. И есть подозрение, что это последнее обстоятельство больше всего не нравилось отцу. Ему была противна среда, в которую попал его сын по его же протекции.
Эта среда, впрочем, не нравилась и Лёле. Он с презрением вспоминал о сынках богатеньких родителей.
«Какие были среди них животноподобные, жалкие существа. Их наследственность и первое воспитание были еще беднее моего, и потому их жизнь была еще несчастнее.
Вот Арбуз, купеческий сынок, с громадным круглым животом и красной маленькой головой, вечно грубый, пошлый, глупый, заставляет меня подписаться на белом клочке бумаги. Я подписываю свое имя, а он пишет сверху: “обязуюсь принести Вишнякову такого-то числа три рубля”.
А вот кавказский князь из Армении, хотя он только в третьем классе, но уже поживший, всё испытавший, на вид развратный мужчина. Он уговаривает меня ехать с ним в публичный дом, и я из любопытства и по слабости соглашаюсь…»
Поездка в публичный дом, описанная Львом Львовичем, очень напоминает фрагмент из незаконченного отрывка раннего Толстого «Святочная ночь», написанного на Кавказе в 1853 году. Отрывок имел разные черновые названия: «Бал и бордель», «Как гибнет любовь» и другие. Это автобиографическое произведение, навеянное опытом Толстого, который отроком оказался в публичном доме и был потрясен этим до глубины души. Герой «Святочной ночи» Alexandre рыдает, «как дитя», сидя в карете после посещения публичного дома, куда его привезли три опытных развратника. Юный же Лёля, увидев проституток, просто сбежал из публичного дома, «как сумасшедший». «Дожидавшийся извозчик удивленно посмотрел на меня и что-то, смеясь, спросил. Я сел на санки, накрылся медвежьей полостью и стал ждать моего кавказского “друга”, раскаиваясь в том, что поехал с ним».
Отец, скорее всего, не знал об этом случае. Но он представлял себе соблазны и искушения, которые подстерегали сына в Москве. Возможно, поэтому и старался затянуть его поступление в гимназию и по той же причине вернул его в домашнюю атмосферу после третьего курса обучения еще на два года. К тому же в Москве у Лёли начались проблемы со здоровьем…
Трудно сказать: пошло ли это на пользу. Софья Андреевна позже считала, что – нет. В «Моей жизни» она пишет: «После того, как Лев Николаевич взял Лёву из гимназии домой, он пошел к Грингмуту, директору Лицея Цесаревича Николая, и просил его рекомендовать хорошего учителя Лёве и следить за его образованием. Сам Лев Николаевич хотел наблюдать за учением Лёвы и делать ему время от времени экзамены. Грингмут прислал учителя, глупого франта, бывшего лицеиста, который учил очень дурно и больше рассказывал Лёве о своих похождениях. Никто никогда не слушался уроков этого бессовестного учителя, и ни Грингмут, ни Лев Николаевич никак ни разу не отнеслись к образованию Лёвы и его успехам. Меня это ужасно мучило; я неоднократно приставала к мужу, чтоб он обратил внимание на уроки Лёвы и хоть немного этим занялся. Лев Николаевич постоянно меня отстранял от этого предмета и говорил, что это не мое дело. А между тем, продержав Лёву дома в этой праздности, его через два года опять отдали в Поливановскую гимназию».
Поливанов тоже считал, что два года потеряны: «Лев во всем пошел назад, кроме русского правописания. Сверх того настроение к худшему. Прежде очень заботливый и старательный успеть в учебном деле, ему тогда даже непосильном, теперь он сделал впечатление какого-то равнодушного ко всякому успеху мальчика. Замечена и нервность, так что едва ли его можно лишить отдыха летом. Всё это привело меня к заключению, что его путь в гимназии испорчен непоправимо».
Обратим внимание на слово настроение. Именно в нем заключалась главная причина неуспехов Лёли…
Лев-«толстовец»
Когда Лёля вновь оказался в гимназии, ситуация в семье существенно изменилась по сравнению с концом семидесятых – началом восьмидесятых. Но она не стала лучше – скорее, еще хуже. Если ко времени переезда в Москву Толстой был одинок в своих исканиях и его жена была убеждена в том, что «едва ли в России найдется десяток людей, которые этим будут интересоваться», то к середине восьмидесятых годов возникает мода на Толстого.
И это ощущается в семье, «…в последнее время столько о папа́ кричат, пишут, кажется, больше, чем когда-либо, и о ком бы то ни было. В каждом номере газет и журналов непременно помещена о нем статья, – восторженно замечает в дневнике 1886 года дочь Татьяна. – Нет дня, когда он здесь, чтобы человека три-четыре не пришли к нему, кто с просьбой о деньгах, кто за советом, кто просто, чтобы поговорить и сказать, что видел Л. Н. Толстого. Письмам же нет конца. Тоже большей частью просят совета и денег. Приходят и пьяные, и нигилисты лохматые, и священники, и купцы богатые, которые спрашивают, что со своими деньгами делать… Папа всех хорошо принимает, которые действительно нуждаются в его помощи или совете, но на письма никогда не отвечает: двух писарей не хватило бы ему на это…»
Казалось, жена проиграла, муж торжествует. Но это пиррова победа, которая досталась ценой семейного счастья. Летом 1884 года после неудавшейся попытки уйти из дома он записывает в дневнике: «Разрыв с женой уже нельзя сказать, что больше, но полный».
Главная причина, по которой этот разрыв не приводит к разводу – это дети. Их девять человек. Старшему из них, Сергею, девятнадцать лет. Младшая, Саша, только что родилась.
Дети не просто оказываются втянутыми в семейный конфликт, но и являются основным полем для военных действий. Только Сергей живет более или менее независимой жизнью. Татьяна разрывается между любовью к отцу и личными проблемами. Илья вообще не склонен придавать большое значение духовной стороне жизни: больше увлекается охотой и гимназистками. Маша слишком мала, но уже ясно, что она будет на стороне отца. Она самый нелюбимый ребенок у матери. Ведь Софья Андреевна едва не умерла ее родами, и с ней был связан первый семейный раскол. Алексей, Андрей, Михаил и Саша – еще маленькие и ничего не понимают. А вот Лёля…
В письме к Черткову Толстой пишет: «Крошечное утешение у меня в семье это девочки. Они любят меня за то, за что следует любить, и любят это. Немного еще в Лёвочке, но чем больше он растет, тем меньше. Я сейчас говорил с ним. Он всё смотрел на дверь – ему надо что-то в гимназии. Зачем я вам пишу это… Не показывайте этого письма другим».
Он и Софья Андреевна отныне по-разному понимают смысл и значение семьи. Он считает, что его жена «жернов», который тянет на дно не только его, но и детей. Она убеждена, что он губит ее жизнь и плохо влияет на детей.
«Идеи новые Льва Николаевича испортили мою жизнь и жизнь моих детей: и сыновей, и дочерей. Ломка всей их юной жизни сильно повлияла и на их душевную, и на физическую жизнь. Худенькая, слабая Маша надорвала в непосильной работе и вегетарианстве свои последние силы и здоровье. У Тани было больше чувства самосохранения, но и она пострадала от резкого отрицания всего, что отрицал отец. Сыновья же не имели руководителя в лице отца, а тоже порицателя. Хорошо пишет об этом Таня в своих дневниках, приводя свой разговор с отцом, что она отлично понимает всю истину учения отца, что она любит всё хорошее. Но когда говорят об этом, ей скучно, а когда она вспомнит о новом платье, о выездах, у ней так и вспрыгнет сердце от радости», – пишет она в воспоминаниях.
Увы, это была правда. Вступая в сознательный возраст, некоторые из детей Толстого пытались разделить его идеи. Но рано или поздно это сталкивалось с эгоистическими законами человеческой природы, с желанием взять от жизни побольше счастья, пройти череду тех же соблазнов и искушений, которые в свое время прошел отец, испытать те же радости материнства, что испытала мать. Но это вступало в конфликт с тем, что проповедовал отец. А он, озаренный открывшейся ему истиной, не хотел считаться с требованиями молодой природы, искренне полагая, что наделанных им в молодости ошибок вполне достаточно, чтобы их не повторяли его дети. Но главное – у него не было возможности оградить детей от всех соблазнов. Ведь ни дом в Москве, ни Ясная Поляна не были монастырями «толстовской веры».
Отсюда накал недовольства женой в дневниках Толстого первой половины восьмидесятых годов. Впоследствии он значительно снизился. Толстой стал понимать, что нельзя через колено ломать близких, даже если они не правы. Да и был ли он уверен в своей правоте? Если бы он был в ней до конца уверен, он ушел бы из дома гораздо раньше 1910 года, как ему и советовали сделать «толстовцы». А Толстой собирался, но не уходил, или уходил, но возвращался… И в этих его несчастных попытках бросить семью, которые всегда заканчивались возвращением, было что-то куда более человеческое, нежели в его проповеди.
Несомненно дочери любили не столько его идеи, сколько его самого, как человека и, в некотором смысле, как мужчину. Обаяние его было столь велико, что все другие в сравнении с ним казались просто пигмеями.
Что касается сыновей, здесь было куда сложнее. Быть сыном великого отца – это почетно, но непросто! Каждый из них переживал это по-разному, но перестать быть Толстым никто из них не мог, да и не хотел. Ведь Толстые – это не только Лев Николаевич, но и очень древний род.
В «Опыте моей жизни» Лев Львович называет Толстых особой расой. «Этот род, или “клан”, вошедший в жизнь России из глубины веков, – в сущности, не род, а отдельная, не похожая на других раса, сохранившая свои особенности и до сих пор. За редкими исключениями Толстые оберегли себя от влияний кровей, которые могли бы значительно видоизменить главные черты их характера, и до 22-го своего поколения остались теми же Толстыми, какими были раньше…»
«Сознание избранности пришло к нему довольно рано, – считает исследователь жизни Льва Львовича Валерия Николаевна Абросимова. – Едва переступив порог классической мужской гимназии Л. И. Поливанова в Москве, он стал иногда подписываться, как отец, словно пробуя, примеряя на себе эту ношу: “Лев Толстой”. Еще не вполне понимая, как странно выглядит это сочетание применительно к мальчику в гимназической форме, он в письме к матери пояснил: “Л. Толстой – ужо так я расписываюсь в журнале, когда я дежурный в классе”…»
Читая письма Лёли к матери, невольно обращаешь внимание на то, что он подписывал их разными именами и прозвищами, как бы пытаясь нащупать верный и не унижающий его тон.
«Л. Толстой», «Лев Толстой», «Лёля», «Лёвка», «Левонтий» – иногда две подписи в одном и том же письме. На языке психологии это называется проблемой «самоидентификации».
Можно предположить, что однажды сами родители пожалели, что дали мальчику это имя. Можно также предположить, что мальчика дразнили этим в гимназии. Как могло быть иначе, когда имя Льва Толстого гремело в печати?
В это время в кабинете отца собирались его первые последователи. Одновременно он страдал из-за того, что его сыновья не разделяют его взглядов. Это было вопиющее противоречие: за Толстым шли чужие люди, но не его мальчики!
И вот Лёля начинает всё больше и больше тянуться к отцу, уходя из-под влияния матери. В воспоминаниях он признается: «Когда с переездом семьи в Москву я попал в первые классы гимназии, как почти всегда бывает в этом возрасте, я не любил, кажется, никого, кроме себя, да и себя, вероятно, тоже не любил… Только к семнадцати-восемнадцати годам, как раз в то время, когда отец переживал свой религиозный кризис, я стал относиться к нему сознательнее и искать в нем ответов на жизнь, которая развертывалась передо мною. Эта пора была порой моей наибольшей близости к отцу, который это чувствовал и всегда делился со мной своими мыслями и чувствами, как со взрослым. Я постоянно забегал к нему в его комнаты, и в Ясной, и в Москве, и мы подолгу с ним беседовали о разных вопросах, которые в данное время интересовали его или меня. Конечно, я не мог понять тогда и малой доли того, что происходило в его душе, но я всё же чувствовал ее и, наконец, так увлекся учением отца, что мечтал сам сделаться новым христианским мучеником для блага человечества».
Лёля подружился с главным духовным учеником отца – Владимиром Григорьевичем Чертковым, «блестящим конногвардейцем», представителем богатой и знатной семьи, который в 1883 году пришел к Толстому и вскоре стал его правой рукой. «В начале своего знакомства с нашей семьей Чертков был обворожителен. Он был всеми любим. Я был с ним близок и на «ты». Он относился ко мне ласково и с любовью, и я платил ему тем же», – вспоминал Лев Львович.
Когда Чертков приезжал в Москву и останавливался у Толстых, он ночевал в комнате Лёли. При этом он был старше его на пятнадцать лет.
В конце концов, Софья Андреевна оказалась перед фактом: самый любимый ее сын стал «толстовцем», или «темным», как она называла этих людей в противоположность «светлым», светским людям. И это было для нее куда более горькой потерей, чем «отпадение» Марии.
«С Лёвой и Машей я иногда играла по вечерам в четыре руки на рояле. Лёва старался в то время учиться хорошо, но, как он мне сам говорил, новое учение отца, его жизнь с простой работой и всё его настроение и отрицание науки очень вредно повлияло на занятия Лёвы в гимназии. В отсутствие отца он писал ему письма и радовал его своим стремлением приблизиться к нему. Так, например, Лев Николаевич пишет в декабре 1884 года из Ясной Поляны, куда писал ему Лёва, или Лёля, как его тогда все звали: “Я так и вижу, как все нападут на Лёлю за то, что он имеет и умеет, что сказать мне, и сказать так, что я чувствую, что он мне близок, что он знает, что все его интересы близки мне, и что он знает и хочет знать мои интересы”» – вспоминала Софья Андреевна.
Она цитирует строки из письма мужа от 13 декабря 1884 года. Предыдущее письмо, написанное на почтовой карточке, Толстой порвал. Видимо, то послание он не смог выдержать в спокойном тоне. «Сейчас написал письмо на карточке, но начал за здравие и свел за упокой и не посылаю, и пишу на бумаге, чтобы и теперь этого не случилось. Случилось же это по случаю Лёлиного письма, которое мне было очень приятно».
Это говорит о том, что уже в 1884 году, в возрасте пятнадцати лет, Лёля оказался в эпицентре родительского конфликта. За его детскую душу шла своего рода война между папа́ и мама.
И победителем в этой странной войне во второй половине восьмидесятых оказывался отец, а не мать.
«…я так увлекся учением отца, – вспоминал Лев Львович, – что всё остальное отошло на задний план и перестало интересовать меня. Можно себе представить, как успешно я мог приготовлять греческий или латинский переводы или алгебраическую задачу после того, как в продолжении трех, четырех часов, до позднего вечера я просиживал в маленьких комнатках отца, с низкими потолками, где стояло густое облако табачного дыма и нельзя было разглядеть лиц собравшихся, но где шли горячие споры о новом учении, долженствовавшем спасти мир. Я вместе с табачным дымом пропитывался истинами, которые должны были искоренить зло и ложь жизни, и выше их не видел ничего. Что была моя жалкая гимназия рядом с великолепными задачами? Пусть меня даже выгонят из нее; что завтрашний день с его уроками, и я сам, когда вместе с моим отцом я понимал и исповедовал величайшее из откровений?»
Позже Лев Львович влияние отца однозначно определил как вредное.
«Несмотря, однако, на вредное влияние отца, я продолжал кое-как учиться в гимназии и, наконец, сделав громадное усилие над собой и стараясь больше уединяться от семьи, – выдержал экзамен зрелости и поступил в Московский университет на медицинский факультет, хотя отец всячески хаял в это время и докторов, и науку».
Трудно сказать, что в конечном итоге оттолкнуло его от учения отца. В поздних воспоминаниях он пишет, что при всей любви к отцу он и в это время «продолжал ненавидеть» его за «отношение его к моей матери, когда он несправедливо и неприятно упрекал ее, доводя до слез. То он вдруг целовал ее руку и говорил с ней добрым и нежным голосом. То недобро принимался осуждать противным, ужасным тоном, обвиняя ее во всем, – ее, на которую был навален весь тяжелый труд семьи. Она беспомощно и трогательно плакала, а он, сердитый, уходил из дома на далекую прогулку, пешком или верхом…»
Но была и еще одна деликатная причина. Эту причину нельзя объяснить рационально, но она была, и ее не мог не чувствовать «тонкий мальчик» Лёля.
Синдром Бульбы
Вспомним отзыв Толстого о Лёле из письма Александре Андреевне Толстой 1872 года:
«Хорошенький, ловкий, памятливый, грациозный. Всякое платье на нем сидит, как по нем сшито. Всё, что другие делают, то и он, и всё очень ловко и хорошо. Еще хорошенько не понимаю».
На первый взгляд, нет ничего удивительного в том, что Толстой не понимал своего сына. Ведь ему было тогда всего три года. Однако о Маше, которой было два года, он в том же письме сказал вполне уверенно: «Будет страдать, будет искать, ничего не найдет; но будет вечно искать самое недоступное».
Почти о каждом из шестерых детей Толстой высказал определенные прогнозы и, в общем, в них не ошибся. А на Льве запнулся?
Но если внимательно рассмотреть первое высказывание Толстого о сыне, то можно обратить внимания на некоторый холодок в отношении к нему. «Хорошенький», «ловкий», «всё, что другие делают, то и он», – едва ли это ценные качества в представлении отца. Вот Илья… «Самобытен во всем». Вот Сергей… «Все говорят, что он похож на моего старшего брата». Вот Татьяна… «Она будет женщина прекрасная…» Вот Маша… «Это будет одна из загадок». Лёва же предстает эдаким вертлявым мальчиком. Да, ловким, грациозным, с младых ногтей умеющим щегольски одеваться. Но это не приятно отцу. Может быть, он потому и не понимает сына, что не чувствует в нем родной породы.
В данном случае «не понимаю» не то же самое, что в случае с Машей – «это будет одна из загадок». Это еще не до конца осмысленное, но уже отрицательное высказывание. Лёля не Толстой. Лёля – Берс. Сын своей матери, а не своего отца.
При этом схожесть с матерью Татьяны его восхищает: «Все говорят, что она похожа на Соню, и я верю этому… потому, что это очевидно…»
А схожесть Лёли, скорее, раздражает. Это напоминает начало «Тараса Бульбы», когда Тарас говорит с сыном Андрием: «Э да ты мазунчик, как я вижу! Не слушай, сынку, матери: она баба. Она ничего не знает. Какая вам нежба! Ваша нежба – чистое поле да добрый конь, вот ваша нежба! А видите вот эту саблю – вот ваша матерь! Это всё дрянь, чем набивают головы ваши: и академии, и все книжки, буквари и философия, всё это: ка зна що – я плевать на всё это!»
Толстой очень любил Гоголя, но не любил «Тараса Бульбу». Тем не менее, сравнение Толстого с цельным и воинственным героем гоголевской повести имеет смысл. Ведь после духовного переворота «академии, и все книжки, буквари и философия» тоже потеряли в глазах Толстого прежнюю ценность. С этого времени Толстой старался держаться цельного, незамутненного «книжными» знаниями взгляда на жизнь и часто «рубил с плеча», решая сложнейшие вопросы мировой цивилизации «по-дурацки», как он говорил, на основании трезвого, мужицкого отношения.
Это стало одной из главных причин расхождения с сыном Сергеем, который любил науку. «Когда я его спросил, каким делом он посоветовал бы мне заняться, он был в раздраженном настроении и ответил: “Дела нечего искать, полезных дел на свете сколько угодно. Мести улицу также полезное дело”. Этот ответ меня сильно обидел и был одной из причин моей тогдашней отчужденности от мировоззрения отца», – пишет Сергей Львович в «Очерках былого».
Сам же устроив Илью и Лёлю в гимназию, как Бульба устроил своих сыновей в академию, Толстой считал учение делом второстепенным в сравнении с нравственным воспитанием. Но ведь и Бульба своего рода «нравственник». Только у него главной нравственной ценностью было не братство всех людей, как у Толстого, а «козаческое» братство. Ради него он и жертвует сыновьями, одного из них, Андрия, застрелив собственноручно.
Отношение Толстого к учебе Лёли было двойственным. «Брат Илья и я были в гимназии, и наше учение шло сначала плохо. Мать огорчалась, в то время как отец почти не обращал на это внимания, – пишет Лев Львович в книге «Правда о моем отце». – Помню, только раз мы приехали с братом из Москвы в Ясную, оба оставшись в тех же классах. Отец встретил нас на станции “Засека”, и мы объявили ему о нашем неуспехе.
– Что же это вы? – сказал он нам с упреком и с огорчением, – это не хорошо.
И весь вечер оставался мрачным».
«Иногда отец спрашивал меня, приготовил ли я заданное в гимназии, но никогда не заставлял меня делать этого», – вспоминает он в «Опыте моей жизни».
В результате отношение самого Лёли к учению было неустойчивым. Он не чувствовал поддержки отца, а когда еще и стал увлекаться его взглядами, то и вовсе решил, что папа́ против его обучения в гимназии.
Но этому неожиданно воспротивился отец.
Письмо Толстого к сыну, написанное осенью 1884 года, когда Лёля вторично должен был поступать в гимназию, точно отражает настроение отца по отношению к своему ребенку. В этом письме всё верно, правильно. Но оно неприятно своим отстраненным тоном. Словно это пишется не родному сыну, а гимназисту с соседней улицы.
«Мама́ мне сказала, будто ты сказал, что я сказал, что я буду очень огорчен, ежели ты выдержишь экзамен или что-то подобное, – одним словом такое, что имело смысл того, что я поощряю тебя к тому, чтобы не держать экзамены и не учиться. – Тут недоразумение. Я не могу сказать этого. Гимназист, который приезжал ко мне, спрашивал: выйти ли ему из гимназии и настаивал на том, что он хочет выйти. Я отсоветовал ему. Мое мнение, что человеку никогда не надо переменять свое внешнее положение, а надо постоянно стараться переменять свое внутреннее состояние, т. е. постоянно становиться лучше… А так как у тебя (к сожалению) нет другого дела, и даже представления о другом деле, кроме своего plaisir’a[11], то самое лучшее для тебя есть гимназия. Она, во-первых, удовлетворяет требованиям от тебя мама, а во-вторых дает труд и хотя некоторые знания, которые могут быть полезны другим… Бросить начатое дело по убеждению или по слабости и бессилию, две разные вещи. А у тебя убеждений никаких нет и хотя тебе кажется, что ты всё знаешь, ты даже не знаешь, что́ такое – убеждения и какие мои убеждения, хотя ты думаешь, что ты это очень хорошо знаешь…»
Казалось бы… Только два ребенка до конца разделяют убеждения отца и тем самым вступают в противоречие с матерью – Лёва и Маша. Но если о Маше в письме к своему последователю Файнерману в 1888 году Толстой пишет: «Самая большая моя радость», – то отзывы о Лёве говорят, скорее, о сомнении, что этот «ловкий» мальчик на что-то способен.
С одной стороны, Лёля «после Маши ближе всех ко мне». С другой – «Недурной малый. Может выйти очень хороший. Теперь еще далек». Редкие письма Толстого к сыну напоминают сухие нотации.
«Все самые важные шаги в жизни этак-то и делаются – не с треском, заметно, а именно так – нынче не хочется, завтра не сел за работу, а глядь уже стоишь в безвыходном положении…»
«Есть одно важное дело, всем нам одно: жить хорошо. Жить же хорошо, значит не делать сейчас того дурного, которое видим и можем не делать. Какие бы ни были те задачи, над которыми работает человек, все они наверное объясняются правильной постановкой жизни, точно так же, как улучшение моего почерка будет зависеть от того, что я сяду хорошо и твердо…»
«Убирание своей комнаты и выношение горшков никому не может мешать, кроме тех, которым стыдно, что они этого не делают. Если сравнивать два дела, совсем не подлежащих сравнению, учение крестьянских детей и убирание комнаты, то несомненно второе гораздо предпочтительнее».
Иногда поведение сына раздражает отца! Когда в мае 1889 года Лёва закончил гимназию и хотел поступать в университет, отец ждал его в Ясной Поляне, где они должны были обсудить его будущую жизнь. Но сын задерживался в Москве: лечил зубы, заказывал новое платье, пировал с гимназическими друзьями… И Толстой взорвался!
«Если ты поищешь хорошенько, то найдешь дел, подобных пломбированию зубов и заказыванию платьев, не только до 8 июня, но и до 8-го октября. Мне рассказывал Красовский, заведывавший сумасшедшим домом, что он раз вывел с собой на прогулку за ворота сумасшедших. Пройдя улицу, они попросились назад: им неловко было не среди сумасшедших. Неужели ты уж дошел до этого состояния».
Вместо того, чтобы поздравить его с выпуском из гимназии, отец пишет ему неприязненное письмо: «Что за глупости – обед с Фуксом? Одно разумное и радостное выражение радости об окончании – это то, чтобы уйти как можно скорее, не замазывая новой фальшью старую фальшь…»
Иными словами, он все-таки считал, что учеба в гимназии не пошла Лёле впрок. И вообще это всё «фальшь»! Но и убеждений отца Лёва постичь не может. Мал, не дорос и натурой не вышел, порода не та!
То, что Толстой советует сыну выносить за собой ночной горшок, а не учить крестьянских детей, это не обмолвка, но принципиальное отношение к сыну, в котором его прежде всего не устраивает его самонадеянность, поверхностность, которые в самом деле были свойственны Лёле.
Но было у него и другое качество, которого не оценил его отец, но которое очень ценила его мать.
Вспоминая 1888 год, то есть время особой близости Лёли к отцу, жена Толстого напишет:
«Наблюдательный и чуткий сын мой, Лёва, пристально раз посмотрел на меня и говорит: “Мама́, вы счастливы?” Я удивилась его вопросу и сказала ему, что считаю себя счастливой. “Отчего же у вас вид мученический?” – спросил он…»
Нельзя сказать, чтобы отец не чувствовал в нем этого. Но, может быть, именно болезненное раздвоение сына между любовью к папа́ и мама, с предпочтением все-таки мама, возводило стену между двумя Львами.
В зрелости Лев Львович придет к правильной, но запоздалой мысли, что его увлечение идеями отца скорее «тревожило», а не радовало отца. «Но он не мог мне сказать прямо, чтобы я не слушал его, а жил и делал, как все» («Правда о моем отце»).
Глава третья
Где тонко, там и рвется
Мужайся, Лев Львович Толстой, сын Льва Толстого, живи и главное живи, а не спи.
Л. Л. Толстой. Дневник 1890 года
Лёля «умер»
17 июля 1889 года Толстой из Ясной Поляны посылает своему «духовному другу» Черткову письмо, в котором с неожиданной стороны отзывается о сыне Лёве, в это время закончившем гимназию и собиравшемся поступать на медицинский факультет московского университета. Но прежде чем его процитировать, рассмотрим обстоятельства, которыми оно было вызвано.
К концу восьмидесятых годов Чертков становится главным человеком в жизни Толстого, по своему влиянию на него далеко превосходящим всех, кто его окружает в это время. Любовь Льва Николаевича к Черткову может сравниться только с любовью к дочери Марии, которая, как и Чертков, безраздельно предана отцу. Пожалуй, любовь к Маше даже глубже или, во всяком случае, интимнее любви к Черткову. Но главным человеком при Толстом является Чертков.
Все запрещенные к печати в России религиозно-философские произведения Толстого проходят через его руки. Он руководит делами толстовского народного издательства «Посредник». Он, как пишет биограф Черткова Михаил Васильевич Муратов, «с постоянной настойчивостью собирает черновики и письма Толстого, старается иметь, если не в подлиннике, то хотя бы в копии, каждую написанную им строчку. С педантической тщательностью Чертков разбирает полученные от Толстого рукописи, переписывает их сам или проверяет правильность их переписки, если это делают другие, и следит за тем, чтобы они хранились в полном порядке…»
Вместе с женой Галей (так называли Анну Константиновну Черткову, в девичестве Дитерихс) Чертков живет на хуторе Ржевск Воронежской губернии, который ему отделила богатая и знатная мать, кстати, очень недовольная увлечением сына Толстым. Вдруг в июле 1889 года у Чертковых умирает годовалая дочь Оленька.
«Его маленькая дочка Оля – Люся, как ее назвали в семье, – была своеобразной, живой и ласковой девочкой, и записки об ее жизни, которые написала мать, показывают, как крепко привязались к ней не только родители и бабушка, но и все обитатели Ржевска, среди которых она росла», – пишет Муратов.
«Мы с нею лишились больше, чем своего любимого ребенка, – сообщает Толстому Чертков, – мы лишились маленького связующего звена и смягчающей силы между всеми нами».
Ответ на это Толстого – удивительный!
«Сейчас получил вашу телеграмму, дорогие друзья, и хочу и не могу не страдать за вас, особенно за вас, милая, дорогая Галя.
Нынче только думал о том, как переносить то, что называется и что отражается в наших душах горем. У меня было огорченье, духовное, но вам не нужно говорить, что духовное горе событие, не менее, но более событие, чем матерьяльное. – Ну что больше событие: что у меня сгорел дом, умер любимый человек, или я узнал, что любимый мною человек был обманщиком и не был тем, за что я любил его?
Такого рода событие было со мною – чтоб вас не интриговало что? – скажу: это было тяжелое столкновение с сыном Лёвой, показавшее мне его похожим на Сергея, или по крайней мере показавшее, что отношения с ним могут быть такие же, как с Сергеем. Это было мое горе. И я много думал о нем и о горе вообще».
Как это понимать? Только так: у вас умерла дочь, а я разочаровался в сыне. Мое горе сильнее вашего. Если бы сын только умер, не было бы так горько.
Нигде с такой беспощадной ясностью не проявился духовный ригоризм Толстого, как в отношении к смерти детей. Его позиция в этом вопросе была настолько своеобразной, что вызывала в других людях естественное чувство сопротивления.
Так, за год до смерти дочери Чертковых Оли Василий Иванович Алексеев, бывший «народоволец», домашний учитель в семье Толстых (у него учился и Лёля), затем «крестьянствующий» интеллигент, тоже лишился дочери. Ей было четыре года. Своим горем он поделился с Толстым и в ответ получил такое письмо:
«Дорогой друг, Василий Иванович. Мне очень больно за вас, но милый друг, не сердитесь на меня, не о том болею, что вы потеряли дочь, а о том, что ваша любовная душа сошлась вся на такой маленькой, незаконной по своей исключительности, любви. Любить Бога и ближнего, не любя никого определенно и всей силою души, есть обман, но еще больший обман – любить одно существо более чем Бога и ближнего… Любишь их и детей в том числе, потому что они работники того дела, которое составляет мою жизнь и работники лучшие, чем я, испорченный соблазнами и загрязненный жизнью. Вот так отчасти и вы любили Надю, но почему она у вас одна? Если бы вы любили всех тех близких вам за то, что они будущие лучшие работники дела Божия, вы бы не чувствовали так. Я вас очень люблю, Василий Иванович, люблю за вашу доброту, благодарен вам за то, что вы помогли мне в освобождении от тех соблазнов, которые связывали меня. Но последнее время мне кажется, что вы запустили свою душу и она стала зарастать терниями».
Алексеев был ошеломлен!
«…отказаться от любви к дочери я не в силах, не могу и не мучиться при потере дочери», – возражает он Толстому. Но Толстой неумолим. «Ответ ваш на мое письмо огорчил меня… Есть то, что дана жизнь и можно на нее смотреть, как на свою собственность, отдельную свою жизнь, и можно смотреть на нее и понимать ее как служение. В первом случае и своя смерть, и смерть любимых есть ужас, во втором – нет смерти, потому что цель жизни не жизнь, а то, чему она служит. Отчего хозяйка не в отчаянии, что приготовленное ею с такой любовью кушанье – съедают. Что бы с ней было, если бы она полюбила так свое кушанье, что в нем бы видела цель? – Всё дело в том, как понимать жизнь. Можно быть плохим, ленивым слугою, но понимать себя слугою и тогда не страшно всё то, что выпадает на долю слуги; но если я понимаю себя барином, хотя бы я делал работу слуги, всякое напоминание мне того, что я слуга, будет мне ужасно…»
Алексеев впал в глубокую депрессию, которая перешла в тяжелую многомесячную болезнь.
Первое, что приходит в голову: легко было Толстому говорить о смерти чужих детей! Но в январе того же года, когда Алексеев потерял свою дочь, скоропостижно скончался пятилетний сын Толстых Алеша. Отец присутствовал при умирании ребенка до последнего дыхания. И вот что Толстой написал в связи с этим Черткову: «То, что оставило тело Алеши, оставило и не то, что соединилось с Богом. Мы не можем знать, соединилось ли, а осталось то, чем оно было, без прежнего соединения с Алешей. Да и то не так. Об этом говорить нельзя. – Я знаю только, что смерть ребенка, казавшаяся мне прежде непонятной и жестокой, мне теперь кажется и разумной, и благой…»
Его шестнадцатилетний сын Лёля, в это время увлеченный идеями отца, написал тому же Черткову: «Милый Дима, у нас горе для кого большое, для кого маленькое; умер маленький брат Алеша от горла в ночь на 18-е. Описывать подробности я не стану, а скажу только, что мама́ очень огорчается и всё это очень скучно… Теперь будет весь этот скучный процесс похорон. Чем скорее маленького не будет в доме, тем скорее пройдет это горе… Мы с папа́ много говорили нынче об этом, и я не согласен в том, что он говорит, что то, что оставило Алешу, есть тот общий, вездесущий огонь Бога; я думаю, что у каждого человека есть собственный огонь или душа, который оставляет его».
Все-таки сын не разделял до конца душу и тело ребенка, видел в его смерти некое личное событие, верил в то, что у каждого человека есть индивидуальная душа. В религиозной точке зрения отца чувствуется восточная мудрость, призыв к «радостному» отношению к смерти. Но и что-то сухое, рациональное.
В то же время нельзя не удивиться глубокой и какой-то почти детской обиде, которую испытывает отец от духовного, как ему кажется, предательства сына.
В июле 1889 года Льву Николаевичу – шестьдесят лет, а Лёве – только двадцать. Из-за чего случилась эта ссора, о которой Толстой пишет в письме к Черткову?
«Затеяли вечный, один и тот же разговор о хозяйстве – унывая, отчаиваясь, осуждая друг друга и всех людей. Я попытался сказать им, что всё дело не за морями, а тут под носом, что надо потрудиться узнать, испытать и тогда судить. Лёва начал спорить. Началось с яблочного сада. С упорством и дерзостью спорили, говоря: с тобой говорить нельзя, ты сейчас сердишься и т. и. Мне было очень больно. Разумеется, Соня тотчас же набросилась на меня, терзая измученное сердце. Было очень больно. Сидел до часа, пошел спать больной» (запись Толстого в дневнике от 15 июля).
«Было очень больно», – дважды повторяет он. Толстой не только раздражен, он глубоко задет, он искренне страдает от того, что домашние его не понимают, да просто не слышат его мнения!
«Думал: какое удивительное дело – неуважение детей к родителям и старшим во всех сословиях, повальное! Это важный признак времени; уважение и повиновение из-за страха кончилось, отжило, выступила свобода. И на свободе должно вырасти любовное отношение, включающее в себя всё то, что давал страх, но без страха. Так у меня с одной Машей. Боюсь говорить и писать это. Чтобы не сглазить, то есть не разочароваться» (запись от 16 июля).
И возникает вопрос: так ли уж нуждался Толстой в том, чтобы его дети непременно разделяли его убеждения? Если бы речь шла только об убеждениях, ничтожный спор из-за яблочного сада не доставлял бы ему таких страданий. Нет, тут дело было в ином! И неслучайно в рассуждениях о сыне Толстой вспоминает о дочери.
«Она сердцем почувствовала одиночество отца, и она первая из всех нас отшатнулась от общества своих сверстников и незаметно, но твердо и определенно перешла на его сторону», – пишет Илья Львович. «Она как-то умела подойти к нему просто, как к любимому старику-отцу, она, бывало, ласкала и гладила его руку, и он принимал ее ласки также просто и отвечал на них. Но с нами, сыновьями, почему-то не выходило так. Взаимная любовь подразумевалась, но не выказывалась».
На распутье
Во время учебы в гимназии Лёва часто болел. Впрочем, часто болели все дети Толстых, а некоторые даже умирали в младенчестве. Но Лёля рос еще и очень нервным мальчиком. Повышенная чувствительность была одной из причин постоянных недомоганий. На самом деле трудно понять, что было здесь причиной, а что следствием. Стал ли он «толстовцем» в силу своей впечатлительности или увлечение идеями отца расстроило его нервы?
Но пока Лёля был «толстовцем», всё валилось из его рук. Больших усилий стоило закончить гимназию. «О моем экзамене на аттестат зрелости я вижу до сих пор кошмарные сны, – писал он в зрелые годы. – Много раз снилось мне после него, что я провалился, и я просыпался в ужаce. A на самом экзамене со мной сделался настоящий припадок такого нервного возбуждения и ослабления, что я почувствовал, точно сама жизнь вдруг покинула и вылилась из меня от крайнего волнения».
Выбор медицинского факультета объяснялся желанием «служить людям на полезном поприще», а также тем, что в это время он с увлечением прочитал книгу выдающегося русского хирурга Николая Ивановича Пирогова «Дневник старого врача».
Отец относился к выбору сына без одобрения – Толстой не жаловал медицину. Но снисходительно, как вообще был снисходителен к нему, пока тот не начинал с ним спорить. «Радуюсь тому, что одна часть забот Лёвы миновала. Авось он стал милостивее; а то он был очень строг», – пишет он Софье Андреевне из Ясной Поляны после сдачи Лёлей выпускных экзаменов. «Лёва приехал недавно, в студенческой фуражке, хочет поступать на медицинский факультет. Он после Маши ближе всех ко мне, и он искреннее всех на вашей стороне», – сообщает он своему последователю Павлу Ивановичу Бирюкову. Однако через месяц происходит та самая «смертельная» размолвка из-за яблочного сада. Но еще через месяц Толстой уже вполне благодушно напишет Бирюкову: «Лёва в Москве на медицинском факультете и храбрится тем, что у него под столом кости человеческие…»
Толстой как будто не мог найти правильной стратегии в общении с Лёвой. С одной стороны, его привлекали ум и духовность сына, а с другой – он чувствовал, что сын слишком слаб, а кроме того слишком «барин». Его раздражало, как Лёва общался со слугами. «Скажи Лёве, что я был к нему не так дружелюбен, как желал этого, – пишет он Софье Андреевне после отъезда сына из Ясной в Москву. Мне неприятно было его барство: “Тит! Тит! то и сё”.
Он не чувствовал в нем внутреннего стержня. В апреле 1887 года, когда Лёва вернулся в Москву из Ясной, там остался его товарищ, сын художника Николая Николаевича Ге Николай Ге, или Количка, как его звали в семье Толстых. Лёва в Москве скучал по общению с ним, о чем Софья Андреевна писала в письме к мужу. И это тоже вызвало в отце ироническое раздражение: «Хоть бы он в себе поискал, нет ли там где Колички маленького».
Он слабо верил в будущее юного «толстовца». Совсем иначе он воспринимал Черткова: «Как он горит хорошо!» (запись в дневнике). С другой стороны, ему была ближе тихая покорность Маши, служившей отцу самозабвенно и не споря с ним.
Переходя из гимназии в университет, Лёва написал отцу письмо с возражениями на его формулу «есть одно важное дело – жить хорошо». «Так и я понимаю жизнь, так и я стараюсь поступать, но есть одно очень важное разногласие между нами, это именно то, что самое простое, близкое начало всего, о котором ты говоришь, понимается нами различно (Прости, что так пишу, я отлично понимаю, что я тебе не ровня)».
В этом письме он представляет жизнь в виде кирпичной башни, которую надо разбирать постепенно, сверху донизу. Если разбирать снизу, то башня завалится и погребет человека кучей «кирпичей» (проблем). По мнению Лёвы, отец и его последователи начинают разбирать башню снизу, и в этом их ошибка, «потому что не прошли последовательно всего, предложенного жизнью». «Надеть посконную рубаху надеть сапоги и полушубок, не есть мяса, не пить вина, всё делать на себя, не есть ли всё это начинать снизу… Я этого не делаю и понять этого не могу…»
После смерти обоих Львов последний секретарь Толстого Валентин Федорович Булгаков точно определит суть конфликта отца и сына: «В вечной и как будто столь неуместной полемике Льва Львовича с великим отцом, даже и после смерти последнего, мне чудилось иногда всё же какое-то зерно истины». По мнению Булгакова, Льва-второго «тяготил односторонний спиритуализм Л. Н. Толстого и пренебрежительное отношение его ко всей материальной и практической стороне жизни, а следовательно, и к таким установлениям, как брак, право, государство. По нервности, излишнему самолюбию и по раздражительности, придавая слишком личную форму своему спору с отцом, Лев Львович в глазах людей только ставил себя в смешное положение – и чувствовал это, – а это, в свою очередь, заставляло его еще больше нервничать…»
В то же время Булгаков проницательно писал, что «в младшем Льве было что-то от Льва старшего». «Что? А вот: представьте себе молодое беспокойство и искание Л. Н. Толстого без мощи его ума – вот вам и будет Л. Л. Толстой».
Но что было делать? Поменять имя невозможно, а характер сына формировался стремительно и под неотступным влиянием отца, хотел того отец или нет. И тогда Толстой занимает позицию, может быть, и не самую сильную, но единственно возможную в этой ситуации. Он старается придерживаться принципа невмешательства. Лёва, по его мнению, стал уже достаточно взрослым, чтобы самому выбирать свою судьбу.
«Делай как получше и приезжай поскорее, – пишет он Лёве из Ясной Поляны в июне 1889 года, когда сын закончил гимназию. – У нас всё тихо, спокойно и кому в душе хорошо, то может быть очень хорошо; к таковым принадлежу я, несмотря на нездоровье. Как и что ты решил об университете и факультете? Ведь теперь, кажется, это надо решать. Это – не столько самое дело, сколько твое решение в этом деле, – очень занимает меня. Ты вообще теперь очень интересен, потому что на распутье. И всегда на распутье человек, но иногда, как ты теперь, особенно. И со всеми вами я в эти времена с волненьем жду, воздерживаясь от вмешательства, которое бывает не только бесполезно, но вредно. Ну, прощай, голубчик, целую тебя, не делай худого и приезжай скорее».
В студенческой фуражке
Учеба в университете с самого начала не заладилась.
«Устроившись в Москве, во флигеле, где жена дворника готовила ему самый простой обед, щи, кашу и для развлечения, как говорил Лёва, блинчики, он начал ходить в университет, на медицинский факультет, куда пошел с мыслью приносить людям существенную пользу. С каким-то болезненным любопытством, изучая анатомию, ходил Лёва по подвалам, где лежали мертвецы, готовые к препарированию, как выражались студенты», – пишет Софья Андреевна в «Моей жизни».
Вместе с товарищем Иваном Раевским они даже купили человеческий скелет, «которым страшно напугали прислугу».
Для нервного и впечатлительного юноши трудно было вообразить более ненормальную атмосферу, чем анатомический театр. Но Лёва упрям и в первый месяц учебы начинает посещать занятия выдающегося физиолога Ивана Михайловича Сеченова, который преподавал на старших курсах, «…слушал с большим интересом, – пишет он матери, – хотя опыты над лягушкой были довольно противны. Лягушку распинают гвоздиками на дощечке, обнажают ей нерв, на который наводят электрический ток, лягушка корчится, шевелит лапками, изо рта ней течет кровь, а профессор с интересом и важностью рассказывает студентам от чего какие происходят действия. Это очень гадко с непривычки, хотя если жалко лягушку, то что же я буду делать, когда надо будет резать собак и кошек. В анатомическом театре каждый день густой и едкий трупный запах. Принюхиваюсь… но все-таки воняет и сказать, чтобы можно было привыкнуть к этому запаху, я думаю, невозможно. Когда приходишь домой или где-нибудь в гостях, везде в носу остается этот запах».
Не очень вписался он и в студенческую среду.
«У меня был на факультете близкий товарищ Ваня Раевский, – пишет Лев Львович в воспоминаниях, – с которым мы вместе ходили на лекции; но у обоих нас не хватало энергии, чтобы, как наши товарищи, энергичные и неизбалованные евреи, которых была суетливая толпа, освоиться со всеми неудобствами и недостатками университетского обихода и принять их безропотно».
Однако ссылка на Раевского неудачна. Раевский успешно закончил московский университет в отличие от Льва.
Причина его неудач коренилась в нем самом. Один из тех «энергичных и неизбалованных евреев», о которых он пишет с барским высокомерием, оставил о Лёве Толстом свои воспоминания: «Как курьез вспоминаю мой разговор с товарищем по первому курсу, сыном Льва Николаевича Толстого, малосимпатичным Львом Львовичем. В то время он отрабатывал очередные препараты по анатомии. Но даже приходя в анатомический театр, он подчеркнуто звал швейцара, чтобы тот снял с него шинель. Вообще он держался как типичный белоподкладочник, графский сынок. На мое предложение записаться в группу для занятий по физиологии растений он ответил отказом и в оправдание стал совсем уж неосмысленно ссылаться на то, что его отец, Л. Н. Толстой, доказал ненужность и бесполезность ботаники как науки. Я посоветовал ему не ссылаться так необдуманно на Л. Н. Толстого и уже не возобновлял с ним этого разговора» (З. Г. Френкель. «Записки о жизненном пути»).
При этом он вовсе не был неженкой и разболтанным юношей. Приехавшая в ноябре 1889 года в Москву с дочерью Татьяной Софья Андреевна нашла, что сын устроился жить один весьма прилично. «Остановились мы у Лёвы во флигеле дома в Хамовническом переулке. Он был нам очень рад, а я по-матерински была рада видеть, как хорошо он жил. Везде порядок, чистота, признаки культурных привычек и вкусов. Стоял рояль, висела и балалайка на стенке, было много книг; всё было скорее бедно в обстановке, но всё гармонировало одно с другим. Он усердно ходил в университет и абонировался на симфонические концерты».
Судя по некоторым письмам и почтовым карточкам, присланным из Москвы в Ясную Поляну, в отсутствие матери Лёля вел за нее дела по продаже собрания сочинений отца с оптового склада, который находился во дворе московского дома. Одно из таких писем написано на бумаге со штампом: «Склад изданий сочинений Гр. Л. Н. Толстого. Москва. Долго-Хамовнический переулок, № 15. Гр. Софьи Андреевны Толстой».
Но было в его натуре что-то, не позволявшее пристать ни к одному делу. И медицинский факультет был только началом этой длинной череды неудач.
«Мне был чужд и язык профессоров, в котором пятьдесят процентов слов были научные галлицизмы, чужд и противен вонючий анатомический театр, где мы резали человеческие трупы; отвратительна вивисекция, когда знаменитый профессор Сеченов душил и мучил морских свинок, крыс, лягушек и кроликов, наконец, чужда была сама студенческая среда, с которой находил мало общего».
В самом начале учебы, осенью 1889 года, он не выдержал и приехал в Ясную Поляну… «Как восторгался Лёва после зрелища мертвецов в подвалах университета нашей красивой яснополянской природой! – пишет Софья Андреевна. – Он ежедневно ходил на охоту и убил тогда 12 вальдшнепов…»
В марте 1890 года он решает оставить медицинский факультет и поступить на филологический. Поначалу-то он собирался вообще бросить университет и пойти служить… во флот. Но для этого нужна протекция влиятельного мужа его тетки, сенатора Кузминского. А «дядя Саша» не соглашается помочь без позволения родителей. А родители уже понимают, что с Лёвой происходит что-то неладное.
«Это вечное искание, любопытство новых ощущений и стремление к чему-то новому, лучшему – осталось в нем на всю жизнь и во многом мешало ему», – пишет его мать.
Однако она не договаривает главного. В начале самостоятельного пути Лёва начинает копировать поведение отца в молодости. Точно так же Толстой-старший, поступив в 1844 году в Казанский университет на филологический факультет и проучившись один курс, перевелся на юридический факультет, чтобы через полтора года бросить и его, отправившись в Ясную Поляну вести хозяйство.
В прошении об увольнении из университета восемнадцатилетний Лев Николаевич Толстой писал: «…по расстроенному здоровью и домашним обстоятельствам». В «Опыте моей жизни» Лев Львович Толстой так объяснял свой уход с медицинского факультета: «…вследствие общей ненормальной атмосферы, царившей в нашей семье, мое здоровье было подорвано, несмотря на мои природные силы».
Оба Толстые решительно не вписывались в студенческую среду.
О поведении Толстого-старшего в Казанском университете мы знаем из воспоминаний Валериана Никаноровича Назарьева, опубликованых в журнале «Исторический вестник» в ноябре 1890 года, когда сын Толстого перешел с медицинского факультета на филологический. Но читал ли сын эти воспоминания об отце? Не просто читал, а был до такой степени возмущен, что написал возражения на воспоминания о молодости отца, то есть о том времени, когда Лёвы еще не было на свете!
Поступок был настолько странный, что Лев Николаевич вынужден был в осторожных выражениях объяснять сыну, почему этого делать не следует. «Статью не надо печатать и не надо также писать. Если неприятны бестолковые и ложные суждения, то лучшее средство, чтобы их было как можно меньше, ничего не отвечать, как я всегда делал и считаю даже нужным делать…»
Говоря народным языком, Лёва лез поперед батьки в пекло. «Назарьев – только придирка, – возбужденно писал он отцу. – Можно и другого выбрать. Пожалуйста, напиши. Уж очень заврались о тебе, что же мы за дураки такие молчать, раз надо сказать, чтобы все острастку имели».
Иными словами, он убеждал отца защитить свои честь и достоинство. А если нет, это сделает за него его сын!
Но что такого страшного было в воспоминаниях Назарьева?
В них Толстой представал в неожиданном освещении. Молодой барчук, холодный и надменный. «В первый раз в жизни встретился мне юноша, преисполненный такой странной и непонятной для меня важности и преувеличенного довольства собою… – писал Назарьев. – Изредка и только на лекциях истории, обязательных для всех факультетов двух первых курсов (исключая медиков), сталкивался я с графом, примкнувшим, невзирая на свою неуклюжесть и застенчивость, к небольшому кружку так называемых аристократов. Он едва отвечал на мои поклоны, точно хотел показать, что и здесь мы далеко не равны, так как он приехал на рысаке, а я пришел пешком». Граф сразу оттолкнул Назарьева своей «напускной холодностью, щетинистыми волосами, презрительным выражением прищуренных глаз».
Вот его рассуждения об университетской науке. «А между тем, – заключил Толстой, – мы с вами вправе ожидать, что выйдем из этого храма полезными, знающими людьми. А что вынесем мы из университета? Подумайте и отвечайте по совести. Что вынесем мы из этого святилища, возвратившись восвояси в деревню, на что будем пригодны, кому нужны?»
Не себя ли увидел Лёва в этом кривом отражении?
Ведь за несколько месяцев до появления воспоминаний Назарьева он сам писал матери о причинах, по которым решил бросить университет: «…по письму вы можете подумать, что я в скверном настроении, напротив, я очень доволен, совершенно искренне говорю, и бросаю университет с легкой душой, без всяких сомнений и не от «простой лени», а по разным соображениям, побуждениям, убеждениям».
Что же это были за убеждения?
«Зачем вообще нужен университет?» – задается он вопросом в письме к матери. И сам отвечает: «Юристы, чтобы на каторгу ссылать (так на днях видел на вокзале ужасные сцены, проводы ссыльно-каторжных на Сахалин), филологи, чтобы в гимназиях мучить и вытягивать лучший сок из молодежи… а мы, медики, чтобы в больницах людей живых резать и убивать их».
«Что же остается? “Так что же нам делать?” Деревня, деревня и деревня. Оттуда надо бомбардировать, а если не можешь, так сидеть смирно и по крайней мере спокоен будешь и больше сделаешь».
Всё замечательно. Но это не его мысли. Недаром в письме приводится название статьи отца «Так что же нам делать?».
Отец рано понял эту главную проблему сына. Поэтому и отговаривал его от того, чтобы бросать университет. «Не делай этого. Мало того, что не делай этого, не ослабляй своего напряжения к занятиям, не ослабляй, а увеличивай сознание нравственного долга продолжать занятия… Оно правда, что если у тебя это намерение кончить курс завинчено только в верхние планки людского мнения и самолюбия, то их легко отодрать и оно отстанет. Крепко будет только тогда, когда прихватишь винтами за сознание долга перед своей совестью и Богом. И потому если не довинчено, винти. Я тебе отвертку дам, коли твоя не берет. Ну вот. А то это-то апатия: зачем ходить? к чему? да что?»
В сентябре 1890 года Лёва уже ходит на филологический факультет. Но и здесь ему нехорошо, неспокойно.
«Опять латынь, греческий, переводы, опять тоска…» – пишет матери. А в апреле 1891 года в письме к ней чистосердечно признается, что не может держать экзамены на второй курс.
«Дочел я свои лекции и увидал, что экзамены держать я не могу, не только потому, что я плохо знаю, но также и главное потому, что я стар и вся эта процедура экзаменов мне до того противна, что я именно не могу, не то что не хочу или воображаю себе что-нибудь, – проделывать всю эту комедию».
«Я стар», – пишет он. Ему еще не исполнилось двадцати двух лет.
Беда страшная
Во время своего пребывания в университете, Лёва Толстой представляет собой довольно сложный психологический тип. С одной стороны, он слаб и подвержен разнообразным влияниям. Он в постоянном смятении, неуверенности и бессилии найти свой путь в жизни. Наконец, в нем обнаруживаются первые признаки неизвестной нервной болезни, от которой он стремительно худеет, впадает в апатию, не может сдавать экзамены. С другой стороны, это очень амбициозный юноша, с завышенными требованиями к жизни. Он вроде готов горы свернуть, но… Всё вокруг не так! Семейные условия, университетская среда… И меньше всего ему приходит в голову, что, может быть, это он не тот, кем себя воображает.
В Москве ему нехорошо! Подобно отцу, он с отвращением наблюдает пороки городской жизни. Даже в цирке. «Сейчас вернулся из цирка, – пишет матери, – не смог досмотреть до конца, и, кажется, это последний раз в жизни. Какой разврат, какая тьма… 14-летний мальчик, вольтижер, дамы в обтянутых юбках и красных шляпах… Шел домой, и опять ночные сцены, эта таинственность разврата, который ночью, хотя и таинственно, но властно и открыто царит на улицах. Надо бежать, бояться этого соблазна в слабые минуты, а в минуты душевной бодрости укреплять себя, прощать и надеяться».
Он рвется из Москвы в Ясную. Но и там нет душевного покоя. «Приехал, полный энергии, жизни, радости, – записывает в дневнике в декабре 1890 года. – Застал всех за обедом. Какой-то гнет над всеми, как будто рады, да и рады некоторые, даже все, но за этой радостью что-то кроется тяжелое. У папа́ какое-то обиженное, грустное выражение. Он “жертвует собой”. Оно появилось сейчас же после первых разговоров. У остальных это отражается на лицах.
Начинаю жить. Все врозь. Беда страшная. Каждый забывает о других и предается эгоизму. Таня больна от нас. Маша себя обманывает и считает несчастной, как Таня… Мама воспитывает мальчиков. Андрюша занимается онанизмом. Миша близится к тому же. О, трагическое положение семьи, от тебя, великий старец, говорящий истину и переставший жить…»
Главную причину «страшной беды» он находит в отце. Уже в начале девяностых годов его раздражает культ вокруг отца. Так он пишет об Александре Никифоровиче Дунаеве, директоре Московского торгового банка: «…любовь Дунаева к папа́ доходит до абсурда, он, кажется, с удовольствием нюхает вонь из его горшка».
Не нравится ему преданность отцу сестры Маши. «Маша, та заряжена, даже не заряжена, а смазана мыслью, взглядом папа́, всем, что могло только коснуться ее душонки, и что она могла понять из сложной до бесконечности внутренней машины папа́…»
27 декабря 1890 года в Ясной Поляне праздновали Рождество. Дворовые и члены семьи Толстых обрядились ряжеными. «Ужасное зрелище, – возмущается Лёва в дневнике. – Фомич, который злится на свою нарядившуюся забитую, трудящуюся всю свою жизнь мать 6-ти маленьких детей, жену Парашу. Иван Александрович, который пляшет, когда у него на сердце кошки скребут… Варька, эта брошенная несчастная любовница нашего бывшего кучера Лукиана. Потом для полного блеска всей этой картины сестра Маша в штанах, обтянутая с тонкими ногами, христианка, вегетарианка и т. д. и глупа просто, как пробка».
Он стремится обуздать в себе злые чувства и осуждает себя за эти записи: «Очень бестолково, несвязно, а главное, “с участием ощущений” и пристрастием, пожалуй, мой спокойный “я” рассердится на высказанные сегодня некоторые мысли». Но в этом осуждении есть львиная доля «нарциссизма», который был свойствен и его отцу. Только у того он принимал другие формы – беспощадного самоанализа, самобичевания и покаяния.
Чувствуется, что он сын своего отца. Но масштаб не тот! У Толстого-старшего оптика взгляда на мир и на самого себя меняется в режиме от телескопа до микроскопа. А Лёва смотрит на жизнь обычными глазами. И это гораздо ближе к характеру его матери, а не отца. Мама тоже возмущена поведением Маши на Рождество. Она пишет в дневнике: «Вечером пришли дворовые и прислуга наша ряженые и плясали под гармонию и фортепьяно. Это Таня всё хлопотала, и самой ей хотелось глупого веселья. Она тоже и Маша нарядились. Но как только Маша вошла, мы с Лёвой ахнули. Она обтянула себе панталонами совсем зад – оделась мальчиком – и стыда ни капли. Чуждое, глупое и бестолковое создание».
И всего-то нужно – признаться самому себе. Что мать ближе, чем отец. Что «Берса» в нем больше, чем «Толстого». У него с матерью общие вкусы, привычки. Он такой же аккуратист, даже чистоплюй в хорошем смысле слова, то есть до брезгливости не переносит всё грязное, порочное, и не только во внутренних, но и во внешних формах жизни. И вообще – внешние формы для него очень важны, как и для матери, в отличие от отца. В этой ее позиции есть нерушимая правда жизни, которая позволяет сохранить семью. Непомерные духовные требования отца, может, и хороши для человечества, но невозможны для семьи. И сам отец это понимает, идет на уступки жене.
Но что-то не позволяет Лёве признать эту правду. И что-то не позволяет Толстому объяснить это сыну.
Послесловие к «Крейцеровой сонате»
В 1891 году в тринадцатом томе «Сочинений гр. Л. Н. Толстого», издаваемых его женой, вышла повесть «Крейцерова соната». Это было самое скандальное произведение Льва Толстого, вызвавшее бесконечное количество печатных откликов и устных высказываний. Можно сказать, что на протяжении девяностых годов мыслящую Россию волновали два главных вопроса: «Кто прав – народники или марксисты?» и «Что хотел сказать Толстой “Крейцеровой сонатой”?»
Один из самых проницательных ответов на второй вопрос предложил французский критик Мельхиор де Вогюэ. Перевод его статьи «По поводу “Крейцеровой сонаты”» был напечатан в журнале «Русское обозрение» еще до выхода повести, который затягивался по цензурным причинам, в то время как повесть гуляла по рукам в списках. Статью Вогюэ читали в Ясной Поляне. Одним из первых прочел ее Лёва. Как и в случае с воспоминаниями Назарьева, он был возмущен!
«Отношение его самое пошлое и обыкновенное, а главное, он не понимает или просто врет, как же можно говорить, что идеал в Сонате тот, чтобы мир кончился смертью людей, достигших безбрачия, когда дело идет о жизни. Эти критики мне надоели. Я написал статью в форме письма в газету, папа́ не согласился, чтобы я печатал его. Это он прав, но досадно бывает порой, трудно молчать и не желать высказаться», – пишет он дневнике.
Иначе отнеслась к статье Вогюэ Софья Андреевна: «…удивительно тонко и умно. Он говорит, между прочим, что Толстой дошел до крайности анализа (analyse creusante), убившего всякую жизнь личную и литературную».
«Крейцерова соната» волновала жену Толстого. Она справедливо видела в ней переживания мужа по поводу его собственной личной жизни. «Какая невидимая нить связывает старые дневники Лёвочки с его “Крейцеровой сонатой”, – пишет она в дневнике. – А я в этой паутине жужжащая муха, случайно попавшая, из которой паук сосал кровь…»
В «Послесловии к “Крейцеровой сонате”», написанном по совету Черткова, Толстой категорически высказался в пользу безбрачия и против половой любви. Между тем, в 1888 году, когда он закончил повесть, в семье Толстых родился последний ребенок – сын Ванечка. Софья Андреевна шутя говорила, что этот сын – лучшее послесловие к «Крейцеровой сонате».
Когда Вогюэ писал свою статью, он еще не читал «Послесловия…» И он абсолютно верно указал на то, что в своей повести Толстой боится сделать последний вывод. «Граф Толстой хочет упразднить природу, и этот избыток логики ставит его в невозможность сделать вывод… Отсутствие вывода – вот главный недостаток, на который я хочу указать в Крейцеровой Сонате… Но граф Толстой, такой смелый во всем остальном, не решается провозгласить его. Это заключение состоит в том, что мир должен кончиться, потому что он нехорош, и идеал состоит в том, чтоб он кончился как можно скорее посредством всеобщего безбрачия».
А 21 марта 1891 года Софья Андреевна записывает в дневнике: «Лёвочка необыкновенно мил, весел и ласков. И всё это, увы, всё от одной и той же причины. Если бы те, которые с благоговением читали “Крейцерову сонату”, заглянули на минуту в ту любовную жизнь, которой живет Лёвочка, и при одной которой он бывает весел и добр, то как свергли бы они свое божество с того пьедестала, на который его поставили!»
Особенностью новой повести Толстого было то, что ее единственным «квалифицированным» критиком могла быть только Софья Андреевна. Только она могла видеть непосредственную связь между этой вещью, ранними дневниками Толстого и его поздними переживаниями. Только она могла знать, из каких тайных глубин всплыла эта повесть.
В молодости Толстой сравнивал половой инстинкт с «чувством оленя» и боялся его. Его ранние дневники испещрены признаниями в собственном бессилии в борьбе с половым инстинктом. «…шлялся по саду с смутной, сладострастной надеждой поймать кого-то в кусту. Ничто мне так не мешает работать, поэтому решился где бы то и как бы то ни было завести на эти два месяца любовницу», – пишет он 5 июня 1856 года. И через несколько дней признается: «…была солдатка. Отвратительно».
Три поздних произведения Толстого – «Крейцерова соната», «Дьявол» и «Отец Сергий» – посвящены проблеме сокрушительной силы этого инстинкта, перед которым не может устоять человек.
Но что мог понять в этом молодой Лёва в начале девяностых годов? Во-первых, он не читал ранних дневников отца. Во-вторых, он сам, «как муха в паутине», запутался в решении полового вопроса.
Первая запись из сохранившегося дневника Льва Львовича. 1882 год, ему двенадцать лет. «Елка. Танцую у Альсуфьевых на Девичьем поле. Большой маскарад. Моя хрипота. Лили не было, и мне скучно. Но тут третья дочь Алсуфьевых, Катя, которая мне страшно нравится. Она красивая, с черными волосами, глазами и косой! Большая мне надоедает. Я болен. Цыпки и русское сочинение. Наша встреча и вся эта история. Скучаю по Лили».
В «Опыте моей жизни», не вспомнив о других, куда более важных событиях – например, о поездке с Михаилом Александровичем Стаховичем в Оптину Пустынь весной 1890 года и о «тяжелом разговоре» с отцом по возвращении, о чем пишет в мемуарах С. А. Толстая, – он подробно рассказывает о любовных увлечениях отрочества и юности. Это и Лили Оболенская, и Катя Олсуфьева, и Маша Кузминская, и Ната Философова, и Верочка Северцова, и «Козочка», «еврейка редкой красоты», с которой он познакомился на Урале и которая понравилась тем, что «была похожа, как я тогда вообразил, на Анну Каренину». Это и дочь машиниста на станции Теляки близ Уфы, где жил брат его матери Вячеслав Берс. И «главное – молодая крестьянка Даша Чекулева, любовь к которой продолжалась много лет и была в эти годы самой сильной».
История любви юного Лёвы к замужней крестьянке Дарье Чекулевой очень напоминает сюжет повести «Дьявол», написанной отцом в 1889–1890 годах, именно в то время, когда его сын страдал от этой любви. И там, и здесь – любовная страсть как наваждение, от которого нельзя избавиться иначе, как временно утолить ее половым соитием. С той лишь разницей, что любовь Лёвы осталась неразделенной, а страсть героя «Дьявола» Евгения Иртенева к Степаниде была удовлетворена. Но и завела его в окончательный нравственный тупик, из которого автор предлагает герою два выхода (два варианта финала): самоубийство или убийство Степаниды. И так же как Иртенев блуждает по деревне и вокруг нее, одновременно и с надеждой встретиться со Степанидой и боясь этой встречи, так и Лёва подстерегал Дашу то на деревне, то в поле, то в лесу.
«Часами я ждал ее в поле, и, когда, наконец, вдали показывалась ее фигура, я волновался сладкой радостью. Опять мы садились рядом, я гладил ее прелестное тело, жал ее корявые руки, но как только позволял себе больше, она вырывалась, вскакивала и убегала».
«Дьявол» – самое откровенное произведение Толстого о плотской любви. Даже там, где он прибегает к фигурам умолчания, накал половой страсти передается с исключительной силой. Вот герой опоздал на свидание со Степанидой в лесу. «Ее не было. Но на обычном месте всё, покуда могла достать рука, всё было переломано, черемуха, орешень, даже молодой кленок в кол толщиной. Это она ждала, волновалась и сердилась и, играючи, оставляла ему память».
Однако Толстой к себе беспощаден. Он видит в своей прошлой любви тяжелый грех, который не искупается годами. Он прячет рукопись «Дьявола» в обшивку стула на двадцать лет, боясь, что это прочитает жена. Лев Львович же описывает любовь к замужней крестьянке в розовых тонах, любуясь своими чувствами и жалея, что они остались неудовлетворенными.
«Воспоминания о моей оставшейся совершенно чистой любви к Дарье связаны с лучшими месяцами, днями и часами моей юношеской жизни, – с весенними соловьями и ландышами, с гущей и тенью лесов, с простором полей и лугов и жаждой, безумной жаждой жизни и счастья. Почему эту жажду ни мне, ни ей не дано было утолить? Почему столько огненного желанья и волнений потрачено бесплодно и остались о них лишь эти светлые, глубоко волнующие меня, даже сейчас, воспоминания?»
Это взгляд зрелого Льва Толстого-младшего. Но даже из «Опыта моей жизни» можно понять, что молодой Лёва относился к своим ранним «Любовям» («Мои 12 Любовей» называется сохранившийся в архиве Государственного музея Л. Н. Толстого составленный им список девушек и женщин в его жизни) совсем иначе. Как и отец в молодые годы, он боялся половой страсти.
Он спасался от нее, например, охотой, вышибая клин клином. «Охота была для меня отвлечением, часто и спасением от мыслей о женщинах, которые всё больше и неотвязчивей мучили меня. Всё же до сих пор я ухитрялся оставаться девственником, хотя давно уже был чувственно развращен в другом смысле. Избегал я женщин по двум причинам: во-первых, я боялся заразиться, во-вторых, мечтая о счастливом браке, хотел сохранить до него мою чистоту».
В начале девяностых Лёва находится под мощным влиянием отца и его «Крейцеровой сонаты». А одно из главных прозрений героя «Сонаты» Позднышева заключалось в следующем: почему девушки до брака обязаны хранить половую чистоту, а юноши – нет? Почему сексуальная опытность мужчины, вступающего в брак, не только не вменяется в грех, но даже негласно признается его достоинством?
Однако нравственные соображения постоянно конфликтуют в молодом Льве с требованиями природы. В неудовлетворенности полового инстинкта он готов видеть и причину своей болезненности.
«Итак, желудок плох, здоровье тоже мое довольно слабо, – записывает он в дневнике в декабре 1890 года. – Но надо характера, воли, духу, это заменит физические недостатки. Отчего я не крепок здоровьем и худ, как спичка? Неужели от о…? Нет, это только подлило масла в огонь, я бы и без этого был бы, пожалуй, такой же».
В письме к Черткову признается, что он измучен половой проблемой.
«Половые дела меня… тяготят страшно… Сегодня я нравственно живу и мыслю, завтра, несмотря на глубокое убеждение, что мне это запрещено совестью, не подумай – доктором, что это моя погибель, я возбуждаюсь при виде женщины до того, что всё забываю, не имею сил отойти от нее, борюсь и мучаюсь, наконец, какими-нибудь внешними средствами спасаюсь от фактического падения, а потом раскаиваюсь и чуть не рыдаю… Я, по крайней мере, до сих пор, с тех пор, как почувствовал в себе половые инстинкты, никогда не мог жить спокойно, чем-нибудь ровно и счастливо заниматься, – это постоянно отвлекало меня, заставляло забывать о том, в чем настоящая разумная жизнь, делало меня животным. Вот отчего скорее жениться, вот отчего бросать университет».
Эти интимные проблемы он обсуждал с отцом. Вот запись Толстого в дневнике от 19 декабря 1888 года: «С Лёвой говорил об общем бедствии – онанизме и о лжи, под которой скрывается разврат».
И получалось, что когда отец со всей мощью своего не терпящего компромиссов разума и всей силой художественного таланта вбивал осиновый кол в проклятый половой вопрос, доказывая, что особой любви мужчины к женщине, кроме полового влечения, быть не может, как не может быть христианского брака, – его сын только начинал терзаться тем, чем мучился в молодости отец. Только мечтал о женитьбе, как мечтал в свое время отец. Но эти сладкие терзания и смутные мечты уже были отравлены поздними откровениями отца.
Как ему было угнаться за ним? Как оправдать свое громкое имя? Что нового сказать людям, чего еще не сказал отец?
31 августа 1889 года Толстой записывает в дневнике: «Вечером читал всем “Крейцерову сонату”. Подняло всех. Это очень нужно… Лёва слушал, и ему нужно».
Охота к перемене мест
19 января 1891 года Софья Андреевна писала: «От Лёвы прекрасное письмо; но, Боже мой, какой он впечатлительный и мрачный! Нет жизнерадостности – не будет цельности, гармонии ни в жизни, ни в трудах, а жаль!»
Этой впечатлительностью и мрачностью он тоже напоминал отца в молодости. И в том не было цельности и гармонии. И тот не находил себе места… Из Казанского университета помчался в Ясную Поляну на хозяйство, потом – в Москву, в разгул и кутежи, потом – в Петербург с бесплодной попыткой продолжить учебу, потом – опять в Ясную. И так его бросало из стороны в сторону, пока весной 1951 года он не отправился со старшим братом Николаем на Кавказ.
Но ведь не просто отправился, как отправляются на службу в армию, а сначала сплавился с братом на лодке от Саратова до Астрахани… Поездку на Кавказ он поначалу явно воспринимал как увлекательное путешествие, а прибыв в станицу Старогладковская с удивлением записал в дневнике: «Как я сюда попал? Не знаю. Зачем? Тоже».
Однако, когда летом 1890 года его сыном «овладело беспокойство, охота к перемене мест», Лев Николаевич воспринял это неодобрительно. 4 июня он записывает в дневнике: «С Лёвой был разговор о его поездке. Я говорил ему, что он барин и что ему надо опомниться и покаяться».
В сентябре того же года, когда сын перешел с медицинского на филологический факультет, Толстой пишет в дневнике: «От Лёвы тяжелое письмо – не может без лакея. Поразительная нравственная тупость». Это первое откровенно злое высказывание отца о сыне.
Дело в том, что в письме из Москвы в Ясную Поляну Лёва требовал прислать ему слугу: «…здесь целое хозяйство, лампы, тарелки, 3 комнаты, пыль… Можете выводить что угодно из всего этого, что я привык к барству и т. д., но пришлите мне Ваську. Здесь искать долго и найти можно, но дороже, чем Вася. Лучше уже его».
Но что плохого было в его желании проехать по своей стране? Возможно, отца мучило именно то, что сын дублирует его молодые поступки вместо того, чтобы сразу жить с той нравственной «базой», которую уже выработал Лев Николаевич. Это тем более терзало его потому, что в глубине души он чувствовал невозможность этого. Не только в силу молодости Лёвы, но и оттого, что сам же он воспитал его «барином».
Толстой пишет: «Нынче думал: я сержусь на нравственную тупость детей, кроме Маши. Но кто же они? Мои дети, мое произведение со всех сторон, с плотской и духовной. Я их сделал, какими они есть. Это мои грехи всегда передо мной. И мне уходить от них некуда и нельзя».
Между тем путешествие Лёвы было как раз свидетельством его еще не остывшей жизнерадостности.
«Избегав и изъездив с детства всю Ясную Поляну и ее окрестности, я постепенно стал расширять мое знакомство с миром, и с первых же лет студенчества я стал ездить по России, чтобы лучше узнать ее», – пишет он в «Опыте моей жизни».
Интересно, что географически он отчасти повторял странствия отца в пятидесятые годы: «Сначала на Волгу, Уфу и Урал, потом на Кавказ и в Крым». Летом 1890 года от Нижнего Новгорода на пароходе спустился до Казани, затем по рекам Каме и Белой добрался до Уфы, оттуда по железной дороге доехал до уральских гор и вернулся в Ясную Поляну Летом следующего года он пропутешествовал таким маршрутом: Астрахань – Баку – Тифлис – Владикавказ – Пятигорск – Кисловодск – Новороссийск – Ялта – Одесса. В большинстве этих городов побывал его отец.
В каждом из путешествий Лёва заезжал в самарское имение Толстых. Это тоже был наезженный маршрут отца, который на протяжении семидесятых годов почти ежегодно летом отправлялся в самарские степи на лечение кумысом, а затем и по хозяйственным нуждам.
Так, желая доказать себе и родителям свою самостоятельность, Лёва кружил по отцовским местам, с той существенной разницей, что отец служил и подвергался смертельной опасности, а сын путешествовал все-таки как барин.
Но Толстой был неправ, упрекая сына в «нравственной тупости». Лёва чувствовал свое положение и переживал в связи с этим. В одном из писем матери с Волги он описал ей встречу с бурлаком, который изнемогая от усталости, посмотрел на него, стоявшего на мостике, и с горечью сказал: «Что, барин, весело кататься на кораблях?»
Он чутко реагировал на отношение простых людей, на всю жизнь запоминая вроде бы самые незначительные эпизоды: «В Пятигорске я стал ухаживать за понравившейся мне казачкой, стелившей мне постель в гостинице, но она с презрением охладила меня» («Опыт моей жизни»). Чем не князь Оленин в «Казаках»?
В этих путешествиях он поневоле должен был сравнивать себя с отцом. А если забывал об этом, ему напоминали другие. «На станции Казбек… я встретил маленького доктора, который крутил папироски и приговаривал: “Omnia mea mecum porto”[12]. Я сказал ему, что я Толстой, но он не поверил и назвал меня “quasi-Толстой”».
С молодой пылкостью он хотел совершить нечто достойное своего имени. И эта возможность вскоре представилась. Но прежде ему пришлось пережить два очень важных события. В один год он стал помещиком и писателем.
«И я полюбил его»
В середине апреля 1891 года в Ясную Поляну приехали все старшие сыновья для обсуждения вопроса о разделе отцовской недвижимости. Случай был уникальный. Толстой переписывал всю свою собственность на жену и детей, «как если бы я умер». Его заветная мечта раздать всё нищим не была поддержана в семье. В результате в апреле 1891 года состоялся беспрецедентный акт «наследования» всей собственности человека при его жизни, юридически закрепленный год спустя. Больше года потребовалось Софье Андреевне, чтобы оформить это решение мужа, и она пишет об этом в воспоминаниях как о «сложном, трудном и тяжелом деле».
Но ситуация была еще и психологически очень непростой. И Софья Андреевна, и все взрослые дети понимали, что это решение отца не какой-то каприз, а тяжело выстраданный компромисс между его убеждениями и интересами семьи. Толстой же понимал, какую «бомбу» он закладывает в отношения со своими последователями и противниками. Теперь каждый мог указать графу что, проповедуя на словах отказ от собственности, он на деле переписал свое имущество на домашних и остался жить «барином» в Ясной Поляне.
С этого момента только ленивый не обвинял Толстого в лукавстве. И опровергнуть ничего было нельзя, потому что объективно дело выглядело именно так. Нужно было глубоко понимать Толстого, его взгляды на себя и других людей, читать его письма и дневники, чтобы правильно оценить этот поступок.
Разделились-то они довольно мирно. Софья Андреевна пишет об этом так: «План раздела сделал сам Лев Николаевич; я умышленно отсторонилась от этого и очень стояла за то, чтобы делили всё по жребию. Но ни Лев Николаевич, ни дети этого не хотели, и после долгих разговоров и различных мнений пришли к следующему заключению: Сереже дать Никольское, половина которого составляла бы Машину часть, на которую Сережа дал обязательство выплатить за нее деньги. Тане дали 40 000 рублей деньгами, которые должны были выплатить меньшие дети из их доли, и Овсянниково. Илье – купленную мной Гринёвку и Александровский хутор при с. Никольском. Лёве – Бобровский участок в Самарской губернии и дом в Москве в Хамовническом переулке… Ясную Поляну Лев Николаевич отдал мне с меньшим сыном – Ваничкой, после смерти которого она перешла пяти сыновьям. Они продавали лес, но нас, стариков, никогда не тревожили и в дела Ясной Поляны не входили и по сегодняшний день».
Из этих записок выясняется один любопытный факт. После смерти Ванечки в 1895 году сама Софья Андреевна, по сути, осталась юридически неимущей. Она вела хозяйство Ясной Поляны, но не была владелицей этого имения. Ей принадлежали только дом и приусадебный участок, которые отошли ей при разделе 1891–1892 годов, а само имение, доставшееся несовершеннолетнему Ванечке, после его смерти перешло к пяти другим сыновьям. При этом она всю жизнь поддерживала их деньгами. Нельзя не поражаться мужеству этой женщины!
Раздел имущества происходил на Страстной неделе. Татьяна Львовна писала в дневнике, что отец тяжело переживал это событие. «Это было так жалко, потому что это было как осужденный, который спешит всунуть голову в петлю, которой, он знает, ему не миновать». Дочь Мария пыталась отказаться от своей доли «наследства», но Софья Андреевна настояла, чтобы ее доля (пятьдесят пять тысяч рублей) оставалась за матерью и перешла дочери по ее первому требованию. Так и случилось. Когда в 1897 году Маша вышла замуж за Николая Оболенского, то была вынуждена забрать у матери свою долю.
Раздел прошел мирно, но он расколол семью. Прежде всего, Толстой отделился от всей семьи, а Софья Андреевна разделилась с детьми. Маша заняла позицию отца, чем задела чувства братьев и сестры Тани, которые согласились стать собственниками. Илья остался недовольным своей долей и высказывал это.
Интересно вел себя малолетний Ванечка. По воспоминаниям Ильи, младенец тоже встал на сторону папа́. Когда мать во время прогулок говорила ему, что он теперь хозяин Ясной Поляны, Ванечка топал ножкой и возражал: «Нет, мама, не говори, что Ясная Поляна моя. Всё – всехнее». Но вот в воспоминаниях Лидии Веселитской, не раз бывавшей в Ясной Поляне и пользовавшаяся доверием Толстых, мы найдем совсем другое свидетельство.




















