Читать онлайн Тобол. Том 2. Мало избранных бесплатно
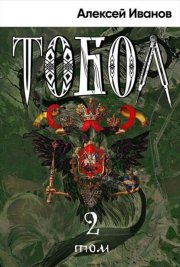
Часть первая
Разжечь огонь
Глава 1
Ландкарта Ойкумены
Блистая доспехами из бронзы, македонцы окружили неприступный утёс, увенчанный короной крепости. Отвесные стены утёса, опалённые солнцем, побелели от вечного зноя Азии. С обрыва низвергался водопад. Сапфировое небо обжигало глаза. На утёсе, на недосягаемой высоте, укрылись последние защитники сказочной Согдианы во главе с властителем Аримазом…
Новицкий не помнил, чью горделивую латынь он так давно разбирал в библиотеке Могилянского коллегиума: «Историю» Квинта Курция Руфа? Плутарховы «Сравнительные жизнеописания»? Или «Анабасис Александра», рождённый стилосом Флавия Арриана? Неважно. Григорий Ильич сохранил в душе главное – упоение подвигами достославной древности.
– Согдыане сховалыся на скали с урвыщами и дэрзостно насмэхалыся над Олександром, крычалы йому звэрху, шо для пэрэмоги йому потрибнэ воины з крылами!.. – вдохновенно рассказывал Новицкий.
Ученики за столами слушали, затаив дыхание.
В сенях школы господина фон Вреха секретарь Йохим Дитмер поставил на лавку тяжёлый почтовый сундучок с железной ручкой, обмёл ноги от снега веником, вытер подошвы сапог о тряпку и бережно повесил на гвоздь епанчу и треуголку. Голос Новицкого разносился по всей школьной избе. Стараясь не скрипеть половицами, Дитмер прошёл мимо раскрытой двери учебной горницы в сторону каморки фон Вреха. Ученики его не заметили.
Фон Врех сидел в своём кресле с высокой спинкой, повернув его боком к столу, а на лавке против стола расположился Табберт.
– Добрый день, господа, – сказал Дитмер.
Табберт коротко поклонился, а фон Врех вскочил.
– Почта из Фельдт-комиссариата, – пояснил Дитмер и с облегчением опустил сундучок на стол ольдермана.
– Прекрасная, прекрасная новость! – обрадовался фон Врех.
Дитмер положил замёрзшие ладони на горячий бок печи.
– Граф Пипер переслал и жалованье – вексель на полторы тысячи риксдалеров. Губернатор обещал обменять билет на русские рубли.
– Деньги всегда вовремя, – улыбнулся Табберт.
– Присаживайтесь, милый Йохим! – фон Врех подвинул Дитмеру своё кресло. – Я уже приготовил письма нашей колонии. Кто будет их читать и составлять экстракты для господина губернатора?
– В этот раз придётся мне, – усаживаясь, сообщил Дитмер. – Призна́юсь, господа, я не любитель подобных деликатных миссий, но Людвиг простужен, а почтовый экипаж отбывает уже послезавтра. Так что если вы завели здесь интрижку и написали об этом друзьям, то скорее изымайте свои послания и вымарывайте, иначе я не удержусь и насплетничаю пастору Лариусу.
Дитмер шутил. Табберт понимающе кивнул. Он не сомневался, что Дитмер не доносит ни пастору, ни губернатору. Зачем? Компрометирующие сведения гораздо выгоднее использовать в своих интересах, а не для морального порицания. Дитмер держал в кулаке всю общину шведов.
– А ещё я отправляю барону Цедергельму перечень лекарств для нашей аптеки, – добавил фон Врех, подавая Дитмеру исписанный лист. – Если у вас есть личная необходимость в каких-либо снадобьях, Йохим, то дополните список своей рукой и запечатайте письмо сами.
– Благодарю, – Дитмер спрятал список за отворот камзола.
– Как дела у губернатора? – осведомился Табберт.
– Губернатор – в заботах о сборе войска. Как обычно у русских, не хватает всего. Но очень поучительно, господа, наблюдать устройство русской жизни, когда преимущество слагается из недостатков.
– Поясните, – сразу предложил любопытный Табберт.
– Извольте. Местный оружейник прозвищем Пилёнок был отправлен в столицу для обучения разумным приёмам работы, которые следовало бы внедрить на тобольской оружейной мануфактуре. Однако затея оказалась напрасной: сей господин не понял выгод машин от действия водяного колеса и отказался сооружать подобные агрегаты здесь, в Сибири. А недавно вдруг выяснилось, что пули, заготовленные войску для похода в степь, калибром превосходят калибры мушкетных стволов. Требуется подвергнуть их дополнительной обработке в шаровых мельницах. Если машины мастера Пилёнка приводились бы в движение водяными колёсами, то по причине зимы мельницы пребывали бы в остановке. Но машины Пилёнка работают на конной тяге, каковая не зависит от времени года, и мануфактура получила большой заказ от губернатора. Таким образом, отсталость производства явилась причиной его прибыльности. Парадокс, господа.
– Забавно, – согласился Табберт.
– Я бы не советовал, друзья, подвергать критике порядки сибирской жизни, – мягко укорил фон Врех. – Это может пагубно сказаться и на вашей личной участи, и на судьбе всего нашего общества.
– Вы правы, – кивнул Дитмер. – Кстати, губернская канцелярия готовит указ о призыве пленных на воинскую службу.
– Разве губернатору мало тех несчастных, которых уже взяли на службу насильно в качестве наказания за ту отвратительную драку на ярмарке?
– Взяты в основном нижние чины, солдаты и драгуны. Из них составят отдельный драгунский эскадрон. А полковнику Бухгольцу нужны офицеры, умеющие командовать ротами и батальонами. Не желаете записаться, господин капитан фон Страленберг?
– Это подразумевает присягу или службу на пароль?
«На пароль» означало «под честное слово дворянина».
– Увы, только присягу.
– Тогда – увы, нет. Я хочу сохранить возможность вернуться домой при любом удобном случае. А присяга подразумевает весьма обременительные обязательства. Я не желал бы повторить судьбу наивного Лоренца.
Юный и честолюбивый лейтенант Лоренц Ланг мечтал о карьере, а плен, разумеется, закрыл для него все пути. И Лоренц решился поступить на русскую службу. Ничего недостойного в этом не было, однако товарищи по плену всё же отговаривали его. Лоренц не внял их увещеваньям. Он принёс присягу, рассчитывая, что его переведут в столицу России, где он сумеет занять достойное место на дипломатическом поприще. А губернатор Гагарин прикрепил Лоренца к китайскому посольству. И в результате Лоренц сопроводил китайцев на Волгу к хану Аюке, а теперь вместе с посольством отправился в Китай как шпион губернатора. Он должен был учредить в Пекине русское представительство. Сомнительно, что его миссия смогла бы увенчаться успехом: император был недружелюбен к русским, а Лоренц не знал ни языка, ни обычаев Китая. В Тобольске все понимали: если Лоренц добьётся успеха, то русские не дозволят ему бросить столь важный пост. А если успеха не последует, то и на карьеру не стоит надеяться. Ланг совершил опрометчивый поступок. Ему сочувствовали. Он сам обрёк себя на жизнь вдали от родины. Но в душе Табберт немного завидовал Лоренцу: юноша увидит необыкновенные страны и города, пустыни и горы, Великую стену и загадочного богдыхана… Хотя эти впечатления останутся миру неведомыми.
– Мне показалось, будто вы, господин капитан, настолько увлеклись Россией, что согласны и на присягу русскому царю, – заметил Дитмер.
– Вы ошибаетесь, господин секретарь, – улыбнулся Табберт. – Россия мне, безусловно, интересна, и всё же моя мечта – Швеция.
– Это наша общая мечта, господа, – торжественно изрёк фон Врех.
Дитмер сложил почту в свой сундучок, и Табберт помог вынести его на двор, где Дитмера у коновязи ожидала лёгкая кошёвка. Здесь фон Врех уже не был свидетелем, и Табберт спокойно договорился, что Дитмер завтра заедет к нему домой за посланием, о котором ольдерману знать не надо.
Капитан Табберт целый год переписывался с бароном Цедергельмом, главой королевской канцелярии, и графом Реншельдом, фельдмаршалом, чтобы эти господа, пользуясь своими связями, переправили его ландкарту в университеты Вены, Кёльна или Гейдельберга. Русские чиновники читали письма пленных, и Табберт, скрывая суть, в письмах именовал ландкарту «портретом Марии». Барон Цедергельм первым изыскал способ доставить «портрет Марии» в Кёльн некоему декану Крониельму.
Табберт в последний раз расстелил карту на постели, любуясь своим трудом: Тобол, Иртыш, Обь, озеро Зайсан и озеро Чаны, Тургайская и Барабинская степи, Тюмень, Тара, Тобольск, Сургут, Нарым, Берёзов, Обдорск, Мангазея… Табберт тщательно сложил полотнище втрое и скрутил в трубку, чтобы уменьшить количество сгибов, которые могли повредить изображению. Эту трубку он поместил в чехол из вощёного холста, зашил его просмолённой нитью и надписал на боку имя адресата.
Дитмер приехал в полдень. Табберт на всякий случай приготовил глёг, какой уж возможно приготовить в России, но Дитмер отказался раздеться и выпить. Он удивился размерам свёртка и взвесил посылку на руке.
– Не ожидал, что она окажется такой крупной и тяжёлой.
– Я предупреждал вас, что моя почта будет большая и объёмная. Понимаю, как трудно организовать тайную доставку, Йохим, но за это я и плачу вам двадцать риксдалеров.
Дитмер быстро и внимательно оглядел жилище Табберта. Всё здесь свидетельствовало о неплохом – по меркам плена – достатке капитана. На столе лежала большая рукописная книга в деревянных обложках. Без сомнения, русская. Вот откуда Табберт черпал свои познания в географии. Это хорошо, что у капитана сохранится первоисточник.
– Видите ли, господин Табберт, – вежливо заговорил Дитмер. – После того как корреспонденция прочитана, её складывают под замок в особый почтовый сундук, помеченный выжженной печатью. Ключ от сундука хранит у себя курьер. Я могу тайно от курьера проникнуть в сундук и вложить туда недозволенное письмо. Эта услуга стоит не слишком дорого. Но ваша карта в имеющийся сундук просто не войдёт. В вашем случае мне придётся поменять сундук на более вместительный, а такое предприятие потребует подкупа курьера и чиновника с печатью. Прошу с вас ещё семь риксдалеров.
Табберт понимающе улыбнулся.
– Вы умело составляете капитал, Йохим.
– Я подвергаю себя опасности, – возразил Дитмер. – Ведь за вашу почту я могу потерять свою должность.
– Я принимаю ваши условия. Ещё семь риксдалеров.
Дитмер лгал капитану Табберту. Едва увидев размеры посылки, он сразу понял, что она непременно привлечёт внимание таможенного смотрителя. Переправить ландкарту с обычной почтой – дело неисполнимое. Табберту надо искать иной способ. А эта ландкарта, увы, для Табберта будет потеряна. Однако он, секретарь Дитмер, при определённых действиях сумеет получить выгоду от неудачи капитана. В распоряжении же Табберта останется русская книга, с помощью которой он, найдись желание, восстановит свой труд.
В губернской канцелярии Дитмер прошёл в палату Гагарина, прикрыл дверь, взял нож и вскрыл свёрток. Похрустывая грунтовкой, лощёный холст занял весь стол губернатора. Дитмер с восхищением рассматривал кружево тонких линий и бисерные подписи полуготической фрактурой. Конечно, это великолепное произведение должно стоить немалых денег.
А Табберт в этот вечер выпил глёг и уже готовился укладываться спать, когда его дверь без стука распахнулась. В горницу вошёл молоденький русский офицер – Табберт видел его у Ремезова, – и за ним два солдата.
– Капитан Табберт? – спросил офицер по-немецки, щурясь в полумраке.
– Господин… э-э… Демарин?
– Я имею приказ взять вас под караул и препроводить в каземат.
– Почему? – удивился Табберт.
– Не могу знать.
Глёг отгонял дурные мысли, и Табберт воспринял неожиданный арест с ироничным недоумением. Какая-то глупость. Он ни в чём не виноват. Он не участвовал в драке на ярмарке, не выполнял для губернатора никаких работ, качеством которых губернатор мог быть недоволен, не отлучался из города, вообще ничего не делал и ни с кем не ссорился. Он шагал по заснеженной улице, наслаждаясь морозом и ощущением здоровой силы своего тела.
Глёг развеялся к полуночи. Закутавшись в епанчу, Табберт сидел на топчане в холодной бревенчатой каморке подклета губернаторского дома. Углы и потолок здесь заросли косматой изморозью. В узкое волоковое окошко светила белая луна, безнадёжная и беспощадная, как выстрел в лицо.
На трезвую голову Табберт ясно понимал, что его посадили под стражу за попытку переслать ландкарту. За что же ещё? Видимо, Дитмер выдал его. По здравом размышлении, это был очень разумный поступок. И деньги за пересылку останутся Йохиму, и угроза потерять место развеется. Может быть, Дитмера даже наградят за бдительность в проверке почты. Но Табберт резко запретил себе думать про низость поступка секретаря. Бессмысленно расходовать душевные силы на бесполезный гнев. Надо думать о себе.
От ландкарты ему не отказаться. Да это и недостойно – отрицать свою вину. В изготовлении ландкарты нет позора для дворянина. Он был движим жаждой познания и благородным желанием просветить отечество. Значит, надо подготовиться к наказанию, чтобы встретить его с честью. Как его могут наказать? Вряд ли будут держать в тюрьме. Скорее всего, сошлют ещё дальше в Сибирь. Но куда? Работая над картой, Табберт прекрасно изучил географию этой страны. Хорошо, если его отправят в Якутск. Город по сибирским меркам крупный, и там можно собирать сведения об азиатском севере: о Колыме, Чукотке и Камчатке. Эти земли на чертежах Ремезова были описаны только приблизительно, без подробностей. В Европе хорошее описание северных пределов России, несомненно, вызовет большой интерес. Неплохо, если сошлют в Иркутск. Там близко огромное пресноводное море, неведомым образом расположенное посреди континента. В Нерчинске или Селенгинске главная тема – Монголия и Китай. В Таре – Джунгария. В Туруханске он мог бы создать описание русского пушного промысла. Если сошлют в Обдорск – там Мангазея и морской ход. А вот Берёзов – плохо. От Айкон – той девочки-остячки – он уже узнал о местных инородцах всё, что нужно. И Сургут плохо, и Нарым, и Енисейск, и Томск, и Красный Яр, и Кузнецк… Он не мог придумать, что ему делать в этих городах. Но незачем впадать в уныние. Мир везде полон тайн; найдутся они и в тех краях, которые кажутся глухой пустыней. Сила духа превозмогает превратности судьбы, а желающий познавать непременно отыщет объект исследования.
Табберт лёг на топчан, закинулся епанчой и уснул быстро и крепко.
Утром ему дали горячей воды вместо завтрака и повели к губернатору.
Князь Гагарин принял его у себя в кабинете. Табберт оглядел убранство кабинета с некоторым замешательством: он уже настроился на дорогу, на лишения, на скудную жизнь ссыльного, а тут голландская печь, портьеры, мебель, фарфор, паркет, лепнина, запах свежего кофию… Матвей Петрович в татарском халате и мягких сапожках сидел в кресле, а на столе лежала карта, небрежно сложенная в восьмую долю. Видимо, князь разглядывал её.
– Представься, – сурово сказал Гагарин.
– Капитан Филипп Юхан Табберт фон Страленберг.
– Ох ты, «фон»! – усмехнулся Гагарин. – Твоя карта, фон?
Матвей Петрович указал пальцем на стол. Табберт заметил на пальце князя толстый перстень с изумрудом.
– Ландкарта есть мой, – спокойно согласился Табберт.
– Ты, никак, забыл, что наши державы воюют? Где в плен попал?
– В Переволочне.
Капитан Филипп Табберт командовал батальоном Померанского полка принцессы Ульрики Элеоноры, который входил в состав корпуса генерала графа Левенгаупта. В тот летний день на поле под Полтавой Померанский полк держал правый фланг королевской армии, упираясь боком в Яковецкий лес, недоступный для конницы. Правый фланг опрокинул русских и почти добрался до линии русских редутов, но сам царь Пётр возглавил дескурацию своих войск и остановил наступление шведов, а потом русские прорвали строй генерала Гамильтона и обратили шведов в бегство. Капитан Табберт сражался отважно, и от его батальона уцелело только полторы роты, однако поражение есть поражение. Табберт сумел вывести солдат к основным силам армии, и они два дня отступали вдоль речки Ворсклы к переправам через Днепр. Но русские увели лодки, и переправляться было не на чем. Армия Левенгаупта оказалась заблокирована на мысу между Ворсклой и Днепром. Русские предложили капитулировать. Не зная, что делать, граф Левенгаупт созвал офицерский совет. Табберт присутствовал на нём, хотя не имел права голоса. Офицеры решили сдаться. Капитан Табберт никогда бы не поддержал это решение, но там, в деревне Переволочне, его не спрашивали.
– Эта карта – военная тайна! – грозно сказал губернатор Гагарин.
– Не думать, что война дойти до Тоболск, и мой карта иметь важность для стратегий, – саркастически заметил Табберт.
– Не умничай, – одёрнул его Гагарин. – За такое дело я могу тебя в острог засадить или в Анадырь законопатить. А хуже всего – отправлю в Москву, в Преображенский приказ. Там кишки через нос вытягивают.
Табберт постарался, чтобы его ответ прозвучал хладнокровно:
– Ваше есть право, господин губернатор.
– Откуда пронюхал всё для чертежа?
– Смотреть русский чертёж. Расспрашивать людей, имевших ходить.
– У Ремезова сдул? – проницательно спросил Гагарин.
– Малая часть брать, – уклончиво ответил Табберт.
Ему неприятно было признавать, что его работа – заслуга русского мастера, безвестного мужика, а не плод самостоятельных изысканий.
– Молодец, не выдаёшь сотоварища.
Табберт пожал плечами.
– Ночку в холодной посидел – худо было?
– Не отчен веселье.
– Это я для острастки тебя там подержал, чтобы вдругорядь неповадно было, – Табберт почувствовал, что князь Гагарин сменил гнев на милость. – Сколько хотел за карту получить от своих?
– Пятьсот риксдалеров.
– Ну, ты, брат, загнул. Царску дочь и полцарства в придачу не просил?
Табберт не понял смысл вопроса, хотя догадался, что это ирония.
– Я тебе плачу двести рублей, – вдруг сказал Гагарин. – Считай, что я сам тебе эту карту заказал, а ты её мне и начертил.
Матвею Петровичу карта шведа очень понравилась. Ничуть не хуже ремезовской, а главное – сделана по-заграничному, и надписи иностранными буквами, всё как Пётр Лексеич любит. Пётр Лексеич требовал новую карту – вот и получит не хуже, чем у шведского короля. И все довольны.
– Ты меня понял? – спросил Гагарин у шведа, явно слегка ошалевшего.
– Так, – недоверчиво кивнул Табберт.
Матвей Петрович любовался произведённым впечатлением.
– Знаешь, почему прощаю? – он прищурился. – Работа твоя добрая. А за добрую работу я всегда плачу.
– Господину Дитмеру вы тоже заплатить? – не удержался Табберт.
– Заплатил, – без смущения кивнул Гагарин. – Но ты Ефимку не кори. Он мне честно служит.
Табберт не стал ничего говорить о честности службы Дитмера.
– Всё, забирай деньги и убирайся восвояси, – подвёл итог Гагарин. – Других чертежей делать не смей, воспрещаю, а с этим делом покончили.
Табберт шагал к выходу из дворца губернатора и не очень верил в то, что случилось. Он свободен? Все страхи оказались напрасны?.. Однако за радостью скрывалась и какая-то горечь. Он ведь не просто хотел продать карту. Он хотел, чтобы её видели люди. Хотел, чтобы его личные открытия превратились в общее достояние. Хотел, чтобы земля стала больше. Потому он и оценил свой труд столь дорого. Раздвинуть пределы Ойкумены – это подвиг, за который всегда платят без скупости. А сейчас его свершение будет спрятано от мира, заперто на ключ, навеки затеряно в дикой и варварской стране. Так за него, за капитана Табберта, решил какой-то корыстолюбивый секретарь! Это унизительно. Это почти оскорбление.
Дитмер ожидал Табберта у крыльца.
– Я приношу извинения за то, что поступил с вами подобным образом, господин капитан, – сказал он, открыто глядя Табберту в глаза.
«Может, вызвать его на дуэль?» – подумал Табберт.
– Вашу ландкарту непременно обнаружили бы на таможне. Выдать её губернатору было самым разумным способом найти ей применение.
Табберт молчал, рассматривая Дитмера.
– Полагаю, что сумму, которую вы получили от господина губернатора, следует разделить пополам между вами и мной. Ведь вы понимаете, что продажа ландкарты – это моя заслуга, которая должна быть вознаграждена, – Дитмер говорил спокойно и даже чуть снисходительно, с едва заметной вежливой усмешкой. – Я согласен вычесть из своей доли в вашу пользу двадцать семь риксдалеров, потраченных вами на почтовое отправление, которое не было осуществлено. Думаю, это будет справедливый итог.
Табберт выдохнул, возвращая самообладание. Да, этот вежливый подлец обставил его. Однако необходимо принять обстоятельства с должным достоинством. И ему ещё пригодится расположение секретаря губернатора. Он ведь не будет сидеть сложа руки, а непременно займётся каким-нибудь новым делом, которое, конечно же, в этой стране окажется недозволенным.
– Вы правы, господин секретарь, – холодно улыбнулся Табберт.
Глава 2
Пёс-молчун
Матвей Петрович всегда испытывал некое угнетение, когда приходила почта от Исайки Морозова – губернского комиссара при Сенате и государе. Исайка в Петербурге бегал между канцелярией Сената и канцелярией Лексея Василича Макарова, секретаря Петра Лексеича, переписывал указы, которые касались Сибирской губернии, и отсылал их в Тобольск. Здесь дьяк Баутин подшивал бумаги в книгу, что хранилась в Приказной палате в поставце на самом видном месте, а Дитмер заносил экстракты указов в другую книгу, которую Матвей Петрович держал у себя дома в кабинете.
Указы могли выбить из колеи, но чаще оборачивались обременительной суетой. Доставить в столицу восемь сот лиственничных брёвен. Принять с почестью какого-нибудь иноземца. Купить у бухарцев юфти и кардамону для царского двора. Наказать изобличённого коменданта-лихоимца. Взимать оброк деньгами по казённой цене. Иметь по ямским дворам не менее четырёх перемен лошадей. Отчитаться в заведении надворных судов. Прислать семь пудов кедрового ореха. Увеличить бобылям подымную подать на копейку. Не пропускать через таможню щёлок и поташ. Ежегодно выдавать медные знаки за уплаченный налог на бороду. И всё такое прочее, чего ещё надумали неугомонные столичные прибыльщики и другие государственные головы.
По-настоящему опасными были именные указы государя. Их привозили фельдъегери из гвардейцев и вручали под роспись, порой поднимая Матвея Петровича с постели. Но такое случалось не часто, в месяц раз или два.
Дитмер вошёл в палату губернатора, когда Матвей Петрович принимал челобитчиков. Один мужик, рослый и длинногривый, как дьякон, придвинул к столу Матвея Петровича скамью и сел напротив князя, будто на пьянке в кабаке, а другой, рябоватый и кривоногий, стоял у стены и мял в руках шапку. Дитмер знал этих мужиков. Он взял с них сто рублей за доступ к губернатору. Мужики были из слободы на Тоболе под Царёвым Городищем. Они хотели, чтобы начальство записало их в беломестные казаки. Рябого мужика звали Макаром Демьяновым, а гривастого – Савелием Голятой.
Дитмер обогнул Голяту и положил перед Гагариным пакет.
– От Морозова, господин губернатор, – пояснил он.
Матвей Петрович сразу сорвал шнурок с сургучной печатью, вскрыл пакет, выложил на стол сложенные пополам листы и развернул их.
– А мы не хужей казённых драгун в караулы ходим, и заставы давно уже содержим на своём коште, – бубнил Савелий, глядя на читающего бумаги губернатора. – Оружье, кони, харч – тоже своё. Из Тобольска нам надобно токмо есаулов и полуполковника непьющего…
– Помолчи, – Матвей Петрович махнул на Савелия рукой.
Глаза Матвея Петровича сразу выхватили важные слова: «…и того ради во всём государстве на незнаемое число лет до новоданного указу, понеже в Петербурхе удовольствуются строением, запрещается любое иное каменное строение, и церковное, и комендантское, и партикулярное, под страхом прежестокого штрафования и высылки ослушников в столицу на угодное государю каменщицкое дело…» Вот те раз!..
На письмо вдруг легла огромная корявая лапища Савелия.
– Ты нас дослушай, боярин, – веско сказал мужик.
Матвей Петрович не рассердился, а просто изумился этой наглости.
– Батогов захотел? – спросил он, поднимая голову.
– Ежели от тебя ответа не получу, меня свои мужики забьют.
– Мы уже твоему секарю сто рублёв заплатили, чтобы до тебя долезьти! – рябой мужик кивнул на дверь, в которую вышел Дитмер.
– Какому секарю? – не понял Гагарин.
– Который народ от тебя отсекает.
– Секретарю, остолопы.
– Он сказал, что наши челобитные в печь засунет, коли денег не дадим.
– Ну, говори, – смилостивился Матвей Петрович, отодвигая бумаги.
Всё равно такой важный указ надо обдумать в спокойствии.
– Ты Чередова турнул, так запиши нас в казаки вместо его служилых. Наш писарь уже реестру мужикам составил. Пять с половиной сотен. Почти триста подворий. Все православные, татар не взяли, раскольщиков нет.
Беломестные казаки несли воинскую службу за свой счёт, а за это не платили податей. В беломестные казаки охотно записывались жители слобод. Слобожане всё равно сами оберегали свои селения от степняков, потому что служилые из Тобольска не успевали примчаться, когда обрушивался набег. Почему бы не скинуть тягло податей, если и так обороняешься своей силой?
– Двести рублей, – сказал Матвей Петрович.
– Уже нету, – развёл ручищами Савелий. – Секарь взял сто.
– Ну не могу же я брать столько же, сколько мой секретарь, – хмыкнул Матвей Петрович. – Сообрази чего-нибудь. Только не новую запашку. Как «белое место» она мне без корысти.
– Коров десятка три, – предложил Макар.
– Не смеши. Мне, что ли, доить их в кабинете?
– А помнишь, год назад в нашей слободе твой приказчик могильное золото покупал? – Савелий быстро перекрестился.
– Помню. Хороший был клад.
– Мы новый бугор нашли. Сами копать не будем, там черти под землёй, а указать можем. Пришлёшь своих холопов с заступами.
– Ну, я подумаю, – неохотно согласился Матвей Петрович. – Посидите в Тобольске ещё недельку, я вас извещу. А теперь убирайтесь.
Губернатора ожидали другие челобитчики.
Только вечером Матвей Петрович смог обстоятельно прочитать бумаги из Петербурга. Царский запрет на каменное строительство изрядно смутил его. С одной стороны, запрет – конечно, хорошо: не надо раскошеливаться. Ведь на возведение кремля он, губернатор, согласился лишь под нажимом архитектона; уломал его упрямый Ремезов. Однако с другой стороны – жаль. Жаль потраченных денег и усилий. Жаль прощаться с гордостью за то, что он, князь, будет сидеть в кремле, пусть и не в таком великом, как другие губернские кремли, Московский и Смоленский, но не хуже Казанского.
Матвей Петрович хотел утром вызвать Ремезова, чтобы объявить ему о царской воле, но Ремезов сам приковылял в губернскую канцелярию.
– Петрович, беда! – вздохнул он, опускаясь на скамью и вытягивая хромую ногу. – Выручай. Свантея-то моего в Бухгольцево войско загребли.
Пока строили кремль, Сванте Инборг, артельный шведских каменщиков, стал Семёну Ульяновичу приятелем и советчиком.
– Почему загребли?
– Да он в той драке проклятущей на площади оказался.
Матвей Петрович откинулся от стола и поскрёб отросшую бороду. Ему очень не хотелось разговаривать с Ремезовым: старик опять начнёт орать и ругаться, требовать и корить. Слишком уж он взбалмошный и неудобный.
– А Свантей нынче тебе уже и не нужен, – сказал Матвей Петрович.
– Отчего это не нужен?
– Указ мне привезли, Ульяныч. Царь по всей державе каменное дело запретил и каменщиков повелел в столицу высылать.
– Зачем? – глупо спросил Семён Ульянович, ещё не осознав сказанного.
– Петербург строить.
– А на Тобольск, значит, наплевать?..
– Не я решил.
Семён Ульянович нелепо заёрзал, подволакивая ногу и стуча палкой.
– Это что получается? Гаси фитилёк?
– Только царя не брани, архитектон, – строго предупредил Гагарин. – Не хочу тебя в холодную сажать.
– Как же так? – ошеломлённо сказал Семён Ульянович. – Не могу в толк взять! Работники у нас есть, кирпича и тёса мы вдоволь заготовили, и всё бросить на полпути? Пущай дождями кладку размоет?
– От дождей кровлями накроем. За кровли не казнят.
Семён Ульянович шевелил бородой, мысли его лихорадочно метались.
– Башни и стены придётся оставить в недоделке, – продолжил Гагарин. – Не обессудь. Слава богу, церковь почти готова. Летом завершим и освятим её. А столп над взвозом и мне жалко, Ульяныч. Дерзкий был замах.
Матвей Петрович, чувствуя вину перед Ремезовым, подумал, что старик сам промахнулся. Слишком много выпросил. Ежели, положим, речь бы шла про одну взвозную башню, так её потихонечку достроили бы, не взирая даже на царский указ. За два-три года незаметно сложили бы до шпица: дескать, нерачительно запасённые кирпичи без употребления бросить. Однако же целый кремль украдкой не построишь. Донесут царю, и покатится башка. Перевалить вину на неуёмного Ремезова, который меры не ведает, Матвею Петровичу было проще, чем переживать за архитектона, лишённого мечты.
– Смирись, Ульяныч, – мягко посоветовал Гагарин. – Ступай домой.
Но в душе Семёна Ульяновича разверзлась такая дыра, что смириться у него не получилось бы и при всём желании. Кремль – его заветный замысел. В суете повседневности и в сутолоке житейских дрязг властный зов кремля вроде бы затих, но это не так: он всё равно звучал в глубине жизни, как стук собственного сердца. А сейчас Семёну Ульяновичу словно бы остановили сердце и сказали: ну, как-нибудь без него живи, руки-ноги-то целы.
– Да невозможно оно! – Семён Ульянович гневно застучал своей палкой, испепеляя Гагарина взглядом. – Мы с тобой тлен, Петрович, а кремль – великое дело! Ему равного в державе нету!
Гагарин разозлился. Ремезов – как царь Пётр: оба шары выкатят и прут напролом. Собственные затеи для них важнее всего прочего на земле. Один столицу на болотах строит и за-ради неё всю державу плетью лупцует, будто клячу, а другому и царский град супротив своего кремля – свинорой. С царём, ясен свет, не поспоришь, но Ремезов-то куда лезет? Возомнил себя пантократором! Полагает, что он посередь Сибири самый главный, да?
– Я смотрю, ты тут в Моисея раздулся? – рявкнул Матвей Петрович на Ремезова. – Окоротись, пока не лопнул! С малого дерева ягоду берут, а под большое – знаешь, зачем присаживаются? Проваливай отсюда!
Семён Ульянович, задыхаясь, вылетел из канцелярии.
Низкое небо над Тобольском залепили тучи. С яруса «галдареи» над заснеженными крышами амбаров и подворий видна была линия кирпичных стен, ровно упокоенных на аркаде печур. Высились неимоверные тумбы недоделанных башен – сизо-багровые, будто окоченевшие на ветру. Внятные и простые очертания кремля приподнимались и разворачивались над частой дробью бревенчатой застройки ещё не в полную высоту и не в полную силу протяжённости, но уже проявили собой ту горнюю надмирность, которую вкладывал в них Семён Ульянович. Они казались странными и нездешними, как тихий густой гул часобитного колокола над гомоном базарной толпы. Величие кремля пока только мерещилось, недовоплощённое, но оно уже незримо преобразило Воеводский двор. Оно означало: дух крепче плоти. То, что не имеет житейского применения, нужнее для бытия, чем все выгоды и пользы. Камень суть прах, а свет – несокрушимее адаманта.
Семён Ульянович решил искать помощи. Заступничества своему делу.
Вечером он уже был на Софийском дворе. Митрополит Иоанн болел, и Николка, прислужник, не допустил бы Семёна Ульяновича до Иоанна, но у митрополита сидели гости – Исаакий, настоятель Далматовской обители, и владыка Филофей из Тюмени, а где два гостя – там и третий поместится. Отцы приехали в Тобольск на праздник Сретения. Семён Ульянович принял благословение и скромно притулился в углу кельи на лавке. Немощный Иоанн полулежал, укрытый до груди стёганым одеялом.
– Ты ведь не о здравии моём узнать сюда пролез, – вздохнул Иоанн, и Филофей отвернулся, пряча улыбку. – Чего хотел, Семён Ульянович?
– Пособления, – признался Ремезов.
– Говори.
Семён Ульянович рассказал, стараясь не распаляться.
– Коли царь запретил, что тут поделаешь? – тихо произнёс Иоанн.
Семён Ульянович требовательно всматривался в лицо митрополита – полупрозрачное и какое-то ветхое от болезни, уже непрочное.
– Прости, владыка, – он перекрестился, – но покориться я и без помощи могу. Я думал, ты у царя дозволенье на кремль сумеешь выпросить.
– Вон кто у нас царский любимец, – Иоанн указал на Филофея.
Семён Ульянович перевёл взгляд на Филофея.
– И рад бы тебе послужить, Семён Ульяныч, – Филофей виновато пожал плечами, – только у меня самого в обители Троицкий храм лишь до глав доведён, а далее надо царю кланяться. Буду на свою стройку денег молить, да ещё и на твою стройку монаршего попущения добиваться, – так Пётр Алексеич ожесточится и обоим нам откажет. Давай через год попробую?
Семён Ульянович знал, что у Филофея собственная забота – собор, и сдержался, чтобы не надерзить. Владыка прав и ни в чём не виноват.
– А ты, отец? – Ремезов повернулся к Исааку.
Он давно был знаком с игуменом, но дружбы меж ними не водилось. Игумен был старше Ремезова на десять лет и во власть вступил ещё до того, как Сенька Ремезов принёс воеводе свой первый чертёж. Для Исаакия Ремезов до сих пор был юнцом. Да и все для него были юнцами. За долгие годы Исаакий такого хлебнул, что ровни ему в Сибири уже не имелось.
Сын самого Далмата Исетского, он овдовел в восемнадцать лет и ушёл к отцу в скит, где принял постриг. Он спасал отца при набегах башкирцев и не раз возрождал сожжённый скит. Он стал первым игуменом обители. Вместе с отцом он укрывал раскольников и за то немало пострадал: его ссылали на покаяние в Енисейск и дважды свергали из настоятелей. Но важнее другое. Исаакий своими глазами видел, как творится божья воля: свершаются чудеса, исцеляются страждущие, плачут иконы, сияет предвечный свет, из которого являются святые, и отца его неизъяснимо облекает благодать. Исаакий сам хоронил старца Далмата, который прожил больше ста лет, и своими руками осязал, что Далмат, земной человек из плоти, по смерти обрёл нетленность. Даже здесь, в келье Иоанна, среди таких же священников, Исаакий казался иным, словно бы то, во что все верили умозрительно, он изведал наяву и в опыте, а потому и сам изменился, и это отчуждало его от простых смертных.
Исаакий пошевелил седыми кустистыми бровями, будто удивился, что кто-то посмел его потревожить. Семён Ульянович даже слегка оробел. Ему почудилось, что Исаакий заговорит так, как заговорила бы Елеонская гора.
– А я, Семён, ещё в Рождество о царском указе узнал, – по-старчески медленно, но просто ответил Исаакий. – И мне оный не указ. Я царю письмо написал, и царь дозволил мне работы не прекращать. И денег прислал.
Семён Ульянович, конечно, слышал, что Исаакий затеял строительство, какое по плечу было только воеводскому Тобольску. Девять лет назад в Далматовой обители заложили Успенский собор – предивный храм в два яруса и в три света, с крещатым венчаньем глав и весь в узорочье: лопатки по струне, пояса «жучков» и «сухариков», арочки ступеньками, тонкие колонки с «павлиньими хвостами», тёсаные очелья на окнах и кокошники с весёлыми завитками «медвежьи ушки». Но Исаакию того было мало, и в прошлом году он приказал сносить бревенчатые стены и башни монастыря, потому что вместо них решил возвести надёжную каменную крепость.
– С чего же тебе такая милость? – осторожно спросил Семён Ульянович.
– Не мне, грешному. Отцу Афанасию.
Афанасий, приёмыш из Тюмени, был духовным сыном Исаакия. Под опекой Исаакия он вырос и возмужал, принял постриг. С Исаакием отбывал ссылку в Енисейске. Когда Исаакий попал в опалу, Афанасий возглавил обитель, не дозволяя пренебрежения к своему воспитателю. Острый умом, Афанасий приглянулся тобольскому митрополиту Павлу, который отправил инока на учёбу в Чудов монастырь, а там сам патриарх Иоаким зачислил Афанасия в крестовые иеромонахи при Патриаршем доме.
Через три года «чёрного попа» из Далматова хиротонисали в епископы Холмогорские и Важские. Но слава пришла к нему не по сану. Когда умер царь Фёдор Алексеевич, стрельцы и князь Хованский устроили в Грановитой палате прения о старой вере. Веру защищал ересиарх Никита Пустосвят. Говорить он умел, будто громовержец, и совсем было заспорил патриарха, но Афанасий выдвинулся вперёд и ответил так, что Пустосвят кинулся на него, как зверь, и вырвал полбороды. Пустосвяту отсекли голову, а епископ Афанасий вскоре уже служил при венчании на царство Петра Алексеевича.
Дружбы самодержца он добился ещё через двенадцать лет. На корабле «Святой Пётр» Афанасий сопровождал царя на Соловки, и посреди сурового Гандвика судно угодило в бурю. Пётр Алексеевич испугался, что погибнет, исповедался и причастился у Афанасия. Но умелый кормщик вывел корабль к Пертоминскому монастырю. В благодарность за спасение царь поставил на берегу возле обители крест. Тогда и завязалась дружба царя и владыки.
У себя в Холмогорах епископ Афанасий боролся с раскольниками, собирал книги и морские карты, строил храмы и привечал художников. На колокольне Спасо-Преображенского собора у него стояла зрительная труба, в неё по ясным ночам владыка изучал светила и планиды небесные. Афанасий самотрудием составил «Описание трёх путей из поморских стран в Швецкую землю» и подарил сей трактат государю, который не раз гостил у него.
«Описание» пригодилось Петру Лексеичу необыкновенно. В 1702 году государь задумал отбить у шведов крепость Нотебург, что стояла на острове в Ладоге и запирала вход в Неву. Для взятия крепости необходимы были корабли с артиллерией. А весной Пётр как раз спустил с верфей Соломбалы близ Холмогор два фрегата – «Святой Дух» и «Курьер». Требовалось как-то перебросить их с Белого моря в Онегу. Пётр вручил трактат Афанасия сержанту лейб-гвардии Михайле Щепотеву и приказал устроить «Осудареву дорогу» по волоку, описанному епископом. Щепотев всё исполнил, и по сей дороге фрегаты были переправлены посуху с моря на озеро. Нотебург, весь в дыму и крови, пал к ногам Петра Лексеича. Но владыка Афанасий скончался за пять недель до победы. Он успел попросить царя о милостях для своего духовного отца Исаакия и обители, где он возрос. И в память об Афанасии с тех пор государь не оставлял Далматову обитель своим попечением. Потому Исаакий и строил свою крепость, когда вся держава строила Петербург.
– У меня такого заступника, как Лёшка Творогов, нет, – мрачно сказал Исаакию Семён Ульянович.
Лёшкой Твороговым Афанасия звали до пострижения в монахи.
– У тебя Матвей Петрович есть, – мягко напомнил Ремезову Филофей.
– Да он меня за червя держит!
– Сам себя оскверняешь, Семён Ульяныч, напоказ в грязь кидаешься. Небось, опять с князем рассобачился? А ты попробуй с ним миром говорить.
– Пробовал!
– Не пробовал, – уверенно возразил Филофей. – Не прими в укор, Семён Ульяныч, но ведь ты исполненья своих дел жаждешь по гордыне. А гордыня – плохой советчик. Вон иконописцы древности – они перед работой постились, молились и каялись во грехах, сам Андрей Рублёв в исихазм погрузился. По укрощению страстей мастера бог его к свершениям и подводит.
– Богомазам ничего не надобно! – вспыхнул Семён Ульяныч. – Они с Господом наедине одной только кистью машут! А зодчеству подавай людей, припасы, деньги, место! Зодчество всегда на торжище!
– Я не о том. Господь всем помогает по-разному, лишь бы человек попросил. Но просьба – это умаление себя. Хоть перед кем, хоть в миру.
– Поклон спину не переломит, Семён, – согласился Исаакий.
– Худой извод перед Гагариным кланяться, – вдруг слабым голосом сказал Иоанн. – Он от лукавого кесарь, и чтить его – пагуба.
– Княже грешен, – кивнул Филофей, – но душа-то у него живая. Не дай ей пропасть, Семён Ульяныч. Пощади. Его по тебе судить будут.
Семён Ульянович ушёл из покоев митрополита в досаде и в сомнениях. Конечно, иного от попов ожидать и не следовало: «покайся», «помилуй», «попроси»… Но ведь Лука-евангелист тоже говорил: стучите, и отворят вам.
Через два дня Семён Ульянович снова явился в губернскую канцелярию и уселся перед Матвеем Петровичем, хмуро глядя в угол.
– Лаять меня пришёл? – проницательно спросил Гагарин.
– Пёс-молчун на дворе не слуга! – тотчас огрызнулся Ремезов.
– От твоей службы в моих карманах один сквозняк.
– На саване карманов нетути.
– Тьфу на тебя, Ремезов! – разозлился Гагарин. – Иди вон!
– Ну, ладно, ладно, – буркнул Семён Ульяныч. – Ну, прости, Петрович. Мы с тобой оба не подарки, дак на дворе и не праздник.
– Праздник будет, когда у тебя язык отнимется!
Ремезов тяжело вздохнул, удерживаясь от ответа, неловко приподнялся и со страшным скрипом подтащил лавку поближе к столу Матвея Петровича.
– Давай вместе придумаем, как царское дозволенье на кремль получить, – миролюбиво предложил он.
– Не до кремля мне сейчас. Там в Петербурхе Нестеров царю в уши дудит, какой я злодей, и мне тише воды ниже травы надобно быть!
Про доносы свежеиспечённого обер-фискала Матвею Петровичу от себя сообщил всё тот же Исайка Морозов, губернский секретарь.
– За печью не отсидишься. Измыслим обоюдно, как царя умаслить.
– Чем мы его умаслим?! – в сердцах спросил Матвей Петрович. – Демидов вон пушки льёт, вот царь его в лоб и целует, а нас куда целовать?
– У нас диковины разные! Возьми да мамонта моего царю отвези!
– И что ему с мамонтом делать? Скакать на ём в бой со шведом?
Семён Ульянович размышлял, чем бы ещё удивить царя.
– Могу чертёж какой-нибудь начертить.
– Есть уже.
– Знаю, где у башкирцев железная гора стоит. Атач называется.
– Это не подарок, а расход казне.
– Ежели согласишься, так на Искере колодец до дна раскопаю. По басне, туда хан Кучум перед бегством свою казну спустил.
– Клад, говоришь? – внезапно задумался Матвей Петрович. У него с молодости была прекрасная память на всякие возможные хитроумные выгоды. – Клад – оно хорошо, Пётр Лексеич любит куриозы…
– Там ствол сажен десять в глубину. Десяток солдат с лопатами нужен.
– Нет, Искер мы трогать не будем, – Матвей Петрович покачал головой. – Разроем его – свои же татары забунтуют. А вот могильное золото – это дело. Тут недавно два мужика с Тобола большой бугор в степи нашли. Мужиков зовут Макар Демьянов и Савелий Голята. Знаешь таких?
– Голяту знаю, – кивнул Ремезов. – На переписи чуть не подрались.
– Мужики укажут тебе бугор, а ты его выпотроши. И будет Петру Лексеичу подарок, какой ему по душе. А там и до кремля дойдёт.
– По рукам? – тотчас спросил Семён Ульяныч.
Глава 3
Дать понимание
Печь – не лошадь, возит только на погост. Семён Ульянович понимал это, а потому старался чаще отлучаться из дома, больше двигаться, всегда иметь какую-нибудь заботу, чтобы не слабеть в праздности. Зимой он взял за правило каждый день ходить на Воеводский двор и проверять кремль – не разворошил ли ветер кровлю из лапника. Причём по Никольскому взвозу Ремезов поднимался пешком: опираясь на палку, упрямо ковылял, загребая снег негнущейся ногой, и для равновесия широко размахивал свободной рукой. Потихоньку тоболяки привыкли, что по утрам старый архитектон, сердито сопя, карабкается на Троицкую гору сам, и с попутных дровней уже никто не предлагал ему довезти до верха.
Но сегодня у Семёна Ульяновича нашлось настоящее дело: его вызвал полковник Бухгольц. Пёс знает зачем. Может, из-за Петьки?.. Никольская церковь, круглая Орловская башня, Святые ворота Софийского двора, Гостиный двор… Хмурый весенний день, кучи грязного снега, вытоптанные до черноты дороги, белёные стены, подмокшие понизу, и обсохшие на ветру тесовые шатры… Мужики, бабы, купцы, монахи, дьячки, лошади с санями, собаки, мальчишки… Семён Ульянович вошёл в Гостиный двор через выезд под часовней, протолкался через торжище, здороваясь направо и налево, и вышел через въезд под таможней. Софийская площадь была освобождена от лавок и балаганов и расчищена солдатами под плац. Народ пробирался на Воеводский двор стороной – вдоль частокола, который огораживал площадь с севера, или через ложбину Прямского взвоза, запертого на спуске громадой недостроенной Дмитриевской башни с двумя сквозными арками. А Семён Ульянович застрял в толпе зевак под обветшалой Спасской башней.
На площади трещали барабаны и сновали солдаты, разбираясь по своим ротам. Семён Ульянович понадеялся увидеть там Петьку. Этот стервец, как записался в армию, перестал чтить отца и мать родных: усвистывал из дому ни свет ни заря и возвращался перед сном, ничего не рассказывал, только шептался с Леонтием про пистолеты и заточку сабель, а на расспросы дерзко огрызался, будто родители ему враги хуже шведов. Он совсем отделил себя от семьи, хотя Семён Ульянович и Ефимья Митрофановна давно простили ему самовольство и только хотели знать, как он служит. Не ругают ли его начальники? Хорошо ли кормят? Не мучают ли маршировкой дурацкой и упражнениями, когда рекруты тычут друг в друга деревянными штыками?
Рекруты на площади были одеты кто во что: одни – уже в мундирах, другие – ещё в домашнем, но все по уставу обмотались ремнями с амуницией. Сержанты раздавали из коробов бумажные патроны – по три в одни руки. Семён Ульянович знал, что патроны холостые, с войлочными катышками вместо пуль: при народе нельзя стрелять настоящими пулями, подшибут какого-нибудь любопытного болвана или бабу полоротую, да и беречь надо было снаряды, пуля не пчела, в шапку не поймаешь.
– Вторая рота, то-овсь! – закричал унтер-офицер.
Толпа солдат обретала стройные очертания батальона.
– Барабанщики, артикулы пять, девять, один! – командовал поручик Кузьмичёв, ровняя шеренгу парней с красными барабанами.
За суетой, заложив руки за спину, наблюдал майор Шторбен.
– Бей! – решительно приказал Кузьмичёв.
Барабаны зарокотали. Прямоугольник из сотни солдат – вторая рота – чуть дрогнул, схватываясь общностью воинского строя, и единым дружным шагом слаженно двинулся вперёд. Толпа зевак загомонила, впечатлённая зрелищем. Человеческое разнообразие рекрутов исчезло: через истоптанную площадь в грохоте барабанов грозно и тяжко наступало огромное угловатое существо, какое-то неживое, неумолимое и угрожающее. Семён Ульянович сразу вспомнил слова Ваньки Демарина, что сражения теперь – это сложные перемещения полков меж редутов и фельдшанцев, поддержанные пушечным огнём с флешей, это остановки для ружейных залпов и пропуска эскадронов, летящих в атаку, это натиск штыковым строем и в итоге – рукопашная. И всем там страшно. Души обмирают, когда друг на друга идут безжалостные батальоны, в которых все солдаты безлично подчинены закону убийства.
Треск барабанов переменился. Колонна рекрутов из длины внезапно потянулась в ширину, ряды развернулись перед толпой в шеренги и встали.
– Плечо! – требовательно скомандовал Кузьмичёв.
Рекруты скинули с плеч ружья.
– Полка! Патрон! Скуси! Дуло! Шомпол! Мушкет! На взвод! Цель! – строго командовал Кузьмичёв, хмуря брови.
Несколько общих движений локтей и рук – и вскоре шеренга солдат ощетинилась стволами ружей, нацеленных на зевак. И тут перед рекрутами из толпы выскочили отчаянные мальчишки. Они давно вертелись в тесноте народа, ожидая, когда солдаты поднимут ружья. Прыгать и кривляться под учебную пальбу стало любимой потехой тобольских сорванцов.
– Братцы, пуляйте! – закричали они. – Мы шведы! Пали по нам!
– Огонь! – не дрогнув лицом, выкликнул Кузьмичёв.
Перед шеренгой просторно раскатился широкий грохот залпа. Взвились синие дымки, в мальчишек полетели войлочные катышки.
– Бесенята! – охнули в откачнувшейся толпе.
У Семёна Ульяновича от ужаса чуть не подогнулась нога.
Каждая шеренга солдат была плутонгом, которым командовал сержант. По правилам боя, передний плутонг давал залп и сразу же убирался назад, выстраиваясь в тылу своей роты последней шеренгой. Вот и сейчас солдаты передней шеренги повернулись и словно растворились между товарищами, а перед толпой зевак оказалась шеренга второго плутонга с уже нацеленными ружьями. Залп, краткая суета убегающих, и перед толпой теперь стоял третий плутонг. Залп, суета убегающих, и перед толпой – четвёртый плутонг. Пока до первого плутонга доходила очередь снова оказаться на первой линии, солдаты успевали достать из подсумка патрон, скусить его кончик, зарядить в ружьё и бросить в дуло круглую пулю, потом шомполом забить пыж, прижимающий пулю к патрону, и взвести боёк кремнёвого замка. Стреляя сменными плутонгами, рота вела огонь без остановки.
А мальчишки вопили и визжали, хватались руками за животы, падали в грязь и корчились, разыгрывая убитых шведов, опять вскакивали и вопили, в упоении призывая палить по ним. Каждый старался превзойти остальных в изображении врагов, которые погибают легко, смешно и позорно.
Содрогаясь в душе, Семён Ульянович понял, какая смертоносная сила заключена в этой воинской премудрости. Вот о чём талдычил ему в те дни Ванька Демарин… Хрен приблизишься к строю, который залпами извергает смерть на супротивника… Но бог с ним, с Ванькой. Где Петька? Сына Семён Ульянович на площади не заметил. Наверное, он в другом батальоне.
Семён Ульянович протолкался сквозь взволнованную толпу и пошагал к Воинскому присутствию через пустую стройку кремля, оставленную на зиму в бездействии. К башням и стенам декабрьские вьюги намели языки снега, а сейчас, весной, они покрылись зернистым настом. Покатые сугробы осели и обтаяли с южной стороны, оголив склоны земляных куч, круглые бока лежащих бочек и смёрзшиеся кучи тёсаных досок. Над бугристым пустырём вкривь и вкось торчали решетчатые клети строительных лесов.
На бывшем Драгунском подворье теперь царил совсем иной порядок. У ворот ходил строгий караул; сам двор был расчищен от снега так гладко, что хоть половики расстилай; в ряд стояли гружённые тюками сани; поленница вытянулась ровненько-ровненько, подобранная полешко к полешку. Никто нигде не валялся с похмелья, не дулся в карты, не бродил, скучая от безделья.
Ординарец ввёл Семёна Ульяновича в горницу и щёлкнул каблуками. В горнице вдоль стены друг на друге громоздились сундуки, засмолённые бочонки и ящики, обтянутые парусиной. В углу возле зачехлённого знамени торчал усатый часовой в мундире и треуголке, с лентами поперёк груди и с ружьём. В новом большом киоте свежей позолотой сияли иконы.
– Ландкартер Ремезов, господин полковник! – объявил ординарец.
Бухгольц в плотно застёгнутом камзоле сидел за столом над бумагами.
– Почему опоздал, Ремезов? – строго спросил он.
– Я тебе не солдат! – строптиво ответил Семён Ульянович.
– Иди, Тарабукин. Садись, Ремезов.
Семён Ульянович присел на лавку не слишком близко к Бухгольцу, но и не слишком далеко. Раньше Бухгольц вызывал у него раздражение: припёрся из столицы ни с того ни с сего, никому почтения не оказал, да ещё принялся переустраивать всё на немецкий лад. Но теперь, после учений на Софийской площади, Семён Ульянович глядел на Бухгольца со сдержанным уважением.
– Говорят, ты главный знаток Сибири, – откидываясь на спинку кресла, с некоторым сомнением сообщил Бухгольц. – Вот я и позвал тебя спросить о джунгарах. Что за народ, где жительство имеет, чего желает?
Семён Ульянович против воли был польщён вниманием полковника.
– Зенгурский нутук, иначе ханство Джунгарское, отсюда наполдень в трёх месяцах пути, – сказал Ремезов. – Джунгары – они те же мунгалы. Их четыре народа ушло из Мунгалии, называются ойраты: джунгары, дербеты, хошуты и торгуты. Что-то их там, в своих степях, прижало: то ли голодуха и бескормица, то ли разодрались меж собой. Вот ойраты всей ордой снялись и откочевали из Мунгалии на всток, в пустыню за Алтайскими горами.
– Стой, Ремезов, – Бухгольц полез куда-то под стол в короб и вытащил небольшой, сложенный в четверть бумажный чертёж, истёртый по сгибам. Семён Ульянович сразу узнал свою работу. Давно делал, ещё для воеводы Черкасского. Бухгольц развернул чертёж на столешнице. Семён Ульянович придвинулся поближе и ткнул пальцем, поясняя свои слова.
– Вот она, ихняя пустыня. Первый хан у джунгар был Хара-Хула, он при царе Лексее Михайловиче помер. А в силу джунгары вошли при Бушухте-хане, это при царе Фёдоре Лексеиче было. При царевне Софье они с нами задружиться хотели, чтобы вместе напасть на китайцев. Бушухту нынешний контайша Цэван-Рабдан победил, а при нём первым воеводой служит нойон Цэрэн Дондоб, волчара, лютейший наш враг, злее богдыхана. Цэван-то ему воли не даёт, но Дондобище землю рылом роет, ищет с нами войны.
– Погоди-погоди, – встряхнулся Бухгольц. – Посыпал, не сочтёшь! Давай по разбору. С кем джунгары воюют, с кем дружат?
Семён Ульянович уселся поудобнее и расправил бороду. Рассказы о чужих странах и народах доставляли ему бесконечное удовольствие.
– Воюют они с китайцами насмерть. Раздор у них идёт за мунгальскую страну Халху. Каждый хочет её себе прибрать. В Халхе алтын-ханы правили, но их ханство ойраты и китайцы извели, однако же Халху пока никто не завоевал. И всё же удача у джунгар. Они отбили у китайцев былое царство Могулистан и тамошние города на Шёлковом пути в пустыне Такла-Макан – Турфан, Кашгар и Яркенд. А ныне нойон Дондоб подбивает тайшу Цэвана захватить у Китая священный город Лхасу в Тибецких горах. Там сидит главный богдойский лама Барахман, вроде нашего патриарха.
– Как ты всё это помнишь? – сдержанно удивился Бухгольц.
– Оно разве всё? – насмешливо хмыкнул Семён Ульянович. – Ты слушай дальше. Джунгары пошли на казахов и покорили их Старший Жуз, главную землю, ну, как у нас Московия считается. В ихнем городе Кульдже они свою столицу поместили. Хива, Коканд и Бухара джунгарам кланяются. А с нами у джунгар нелады. С нами они за бурятов тягаются, братьев своих по вере, и за Барабинскую степь, поскольку им там тыщи табунов прокормить можно, а мы не даём. Пока у нас Албазин был и мы с китайцами обоюдно злобились, джунгары нас не трогали, а как мы с богдыханом в Нерчинске замирились, так джунгары на нас вызверились. Сталкивают нас с вершин Иртыша и Оби. На Иртыше свой город Доржинкит поставили, а на Оби наш Бикатунский острог пожгли и служилых перебили.
– А калмыки тут при чём?
– Калмыки тоже ойраты. Это дербеты, торгуты и часть хошутов. Они во времена Ермака Тимофеича откололись от джунгар и вторглись в Сибирь. Прошли степями через Иртыш, Тобол, Яик и добрались до Волги. Ныне их великий хан Аюка царю Петру Лексеичу шертовал, и калмыки нашими российскими подданными считаются. Но с джунгарами они единая кровь. Все ойраты внутри себя по общему закону живут, называется Цааджин Бичик, а по-нашему – Степное Уложение.
– Да тут у вас цельное осиное гнездо, – задумчиво сказал Бухгольц, глядя в чертёж. – Не ведаешь, как шагнуть, чтобы не растревожить…
– Это верно, – согласился Семён Ульянович. – Ойраты все непокорные.
– Откуда ты про них всё знаешь? – Бухгольц пристально посмотрел на Ремезова, словно хотел понять, правду он говорит или сочиняет.
– Ещё с дедовых рассказов.
Дед Семёна Ульяновича, казак Мосей Меньшой Ремезов, первым принёс в Россию грозное известие, что джунгарский контайша Эрдени-Батур объединил всех ойратов под общими законами подобно тому, как Чингисхан пятьсот лет назад объединил всех монголов под сводом великих законов Ясы. Воевода князь Пронский отправил Ремезова в Джунгарию с подарками для Дары Убасанчи, любимой жены Эрдени-Батура. Мосей ехал вдоль Иртыша через Тару, солёное Ямыш-озеро и озеро Зайсан. Контайшу он в улусе не застал и ждал его целый месяц. Эрдени-Батур в это время был на сборище ойратов. Степные тайши и нойоны съехались в урочище Улан-Бур под голыми склонами хребта Тарбагатай. Здесь были вожди джунгар и дербетов, хошутов и торгутов, властители просторов Халхи и Хошутского ханства на озере Кукунор, великие ламы из Лхасы, тайша Хо-Орлюк – покоритель Волги, и мудрец Зая-Пандита, который создал для ойратов «тодо бичик» – «ясную речь». Дымы от тысяч кибиток обволокли вершины Тарбагатая. Ойраты расстелили древние кожи с письменами чингизовой Ясы и сообща условились, как им разделить Вселенную, дарованную Чингизом, и по каким правилам жить на этих просторах. Призраки ордынских бунчуков омрачили небеса над Россией, Туркестаном, Китаем и Индией. Но всё-таки у ойратов уже не было той неистовой страсти, которая некогда сплотила монголов. Свирепые тенгрии чингизидов не вырвутся из мира мёртвых, если другие народы не поднимут меч на ойратов, и пока что Вселенная может пребывать в умиротворении. Об этом Эрдени-Батур рассказал Мосею Ремезову, Мосей – князю Пронскому, а князь – царю Михаилу Фёдоровичу. И Россия с тех пор не поднимала меча на ойратов. А Китай поднял.
– Твоя дорога на Яркенд – та, по которой прошёл мой дед Мосей, – пояснял Бухгольцу Семён Ульянович.
– Какие препятствия укажешь на ней, старик?
– До Тары вам шестьсот пятьдесят вёрст по Иртышу, – задумчиво сказал Ремезов. – Тара – почитай, граница наша со степью. Потом семьсот двадцать вёрст до Ямыш-озера. На впадении Омь-реки – брод через Иртыш. По нему джунгары ходят в набеги на Барабинскую степь. Там вам ухо надо держать востро. Вы на дощаниках, а джунгары конные. На броде они могут напасть.
– Занимательно будет лицезреть баталию кавалерии с флотилией, – снисходительно усмехнулся Бухгольц. – А что за Ямыш-озеро?
Солёный Ямыш кормил солью всю степь. Русские узнали о Ямыше от татар ещё во времена хана Кучума. Тобольский воевода Фёдор Шереметев снарядил первый военный поход на Ямыш, но татары перебили русских казаков. Через десять лет на Ямыш явились джунгары и объявили его своим. За двести пятьдесят вёрст от Ямыша у джунгар стоял их город Доржинкит – сотни войлочных юрт вокруг семи высоких храмов-субурганов. Субурганы, похожие на перевёрнутые колокола, были построены из рыхлого саманного кирпича – глины пополам с соломой. Доржинкит преграждал русским путь вверх по Иртышу к озеру Зайсан и хребтам Мунгальского Алтая.
Воевода Буйносов-Ростовский снарядил на Ямыш новый отряд. Его повёл литвин Бартошка Станиславов, ротмистр. С джунгарским нойоном Бартошка выпил водки-тарасуна и откупил Ямыш для русских. Это было сто лет назад. Казаки построили на Ямыше заставу. С тех пор из Тобольска на Ямыш каждый год плавал большой караван из десятков судов. Ямыш почитался землёй общего перемирия: соль нужна всем. Русские купцы здесь обменивались со степняками заложниками-аманатами и ломали соль-бузу рычагами, а потом возвращали заложников и устраивали большую ярмарку.
– На Ямыше вам зимовать надо, – сказал Ремезов Бухгольцу. – Ямыш – на половине пути до Яркенда. От Тобольска до Ямыша идти всё лето.
– Какова фортеция на Ямыше? Ретраншемент?
Семён Ульянович вспомнил, что Ванька Демарин говорил о земляных крепостях, которые нынче строили иноземцы и солдаты царя Петра.
– Нет, там косой острог с частоколами. Тебе он не защита.
– А велико ли войско могут собрать степняки?
– От кочёвок зависит. От времени года. От родни зайсанга. Могут и тыщу подогнать, и десять тыщ – целый тумен. Их же несметно по степи.
– Как их войско устроено? – допытывался Бухгольц. – Есть шквадроны?
– У них орды конные, а не войско. Какая орда в сто сабель, какая в три тыщи. Во главе – зайсанги. Воевода – нойон, в чьём улусе война. У командиров дружины из батырей, а сама орда – из аратов, простых скотогонов.
– Как вооружены? Мушкеты есть?
– Самопалов мало, но огневого боя не страшатся. Оборужены как наши драгуны. Доспехи кожаные – куяки. У знатных батырей – латы-убчи, ихние кузнецы-дарханы делают их из сырых железных досок. Оборона пустяшная, пуля пробивает. Потому для джунгар доспех – главное сокровище. Лучшие доспехи у них своими именами прозываются. Ты про это не забудь. Для зайсанга или нойона лучший подарок – кольчуга. Золото, деньги, скот – это всё для него не честь, а вот доброй кольчугой знатно уважить можно, ежели, конечно, у тебя охотничьего кречета или балабана нету. Чего джунгарин за кольчугу пообещает – всё исполнит, это у них закон.
– Дикарский обычай, – поморщился Бухгольц.
– Моё дело – понимание дать, – пожал плечами Семён Ульянович.
Он не стал рассказывать Бухгольцу о том, как его отец Ульян Ремезов отвёз в подарок джунгарскому тайше Аблаю кольчугу самого Ермака.
– Как они атакование производят?
– Сраженье всегда размечают для трёх частей своей орды. Нойон решает, куда пойдёт правое крыло – барун по-ихнему, куда левое крыло – зюн, что будет делать серёдка – запсор. Нойон всегда в запсоре. Назади орды – обоз, называется юрга, его охраняют каанары. Нападают степняки только три раза. В первый напуск бросают лучников, во второй летят с пиками, в третий – с саблями. Не взяли своего – уходят.
– А русских войск они боятся? – вдруг спросил Бухгольц.
Семён Ульянович замолчал, вглядываясь в лицо полковника. Ему очень не понравился этот вопрос. О чём Бухгольц думал? Чего он сам опасался?
Иван Дмитриевич не смог бы ответить на этот вопрос, да и не стал бы отвечать тобольскому архитектону. Но сейчас, в этой беседе, для него вдруг прояснились вполне обоснованные вещи. В хлопотах прошедших месяцев он успел проникнуться духом этого города и вопреки своему воинскому знанию ощутил, что Тобольску и вправду нужен тот кремль, который возводит сей старик. Необходимость кремля отнюдь не стратегическая. Никто на Тобольск не нападёт. Необходимость кремля – государственная, ибо Тобольск есть воистину азиатическая столица отечества. И теперь архитектон показал ему те тонкие нити, которые влекутся от Тобольска к Туркестану, Джунгарии, Мунгалии и Китаю. Эти нити не дотянуть до Петербурга, да там никто в них и не разберётся. Восточная экспликация державы возможна только отсюда. И кремль – очезрительное изъявление державной значимости Тобольска.
– По свершениям царя Петра наших войск отныне все народы боятся, – сказал Ремезов, уклоняясь от сути вопроса Бухгольца.
Но Семён Ульянович беспокоился не о величии царя. Он беспокоился о Петьке. Сказали, что поход на Яркенд мирный, а полковник про сраженья выспрашивает. Неужто Петька на войну попадёт? Рано ему! Он дурак!
Семён Ульянович заёрзал на лавке возле стола Бухгольца.
– Послушай, полковник, – проникновенно подступился он, – там к тебе в войску мой сын записался, Петька Ремезов. Ты уж проследи за ним, государь, будь милостив! Он же молодой, совсем безголовый!
Бухгольц сразу вернулся мыслями к своему делу и напустил на себя строгости. За советы старику спасибо, но конфиденция невозможна.
– У меня все солдаты – чьи-то сыны, – весомо ответил он. – Я обо всех пекусь, и в том пред богом присягал. Лучшая защита солдату в походе – не командирская протекция, а собственная выучка!
– Да какая у него выучка? Дурь одна! Его твой поручик Ванька Демарин к себе в полк сманил!
– Иди домой, Ремезов, – отрезал Бухгольц.
Семён Ульянович снова увидел перед собой служивого чурбана.
Бухгольц глядел в сутулую спину архитектона, который, опираясь на палку, выходил из горницы, и ему стало жаль этого старика. Сын-то его, видать, последыш, поскрёбыш, прощальная радость жизни. Надо помочь.
– Тарабукин! – крикнул Бухгольц ординарцу, когда стук палки затих в сенях. – Найди мне поручика Демарина.
– Он на дворе! – тотчас сообщил выскочивший из двери Тарабукин.
Ваня вошёл к полковнику и сразу понял, зачем его позвали. Он только что видел Ремезова, идущего через Воинское присутствие, и на столе у господина полковника лежит расстеленная ремезовская карта.
– Найди сына этого архитектона и прими в свою роту, – распорядился Бухгольц. – Приставь его к Назимову, он толковый сержант.
– Слушаюсь, Иван Митрич.
– Ну, тогда исполняй. Чего стоишь?
Ваня замялся, потому что его вдруг обожгло ревностью. Вредный старик пролез и сюда, в полк, где Ваня считал себя главнее Ремезова, и, судя по карте, наплёл каких-то своих сказок про Сибирь, да ещё и нажаловался за Петьку. Ваня не хотел, чтобы в походе им руководила воля Ремезова.
– Осмелюсь предостеречь вас, Иван Митрич, от доверия к сему старику.
– Отчего же? – удивился Бухгольц.
– Семён Ульянович корысти не имеет, однако ж он стариной живёт. Вы сами посмотрите, какие ландкарты у него. Он кремль строит, иконы пишет, летописи, как в прадедовы времена. Его разумение на наши обстоятельства не простирается. Он поневоле в заблуждение вас может ввести и в мере дистанции, и в рекогносцировании неприятеля, да и в прочем тоже.
– Я сам разберусь, господин поручик, – сухо ответил Бухгольц.
Глава 4
Мис-нэ
В ту зиму Айкони иногда приходила к Когтистому Старику. Огромная башка Старика лежала как раз в той чамье, где Айкони укрывалась от сумасшедшего медведя. Башка занимала половину амбарчика. Нахрач выскреб череп Старика изнутри и набил травой. Глаза он съел, хотя люди не едят глаза зверей, а зубы выдернул, чтобы перетереть на порошок и сделать снадобье. Айкони зашила пасть медведя жилами, а в глазницы вставила кружочки из бересты – так когда-то научил её Хемьюга. Башка Старика, приведённая в правильный вид, дремала и слушала Айкони. Две отрезанные лапы с когтями покоились слева и справа от носа.
– Ты очень хитрый, Когтистый Старик, – говорила Айкони медвежьей голове, еле вместившись в тесный жертвенный амбарчик. – Я думала, что мы с уламой убили тебя. Ты лежал в яме на кольях совсем-совсем мёртвый, даже не дышал. А ты всех обманул. Но потом я не удивилась. Ты же был дух.
Конечно, Старик её обманул. Айкони и Нахрач не смогли вытащить из ловушки огромную тушу медведя, и могучий Нахрач разделал добычу прямо в яме. Голову и передние лапы, как положено, он оставил для хранения на капище. Задние лапы, печень и шкуру Нахрач взял себе, остальное отдал Айкони. На нужном месте они вдвоём развели костёр, Нахрач обкурил голову Старика дымом, исполнил пляску, изображающую победу Айкони над медведем, и спел песню, восхваляющую поверженного врага. Потом они накормили Старика его же мясом. И получилось, что Старик съел сам себя, то есть как бы вывернул свою жизнь наизнанку и возродился где-то в другом лесу, в какой-то берлоге, в виде нового медвежонка. Значит, он остался жив и даже вернул себе обычную медвежью природу, избавившись от проклятия Хынь-Ики. Значит, Айкони не убила его, и ему не за что мстить девчонке. Когтистый Старик обманул всех – и Айкони, и Хынь-Ику – и жил снова.
Мяса медведя ей хватило на всю зиму. У неё никогда ещё не было такой сытой, спокойной и счастливой зимы. Она даже потолстела. На Ен-Пуголе её ничто не беспокоило. После первых снегопадов она обошла окрестные чащи и познакомилась с деревьями-вожаками. Это было важно для добрых отношений с лесом. Деревьям-вожакам подчинялись все остальные деревья. Вожаки всегда были старыми и кряжистыми, но не всякое старое дерево становилось вожаком. Искать вожаков было проще в начале зимы, когда снег ещё тонкий. Вожаки – они тёплые в сердцевине, и вокруг них долго держится протаявшая лунка. Айкони назвала вожакам своё имя, обломила с них щетину – тонкие мёртвые веточки, сделала вожакам подарки: одним повязала цветные нитки, а другим воткнула в кору пёрышки; красные кедры она помазала своей кровью, а одной скрипучей лиственнице подвесила на сук погремушку из утиного горла – пусть беседует, если так любит говорить.
Ей теперь тоже было с кем говорить. Нахрач принёс ей настоящий огонь – не тот, который соскакивает с кремня, чтобы согреть человека в пути и затем умереть, а родовой огонь из освящённого очага. В этом огне жила маленькая весёлая женщина Сорни-Най в красном платье. Когда-то она была дочерью бога Торума, хозяина неба. Некий молодой охотник полюбил её, превратился в ласточку и похитил у Торума, бог только успел метнуть вслед похитителю молнию, которая надвое рассекла ласточке хвост. А Сорни-Най с тех пор жила у людей на земле. Айкони рассказывала ей о своей жизни, но ни слова не говорила о князе-предателе: она выбросила из памяти его образ. Она ценила внимание Сорни-Най и ухаживала за огнём. Нельзя было с размаху швырять в него дрова – можно ушибить. Нельзя ворошить в огне острой палкой – можно выколоть глаз Сорни-Най. Нельзя бросать мусор в угли – огонь обидится. Нельзя плескать воду – это оскорбит его. Нужно понемногу делиться с огнём своей пищей и давать ему лакомство – смолистые шишки. Если Сорни-Най сыта и довольна разговорами с хозяйкой своего очага, то она не пустит в дом Хынь-Ику, великого лжеца, знающего столько историй, сколько рыб в священном озере Имлор. Хитроумный Хынь-Ика живёт в низовьях Оби, там у него изба из костей; каждая птица, что прилетает весной, приносит ему какую-нибудь историю или сказку, поэтому он лучший в мире рассказчик. Но ему скучно зимой, и он рыщет по земле, оставив сторожить свою избу чудовище Пырнэ. Хынь-Ика оборачивается мышью, пробирается в жилища людей и творит зло. Когда Сорни-Най дружит с хозяйкой своего очага, она убивает мышей, и Хынь-Ика, чтобы войти, должен превращаться в человека, но для этого ему надо надеть семь чёрных рубах, а в семи рубахах Айкони и сама узнает демона и ошпарит его кипятком из котла.
Айкони в эту зиму вовсе не было одиноко. Нахрач сдержал своё слово: Когтистый Старик был убит, и Нахрач дозволил Айкони приходить в рогатую деревню. Вогулы встречали её дружелюбно. Никто не припоминал, что у русских она совершила преступление и её теперь ищут. Епьюм научил Айкони особым образом вязать силки на зайцев. Щенька разрешил охотиться на Волосатом болоте, которое считалось угодьем его семьи. Юзоря подарил топор, а Себеда – точильный камень. Панца и его жена Соя всегда кормили Айкони. Старуха Нероха показала ей, как заквашивать в горшке жёсткий собачий мех, чтобы он становился мягким и ровным, точно у песца. Марпа, жена Михани, обменяла Айкони на медвежье мясо целый мешок лоскутков. И всё же Айкони не перебиралась в деревню. На Ен-Пуголе ей было лучше.
Иногда к ней в избушку приходил Нахрач, и Айкони это нравилось. На Ен-Пуголе Нахрач был совсем не такой, как в рогатой деревне, где он всех ругал, всё время что-то распределял и отдавал приказы. Однажды Нахрач пришёл под вечер, замёрзший насквозь, в залубеневшей одежде и с лицом, исхлёстанным в кровь ветвями. Он долго отогревался, потом шумно хлебал из миски, которую подала ему Айкони, а потом лёг возле очага.
– Почему твоё лицо исцарапано? – спросила Айкони.
– Я дрался с Калмысь-ойкой. Я бил его, а он меня.
– А кто такой Калмысь-ойка?
– Бог, – просто и пренебрежительно пояснил Нахрач. – Он хозяин Тарыг-урама, Соснового холма. Ты видела, что белки уходили?
– Видела, – кивнула Айкони.
Вчера она заметила, что весь снег на берегу густо истоптан белками. Это был след большого звериного переселения. Бывало, что белки, или мыши, или бурундуки вдруг огромной стаей бежали куда-то через луговины и леса, переплывали реки, меняя место обитания. Бывало, что птицы подчистую улетали из рощи, исчезали рыси или волки, рыба внезапно пропадала из всей реки от истока до устья. Почему случалось такое, Айкони не знала.
– Это Калмысь-ойка играл в кости с Петысь-эквой, хозяйкой кедрачей на Яурье, и выиграл всех белок. Я ходил, бил его, чтобы он отдал.
Нахрач говорил так, будто могущественные боги и духи были его соседями, с которыми можно ссориться или заставлять их что-то делать.
– Ты шаман, Нахрач? – спросила Айкони.
– Я камлаю.
– Я тоже камлала, но я не шаман.
– У меня есть шаманский сундук.
Айкони бывала в доме Нахрача и видела этот сундук: большой, красиво раскрашенный ящик, в котором хранились шаманская шапка, меховая и рогатая, и деревянные личины для плясок, а также моток священной верёвки, которая в верхнем мире превращалась в волосяной мост, чтобы душа шамана преодолела огненную бездну, и резные палки, которые на небе становились конями, чтобы шаман мог догнать богов. Над сундуком висел кривоватый бубен в рубашке из налимьей кожи – бубны имели душу, а имеющие душу должны носить одежду. Обечайка бубна была берёзовая, к ней на костяные гвозди крепилась натянутая шкура, и по окружности были пришиты медные колокольцы. Рукоятью служила крестовина из оленьего рога. Снаружи бубен был украшен четырьмя изображениями Небесного Всадника: левое верхнее и правое нижнее изображения – чёрным по красному, а левое нижнее и правое верхнее – красным по чёрному. Бубен Нахрача славился своим голосом.
– Ты не похож на шамана, – недоверчиво сказала Айкони.
Хемьюга, покойный шаман из её родного Певлора, был совсем не таким, как Нахрач. Шаманство – это проклятие, беда. Шаманы слабые, больные, измученные. Отвары ядовитых грибов, пляски в дыму, корчи с пеной изо рта, жуткие мороки и восхождения в верхний мир истрачивают шаманов раньше срока. Они быстро седеют, трясутся и много плачут. Духи, которые входят в шамана, расшатывают его тело, как большая рука мужчины растягивает и разрывает маленькую рукавичку женщины. А Нахрач – здоровый, сильный и ловкий, подобно лесному мужику Комполену, хотя, конечно, горбатый.
И ещё шаманы бедные. У них нет сил на большие охоты, нет времени на своё хозяйство – их то и дело отвлекают на помощь другим людям, а потом они подолгу лежат в изнеможении. Шаманы имеют только то, что им подарят. А Нахрач – богатый. У него свой дом, он всегда сыт, он приказывает вогулам отдавать ему то, что хочет получить, и вогулы отдают.
– В тебе есть шаманский корень? – спросила Айкони.
Шаманский корень – что-то необычное у человека. Странные события в судьбе или удивительные способности. Так боги указывают, что избрали именно этого человека. Хемьюга, пока был молод, умел плавать в реке, точно собака, хотя остяки Певлора боялись холодных речных вод.
– Моего деда убило молнией на Юконде.
Такое объяснение вполне доказывало шаманский корень.
– А когда ты услышал шаманский зов?
Любой, кто избран богами, рано или поздно слышит шаманский зов. После этого человек должен идти на выучку к старым шаманам, чтобы перенять их опыт и продолжить их дело. Но кому хочется жить бедно, мало и в болезнях? Бывало, что человек отказывался отвечать на шаманский зов. Тогда боги мстили ему. На него обрушивались несчастья и беды.
– Я не слышал шаманского зова, – с презрением ответил Нахрач. – Меня не надо звать. Я своими ногами иду туда, куда хочу.
– Даже к богам? – удивилась Айкони.
Она слушала Нахрача во все уши. В деревне Нахрач не позволил бы Айкони так допрашивать себя.
– Боги и духи не скрыты от людей, иначе кто будет знать про них? Все люди иногда чувствуют их рядом с собой или сталкиваются с ними. А я сам их отыскиваю. И заставляю исполнять то, что они могут.
Айкони подумала, что горбатый Нахрач ходит к богам, будто на охоту. Он выслеживает богов, словно зверей в лесу, ловит и принуждает служить.
– И ты не пьёшь отвары из грибов и трав? Ты не падаешь без разума?
– Так поступают слабые шаманы. Они похожи на трусов, которым надо выпить пьяной воды, чтобы стать смелыми. А я смелый и без пьяной воды.
– Но как твоя душа попадает на верхние небеса, если ты не дуреешь?
– А что мне делать на верхних небесах? На высоте боги равнодушны. Разве Ен перестанет курить свою трубку, когда я попрошу у него вернуть белок в кедрачи на Яурью? Разве Мир-Суснэ-Хум остановит своего коня, когда я попрошу у него разбить лёд в Нуртальхе пораньше? Высокие боги ничего не делают для людей. Зачем мне к ним ходить?
– У тебя нет «тёмного дома»? – догадалась Айкони.
В «тёмном доме» шаман камлает, и в него вселяются боги, души предков или духи, которые живут под землёй. Они говорят устами шамана, и другие люди могут их слушать. А ещё в «тёмном доме» шаман лечит. Болезнь – это же злой дух. Если его выгонять из больного разными зельями и снадобьями, он может перескочить в другого человека или в скотину. Поэтому его надо выманить дарами и восхвалениями. Шаман намазывает больному лицо сажей, режет жертвенное животное и пляшет для злого духа под бубен. Дух вылезает из больного, чтобы принять дар и увидеть пляску, а потом не может вернуться обратно, ведь лицо больного в саже, человек скрыл себя в темноте. А выход из «тёмного дома» перегорожен волосяной верёвкой. Злому духу некуда деваться, и он уходит в землю.
– Ты не похож на шамана, Нахрач Евплоев, – честно сказала Айкони. – Но и на князя ты тоже не похож.
– Почему я не похож на князя? – рассердился Нахрач.
– Пантила живёт не как ты. И русский князь не как ты.
В её родном Певлоре Пантила Алачеев был князем лишь потому, что принадлежал к древнему роду Алачея, Игичея и Анны Пуртеевой – князей остяцкой Коды. Хотя Кода уже давно исчезла, кровь есть кровь, и в Певлоре никто не спорил, что Пантила – князь, если не считать того случая с Ахутой Лыгочиным, отцом Айкони. Всё равно Певлор жил своим умом: люди сами, без князя, распределяли угодья, сами судили друг друга и сами собирались на общие работы. Князь был нужен только для того, чтобы от лица Певлора говорить с чужаками – с русскими или бухарцами. И жизнь Пантилы не отличалась от жизни других остяков. А вот Нахрач правил своим Ваентуром так, как русские князья правят Берёзовом или Тобольском: он один решал общие дела, и вогулы подчинялись ему беспрекословно. Однако у Нахрача, в отличие от русских князей, не было никакой силы – ни войска, ни богатства. И Нахрач не принадлежал к древним княжеским родам: всех вогульских князей на Конде и Пелыме русские истребили ещё сто лет назад.
– Почему вогулы слушают тебя, Нахрач? – спросила Айкони.
– Я говорю с богами, – надменно ответил Нахрач. – Я нашёл лежбище Ёма-чахля, принёс ему дары, и Ёма-чахль дал песцов. Вогулы заплатили ясак русским в Пелым. Я поймал сетью Нюмчу в Инхетском Соре, и Нюмча дал рыбу. С тех пор вогулы ездят рыбачить на Инхетский Сор. Никто из вогулов не умеет делать так, как я. Я указываю богам и людям, где зверь, где птица, где рыба. Кому ещё быть князем в Ваентуре? Щеньке? Старухе Нерохе?
Айкони стало всё ясно. Конечно, только Нахрач Евплоев, покоряющий богов и духов, мог быть князем рогатых деревень Конды.
– А зачем тебе я, Айкони? – спросила она о самом главном. – Пантила меня прогнал. Сатыга прогнал. А ты пустил жить в избушку на Ен-Пуголе.
– Я взял тебя, чтобы ты победила Когтистого Старика.
– Когтистый Старик ушёл, а я здесь.
Нахрач завозился у огня, раздумывая.
– Для тебя Ике-Нуми-Хаум начал говорить, – признался он. – Со мной Ике молчал. Видно, ты ему понравилась. Я такого не ждал.
Айкони поёжилась, вспомнив схватку с Когтистым Стариком. Осенний ветер тогда забросил уламу на лицо Ике-Нуми-Хаума, и деревянный идол закричал: «Явун-Ика! Иди ко мне!». Когтистый Старик подчинился зову, пошёл к идолу и провалился в ловчую яму.
– Ты веришь, Нахрач, что Ике ещё что-то скажет мне?
– Да, – кивнул Нахрач. – Он должен сказать, как его спасти.
– А кто хочет его убить? Русские?
– Твой князь Пантила пообещал русским отдать Ике-Нуми-Хаума. Ведь Ике – это Палтыш-болван с вашей Коды. Игичей Алачеев, предок Пантилы, надел на него железную рубаху Ермака. Я жду, что Ике заговорит, когда почувствует приближение опасности. Но говорит он только с тобой.
– Почему?
– Я не знаю, – Нахрач посмотрел Айкони прямо в глаза, и Айкони и смутилась, и оробела. – Я ещё не понял, кто ты, и почему ты слышишь Ике.
– Кто я могу быть? – Айкони уже испугалась.
– Я думаю, ты Мис-нэ.
В очаге неожиданно полыхнуло пламя, на углях мелькнуло красное платье Сорни-Най, и Айкони словно опалило жаром. Она – Мис-нэ!
Даже шаманы не знают, откуда берутся Мис-нэ, нежные и страшные лесные женщины. Они живут вдали от людей в глухих и пустынных чащах. Их встречают только те охотники, которые всю долгую зиму проводят в одиночестве на заимках. После самых сильных холодов, когда над Обью, проливая синюю воду, наклоняется созвездие Кувшина, Мис-нэ может выйти к человеку. Нет ничего прекраснее лесной любви Мис-нэ, и бывало, что охотник уже не возвращался с зимовья в родную деревню. Его находили мёртвым, сидящим у лиственницы или берёзы, и даже после смерти он обнимал древесный ствол – это Мис-нэ превратилась в дерево. Однако нет ничего ужаснее мести Мис-нэ, если человек, которого она полюбит, дома возьмёт себе другую женщину: Мис-нэ погубит обоих. Тот, кто познает Мис-нэ, будет вечно помнить её, томиться по ней и жить один. Лишь иногда, очень-очень редко, Мис-нэ будет навещать его, но невидимая и бесплотная. О её появлении оповестит яркий и внезапный запах пихты – и всё.
Разговор с Нахрачом на много дней разволновал Айкони. Она не знала, радоваться ей или тосковать. Может, она вообще уже умерла, её растерзал и съел Когтистый Старик, и вся её жизнь после той схватки с медведем – лишь сон мертвеца? Этот сон не отличить от яви, спящий никогда не выйдет за его пределы и не поймёт, живой он или мёртвый. Но Айкони придумала, как ей проверить себя. Она высыпала пепел из очага и ступила на него босой ногой. Сорни-Най не солжёт: если на пепле останется след – значит, она, Айкони, жива, а если следа нет – значит, она бестелесная тень мёртвой Айкони, над которой насмехается жестокий Хынь-Ика, который внушил наивной душе, что та ещё человек. Айкони присела над пеплом на корточки. След был.
Время двигалось к весне. Каждую ночь, повязав голову уламой, Айкони выходила из своей избушки и смотрела на небосвод. Синяя вода последних холодов вытекла из звёздного Кувшина, и он медленно опустился за кромку лесов. Над заснеженными соснами Ен-Пугола восходили другие созвездия, уже весенние: Спутанный Невод, Росомаха и Рогатина. Раскинув прозрачные крылья, над тёмной тайгой неподвижно летела утка Лули, которая во время потопа клювом достала землю со дна моря. Звёзды мерцали – это возле очага Великая Мать покачивала Колыбель Зверей. Замер, озираясь, Шестиногий Лось. Где-то над Кондой поблёскивала робкая звезда Маленькая Собачка.
А днём всё ярко сверкало, будто кто-то оттачивал ножи: острые лучи солнца, сосульки, изломы наста. Ёлки освобождались от снега и поднимали лапы. Айкони ходила по чёрствому насту и не проваливалась. В лесах сейчас было просторно и пусто. Лёд на болоте влажно потемнел, набух и тихо погрузился, уступая воде. Остров Ен-Пугол окружило прозрачное талое озеро. Переполнив низину болота, оно протоками растекалось по тайге. Высоко в небе плыли гусиные стаи. На обогретых склонах холмов оголялась рыхлая почва, покрытая прелым прошлогодним опадом. Мётлами торчали голые прутья кустов. Вытаявшая земля воистину была такой, какой давным-давно создала её утка Лули: шерстистой и когтистой.
Айкони не забывала про Ике-Нуми-Хаума. Идол угрюмо возвышался над поляной капища, закутанный в истлевшие, рваные шкуры, под которыми виднелась ржавая кольчуга. Руки-обрубки. Глаза-гвозди. Лосиный череп на голове. В обгорелой пасти – льдина. Айкони набрасывала на лицо Ике свою уламу, но идол не отзывался. «Надо дождаться сильного ветра, – думала Айкони. – Ветер принесёт известия». Однако ветреные дни приходили и уходили, лёд во рту идола растаял, а Ике всё равно упрямо молчал.
По Конде прокатилось половодье, затопило прибрежные леса, а потом отступило. Вспыхнули и рассеялись россыпи подснежников, ивы и берёзы покрылись прозрачной листвой, зазеленела первая трава, болотная вода вернулась в свои границы и задумчиво почернела. Молодые волчата учились ловить мышей. Тайгу опутал неумолчный птичий щебет. Прогромыхали ранние, свежие грозы. Над отогретыми бочажинами задымились комары. Валежник обрастал мягким и влажным мхом. Безлюдье аукало кукушками.
Ен-Пугол обсох на солнце. На его соснах застучали дятлы. Каждое утро Айкони приходила к идолу. Опасливо глядя снизу вверх, она широким движением руки накидывала на голову Ике платок, а потом пятилась, чтобы лучше видеть, но в складках уламы не проявлялось никакого смысла.
…В день солнцеворота Нахрач встречал в Ваентуре князя Сатыгу из Балчар. Сатыга приплыл, чтобы вместе с Нахрачом принести жертву вакулю, богу Конды. Всё-таки река общая, и дар тоже пусть будет общий. Так выйдет дешевле, решил Сатыга. В жертву назначили козу с чёрным пятном на лбу.
– Бог, я на твою спину сажусь, – залезая в лодку-облас, сказал Нахрач.
Сатыга уже устроился на носу. Коза смирно лежала на дне, но Сатыга придерживал её за рог. Воин Ванго с силой толкнул облас, посылая его на глубокую воду. Вогулы Ваентура и гости из Балчар толпились на берегу. Нахрач уверенными гребками погнал лодку к середине реки, где её подхватило неторопливое течение. Тёмная Конда на стрежне дрожала под ветерком, изредка покрываясь прядями пены. За обласом на верёвке плыл плотик. Он дёргался от толчков и зарывался в воду. Ваентур отдалялся.
Нахрач положил весло и принялся подтягивать плотик ближе к лодке. Жертвоприношение надо было совершить поскорее, не то Конда унесёт облас, и никто в Ваентуре ничего не увидит. Сатыга встал на колени, с натугой поднял козу и перенёс её через борт на плотик. Коза испуганно затопталась по брёвнышкам, готовая прыгнуть обратно в облас, и заблеяла.
– Вакуль, бери еду! – негромко и требовательно крикнул Нахрач, взял весло и гулко хлопнул лопастью по воде.
– Не бей бога! – всполошился Сатыга.
– Он глухой, – бросая весло, пояснил Нахрач.
Коза обеспокоенно перебирала копытцами. Хвост и уши у неё дрожали, а ноздри шевелились.
– Кто-то бежит к нам! – вдруг заметил Сатыга.
Нахрач повернулся, рассчитывая увидеть след плывущего вакуля, но из-за поворота реки к обласу князей приближалась долблёная калданка.
– Это Айкони, – прищурившись, узнал Нахрач.
Айкони не застала Нахрача в Ваентуре, запрыгнула в лодку и бросилась искать князя на реке. Калданка стукнула носом в облас.
– Нахрач! Ике заговорил! – взволнованно сообщила Айкони, хватаясь за борт обласа. – Он сказал, что на Конду идёт русский шаман!
– Не надо его бояться, – ухмыльнулся Сатыга. – Этот старик ничего не может сделать. Он просто обманщик.
– Он не обманщик, – возразил Нахрач. – Ты не знаешь.
– Я знаю! – заверил Сатыга. – Он сказал мне, что моё горе по сыновьям утихнет, если я надену крест, но горе не утихло. Мои сыновья не приходят ко мне даже во сне – ни Тояр, ни красивый Молдан.
Сатыга сунул руку в горловину своей кожаной рубахи и вытащил нательный кипарисовый крестик на шнурке.
– Возьми его, – Сатыга сорвал крестик и перебросил в калданку Айкони. – Отдай Ике-Нуми-Хауму в подарок от меня.
– Ты глуп, князь Сатыга, – с презрением сказал Нахрач. – Все люди считают русского старика обманщиком, потому он и побеждает наших богов. Но я знаю, что старик говорит правду, потому меня он не победит.
Сатыга и Нахрач отвлеклись на Айкони, отвернувшись от плотика с козой, и за их спинами вдруг коротко взблеяла коза, тотчас что-то могуче плеснуло, будто огромная рыба ударила хвостом, и страшно хрустнула древесина. Калданка и облас качнулись на волне, людей обдало брызгами. Сатыга и Нахрач схватились за борта, дружно пригнувшись для остойчивости лодки, и оглянулись. Оторванный от верёвки плотик плавал в пузырящейся воде, в которой клубилось бурое облако крови. Угол плотика был выкушен. На брёвнышках лежала рогатая голова козы.
Глава 5
Уходящие
Ещё не поздно было сделать так, чтобы никакой войны со степняками не случилось. Китайская пайцза ещё висела у Матвея Петровича на груди под камзолом и пышным кружевным бантом. Князь широко крестился, стоя в толпе посреди Софийского собора, и разглядывал образа на многоярусном иконостасе, резном и раззолоченном. Матвей Петрович хотел понять, что думает о его замысле святая православная сила. Склонённые головы, нимбы, бестелесные руки, ниспадающие одеяния, крылья, кресты, книги, облака…
– И якоже рабу Твоему Товии Ангела хранителя и наставника поели, – гулко и протяжно пел дьякон, – сохраняюща и избавляюща их от всякаго злаго обстояния видимых и невидимых врагов и ко исполнению заповедей Твоих наставляюща, мирно же, и благополучно, и здраво препровождающа, и паки цело и безмятежно возвращающа…
На службу по уходящим воинам в собор набилась толпа тоболяков: чиновники губернской канцелярии, купцы, иеромонахи Софийского двора, офицеры Бухгольца. Сам Бухгольц, держа на согнутой руке треуголку, чётко печатал толстыми пальцами крестные знамения и шептал слова молитв так тщательно, будто повторял какую-то воинскую инструкцию. Ослабевший от болезней митрополит Иоанн уже не мог участвовать в литургии и сидел в креслице. Ремезов стоял где-то сбоку, опираясь на руку жены, бормотал и кланялся невпопад: терзаясь по сыну, он молился своим порядком. Голоса дьякона и певчих взлетали под высокие своды собора. В открытые окна косо били лучи солнца. Тяжёлые железные паникадила висели над толпой на цепях и наводили Матвея Петровича на недобрые мысли о терновых венцах.
Матвей Петрович мысленно проверял готовность войска к походу. Полторы тысячи рекрутов, бывшие служилые Чередова, охочие люди и шведы – всего же почти три тысячи солдат. Оружие. Порох. Пули. Кремни и пружины. Наждаки. Свечи. Походная кузня. Винты. Гвозди. Четырнадцать пушек, отлитых в Каменском заводе тюменским мастером Елизаркой Колокольниковым. Лафеты. Запасные железные шины. Запасные гандшпиги. Ядра. Ручные ядра. Фитили. Картечь. Запальные трубки. Клинья. Крючья. Коломазь. Ерши. Барабаны. Гобои. Амуниция. Ремни. Башмаки. Епанчи. Походная швальня. Кошмы и войлоки. Проволока. Щёлок. Холсты. Котлы. Солонина. Сухари. Мука. Сало. Водка. Тысяча лошадей отсюда и полторы тысячи в Таре. Хомуты и сбруи. Подковы. Сёдла. Попоны. Фураж. Тридцать два дощаника и двадцать семь лодок. Смола. Конопать. Верёвки. Уключины. Парусина. Скобы. Снасти. Плотницкий инструмент. Топоры… Припасы уже пересмотрены и пересчитаны по десять раз. Всего должно хватить.
Матвей Петрович потратил на войско немало сил и немало денег. Он старался всё сделать честно и добротно. И ему не в чем себя упрекнуть. Его совесть должна быть спокойна. Война – солдатская работа. А он обеспечил солдат и оружием, и провиантом, чтобы работали хорошо. Себе ни гроша не взял и другим брать не позволял. Пусть войско идёт в степь и побеждает. И всем тогда будет польза: и солдатам, и державе, и губернатору. Он, князь Гагарин, молится за своих солдат и просит для них только блага. Только вот ещё надо дать в собор новый вклад – икону Георгия Победоносца. В золоте.
Владыка Иоанн видел, что Матвей Петрович опять что-то придумал, опять затеял какую-то корыстную хитрость и сейчас расписывает господу её достоинства, будто ушлый ярмарочный торговец расхваливает доверчивому покупателю свой дрянной и порченый товар. Но митрополиту уже были безразличны грехи губернатора. Его тяготили мысли о земном, тяготило своё немощное тело, тяготил тварный мир. Этот мир стал прозрачен для Иоанна. Здесь всё толстое, грубое и неуклюжее. Понятны все страхи, желания, уловки и надежды людские. В душе владыки не осталось ни гнева, ни сочувствия – лишь тихое терпеливое ожидание, когда же, наконец, он сам станет таким же безмятежным светом, как тот, что вкось бьёт из окон собора на аналой.
Отчуждение не было смертью духа. Наоборот, дух обретал истинную небесную природу, и движение человеческой жизни проходило сквозь него, словно сквозь воздух. Теперь Иоанн постиг отшельников, которые в тесных пещерах под Киевской лаврой укладывались в гробы и просто лежали в темноте и немоте, не отзываясь ни на что. Теперь и он обрёл этот дар. Всё к тому и шло – шло с тех давних дней в Чернигове и Глухове, когда его душа надломилась страхом перед царём, а ныне безвозвратно отделилась от мира.
Иоанн слушал слова литургии: старинные, вычурные, тяжеловесные… Мало кто может изъясняться оной речью и ведать её смысл. Иоанн смотрел на высокую стену иконостаса: пёстрые картины совсем не похожи на то, что видят очи, ибо се – тайные означения, символы, иносказания… Но всё какое-то детское, рукотворное, нелепое… Многосложное искажение в мучительном поиске подобия божьему мироустройству. А ему той искусной премудрости теперь уже не надобно. Он и так понимает. Он преображён больной, вещей прозорливостью, будто на него снизошла благодать, но без всякой радости.
Служба в соборе завершилась, дьякон пропел «аллилуйю», и люди, отдуваясь от духоты храма, повалили наружу, на площадь. А площадь была запружена толпой. Казалось, что здесь собрался весь Тобольск. Звенели колокола. Вдоль куполов и шатров башен носились всполошённые стрижи. Синее июньское небо сияло. Толпа расступалась перед губернатором и чиновниками, и взору Матвея Петровича наконец открылось выстроенное в ряд войско Бухгольца: оба полка, Московский и Санкт-Петербургский, шведский шквадрон, артиллерийская команда и обозная часть. Бухгольц шёл вслед за Гагариным и заметил, что губернатор даже слегка оторопел.
Драгуны в синих мундирах с позументом, с бахромой на шляпах, в ботфортах с клюшами и шпорами, а на ремнях – палаши и пистолеты. Офицеры в париках и треуголках с пряжкой, с медными горжетами на груди, с шарфами на поясе и в ботфортах с крагами. Солдаты-фузилёры с косицами, все в зелёных кафтанах с деревянными пуговицами, обтянутыми полотном, в кюлотах и белых чулках; кожаные перевязи натёрты мелом; на плечах – ружья, сбоку – подсумки, на ногах – тупые башмаки со стоячими языками. Гренадеры в высоких шапках-«стрюках», с пышными шейными платками и обшлагами в раструб; полы камзолов подвёрнуты вверх исподом; от плеч до бёдер – портупеи-панталеры с лядунками и гранатными кобурами. Канониры и бомбардиры при дюжине гаубиц и двух мортирах – они в красном и чёрном, что означает дым и пламя. Прапорщики с разноцветными знамёнами. Флейтисты с гарусными кистями на плечах, а у барабанщиков барабанные чехлы обшиты галунами. Ездовые и обозные – карпусы на головах и ранцы за спинами. Тобольск никогда не видел такого большого и нарядного войска.
– Сила, брат! – оглядываясь на Бухгольца, с чувством сказал Гагарин.
Семён Ульянович, волнуясь, вытягивал шею, выискивая в солдатском строю Петьку, не нашёл и в досаде пихнул кого-то: ведь Петька должен быть такой бравый и красивый, а его засунули куда-то в задние шеренги!
– Головы обнажить! – выходя вперёд, скомандовал Бухгольц.
Солдаты и драгуны одинаковым заученным движением сняли шапки.
К началу строя уже подводили митрополита Иоанна. Владыка опирался на архиерейский посох, под навершием повязанный парчовыми платками, но сзади следовал верный Николка, готовый сразу подхватить Иоанна, если тот пошатнётся. Другой монах нёс перед владыкой чашу-кропильницу, в которой под ярким солнцем искрила святая вода. Владыка медленно окунал в чашу кисть-кропило, медленно поднимал руку и с усилием крест-накрест махал кистью на солдат, благословляя на воинский поход.
– Храни господь, – тихо говорил он. – Храни господь. Храни господь.
Он не смотрел, куда опускает кропило, – монах сам ловил чашей кисть, – он смотрел на солдат. Совсем молодые мужики и парни, все безбородые, кто с усами, кто безусый, белобрысые, рыжие, чернявые, красивые и некрасивые, хитрые и простодушные, умные и глупые, работящие и бездельники, хмурые и лёгкие нравом… Все они одинаково испуганно жмурились, словно дети, когда на их лбы и скулы падали капли святой воды. В безоблачном небе, ликуя, горело солнце, но владыке вдруг показалось, что на лица солдат надвигается какая-то глубокая мрачная тень. И лица жутко преображались: становились бледными и ангельски прекрасными, но глаза меркли и тонули в холодной синеве. Иоанн понял, что для него, подошедшего к пределу своей жизни, смерть сняла с бытия печать тайны, и теперь он увидел тех, кто не вернётся из похода. Будущие мертвецы составляли почти всю шеренгу.
Иоанн пошатнулся, и Николка сразу подхватил его, не давая упасть. К владыке побежали другие монахи. Кто-то вынул кропило из ослабевшей руки Иоанна. Солдаты, не двигаясь, испуганно смотрели на митрополита.
– Переживает за вас владыка, – торопливо пояснил монах с кропилом, успокаивая солдат. – Я довершу благословение, братцы.
– Дурной знак, Иван Митрич, – шепнул Бухгольцу майор Шторбен.
– Предрассудки, сударь, – сухо ответил Бухгольц.
Матвей Петрович в смущении потрогал бант.
– Плох владыка, – с сочувствием тихо сказал он.
Благословение довершили, солдаты перекрестились на главы собора и надели шапки, а потом командиры колоннами повели их вниз по Прямскому взвозу к пристаням, где войско ожидали уже загруженные суда. Вслед за колоннами толпа потекла с Верхнего посада на Нижний.
Десятки дощаников и больших лодок-набойниц стояли у причалов или просто на мелководье у берега, зачаленные за вкопанные ряжи пристаней или друг за друга. На остриях высоких тонких мачт висели, чуть пошевеливаясь, цветные вымпелы с номерами и литерами, обозначающими роту и батальон. Работники с бряканьем закидывали на борта судов длинные сходни. Сторожа амбаров заслоняли собою двери, чтобы в суматохе не пролезли воры. Бурьян на этом берегу давно вытоптали; всюду валялся мусор – поломанные доски и раздавленные бочки; в мутной воде плавали щепки и клочья конопати; воняло смолой, гнилой рыбой и дымом. Под старыми барками, вытащенными на сушу, летом ночевала всякая пьянь и рвань, что промышляла копеечной работой на погрузках и сбором хлама – лопнувших бондарных обручей, потерянных гвоздей и скоб, тряпичных клочьев и верёвочных обрывков.
Командиры распустили солдат, чтобы те поклонились родне и всем, кто пришёл на проводы. Гомонящая толпа заполнила весь берег. Бабы с воем повисли на плечах уходящих мужей и братьев, всюду обнимались и хлопали друг друга по спинам, старики крестили сыновей, шныряли жадные до впечатлений мальчишки и вертелись собаки, не понимая, что за переполох. Бухгольц и офицеры подъехали на конях, спешились и поднялись на взвоз высокого амбара, чтобы сверху наблюдать за сборищем. Через толпу, ругаясь на всех подряд, артиллеристы с трудом катили по колдобинам пушки. Какой-то пьяный дурачок плясал сам для себя вприсядку и стрекотал на домре. Пяток солдат-бобылей, которых никто не провожал, укрылись от командиров за грязным балаганом смолокурни и распивали водку из кожаной фляги.
Сержант Андреян Кичигин, сосед Ремезовых по улице, возле мостков прощался с домашними, уже не чая вырваться из объятий родни.
– Я тебя знаю, Андрюха, – тряся головой, говорил отец, – ты шальной, ты там не буйствуй, понял? Налетят калмыки – издаля коли их пикой, из пистоля пальни, а саблю не хватай, они на саблях сноровистые. Помнишь Михайлу Зеленцова? Он на Ишиме в дозоре тоже с калмыками сбежался, их четверо было, а калмыков – дюжина, так они сразу за фузеи взялись…
– Да помню о том, батя, помню.
– Молись ежеутренне, Андреюшка, Христом Богом прошу, – не слыша отца, говорила мать, поправляя камзол на груди сына. – Отец Лахтион тебе на бумазейку канун списал, так ты его читай тихонечко, Бог-то услышит! Кто в молитвословии усерден, того анделы хранят…
– Буду, матушка, буду.
– Возьми, Андрюшенька, возьми, – твердила жена, пихая в руки мужу расшитый мешочек. – Я тебе ещё туда зверобой и чабрец сушёные положила, в скляночке там притирка, коли спину заломит, и узелочек мягонький такой – это я ветошь всю ночь теребила, можно под перевязку насовать, ежели рана.
– Уходите домой, Аграфена, – страдальчески попросил Андреян.
Сынишка дёргал его за рукав и добивался внимания.
– Батя, батя, батя, батя, – ныл он, – привези мне нож кривой калмыцкий!
Шведские офицеры, записанные в драгунский шквадрон, сдав коней ездовым, которые погонят табун в Тару по гужевой дороге, стояли у сходней своего дощаника и принимали наставления от ольдермана фон Вреха. Фон Врех обеими руками бережно держал узкую шкатулку, в которой на атласном платке покоилась рукописная тетрадь, свёрнутая в трубку и красиво перевязанная голубой лентой. Ветерок шевелил бант на шляпе ольдермана.
– Господа, в знак нерасторжимого духовного единения с общиной, которая возносит молитвы за ваше благополучное возвращение, примите список наставлений профессора Франке. Это самые поучительные выдержки из сочинений господина профессора, книга которых была благословлена самим архиепископом в Уппсальском соборе у погребения короля Густава.
Лейтенант Эрик Ульфспарр принял шкатулку, закрыл её на крючок и сдержанно поцеловал монограмму короля Карла, вырезанную на крышке, – семиконечную звезду, оплетённую венком с римскими цифрами «XII».
Шведские офицеры не препятствовали, чтобы солдаты тоже выпили водки. Солдаты собрались в круг и передавали друг другу пузатую бутыль из тёмного стекла. Пожилой солдат, утирая усы, сказал:
– Ничего хорошего в этом предприятии я не вижу, друзья. Утешает только то, что можно развеяться от бесконечной русской скуки.
– Дозволят ли нам оставить себе мундиры после похода?
– Думаю, через два года эти мундиры будут годиться лишь для пугал.
– Остаётся надеяться, господа, что, когда мы вернёмся, король Карл уже обезглавит царя Петера на Сторторгете, и нас сразу отпустят домой.
– Говорите осторожнее, Людвиг. Русские уже понимают по-шведски.
Среди солдат был и Цимс – конечно, он не мог упустить бесплатную выпивку. Он пожимал руки уходящим, хлопал по плечам и всякий раз подставлял кружку, когда кто-нибудь наклонял бутылку. Однако Цимс не забывал про Бригитту и то и дело искал её глазами. Он нарочно взял жену с собой: пусть она увидит, как её любовник отправляется на два года в поход к чёрту на рога. Цимс торжествовал. Хотя он – простой солдат, а господин Ренат – офицер, он не позволил Ренату отобрать у себя жену. Цимс был уверен, что отъезд Рената объясняется тем, что офицер испугался его.
Бригитта смиренно стояла в стороне, сложив руки на праздничном переднике, как служанка в ожидании указаний хозяина, но она давно уже отыскала Рената взглядом. Цимс не заметил этого, потому что отвлекался на водку. Ренат помогал русским артиллеристам закатить орудие по сходням. Бригитта смотрела, какой Хансли ловкий, гибкий и сильный, как туго натягивается рубашка на его спине, когда он упирается в станину лафета, и не сомневалась, что через полгода они будут вместе. Хансли справится, а она вытерпит. Хансли сказал, что у него созрел удивительный план: зимой с обозом Бригитта поедет в лагерь Бухгольца, там они с Ренатом соединятся и сбегут к степнякам. Бригитта допускала, что план Хансли может привести их к гибели. Но Хансли – здравомыслящий мужчина. Он всё взвесил. План должен удаться. И незачем ей сейчас изводить себя сомнениями, которые только сокрушают волю. А если небо уготовило им поражение, значит, они достойно примут смерть. Но вдвоём. Это тоже приемлемый выход.
Ренат оглянулся, увидел Бригитту и бросил пушку. Он стоял у сходен по колено в воде – длинные волосы собраны в косицу, белая рубашка с бантом намокла от пота, сборные манжеты испачканы коломазью пушечных колёс, короткие кюлоты с пуговицами оголяют крепкие икры и щиколотки… Ренат молча прижал ладонь к сердцу. Бригитта спокойно повторила его жест, не заботясь о том, смотрит на неё Цимс или нет.
Ходжа Касым тоже наблюдал за отправкой русского войска. Он купил себе хорошее место на гульбище одного из пристанских амбаров и сидел на лавке, покрытой ковром. На гульбище друг за другом поднялись Асфандияр и Хамзат – молодой татарин, который добивался места в лавке Касыма.
– Я насчитал пятьдесят четыре лодки, господин, – торопливо сказал Хамзат первым, даже забыв поклониться.
– Тридцать две большие лодки и двадцать семь малых, – сообщил Асфандияр. – А ещё четырнадцать пушек, из которых две в рамах.
– Учись зоркости у тех, кто умудрён опытом, Хамзат, – наставительно произнёс Ходжа Касым. – Иначе тебе не стать добрым саркором.
А Ремезовы еле нашли Петьку. Он стеснялся, что семья провожает его, как маленького, – товарищи засмеют, а потому умело затерялся среди солдат и сразу шмыгнул на дощаник. По пути он уцепил Володьку Легостаева и велел передать Ремезовым: дескать, Пётр искал- искал отца и мать, да не успел отыскать, сердитый командир погнал его на воинское место, но Пётр попросил не тужить, а его шапку с красным подбоем пусть матушка приберёт и Лёшке не даёт, а то он истреплет. Семён Ульяныч чуть не схватил Володьку за горло, и Володька сразу сдался: открыл, где Петька прячется, сам побежал на дощаник и привёл солдата к разъярённому родителю.
Семён Ульяныч отвесил Петьке затрещину, но Ефимья Митрофановна обхватила сына руками и зарыдала, и у Семёна Ульяныча тоже затряслась борода. Все толпились вокруг Петьки: Леонтий, Семён, Машка, Варвара с Федюнькой и Танюшкой, Лёшка, Лёнька и даже Фимка Волкова, которая увязалась на пристань за Машкой. Ефимья Митрофановна всё совала Петьке в руки узел со стряпнёй, и Петька незаметно передал его Володьке.
– Помни, дурень, стрясётся что с тобой – мать не переживёт! – грозил Семён Ульянович и норовил дёрнуть Петьку за чуб, а Петька уворачивался. – На меня наплевал – ладно, мне в гроб пора, а её-то пожалей!
– Защитит, – сказала Варвара, навешивая Петьке на шею крестик.
– Дай пистолет посмотреть, – шёпотом просил сбоку Лёшка.
– Мы, Петька, с тобой в молитвах, – серьёзно произнёс Семён.
Леонтий вложил Петьке в руку берестяную коробочку.
– Берегись там в степи, братик, – Леонтий как-то по-бабьи погладил Петьку по голове. – Я тебе кремней принёс и пружины, наменял добрых у Никиты Усольцева, он сам для своего ружья калил и крутил, не сломятся.
Маша потихоньку отделилась от родни – им сейчас не до неё. Она хотела увидеть Ваньку Демарина. Он ведь в тот же поход идёт, а проводить его некому. Жалко, что не сложилось меж ними, ну да Богу видней.
Ванька стоял на причале и курил трубку – нелепое занятие в общей сутолоке. Маша сразу поняла, что он чувствует себя потерянно. Ему некуда деться. Если сидеть на судне, то все увидят, какой он жалкий и одинокий. Лучше торчать здесь, на берегу, будто бы он занят какими-то важными мыслями или наблюдениями, требующими сосредоточения с трубкой. Маша подошла, теребя концы платочка, и не знала, что сказать. Он хороший, Ванька. Только слишком гордый. Думает, что все должны ему покоряться.
– Вань, давай я буду тебя ждать? – предложила Маша.
Ванька глядел в сторону, окутываясь клубами дыма.
– Не утруждайтесь, Марья Семёновна, – надменно ответил он.
Маша вспомнила Петьку, которому никакая любовь и забота не нужна, а вокруг него пляшут, как на Масленице вокруг чучела. А Ваня не такой. Он словно лучина – твёрдый и острый, но сломить – только пальцем нажать. Он в армии не научен с людьми уживаться. Не умеет отступать и миловать. Но ведь и она его, в общем, тоже не помиловала: откуда ему уметь? От кого?
– Ты сердись, сколько хочешь, только возвращайся, – искренне сказала Маша в порыве жалости и великодушия.
– Как бог даст, я на службе, – мрачно ответил Ваня.
Маша поняла, что́ он имеет в виду. «Лучше мне погибнуть, чем снова о людей обжигаться и мучиться», – вот что. Маша внимательно смотрела на Ваньку. Конечно, ему хочется погибнуть, а все потом из-за него раскаются и будут горевать. С такими мыслями и лезут на рожон. Из рук вырываются и лезут всем назло. И удержать такого дурака от глупости можно только одним способом – заставить беречь не себя, а другого. Маша осознала всё это без слов – одной только врождённой мудростью будущей женщины.
– Я тебя попрошу, Ваня, за братом моим последить, – серьёзно сказала она. – Ты в воинском деле учёный, а у него ветер в башке.
– Как угодно, Марья Семёновна.
Маша спокойно шагнула к Ване, поцеловала его в скулу, словно это было делом обычным, и пошла прочь.
Через толпу на пристанях вдоль линии причалов ехала карета Матвея Петровича, запряжённая четвёркой лошадей. Кучер орал, разгоняя народ, а на запятках висел лакей Капитон. Тяжёлый кузов кареты, щедро покрытый золочёной резьбой, покачивался и скрипел, подвешенный к раме на прочных ремнях. Под сиденьем кучера время от времени глухо скрежетала железная «лебяжья шейка» – поворотная станина колымаги. Приоткрыв дверку, Матвей Петрович рассматривал толпу и суда на реке. Напротив губернатора сидел Дитмер, стараясь при толчках сохранить достоинство.
Матвей Петрович увидел Рената.
– Стой, стой! – высовываясь, закричал он кучеру и, задвигаясь обратно в карету, сказал Дитмеру: – Ефимка, сбегай-ка мне вон за тем офицером.
Дитмер не стал спорить, хотя задание было для лакея, а не секретаря.
Ренат осторожно забрался в карету, и Гагарин захлопнул дверку, оставив Дитмера снаружи. Ренат опустился на сиденье, глядя на губернатора. Матвей Петрович поднёс палец к губам, давая знак молчать, и задёрнул на оконце занавеску. Он был уверен, что Дитмер постарается подслушать. Ренат ждал. Матвей Петрович снял шляпу, расстегнул крючки на вороте камзола, извлёк из-под кружев мешочек с пайцзой и через голову стащил шнурок.
– Уговор помнишь? – почти беззвучно спросил он.
Ренат кивнул. Гагарин протянул ему пайцзу.
– Это жизнь твоя, – так же беззвучно сказал Гагарин и для наглядности провёл ребром ладони по шее: не исполнишь – сниму башку.
Ренат надел пайцзу и спрятал на груди.
– Иди, – приказал Гагарин и открыл дверку, выпуская Рената. – Ефимка, позови Бухгольца. Пора ему отваливать. Долгие проводы – лишние слёзы.
Матвей Петрович сделал свой ход и желал, чтобы игра пошла быстрее.
Отплытие было объявлено выстрелом из сигнальной пушчонки. Звонкий хлопок лопнул над пристанями, эхо проскочило сквозь частокол мачт на простор Иртыша и разлетелось вверх и вниз по реке. Толпа загомонила с новой силой. Гнусаво запели рожки сержантов. Солдаты, уже уставшие от прощания, выдирались из рук родни, кланялись и бежали к своим судам. Офицеры пересчитывали людей по головам. На берегу рыдали и что-то выкрикивали вдогонку. Гулко плескала вода под сброшенными сходнями.
Отвальный выстрел услышали и на Верхнем посаде. Митрополит Иоанн приподнял голову с подушки и посмотрел на инока Николку.
– Это войско отходит от пристани, отче, – пояснил Николка.
С Софийской площади монахи под руки привели ослабевшего владыку в Архиерейский дом, в свою палату, бережно освободили от торжественного облачения, уложили на топчан и натёрли виски уксусом. Иоанну требовался покой, и рядом с ним остался только Николка. За окном щебетали птицы.
– Мало будет вернувшихся, – тихо сказал Иоанн.
– Ты о чём, отче?
– О солдатиках.
– Зачем пророчествуешь недобро? – испугался Николка.
– Я не от себя.
– Ты лучше отдохни. Смущённому духу и видения злые.
Иоанн вздохнул и отвернулся. Николка немного подождал, поднялся с лавки и наклонился над владыкой, прислушиваясь: Иоанн спал.
Он спал весь день и весь вечер, но сон его был тревожным, мутным. Плыли по реке дощаники, раздувая паруса, поднимались и опускались вёсла, смеялись солдаты, блестя из-под усов белыми зубами, солнце сияло на меди офицерских горжетов, сильные руки, крепкие плечи, молодость и здоровье, весёлый голод перед ужином, хохот у костров, шуточная борьба, сладкая немощь честной усталости, горячий ветер из степи, жаворонки в небе – и вдруг свист метели, стужа, грохот, огонь и отточенное железо, рассекающее живые тела… А потом люди снова плывут по реке: торчат мокрые клинья задранных мужских бород, бабы лежат в ореоле распустившихся волос, а дети коротенькие-коротенькие, и в тёмной воде среди льдин и трупов покачиваются вещи – шапки, женские расшитые платки, корзины, детские салазки, подушки… Нет, это не то войско, что ушло в степь! Это мертвецы из города Батурина, которых он видел пять лет назад!..
Иоанн открыл глаза. Ночь. В глубоком окошке светится бессолнечное северное небо. Серые каменные башни пустого Софийского двора, серый собор, пепельная трава. В келье – никого, лишь тлеет лампада перед иконой.
Иоанн медленно поднялся со своего лежака, добрёл до столика и вытянул из поставца чистый лист бумаги. Перо. Чернильница. Свеча – для старческого зрения света из окошка не хватает… Он ведь может спасти этих молодых солдат. Он напишет царю письмо и расскажет о своём видении. Он, Иоанн, – не убогий монашек из какой-нибудь захудалой обители в лесах под Костромой. Он – сибирский митрополит. Он знает цену своему слову. Царь должен ему поверить. Должен. И царь вернёт войско обратно, отменит поход.
Иоанн поднёс свечу к лампаде в киоте. Огонёк выявил лик Богоматери – её печальные очи и лазоревый убрус. Этот образ владыка привёз с собой из Чернигова. Сколько его молитв слышала Богоматерь – не счесть. И пред её ликом Иоанн вдруг понял, что всё бесполезно. Солдат уже не вернуть. Пока его письмо доберётся до Петербурга, пока указ царя прибудет обратно в Тобольск, войско уйдёт так далеко в степь, что никакой гонец его не догонит. Что предначертано, то исполнится. А ему, владыке, – только новая печаль. Но зачем ему такая горечь на излёте жизни?
– Избави меня, дево, – всей силой души попросил Иоанн у Богоматери.
Вдруг раздался тихий стук в дверь. Наверное, это был Николка.
– Войди, – разрешил Иоанн.
Дверь открылась, но за ней никого не было. Сквозь дверной проём Иоанн видел угол сеней и Николку, спящего на лавке. А в келье по углам что-то зашуршало и бесплотно зашепталось. Сумрачный воздух вокруг затрепетал, по своду и стенам заметались невесомые острые тени, словно от чьих-то крыл. Иоанн поднял глаза на икону, озарённую его свечой.
– Ныне отпущаеши, – жемчужными губами произнесла Богоматерь.
Иоанн почувствовал, что тяжёлое, уже непослушное тело его легчает, становится пустым, словно облетевшее по осени дерево, и освобождающаяся душа, не скованная теперь ничем, обретает изначальную красоту и величие. Оказывается, он уже сидел на полу под киотом, ещё держа в руке свечу. Покоряясь, Иоанн расслабленно лёг, ощутив щекой деревянную половицу. Ноги его вздрогнули, будто он во сне перешагивал через порог.
Дверь сама собой закрылась.
Иоанн лежал мёртвый, теряя последнее тепло, но худая старческая рука владыки и после смерти сжимала свечу. И огонёк свечи не угасал.
Глава 6
Рогатая деревня
Ещё зимой владыка Филофей понял, что скучает по рекам и тайге, по дыму костра на стане, по плеску вёсел дощаника. Тридцать лет назад в Киевском коллегиуме он, молодой монах, полагал, что старость его будет протекать в диспутах с учёными богословами Рима и Праги, – а его тянет к разговорам с вогулами и остяками. Неисповедимы пути господни.
В этом, 1715-м, году Матвей Петрович, растратившись на Бухгольца, снарядил для владыки только одно судно, но Филофей счёл, что одного и достаточно. Конечно, Конда и Ваентур – самое гнездилище идолопоклонства, но ведь не станут же язычники бросаться на русских с ножами. Инородцы усвоили горький урок Певлора. И сейчас с Филофеем была давно испытанная команда: два казака – Яшка и Лексей, четверо бывших служилых, а с ними десятник Кирьян Кондауров, отцы Варнава и Герасим, остяцкий князец Панфил Алачеев и непременно – полковник Григорий Ильич Новицкий.
Нахрач Евплоев, ваентурский князь-шаман, казался похожим на паука: кривоногий, горбатый, плечистый, с растопыренными локтями. Впрочем, его дикая рожа была непростая и умная. Он приготовил жилище для гостей: на своём дворе, огороженном жердями, очистил от хлама большой балаган, покрытый пластушинами коры и дёрна. Балаган был сооружён из тонких и неровных брёвен; весь в длинных щелях, он не имел растёсанных окошек.
– Откуда ты узнал, князь, что мы явимся? – спросил Филофей.
– Меня предупредили мои боги, – с вызовом ухмыльнулся Нахрач.
Владыка кивнул, принимая вызов.
В прошлом году он уже видел вогульские деревни. Они очень отличались от селений остяков с их плоскими и обширными жилищами-полуземлянками и амбарами на ножках. Рогатые избы вогулов стояли на столбах, имели толстые кровли из лапника и узкие волоковые окна, глядевшие с опасным прищуром. В облике вогульских деревень было гораздо больше русского – и гораздо больше языческого, чащобного, древнего.
К вечеру вогулы заполнили двор Нахрача, расселись на брёвнах и в траве. Все хотели послушать русского шамана. Владыка оглядывал жителей Ваентура. Смуглые лица, тёмные глаза, одежда из шкур, пояса с ножами… Среди вогулов находился и князь Сатыга из Балчар, который в прошлом году принял крещение, а сейчас рвался спорить и дёргал плечами от нетерпения.
Перед этой поездкой Филофей подробно поспрашивал о народе вогулов у Ремезова. И рассказ Ульяныча насторожил владыку. Остяки столкнулись с русскими только после похода Ермака, а вогулы сошлись с ними ещё во времена новгородского веча. Вогулы многое переняли у русских – вон и деревни их немного похожи на русские, – однако Христа вогулы к себе не допустили. У них было гораздо больше опыта сопротивления. Они были злее к русским, потому что первые сибирские воеводы извели и перебили всех князей Мансипала – так вогулы называли свою землю. Вогульские кумиры были щедро обрызганы вогульской кровью, которую без жалости проливали русские. В том числе и кумир в Ермаковой кольчуге, спрятанный этим горбуном – Нахрачом. Недаром ведь в прошлом году, сжигая у Сатыги Медного Гуся, Филофей и все, кто был с ним, увидели то, чего никогда не видели у смиренных остяков, – свирепого демона, вырывающегося из костра.
– Говори первый, князь Сатыга, – распорядился Нахрач.
– Скажи, где живёт ваш бог? – сразу напал Сатыга. – На небе?
– Я не знаю, где он живёт, – спокойно ответил Филофей. – Иногда люди видят его в облаках, поэтому считают, что он живёт на небе.
Нахрач усмехнулся неведению Филофея и кивнул другому вогулу:
– Дозволяю тебе, Епьюм.
Епьюм погладил себя по груди, собираясь говорить долго и умно.
– Наши реки стерегут вакули, – начал он. – За лесами следят менквы. Зверей рожает Калтащ. Волков пасёт злой Хынь-Ика. Весь мир каждый день верхом на лосе объезжает Мир-Суснэ-Хум, он охраняет порядок…
– Мы их кормим за это! – строго вставил Нахрач.
– Все наши боги заняты своими делами, – завершил Епьюм. – А как твой бог будет делать все дела один? Как он всё успеет?
– А как ты сам успеваешь сразу дышать, думать и говорить? – Филофей улыбнулся. – Ты успеваешь делать сразу несколько дел, и бог успеет.
– Пусть сейчас бог покажет нам что-нибудь, – предложил Нахрач.
Вогулы загомонили, надеясь увидеть чудо. Князь Пантила заволновался.
– Тогда и Торум пусть сейчас покажет! – ревниво выкрикнул он.
– Нельзя просить бога показать себя, – сдержанно сказал Филофей. – Это значит искушать его. Нельзя никого искушать – ни бога, ни людей.
Владыка видел, что вогулы не поняли его, но объяснять не стал.
– Покажи мне своё сердце, Нахрач! – пылко потребовал Пантила, отвечая за владыку. – Я хочу видеть, как оно бьётся, и знать, что ты живой!
Филофей понимал молодого остяцкого князя. Католики говорят, что неофит святее папы. Новообращённый охвачен восторгом обретённой веры и готов растерзать любого, кто не воспламеняется от жара его чувств.
– Ты путаешь след, старик, – снисходительно заметил Нахрач.
Филофей не возразил. Он внимательно наблюдал за князем-шаманом.
– Спрашивайте другое, – командовал Нахрач. – Говори ты, Юван.
– Твой бог даст мне удачу на охоте? – спросил Юван.
– Не знаю, – покачал головой Филофей. – Это он решает.
– Говори ты, Пуркоп.
– Он вылечит мою жену? – спросил Пуркоп.
– Я не знаю, сделает ли он это.
– Говори ты, Микай.
– Мне нужен сын, твой бог пошлёт мне сына?
– Ничего этого я не знаю.
– Ты ничего не знаешь, а твой бог ничего не может! – сказал кто-то.
Пантила переживал, что у владыки нет ответов.
– Бог может всё! – горячо крикнул он.
Нахрач, торжествуя, ухмыльнулся:
– Твой бог может всё, но не всегда делает. А наши боги всегда идут исполнять наши просьбы, но не всегда могут. Однако дырявая лодка с веслом лучше, чем целая лодка без весла. Чем тогда твой бог лучше наших богов?
– Он даст мне вторую жизнь без конца.
– У меня, у мужчины, пять душ, – для убедительности Нахрач положил на живот растопыренную пятерню. – Это птицы. Они не знают смерти. Я умру, а они улетят и поселятся в деревьях, в зверях, в других людях. Но они могут собраться вместе, и я тоже буду жить второй раз.
– Нахрач будет, – подтвердили вогулы. – Нахрач – большой шаман.
– Щенька, – Нахрач указал пальцем на Щеньку, – плохой охотник. Один раз я заманил в него душу его деда Артанзея, хорошего охотника, и Щенька убил медведя. Мы тоже можем жить и второй раз, и третий, и ещё много.
– Я говорил внутри себя с Артанзеем, да! – важно сообщил Щенька.
– Биса ты йому пидсадыв! – вдруг сказал Новицкий.
Он почему-то был мрачный и не вступал в спор.
– Отче, ответь ему! – отчаянно потребовал Пантила.
– Не хочу, Панфил, – устало отказался Филофей. – Хорошо, Нахрач, ты победил меня. Да, твои боги подчиняются тебе, и ты умеешь возвращать души в людей. Ты могучий колдун. Тогда сожги своего идола в Ермаковой кольчуге, ведь ты и без него можешь всё. А мы после этого уйдём.
Нахрач пристально и с пониманием поглядел в глаза владыке.
– Ладно, старик, – недобро согласился он. – Я притащу Ике-Нуми-Хаума с Ен-Пугола, и мы вместе его сожжём.
Вогулы расходились, довольные тем, что Нахрач переспорил русского шамана. А князь Пантила негодовал. Он не мог поверить, что владыка без боя уступил язычнику. На лице Пантилы горели красные пятна.
Пантила сдерживался до вечера, но потом его прорвало.
– Почему ты так сделал, отче? – он гневно смотрел на Филофея. – Почему ты не отвечал вогулам? Они задавали вопросы, на которые ты уже отвечал остякам! Нахрач смеялся над тобой! Ты обидел бога!
В балагане дымно горел чувал. Яшка Черепан и Лексей Пятипалов, казаки, рубили дрова. Служилые сушили возле огня подмокшую одежду. Отец Варнава и дьяк Герасим кашеварили. Владыка безучастно сидел боком на лежаке из жердей и о чём-то размышлял.
– Ты ведь сам князь, Панфил, – нехотя напомнил он. – Разве ты можешь приказывать остякам так, как Нахрач приказывает вогулам?
– Нахрач сильнее меня! – признал Пантила. – Но он не сильнее тебя!
– В этом и хитрость, – Филофей вздохнул. – Пока Нахрач княжит над своими людьми, спор о богах – тщетное и лукавое суемудрие, Панфил. Оно лишь тешит гордыню Нахрача и уводит от правды.
– А в чём правда?
– Правда в том, что Христос не придёт сюда, пока властвует Нахрач. Сначала надо лишить его власти, лишь потом можно говорить о боге.
– Ты хочешь позвать войско? – поразился Пантила.
Он преклонялся перед умением владыки побеждать без оружия, и сейчас владыка в его представлении едва не потерял всё своё величие.
– Конечно, нет, Панфил, – печально усмехнулся Филофей. – Власть Нахрача обрушится тогда, когда будет повержен его кумир. Вогулы должны увидеть, что Нахрач не повелевает демонами, а служит им, и потому не может защитить тех, кого сам слабее.
Пантила легко понял мысли владыки. Как он не догадался сам? Он ведь много раз спрашивал себя: почему Нахрач сразу и князь, и шаман? Потому что шаманство подпирало княжение Нахрача! Пантила сморгнул, словно в глаз попала соринка, и его затопило стыдом за глупость и малодушие.
– Завтра мы сожжём Палтыш-болвана! – яростно выпалил он.
– Об этом я и думаю, – тихо сказал владыка.
…А Новицкому в этот день выпали свои испытания.
Когда владыка разговаривал с вогулами во дворе у Нахрача, Григорий Ильич увидел Айкони. Вместе с другими вогульскими женщинами она стояла за жердяной изгородью и слушала спор. Новицкий сначала даже не поверил, что нашёл эту девчонку. Окаменев, он смотрел на Айкони и не мог насмотреться. Такая маленькая, ладная, подобранная… Она была одета как мужчина – кожаная рубаха, штаны и широкий пояс, – но потом Новицкий разглядел вышивку на вороте и рукавах, разглядел женскую сумочку на левом боку – там, где у мужчин висел главный нож, медвежий. Айкони как-то одичала… Нет, не одичала, а сделалась совсем лесной, чужой. Она стояла совершенно неподвижно – так олень замирает в укрытии за кустами, чтобы не выдать себя хищнику. И неподвижность давалась ей легко, без усилия.
После спора Айкони ушла в дом вместе с Нахрачом, и Григорий Ильич, не показывая вида, весь вечер караулил её. Она появилась только в сумерках. Она вынесла из дома короткое весло и мешок и направилась к берегу Конды.
Время белых ночей уже завершалось, и в глубине тайги по логам и урочищам наливалась силой свежая ночная темнота. В мертвенно-бледном, угасающем небе проступал иззубренный серп месяца. Река блёкло и слепо отсвечивала и не отражала прибрежных ельников, что срослись в единую мохнатую толщу. Из плоской пелены остывающего тумана вздымались крыши рогатой деревни, словно коровы погрузились в омут по хребты.
Айкони подтащила лодку-калданку носом на приплёсок и с тихим стуком вычерпывала воду деревянным ковшиком.
– Здрастуй, ластывка моя, – негромко сказал Григорий Ильич, чтобы не напугать девчонку. – Я же поклявся знайты тэбэ – ось и знайшов.
Айкони посмотрела на него и не ответила. Она уже заметила его на дворе у Нахрача и не сомневалась, что он непременно подойдёт.
– Як ти живешь, мила? Чи добрэ всэ у тэбэ?
За год с лишним Новицкий отвык от неё. Думал неотступно, а видеть отвык. Разлука уже не терзала тоской. Григорий Ильич словно зачерствел в долгой и безвыходной горечи. Без этой девчонки его жизнь оказалась какой-то потусторонней, призрачной. Даже вера не воскрешала. Вера питала только разум, а душа черпала силы жизни из этой девчонки, словно из чужого колодца. Девчонка исчезла – колодец пересох. Григорию Ильичу ничего не надо было от Айкони, лишь бы находиться рядом.
– Я хранить бог, – распрямляясь, сообщила Айкони. – Ике-Нуми-Хаум. Я живу на Ен-Пугол. Ты не знать. Вогулы знать и бояться.
Григорий Ильич не мог сообразить, что ответить. Он сказал то, во что уже не верил; он просто повторил своё приглашение, потому что эти слова ещё цепляли его за привычный порядок вещей:
– Приймэш хрэщення, кохана моя? Зараз найкращий час.
Айкони тяготил этот высокий и печальный мужчина с вислыми усами, синей щетиной и серьгой в ухе. Она не забыла, что сама сломала ему судьбу, но не испытывала жалости. Пусть просит освобождения у своего бога.
– Ты любить меня?
– Да, – послушно кивнул Новицкий.
– Тогда тебе взять меня, – предложила она. После князя у неё не было мужчины. Этот русский порадует её ненадолго и, быть может, отпустит её, утолив свою печаль. – Плыть на лодке, лес, ты и я. Бери, я тебе. Ты хороший.
Новицкий задохнулся. Он не мог. Он не для этого искал её.
– То нэ гоже, – хрипло сказал он. – Цэ нэправэдно.
Айкони шагнула к нему поближе, и он отступил. Этот русский не понимает, как надо жить. Он только богу молиться хочет.
– Я – сила, огонь! – веско и внушительно произнесла Айкони. – Я убить! Я сама! Я волк, не собака! Твой крест – мне верёвка. Ты бояться мне.
– Я не боюся тэбэ, – бессильно прошептал Новицкий.
– Лезь в лодку, – властно указала Айкони. Она переняла эту властность у Нахрача, а Нахрач умел держать свою жизнь. – Ты и я. Я тебе. Лезь.
– Цэ грэх.
Айкони стало мучительно скучно с этим несчастным человеком: будто ловила тайменя, а поймала мелкую плотвичку. Она повернулась к калданке, столкнула её на воду и, подхватив весло, перескочила через борт.
– Тогда не ищи! – велела она.
Точным толчком весла она развернула калданку носом от берега.
Новицкий не сомневался, что скоро он снова встретит Айкони. Если она сторожит идола, которого Нахрач обещал отдать владыке на сожжение, значит, она будет у назначенного костра. Надо просто дождаться, и Григорий Ильич приготовился ждать. Так верный пёс, изгнанный хозяином с подворья, никуда не уходит и терпеливо сидит у ворот.
Нахрач сдержал слово. Через день вечером к владыке пришёл Пуркоп.
– Нахрач привёз Ике, – сказал он. – Ике будет гореть. Иди туда.
Нахрач решил казнить Ике-Нуми-Хаума за околицей рогатой деревни на опушке ельника. За чёрными, изодранными вершинами елей мрачно тускнела дымно-красная полоса заката. Ползучие сумерки наполнились беспокойными тенями, словно нелюдимые духи тайги тоже бесплотно явились посмотреть на жертвенный костёр. На Конде тревожно кричали какие-то птицы.
Вогулы расступились, пропуская владыку и русских. Длинное и толстое бревно идола вытянулось на крепких козлах, обложенное нарубленными сухими дровами, хворостом и лапником. Идол яростно вперился глазами-гвоздями в угасающее небо и раззявил пасть, словно гневно кричал богам перед гибелью. Владыка рассматривал Ике-Нуми-Хаума с отчуждённым интересом – так рассматривают огромную убитую змею. Неужели вот это грубое деревянное чудовище могло владеть людскими душами?
К владыке, расталкивая вогулов плечами, приблизился Нахрач.
– Ике-Нуми-Хаум готов умереть, – сказал он. – Ты рад, русский старик?
– Это он? – негромко спросил Филофей у Пантилы.
– Я видел Палтыш-болвана, когда сам был таким, – Пантила указал на вогульского мальчика в толпе.
Пантила тоже разглядывал идола, но со страхом и недоумением. Корявый лик истукана, вырубленный топором, не мог сравниться с тонкими и тёплыми ликами икон, прописанными трепетной кистью. Разве можно изобразить бога топором? Топор – торопливое орудие дьявола, когда надо просто поскорее выпустить зло на волю, не заботясь о его облике.
– Вот железная рубаха, которую носил Ике, – Нахрач бросил под ноги Филофея ржавый ком старой кольчуги. – Ике возвращает её тебе.
Филофей наклонился и поднял кольчугу. Она оказалась неожиданно тяжёлой, словно впитала в себя величие своего хозяина – Ермака.
– Возьми, Кирьян, – Филофей протянул кольчугу десятнику Кирьяну Кондаурову. – Увезём в Тобольск. Для нас эта вещь драгоценная.
– Дать тебе огонь, чтобы зажечь Ике? – усмехаясь, спросил Нахрач.
– Зажигай сам, князь.
Новицкий молча озирался, разыскивая Айкони, но не находил её.
Пламя вспыхнуло в нескольких местах и почти сразу охватило длинное тело идола с двух сторон. Казалось, что Ике упал в огненную траву. Вогулы, взволнованно переговариваясь, попятились от жара огромного костра. Сухие дрова трещали и стреляли искрами. От дуновения ночного ветра с Конды языки пламени качались и гнулись, словно пеленали идола, как младенца.
Филофей вдруг понял, что происходит что-то не то. У костра не было князя Сатыги – он отправился домой в Балчары, точно низвержение божества было делом обыденным, недостойным внимания. А вогулы вовсе не были напуганы или сокрушены истреблением своей святыни. Они с любопытством поглядывали на владыку: чувства русского шамана почему-то были им важнее, чем гибель почитаемого истукана. Нахрач, щурясь, следил, чтобы огонь нигде не ослабевал, ходил в толпе и распоряжался, куда ещё подсунуть дров. Вогулы подчинялись ему по-прежнему; они тащили поленья, и никто не противился воле князя-шамана. Костёр не умалил власти Нахрача.
Новицкий наконец увидел Айкони. Она сидела на земле, освещённая пламенем, как некогда в мастерской Ремезова сидела с рукоделием возле печки. Лицо её было безмятежным. Рядом на корточки опустился Пантила.
– Здравствуй, Айкони, – сказал он.
– Здравствуй, Пантила, – ответила она, не поворачивая головы.
– Ты теперь шаманка Нахрача?
– Меня все прогнали. Я живу на Ен-Пуголе.
– Теперь уйдёшь, как идола сожгли?
Айкони промолчала, тихо улыбаясь огню.
Новицкий подался ближе к Филофею, чтобы никто его не услышал.
– Цэ Аконя, бэрэгыня сэго выстукана, – угрюмо сказал он. – Вона же повынна сумуваты, плакаты… А вона спокийна, яко нэмаэ скорботи.
– И что это значит, Гриша? – помедлив, спросил Филофей.
– Чую, цэ не той выдол. Мы порожнэ брэвно жжэм.
– Я тоже о том догадался, – тихо произнёс Филофей.
Для Григория Ильича это означало только одно: если идол уцелел, значит, он снова увидит Айкони. И пусть Нахрач обманет хоть тысячу раз.
Владыке показалось, что в тесном пламени костра идол вдруг немного повернул на него большое чёрное рыло и ухмыльнулся обугленным ртом.
Филофей перекрестился, отступил и потихоньку выбрался из толпы. Вогулы уже не заметили его ухода. Владыку укрыла темнота. Что ж, сатана его провёл. Не в первый раз – и жаль, что не в последний. Значит, надо ломать Нахрача и дальше. Непростой оказался язычник. Дерзкий и коварный. Досадно только то, что все вогулы полюбовались, как русский священник стоит облапошенный и ничего не понимает. Филофей неторопливо перешёл луговину выпаса, мокрую от вечерней росы, и пошагал по кривым проулкам Ваентура к дому Нахрача, над которым тихо шумел высокий кедр. Рогатая деревня дремала в полночи без единого огонька в окнах-щелях. В избах вогулов не было икон – не было и тёплого мерцания неугасимых лампад.
Владыка снял жердину, закрывающую проход во двор, и увидел, что на брёвнышке возле балагана сидит какой-то человек.
– Кто пожаловал? – спросил Филофей, подходя к балагану.
– Я, – прозвучал знакомый голос.
Филофей застыл на месте.
– Отче Иоанн? – изумился он. – Да как же ты очутился здесь?..
– А я не здесь, – ответил Иоанн.
Филофей вглядывался в митрополита, словно сотканного из невесомого пепельного света. Он был в простой монашеской рясе и клобуке с намёткой, на плечах – омофор, на груди – наперсный крест и панагия. Филофей понял, что в этом облачении Иоанн лежит в гробу где-то далеко в Тобольске.
– Ты умер, отче?
– Возвращайся в Тобольск, брате, – сказал Иоанн. – Хочу проститься с тобой молитвенно. Не скоро свидимся.
– Владыка, владыка! – раздалось на улице.
Филофей обернулся на ворота. Во двор торопливо входил Пантила, за ним спешили служилые и казаки.
– Не дело тебе, отче, одному тут бродить! – сердито проворчал Кирьян.
– Нахрач обманул! – Пантила схватил Филофея за рукав. – Истукан не тот! Настоящий идол на капище в болоте! Айкони ему жертву понесла!
Филофей посмотрел на брёвнышко у стены балагана, где только что сидел митрополит Иоанн. Брёвнышко было пустым. Иоанн исчез.
– Я могу выследить Айкони! – всё горячился Пантила. – Я найду, где она прошла! Надо завтра идти на Ен-Пугол, жечь там идола!
Филофей, успокаивая, потрепал Пантилу по плечу.
– Нет, Панфил. С рассветом, брате, выплываем в Тобольск.
– Вогулы посмеялись над нами! – отчаянно крикнул Пантила. – Нахрач скажет, что мы глупцы, а Христос слепой и слабый!
Кедр за домом Нахрача блестел в свете месяца.
– С рассветом – в Тобольск, – негромко повторил Филофей.
– А что стряслось, отче? – с подозрением спросил Кирьян.
– Митрополит Иоанн скончался.
– Откуда известно? – удивился Кирьян.
– Я знаю.
Но Пантила пылал праведным гневом, а смерть кого-то там в Тобольске для него ничего не значила.
– Нельзя уступать вогулам! – потребовал он.
Пантила готов был хоть сейчас мчаться на капище и рубить идола, доказывая Нахрачу, кто сильнее. Филофей понял, что молодой остяк не примет его решения без объяснений – слишком горела душа от обмана.
– Мы уже сделали главное, Панфил, – мягко сказал он. – Мы нашли у Нахрача слабину. Теперь и мне, и тебе, и вогулам ясно, чего боится Нахрач и что́ он прячет. Остуди сердце. В грядущем году и завершим начатое. Или ты сам опасаешься, что через год твоя вера иссякнет?
Пантила, вспыхнув от стыда, отвернулся. Конечно, отче прав. Желание победить немедленно – от неверия в свои силы. Дуют только на сырые дрова. Его, Пантилы, вера – ещё пока сырые дрова, и владыка это увидел.
Короткой летней ночи хватило лишь на то, чтобы вытолкать тяжёлый дощаник с берега на глубокую воду и перенести на судно из балагана грузы и припасы. Над тайгой занялся рассвет. В тальнике чирикала одинокая ранняя горихвостка. За рогатой деревней курилось огромное кострище, и белый пар стелился над плоскостью Конды, неподвижной и гладкой в безветрии.
Служилые привязывали парус на релю, лежащую поперёк дощаника. Кирьян и Кузьма Кузнецов, кряхтя, навешивали на кормовой крюк увесистое рулевое перо. Новицкий, где-то пропадавший всю ночь, потерянно сидел на перевёрнутой вогульской лодке. Пантила умывался на мелководье. Филофей, стоя на коленях, задумчиво разглядывал иконы, разложенные на большом полотенце, брошенном поверх травы. Где-то у вогулов запел петух. От деревни к дощанику, покачивая кривыми плечами, шёл горбатый Нахрач.
– Ты покидаешь нас, старик? – спросил он у владыки. – Ты не будешь благодарить нас за то, что мы сожгли Ике-Нуми-Хаума?
– Вы сделали это для себя, а не для меня.
Нахрач недовольно поморщился. Всё получилось так, как он хотел, – и в то же время не так. Чего-то не хватало. Бегство русских смущало Нахрача.
– И ты не будешь надевать на нас кресты, как на Сатыгу?
– Не стану торопиться, – Филофей бережно складывал иконы в стопку. – Я снова приеду к вам будущим летом.
Филофей завернул иконы в полотенце и с трудом поднялся на ноги, держа свёрток с иконами перед собой.
– Ты недоволен нами, старик? – испытующе спросил Нахрач.
– Я доволен вами и благодарю тебя, князь Нахрач Евплоев, – Филофей смиренно поклонился вогулу. – Вы сделали шаг к богу, и это правильно. Я хочу оставить вам эти иконы, – Филофей протянул Нахрачу свёрток.
Нахрач не спешил принять подарок.
– Я не знаю, что с ними делать.
– Просто раздай людям, и пусть держат их в своих домах, как дорогие вещи. Привыкайте к ним. А потом я всему научу.
Нахрач нехотя взял подарок владыки и сунул подмышку. Его тревожили подозрения: неужели старик догадался, что идол ненастоящий? Догадался, обиделся на вогулов и уходит домой, не прощаясь?.. Тогда не получится восторжествовать над ним на глазах у всего Ваентура… Или старик очень умный и отпустил судьбу бежать по тому следу, который чует только она одна? Но как старик мог догадаться? Ему подсказал его бог?
– Я хочу сказать тебе, старик, что верю в твоего бога, – честно сказал Нахрач. Он и не сомневался в том, что русский бог существует. – Твой бог очень сильный. Я вижу это по тебе, – Нахрачу приятно было признать могущество соперника: победа над слабым не приносит удовлетворения. – Поговорим о твоём боге, когда ты снова приедешь к нам.
– Поговорим, – согласился Филофей.
Глава 7
Возле худука
И далеко он, Трёхглавый мар?
– Ещё в трёх днях.
– Может, за два дня дойдём? Мы же налегке.
Они и вправду были налегке, без больших припасов для долгой дороги: четверо конных и четверо – на двух телегах. Из телег высовывались рукояти лопат, лестница и длинные кованые стволы допотопных крестьянских фузей, а всадники, и Леонтий тоже, были вооружены мушкетами покороче, чтобы стрелять с седла, и пистолетами. Над овчинными шапками торчали пики.
– Как хотят, по степи не ходят, Левонтий, – щурясь против низкого утреннего солнца, снисходительно пояснил Савелий Голята. – Ходят от худука до худука. Пройдёшь трёхдневный путь за два дня – будешь всю ночь облизываться всухую между двумя худуками.
– Сам-то ладно, ежели дурак, – добавил Макарка, – а коням пить надо.
Леонтий знал, что худуками называют степные колодцы. Их выкопали ещё в незапамятные времена, может, каракалпаки, может, казахи, а может, и монголы Чингисхана, когда в Тургайской степи воцарился Джучи.
– Везде свои премудрости, – признал Леонтий.
– А ты как думал? – хмыкнул Голята. – Степь – она непростая. Это лишь кажется, что она как доска плоская на все четыре края света. А в ней и горы есть, и леса, и реки кое-где, и овраги, и утёсы, и яры неприступные.
– Даже пещеры есть, – сказал Макарка Демьянов.
– А пещеры-то откуда? – не поверил Леонтий.
– Провалы с каменными стенами. На дне – лужа, в стенах – дырья.
Леонтий помнил отцовские чертежи. Тургайские степи растянулись от Яика до Ишима, а на полудень уходили к пределам Хорезмского моря, сменяясь раскалёнными такырами Турана, где в тростниках рычали красные тигры. Тобол вершиной вторгался в плодородные и дикие просторы Тургая.
– Видишь вон там косяк тарпанов? – Голята указал пальцем.
Степняки считали лошадей, тарпанов или сайгаков косяками; в косяке был жеребец, до десятка кобылиц и молодняк; русские поселенцы из степных слобод переняли такой счёт у джунгар и казахов.
– Не вижу косяка, – морщась от солнца, сказал Леонтий.
– В лощинку спустились, нас боятся.
– И лощинки не вижу, Савелий.
– А я вижу. И Макар видит. И все наши видят.
Да, здесь жили не так, как в тайге. Леонтий озирался с высоты седла. Бесконечная холмистая равнина раскатывалась во все стороны, неподвижная, но живая. По склонам скользила прозрачная тень облака, а на солнце жёлто-зелёные июльские травы вдруг бегуче серебрились под порывами ветра. Люди ехали по земле, а им казалось, что они летят – вокруг открывался такой простор, какой видят только птицы. Окоём растворялся в синеватом мареве, и невозможно было понять: то ли там плывут волны каких-то взгорий, то ли двоятся пологие очертания дальних холмов, колеблясь в горячем воздухе.
О том, что придётся отправиться в степь бугровать, Семён Ульянович сообщил Леонтию ещё весной. Они тогда пилили бревно во дворе.
– Слышь, Лёнька, нужда обозначилась, – Семён Ульяныч решительно работал локтем. – Хочу в кузьминки отправить тебя с Тобольска.
– А как же сенокос?
– Как-нибудь сами отмашемся. А ты в степь езжай.
– Куда и почто, батя? – не спорил Леонтий.
– Куда-то на Тургай. Есть два мужика в Царёвом Городище, Савка Голята и Макарка Демьянов, они курган укажут. Бугровать будете. Матвей Петрович сам придумал. Надо царю подарок добыть, чтобы дозволил кремль завершить. А нам не найти подарка лучше могильного золота.
От бревна, лежащего на козлах, с треском отвалился чурбак, и Ремезовы распрямились, переводя дух.
– Зачем же лета ждать? – спросил Леонтий. – С половодья бы и двинулся. Успел бы вернуться, чтобы Петьку в поход проводить.
– За свежей травой степняки кочуют. Уйдёт трава – и они уйдут.
– Что ж, ясно, – кивнул Леонтий. – Как прикажешь, батя.
Губернатор выдал денег, чтобы нанять сотоварищей, коней и телеги. В слободе под Царёвым Городищем Леонтий отыскал Савку Голяту и Макара Демьянова. Голята рассказал, что курган называется Трёхглавым маром, и к нему можно подобраться по старинному караванному пути через худуки. От барабинских татар Голята слышал, что в кургане похоронен Чимбай, сын хана Джучи. Будто бы в могилу его закатили на золотой колеснице.
– Брешут, – уверенно возразил Голяте Леонтий. – У татар в степи под каждой кочкой по Чингисхану лежит.
– За что купил – за то продал, – пожал плечами Савелий.
Худук, около которого был назначен ночлег, выглядел как все худуки в степи: яма-воронка шириной больше сажени, обнесённая глинобитной стеной. На дне чернела вода, в которой плавало разбухшее сено. Ни ворота, ни журавля тут не имелось – из худуков черпали бурдюками или кожаными вёдрами на верёвках. Окаменевшая земля вокруг колодца была изрыта копытами верблюдов и коров. Но куда интереснее худука была большая каменная постройка в сотне шагов от водопоя.
– Это что за храмина? – спросил Леонтий у Савелия.
– Барабинцы говорят – Таш-тирма, каменная юрта. Видишь – крыша на восемь рёбер, как у юрты. Привал, мужики.
– Жусипка Мухитов, наш казак слободской из крещёных степняков, брешет, что это ихняя ханака, – сказал Макар. – Погребалище для хана.
– Караван-сарай это, – заявил один из мужиков.
– Маловат для караван-сарая, – возразил Леонтий.
– Ну, мечеть.
– Мечети при жилье строят.
– Да кой пёс разница? Поганая изба басурманская, и всё.
Леонтий отстегнул седло и сбрую, стреножил лошадь, чтобы паслась сама по себе, и отправился взглянуть на ханаку.
Четырёхугольное здание было сложено из тёсаного камня-плитняка, скреплённого раствором, и сверху его венчал шатёр из мохнатого саманного кирпича, замешанного с соломой и высушенного на солнце. С южной стороны возвышалась толстая стена со стрельчатым входом. Шатёр и стены ощетинились пучками белёсого пырея. Угол гробницы обрушился, открывая тёмное внутреннее пространство, безжизненное, как заброшенная печь. Из кладки шатра высыпалась одна грань, но дырявый шатёр ещё держался. Закатное солнце окрасило две его плоскости в медный цвет. Возле пролома валялись спёкшиеся в глыбы обломки стен, занесённые горячим песком и оплетённые узловатой ползучей вишней с мелкой тёмной листвой.
Леонтий уже видел подобные гробницы у башкир, когда ходил в поход против ополчения батыра Алдара на озеро Кисегач и под Далматову обитель. Башкиры называли эти гробницы «кешэнэ». Башкиры и татары уверяли, что их велел построить сам Тамерлан. Будто бы Железный Хромец разгромил хана Тохтамыша на Волге в сече на речке Кондурче и обратно в Самарканд шёл через Общий Сырт и Башкирию. В дороге умерло шесть его сыновей, раненных в битве, и Тамерлан похоронил их на священном кладбище Акзират близ реки Агидель. До Акзирата Леонтий не добирался, но каменные юрты башкир стояли и в степях между Яиком и Тоболом.
Леонтий вернулся на стан. Он думал, что отцу любопытно было бы увидеть эту ханаку. Можно развести чернила из золы и зарисовать её.
– Нету ли, мужики, клочка бумаги? – спросил он у слобожан.
– Мы не писари, – свысока ответил Макар Демьянов. – А тебе на что?
– Думаю, это ханака Чимбая, – уклонился от объяснений Леонтий. – Ежели он в этих степях погребён, то лежит здесь, а не в Трёхглавом маре.
– Могилы-то в Таш-тирме нету, – рассудительно сказал Савелий.
– Татары и калмыки тут уже все углы обшарили, как у пьяного в карманах, – добавил Макар. – Порожняя башня.
Леонтий решил, что спорить незачем.
Древние степняки хоронили своих покойников в курганах. Или же так, как самого Чингиза: его закопали на пологом склоне горы Бурхан и трижды прогнали по склону табуны, чтобы лошади стёрли с лица земли все следы последнего пристанища хана. Священный склон охраняли урянхайцы, и на нём вырос лес. Монголы не любили оставлять указаний тех мест, где под травами спят их властелины. Только после того, как хан Узбек, правитель Улуса Джучи, принял махометанскую веру, монголы стали возводить над могилами ханаки. Ханаку построили и над погребением Джучи.
Джучи, первенец Чингиза, в глазах отца навеки был в подозрении, ибо мать его Бортэ, возлюбленная жена Чингисхана, вышла к мужу в тягости из меркитского плена, и все советники Потрясателя Вселенной сомневались: Чингиза ли кровь течёт в жилах Джучи? Старшему сыну Чингисхан отдал в улус степную Сибирь и Туркестан. Несколько лет белоснежная шестикрылая юрта Джучи стояла под хвостатыми знамёнами на Иртыше – там, где ныне у джунгар был город Доржинкит. Джучи не захотел идти на Русь войной и рассорился с отцом. Чингиз принялся готовить войско против сына, однако поход не понадобился. На соколиной охоте стрела предателя вонзилась Джучи в спину, и первый чингизид упал с коня в кусты караганника. Его похоронили в степи, что простиралась как раз между Тургаем, Иртышом и Тураном. А через столетие над могилой возвели ханаку, но не такую, как здесь, на окраине Тургая, а куда богаче: из обожжённого кирпича и с дутым круглым куполом, облицованным бирюзовыми изразцами. А Русь для монголов завоевал сын Джучи – беспощадный Батый.
Про ханаку Джучи Семёну Ульянычу рассказывал казак Федька Скибин. Двадцать лет назад воевода Нарышкин отправил Скибина в Туркестан к Тевке-хану с посольством. В те годы джунгары Бушухты-хана перешли реку Чу и прорвались в благодатную Фергану, и казахи искали союза с Россией. Федька Скибин поневоле обошёл всю Азию по кругу: Тобол, Тургай, Туран, Туркестан, Бухара, Хива, Хвалынское море… Из Астрахани он перебрался к калмыкам Аюки-хана, через Общий Сырт попал на Яик, а оттуда – наконец-то к своим в Уфу. Батюшка много дней расспрашивал Федьку, составил несколько больших чертежей. Леонтий тоже слушал тогда истории Скибина. Скибин и поведал о ханаке Джучи, нацарапал пером на листе рисунок.
Тургайская ханака, вот эта Таш-тирма, изрядно напоминала гробницу первого чингизида. Её могли построить только махометане, кто же ещё? Джунгары верили в Барахмана и своих покойников сжигали, бросали в степи на съедение зверям либо отправляли в Тибецкие горы, в Лхасу. В ханаке на Тургае должен был лежать Чимбай, внук Чингиза. Ну и что, что могилы нету? Просто не отыскали её. Но доказывать это мужикам Леонтий не стал. Батюшка – он бы кинулся в склоку, всех бы носом натыкал в их невежество, обозвал бы дурачьём стоеросовым. А Леонтий как-то по-девичьи стеснялся своих познаний, обретённых от батюшки. Кому все такие познания нужны? Разве что книжникам, вроде Семёна Ульяныча. Но не этим мужикам. Не народу. Леонтий почитал отца, как люди почитают святых, здраво понимая, что святость для мира неприменима, с ней не проживёшь, одни терзания.
Огонь мужики разожгли в яме, уже почерневшей от прежних костров. Дров в степи не было, и слобожане везли с собой несколько больших корзин с пластухами сушёного кизяка. Наломав пластуху об колено, Савелий бережливо подкладывал куски кизяка под мятый котелок с пшённой кашей.
– Почему в яме жжёте? – спросил Леонтий, расположившись у костерка среди мужиков. – Для жару?
– Чтобы калмыки издали не заприметили.
Ночная степь не спала. Кое-где стрекотали кобылки, тёплый ветер с еле слышным шёпотом ворошил беспокойные травы, шуршали мыши. Изредка над головами людей в отсвете костра вдруг бесшумно мелькали совы-сипухи.
– Часто они наведываются?
– Да каждый год, – хмуро сказал Савелий.
– Есть у них тайша Онхудай, юргу держит на Дор-жинките, – заговорил один из мужиков. – Возомнил себя князем, нойоном по-ихнему, объявил своими кочевья от Иртыша вдоль Ишима до Тобола. Когда просто косяки ведёт – непременно угодья нам вытопчет. Но особо баранту любит, гадюка.
– Что за баранта?
– Скот угонять. Это у калмыков за доблесть почитается.
– Хуже, когда калмыки войной идут, – Макарка Демьянов растянулся на земле на боку, ожидая ужина, и подпёр скулу кулаком. – Грабят, поджигают, ясырь погромный берут – рабов то есть, и угоняют в Хиву. У меня брата в Ичан-Калу увели. Пропал братишка.
В Хиве, в глиняной твердыне Ичан-Кала, у восточных ворот Кул-дарваз находился самый большой невольничий рынок Туркестана. На пыльных плитах под огромными, расплывшимися книзу башнями сидели сотни рабов, в том числе и русских. Саркоры-покупатели в полосатых бухарских халатах ощупывали плечи и руки людей, лезли толстыми пальцами пленникам во рты, считая зубы, разрывали рубахи и смотрели спины – много ли рубцов от плетей: если рубцов много, значит, пленник непокорный, и цена ему ниже. Гомонила толпа, кричали с минаретов муэдзины, ругались погонщики верблюдов, скрипели арбы, ревели ослы и рычали на людей бродячие собаки. Воняло по́том, мочой и гнилой одеждой; затхлостью несло из рва; смердели головы изловленных беглецов, для устрашения насаженные на шесты.
– Ежели калмыков боитесь, почто тогда от служилых отказываетесь? – спросил Леонтий. – Какая-никакая, а защита.
– Да нет от них прока, Левонтий, – покачал головой Голята. – Они завсегда лишь на шапочный разбор поспевают.
– Мы своим миром слободу стережём, – сказал один из мужиков.
– На кой ляд нам тобольские дармоеды? – добавил другой.
– Кумышку пить и баб щупать мы и сами умеем.
– Лучше попу платить, чтоб божий гнев на калмыков обрушил.
– Из коей пропасти вылезли эти дьяволы – калмыки? – Голята гневно посмотрел на Леонтия. – Ведь не было их в Сибири при Ермаке, верно?
– У меня батя лет десять назад строил земляной вал вокруг Тобольска, – сказал Леонтий. – Тоже от них обороняться думали.
– Вот и считай! – почему-то рассердился Макарка. – Коли ваш Тобольск под калмыцкой угрозой в тайге стоял, каково нашим слободам в степи?
Леонтий не стал растолковывать, что слобожане смешивают калмыков и джунгар. Дело в том, что калмыки и джунгары были единым языком – ойратами. Об этом батя повествовал в своей книге «Описание сибирских народов». Жаль книгу – она сгорела при поджоге, устроенном Аконькой…
Ойраты жили в Мунгалии бок о бок с мунгалами, и никто не смог бы их различить. Ко временам Тамерлана ойраты потихоньку овладели всей своей страной и вытеснили соседей с добрых кочевий. Среди мунгалов созрело недовольство. Мунгальский контайша Шолой Убаши объединил мунгалов земли Халхи в державу Алтын-ханов и вышвырнул ойратов из Мунгалии на Иртыш. Это случилось примерно тогда, когда в Сибирь явился Ермак. Ойраты принялись собирать силы для отпора. В тот год, когда русские в низовьях Иртыша основали Тобольск, в верховьях реки ойраты сразились с ордой Алтын-ханов и остановили натиск соперников. Однако Мунгалия всё равно принадлежала мунгалам. Ойраты, потерявшие родину, нашли себе пристанище в степях между Алтайскими и Тянь-Шаньскими горами.
Ойраты состояли из четырёх народов: дербетов, торгутов, хошутов и джунгар. Хошуты, которых возглавлял тайша Байбагас, и джунгары, которых возглавлял тайша Хара-Хула, решили жить в горах. А дербеты тайши Далай-Батыра и торгуты тайши Хо-Орлюка решили искать себе новое отечество и откололись от сородичей. Вот их-то, ушедших, и называли калмыками.
Столетие назад на среднем Иртыше калмыки впервые столкнулись с русскими. Русские шли на восток по тайге, а калмыки шли на запад по степи. Калмыцкое кресало высекло искры из русского кремня: таёжно-степное пограничье вспыхнуло сражениями. Но большой войны никто не желал. В Таре посланцы Далай-Батыра шертовали воеводе Силе Гагарину – предку Матвея Петровича. Царь Михаил Фёдорович дозволил дербетам кочевать по вершинам Иртыша, Ишима и Тобола. А свирепый Хо-Орлюк не захотел присягать русскому царю. Он повёл своих торгутов дальше – во владения башкир и ногайцев. В конце концов торгуты прорвались к берегам Волги. Нынешний калмыцкий хан Аюка был правнуком Хо-Орлюка.
Батя объяснял все эти давние и дальние расклады ясно и просто. Но для бати минувшие распри народов представлялись божьими бурями, и в блеске их молний мелькали скуластые лица степняков, шлемы с ястребиными султанами, ледяные вершины гор и летящие демоны-тенгрии. А для Леонтия степные войны были чем-то муторным и путаным, как чужие склоки, когда не поймёшь, кто прав. Не о чем тут рассказывать этим мужикам у костра.
…Джунгары не ужились с хошутами. Вскоре после ухода калмыков хошуты тоже покинули Джунгарию и, потеснив китайцев, перебрались жить в пределы Китая на мёртвое озеро Кукунор. А джунгарский тайша Хара-Хула и его сын Эрдени-Батур воздвигли в горных степях Джунгарское ханство. Непокорные, но нищие джунгары со всех сторон были окружены врагами: Алтын-ханами Халхи, китайцами, Казахским ханством и ханством Могулия со столицей в Кашгаре. С полуночи джунгар начали подпирать русские. Они приняли в своё подданство бурят и барабинских татар – былых данников, которые кормили скудную пропитанием Джунгарию. Перед лицом этих угроз требовалось удержать воедино раскатившихся по миру ойратов. И Эрдени-Батур созвал под хребтом Тарбагатай в урочище Улан-Бур великий чуулган – съезд властителей. Чуулган принял Степное Уложение – правила жизни ойратов на Волге и Кукуноре, на Иртыше и в пустыне Курбантонгут. В это время в юргу Эрдени-Батура с подарками для Дары Убасанчи, жены контайши, приехал тобольский казак Мосей Ремезов – прадед Леонтия.
На Улан-Буре ойраты поделили Вселенную. Калмыкам досталась Волга, а джунгарам – Сибирь. Русские отмахнулись от притязаний джунгар: разве эти полуголодные степняки способны соперничать с ними? Но Джунгария неудержимо укреплялась. Пали в прах Могулия, держава Алтын-ханов и Старший Жуз Казахского ханства в благодатном Семиречье. Хива и Бухара смиренно платили Джунгарии дань. И даже сам непобедимый Китай потерял предгорья Тибета и города на Шёлковом пути – Турфан, Кашгар и Яркенд. Джунгары не трогали русских лишь потому, что Россия тягалась с Китаем за Амур, однако Нерчинский договор обрушил надежды Джунгарии на союз с Россией. От войны с северным медведем Джунгарию удерживало только то, что Китай ещё владел Лхасой. Все помыслы джунгар были связаны с этим священным городом. Но в брюхо России на всякий случай был нацелен джунгарский нож – Калмыцкое ханство. И джунгарские набеги на степные слободы Сибири становились всё более дерзкими и беспощадными.
Леонтий всё это знал, но молчал, ничего не говорил мужикам. Зачем пугать их, когда сунули руку прямо в пасть дракону?
– Кыш, зараза! – вдруг рявкнул Голята и швырнул в темноту камень.
В траве зашумело.
– Корсак, – пояснил Голята Леонтию. – Эти лисицы – хитрые скотины, ни перед кем не трусят. Давеча у меня хлеб прямо в мешке сожрали!
– А часто приходится далеко в степь забираться? – спросил Леонтий.
– Слава богу, не часто. Наше дело – стада и пашни. А в степь ездим к барабинцам поторговать или когда кто наймёт с товаром до Туркестана.
– Курганов-то много?
– Да есть, коли поискать, – неохотно признал Голята. – Они ведь не все, как Царёво Городище на Тоболе или Трёхглавый мар. Куда чаще малые. Многие и вовсе оплыли так, что не видно ничего. Но бывало, что пашут на ровном вроде месте, а плуг в борозду железку какую-нибудь выворачивает.
– А сами бугруете? – осторожно допытывался Леонтий.
– Дурное дело, – отрезал Макар.
– Нечисти боитесь?
– Боимся. В могилах бесы зарыты. Раскопаешь – и принесёшь в свой дом беса на закорках. У бугровщиков избы горят, дети болеют, скотина дохнет. Это бес изводит. Были такие мужики, что после клада в петлю залезали.
– У меня крестник однажды коня золотого нашёл, – припомнил пожилой мужик. – Захотел его в церкви освятить, чтобы духа отвадить. Поп окропил святой водой – а золото в пепел рассыпалось, и чёрт в подпол юркнул.
– Степняки хуже чертей, – сказал Савелий. – Мстят за свои раскопанные могилы. Моего деда в бунт Сары Мергена убили. Нам набегов не надобно.
Башкирский батыр Сары Мерген – Жёлтый Мертвец – поднял свой бунт шестьдесят лет назад. Башкиры разъярились, когда яицкие казаки разрыли курганы в Айтуарской степи. Орды обрушились на Яицкий городок, на скит старца Далмата, на Уфу и Бирск, на Ирбит и Катайск, на Чусовую. По Тоболу тогда заметался царевич Девлет-Гирей, потомок хана Кучума: он объявил, что возрождает Сибирское ханство. Остяки разоряли русские зимовья на Полуе, Ляпине и Казыме и готовились осадить Берёзов и Обдорск. Самоеды сожгли Пустозёрск. Усмиряли инородцев рейтарский полк воеводы князя Голицына из Тобольска и стрелецкий полк воеводы князя Волконского из Казани. После тех битв русские построили крепости Кунгур и Шадринск.
– Инородцы напрасно лютуют, – задумчиво произнёс Леонтий. – Там, в курганах, не их предки. Не башкирцы, не казахи и не джунгары. Верно?
Мужики не ответили, промолчали. Потому что врали чужаку. Они все бугровали, и не по-мелкому. Они сами знали, что в могилах лежат такие мечи и доспехи, каких нет и в помине у нынешних хозяев степей. Но незачем открываться человеку из Тобольска. Пускай лучше считает, что они обходят курганы стороной, и нет у них в тайниках никакого могильного золота.
А Леонтий понял опасения слобожан. Дело обычное. Что бугровщик, что промышленник, что рыбак – один хрен: богатых мест они не выдают.
Леонтий смотрел на ночную степь. Где-то там, вдали, лежал Трёхглавый мар. А ещё дальше находились пустыни и горы, джунгары и мунгалы. Вечно тревожная, вечно кипящая степь на самом деле была вечно неизменна. Из столетия в столетие кочевые народы перекатывались по ней из края в край. Собирались какие-то несметные полчища, вожди взывали к небесам, ржали кони, воины лавой неслись на врага, раскосые женщины глядели в пустой простор, ожидая возвращения возлюбленных, верблюжьи караваны тянулись через бесконечные пески под заунывные песни погонщиков, волки грызли чьи-то голые рёбра… И всё завершалось безмолвными курганами, в которых обрели покой былые властелины, их сокровища и забытые боги.
Глава 8
Погромные ясыри
Леонтий никогда не видел тигров, но сразу догадался, что это – тигр. Зверюга вроде кота, зубастая пасть, толстые лапы, а длинный хвост закручен в кольцо. На бока зверюги насечкой были нанесены полоски. Золотая бляшка лежала на заскорузлой ладони. Леонтий кулаком оттёр её от земли.
– Ещё один тигр, – сказал он.
Савелий воткнул лопату в дно ямы, шагнул поближе и осторожно взял бляшку двумя пальцами, повертел перед глазами и трижды плюнул на неё.
– Везучий ты, Левонтий, – с уважением признал он.
– Не каркай, сглазишь.
Савелий бережно опустил бляшку в кожаный кошель, висящий на поясе, и затянул ремешок. Бугровщики знали, что в этом кошеле хранятся все их драгоценные находки: шесть одинаковых тигров, перстень, четыре гривны, витой обруч с камешком, накладки на колчан, два широких браслета, серьга, серебряная тарель с отчеканенным оленем и серебряная личина.
Глубокий ров вспорол курган по вершине, как разрез на подушке. На взрытом дне валялись истлевшие доски и тонкие брёвна, лошадиные черепа, кости, выгнутые обломки объёмистых глиняных горшков, зелёный медный меч без рукояти, мятые бронзовые блюда. В кучах земли, как слёзы, блестели рассыпанные голубые бусины. В дальнем конце раскопа лежали в ряд три бурых человеческих черепа. Леонтий, долгогривый Савелий Голята и ещё два мужика – Афоня и Евдоким Уфимцев – копали дно коваными заступами и ссыпали землю в развалистую плетёную корзину, которую на верёвках вытаскивали наверх два других бугровщика. На покатой верхушке кургана рябой Макарка Демьянов и Андрюха Костылёв опрастывали корзину, граблями разгребали комья земли в поисках золотой мелочёвки, а потом сталкивали пустую породу вниз по склону. В сумрачной яме царила прохлада, а на холме бугровщиков жарило беспощадное степное солнце.
Под лопатой Леонтия что-то звякнуло.
– А вот и ещё! – негромко сказал Леонтий, присаживаясь.
Из суглинка торчал золотой козлик с загнутыми рогами.
– Крепко за тебя молятся, – позавидовал Афоня.
Бугровщики склонились над Леонтием.
А наверху пофартило Макарке. Он уже нашёл золотую гривну, которую бугровщики проморгали в яме, и теперь гривна была завязана у него в кушак. Это его прибыль, а не общая, хоть и не по заповедям так, конечно. Макарка граблями крошил комья земли, вываленные из корзины, и выцепил взглядом ещё одного тигра. Макарка как бы невзначай наступил на него разношенным поршнем и покосился на Андрюху Костылёва – заметил ли он бляшку?
Андрюха щербатым ножом ковырял меж прутьев корзины, извлекая что-то застрявшее. С высоты кургана степь открывалась вокруг на десятки вёрст – волнистая, жёлтая, подёрнутая маревом и горячая, как печной под. Макарка увидел вдали клубящуюся полосу пыли. Это к кургану мчались всадники.
– Калмыки, твою мать! – охнул Макарка.
Андрюха оглянулся на степь, и Макарка быстро цапнул тигра из-под ноги, а потом бросился к раскопу.
– Калмыки! – крикнул он в яму.
Хуже этого и придумать было нельзя. Евдоким отшвырнул лопату и кинулся к приставной лестнице, что вела наверх – из тёмной ямы к свету.
– Не к добру удача была! – плачуще воскликнул он.
Афоня полез вслед за Евдокимом, нетерпеливо подталкивая.
– Погоди, погоди, мужики… – забормотал Леонтий.
Он по-прежнему стоял на коленях и щепкой лихорадочно выцарапывал золотого козлика из плотного, окаменевшего суглинка.
Савелий быстро посмотрел на Леонтия, поправил кошель с добычей и поднял голову. Макар топтался на краю ямы. Он видел спину Леонтия. Встретившись глазами с Савелием, он похлопал себя по боку, намекая на кошель, и махнул на Леонтия рукой. Савелий сразу шагнул к лестнице.
– Ещё чуток… – виновато умолял Леонтий.
Он за рог выдернул козлика из земли и вскочил.
Савелий был уже наверху. Макар вытаскивал лестницу.
– Вы чего, мужики? – обомлев, крикнул Леонтий.
– Прости, друже, – сказал Савелий и исчез с края раскопа.
– Для тебя рыли, тебе и отвечать, – добавил Макар и тоже исчез.
Леонтий понял, что его бросили на расправу степнякам. Может, они отведут душу и не пустятся в погоню. А золото останется тем, кто убежал.
– Эй! – гневно заорал Леонтий.
Он схватил лопату и начал яростно копать стену, надеясь соорудить себе подъём, но вскоре остановился. Бесполезно. Надо взять себя в руки. Леонтий озирался. Сейчас его обнаружат степняки. Что ему сделать для облегчения своей участи? Увязая в рыхлой почве, Леонтий стал ногами крушить черепа и глиняные горшки, вдавил подошвой в землю золотого козлика. Зачерпывая лопатой, он завалил обломки и осколки. Злоба степняков будет не так велика, если они увидят, что раскоп пустой: могилы нет, и предки не оскорблены.
Сверху донеслись конский всхрап и чужие голоса, и затем на краю ямы появились степняки. Они стояли и смотрели на Леонтия, как на дикого зверя, попавшего в ловушку. Один из степняков – самый толстый – вдруг нагнулся над раскопом и харкнул на Леонтия. Потом сверху упала лестница.
Леонтий медленно вылез из ямы наружу. За неделю работ бугровщики истоптали макушку холма. Кругом были насыпаны кучи земли, валялись корзины, на боку лежала вывороченная каменная баба со стёртым лицом. По склонам сползали сухие осыпи. Вдали виднелось стадо из полусотни коров, его вели два погонщика. С другой стороны степь курилась пылью: это был след погони. Конечно, степняки помчались за грабителями кургана.
На кургане находились всего шесть воинов. Четверо сидели на конях, а двое стояли, спешившись. Леонтий угрюмо разглядывал их кожаные шапки с длинными ушами, халаты-тэрлэги на голое тело, грязные штаны, сапоги с выгнутыми носками… Неподвижные лица с тёмными щелями глаз, кирпичные скулы, медные серьги. Командиром был толстый степняк, одетый богаче других – в жёлтой шёлковой рубахе и кожаном нагруднике с круглым железным зерцалом. Шапка его была оторочена мехом, широкие свисающие наушники были пробиты заклёпками, остриё макушки украшала алая кисть.
Командир с ненавистью хлестнул Леонтия плетью. Леонтий отвернулся, заслоняясь локтем. Другие степняки тоже вытащили плети и с высоты коней принялись сечь этого дерзкого русского. Но русский не завопил, а только зарычал, и не упал ничком, а сел, скорчившись, и закрыл голову руками.
В степи же сбежавшие бугровщики отчаянно пытались оторваться от погони. Крестьянские лошади, конечно, уступали джунгарским в беге, но кони степняков уже утомились за полдня. Макарка, Савелий, Афоня и четвёртый мужик, задирая зады, летели верхами намётом; лошади вытянули шеи и распустили хвосты; копыта туго барабанили по высохшей земле, поднимая душную пыль. Позади, отставая, мчались две телеги; колёса их визжали, и в ступицах пузырилась бурая коломазь; возницы нахлёстывали лошадей кнутами; кузова подбрасывало на сусличьих горках; две пыльных полосы тянулись назад на версту. В передней телеге с вожжами в руках на коленях стоял Андрюха Костылёв, в задней телеге сидели двое – рыжий парень и Евдоким Уфимцев. Евдоким, валясь с бока на бок, заряжал фузею.
Джунгар было около десятка. В напряжении преследования они почти легли на шеи своих скакунов. Длинные наушники их кожаных шапок вились за плечами; горячий встречный ветер надувал раскрытые на груди потные халаты; на пиках, что висели у степняков за спинами, трепались бунчуки. Джунгары неудержимо нагоняли русских. Телеги были совсем близко.
Евдоким поднял фузею, выцеливая врага пляшущим дулом, и выпалил. Отдача повалила его в кузов. Одного из джунгар выбило из седла, он мелькнул в пыльной полосе и исчез, а конь, испугавшись, стремглав понёсся в степь. Несколько степняков, не приподнимаясь, выдернули из седельных налучий круторогие луки и, полулёжа боком, наладили стрелы; быстро распрямляясь, они выстрелили по телеге. Одна стрела вонзилась рыжему вознице в затылок, другая – в лопатку, остальные прошли мимо. Возница ткнулся головой в передок кузова, вожжи выпали у него из рук. Измученные лошади тотчас сбросили ход, и джунгары поравнялись с телегой.
– Не руби! Не руби! – завопил Евдоким, заслоняясь руками.
Андрюхе Костылёву тоже не повезло. Правое заднее колесо его телеги соскользнуло с оси; телега, перекосившись, рухнула углом кузова на землю и поволочилась, задымив густой бурой пылью. Андрюху выбросило в траву. Он перекувырнулся через голову, но сразу вскочил, выхватив саблю. Его шатало, но сдаваться он не собирался. Он крест-накрест махал саблей и орал:
– Убью!..
Трое конных джунгар окружили его и что-то закричали по-своему.
– Убью! – ничего не соображая, орал Андрюха.
Джунгары тоже вынули сабли. Андрюха вертелся, отбивая удары, но степняки умели рубиться лучше мужика. Андрюхе рассекли темя, и он упал.
Остальные джунгары догоняли верховых бугровщиков.
Макарка и Афоня отставали, затравленно оглядываясь. Степняки были неумолимы, как волки на охоте. Хищность их была такой природной, что казалось, будто джунгары – не люди, которым можно сопротивляться, а сама безжалостная судьба. Два степняка раскачивали в руках кожаные арканы; они готовились ловить не людей, а лошадей – им это было привычнее. Ремни свистнули в воздухе. Лошадь Макарки влетела мордой в петлю и захрапела с передавленным горлом; Макарку бросило вперёд, и он сорвался с седла, повиснув на узде и стремени. Мотая мордой и брыкаясь, его лошадь пошла боком и встала, отфыркивая пену. А кобылу Афони аркан рванул за голову в сторону, и лошадь на скаку всем большим телом могуче опрокинулась набок, на землю, и подмяла всадника. Она попыталась подняться, но повалилась обратно, нелепо лягнула воздух ногой и обмякла. Она сломала шею. Афоня, оглушённый и раздавленный, елозил под тушей кобылы и не мог выбраться.
За Савелием и другим мужиком гнались уже только три джунгара. Они почти настигли бугровщиков, и один степняк стряхнул с плеча на локоть пику, собираясь тупым её концом выбить Голяту из седла. Джунгарин почти дотянулся до Савелия, но Голята вдруг повернулся и саблей отсёк древко пики. Другой бугровщик выволок из-за пояса пистолет, приготовленный на крайний случай. Грохнул выстрел, и у кого-то из джунгар отчаянно заржал раненый жеребец. Джунгары поняли, что этих русских им так просто не взять – огрызаются, а силы почти равны. Джунгары закричали друг другу и сбавили бег. Два бугровщика удалялись от погони – они спаслись.
…Леонтий очнулся от пинка по рёбрам. Он лежал там же, где упал, – на вершине кургана возле разрытого погребения. Над ним возвышался степняк.
– Встань, орыс, – приказал он по-русски.
Леонтий медленно поднялся. Руки и ноги не слушались, спина горела, исполосованная плетью, и распухла. Рубаха присохла к запёкшимся рубцам.
Под курганом паслись коровы и кони. Вверх по склону к Леонтию шли джунгары вместе со своим толстым начальником. Среди степняков Леонтий увидел Макара Демьянова и Евдокима Уфимцева. Два степняка под руки тащили стонущего Афоню. «Догнали… – понял Леонтий. – А где остальные? Убиты? Или всё же вырвались?..» Над курганом с щебетом носились стрижи.
Русских выстроили в ряд перед ямой спинами к раскопу.
– Господи, помоги, – оглянувшись на яму, прошептал Евдоким.
Смуглые лица джунгар были непроницаемы.
– Онхудай, тебе дадут выкуп за нас, – хрипло сказал Макарка.
Леонтий понял, что Онхудай – это толстый командир степняков.
– Вы раскопали могилы наших предков, – ответил Онхудай по-русски. – Мертвецы хотят мести. Золото возьму я, а им нужна кровь.
Бугровщики молчали.
– Первый ты, – Онхудай указал на Афоню. – Твои кости сломаны, ты не дойдёшь до Хивы. Потом ты, – он указал на Леонтия.
У Леонтия дрогнула нога, а душа будто оборвалась с высоты.
Один из степняков что-то сказал Онхудаю.
– Нет, ты, – переменил решение Онхудай и ткнул пальцем в Евдокима. – Ты убил Нохой-Цэцэга.
Джунгары оттолкнули Леонтия и Макара от ямы, а Евдокима и Афоню повернули лицом к могиле и поставили на колени. Один из воинов обнажил саблю. Леонтий знал, что срубить голову – позорная казнь у степняков. На неё обрекают врагов и преступников. Почётная казнь – когда душат.
Измученный Афоня молча смотрел куда-то вдаль, в небо, словно уже увидел что-то важное за его синим стеклом. На лице джунгарина с саблей появилось какое-то горделивое выражение. Он вольно размахнулся и одним сильным движением снёс Афоне голову. Голова полетела в яму, шлёпнулась о стенку и упала на дно. Потом и тело наклонилось и нырнуло вниз.
– Пощади! – без голоса попросил Онхудая Евдоким и принялся широко креститься, словно бы чем больше знаменье, тем лучше видно богу.
Как ледяной водой, Леонтия обжало страшным предчувствием, что и он сейчас, обезглавленный, свалится в эту могилу. И в душе исчезла ненависть к степнякам – не до них стало, исчез гнев за так внезапно оконченную жизнь; остался только ужас перед немыслимым переходом за грань, будто умереть было невозможно трудным делом, на которое не хватало сил. «Только не на коленях!» – твердил себе Леонтий. Пусть убьют, как хотят, но не на коленях.
– Убери руку, – приказал Евдокиму Онхудай. – Ты мешаешь Басаану отрубить тебе голову.
Евдоким с суетливой угодливостью поспешно прижал руки к бокам.
Басаан снова махнул саблей. Леонтий успел отвернуться и услышал только двойной мягкий удар упавших в яму порознь головы и тела.
Леонтия толкнули в грудь, и он будто опомнился. Степняк протягивал ему лопату. Другой джунгарин совал лопату Макару.
– Заройте яму, жалкие крысы, – приказал Онхудай. – Вы мои рабы.
Степняки торопились. Возле кургана не имелось водопоя, надо было ещё идти до худука, а коровы ходят медленно. Погонщики погнали стадо, когда пленные только начали закапывать могилу. Онхудай и воины прилегли отдохнуть в тени холма, а сторожа, сидя на корточках, наблюдали, как русские забрасывают яму землёй. Леонтий и Макар работали молча. Оба они ощущали себя какими-то невесомыми. У Леонтия при наклонах присохшая к рубцам рубаха отдиралась от спины с такой болью, точно его снова секли плетью, но Леонтию эта боль сейчас казалась божьей благодатью.
Под вечер толстый Онхудай проснулся и приказал выходить в путь. Засыпать огромный раскоп бугровщики не успели, но Онхудая это уже не беспокоило. Русским связали руки и посадили их на свободных коней задом наперёд – так не сумеют ускакать. Отряд двинулся вслед за стадом к ещё далёкому худуку. Всадники ехали по пути недавней погони, и Леонтий увидел в истоптанной траве мёртвых лошадей, с которых сняли сбрую, брошенные телеги и убитых бугровщиков. Своего мертвеца джунгары тоже не подобрали, только распрямили его и развернули ногами к западу.
Леонтий и Макар теперь стали погромными ясырями – пленниками, предназначенными для продажи в неволю. Онхудай, зайсанг Доржинкита, с двумя десятками воинов совершал баранту – набег за скотом. Леонтий понял, что джунгары обшаривали в Тургайской степи верховья правых притоков Тобола. Они уже где-то разжились коровьим стадом, но зайсанг посчитал, что этого мало. Он направил свой отряд ближе к Тоболу, где было больше русских деревень и заимок, то есть больше наживы. Леонтий догадался, что́ ожидает погромных ясырей. Без сомнения, Онхудай пригонит захваченный скот в Доржинкит на Иртыш, а ясырей осенью или в начале зимы отошлёт в город Кульджу, где держит свою юргу контайша Цэван-Рабдан, властитель джунгар. В Кульджу приезжают саркоры из Хорезма, чтобы скупать рабов и перепродавать в Хиве. Но Леонтий надеялся, что до Кульджи дело не дойдёт. Сразу же, в первые же часы плена, Леонтий решил бежать. Вряд ли удастся бежать на Тоболе – возле русских джунгары будут держаться настороже и не ослабят охраны ясырей. Однако у Доржинкита они расслабятся, тогда и можно попытать счастья. К Доржинкиту, вернее, к Ямыш-озеру, осенью подойдёт войско Бухгольца. От Доржинкита до Ямыша полторы сотни вёрст. Это не так уж и далеко. Люди прорывались из степи и за тысячи вёрст.
К худуку отряд вышел уже в темноте. Джунгары развязали Леонтия и Макара, дали им воды в кожаном мешке и бросили по холодной лепёшке. Спать предстояло просто в траве, без кошмы, а в ночи похолодало.
– Давай спиной к спине ляжем, – предложил Макар.
– То губишь, то выручаешь? – усмехнулся Леонтий.
– На бугре про тебя врасплох решено было. Крови твоей не хотели.
– Всё одно не прощу, – спокойно сказал Леонтий.
– Да я и не просил, – равнодушно ответил Макар.
А утром Леонтий обнаружил, что они с Макаром – не единственные пленники. Вместе с коровами джунгары вели ещё трёх русских мужиков. Ясырей, всех пятерых, друг за другом привязали за шеи к длинной жерди, скрутив руки за спинами. Невольники должны были идти вместе с коровами. И коров, и людей охраняли два конных погонщика. Стадо двигалось неспешно, и Леонтий мог поговорить с мужиком, который шагал впереди.
– Эй, вас где взяли? – негромко спросил Леонтий.
– На заимке, – нехотя ответил мужик.
– А скот ваш?
– Наш.
– Вы чьи?
– Божьи.
Погонщик услышал разговор и издалека стегнул ясырей пастушьим бичом. Больше мужик ничего не сказал Леонтию.
А на полуденном привале Леонтий понял, что причина молчания – не угрозы погонщика. Привал джунгары устроили в степном логу – в ложе пересохшей речки под невысоким красноглиняным обрывчиком. Снятые с жерди ясыри сидели в узкой полосе тени, привалившись спинами к откосу.
– Давно попались? – спросил Леонтий соседа – кудлатого парня.
– Не говори с ним, – вдруг сказал парню один из мужиков. – Я его знаю. Он сыщик тобольский.
– Я? – изумился Леонтий и наклонился, чтобы рассмотреть мужика.
Леонтий узнал его не сразу, но узнал. Это был Мисаил – один из тех раскольников, которых вывел из неволи одноглазый чёрт Авдоний. Мисаил не раз видел Леонтия на стройке рядом с Семёном Ульянычем и Гагариным.
– Вот так встреча! – искренне обрадовался Леонтий. – Значит, нашли вы себе укромное место? Все ли целы?
Он вспомнил, что с Авдонием сбежала и Епифания, неизбывная мука Семёна, младшего брата. Эх, дать бы знать Семёну, что его баба жива!..
– Молчи, Малахия! – прикрикнул Мисаил на парня. – Они оба в степи по наши души рыщут, слуги антихристовы!
– Да не сыщики мы, – подал голос и Макарка.
– Поклянитесь и знамением осенитесь, – потребовал Мисаил.
Леонтий и Макар послушно перекрестились.
– Узрели? – с торжеством спросил Мисаил у раскольников. – Лжут и кукишем закрещивают! Их всех геенна ждёт!
– Сначала Хива, – с досадой буркнул Макар.
– Не искушай! – убеждённо прошептал Мисаил. – Нас господь из пущих теснот и злополучий вызволял, и поднесь вызволит. А вас я ночью придушу!
– Экий ты непримиримый! – разозлился Макар. – Тогда от воды откажись, чтобы с нами из одной баклаги не пить!
– А я и не пил, уста не поганил!
К вечеру стадо и ясыри добрели до Таш-тирмы, полуразрушенной ханаки Чимбая, сына Джучи. Джунгары сразу загнали пленников в ханаку и посадили двух караульных – у входа и в проломе.
В ханаке было гулко и пыльно. Пол загромождали обвалившиеся куски кладки. Всюду валялись кучи сухого навоза – в прохладе гробницы порой прятались от солнца овцы и коровы скотогонов, джунгар или русских. В сумраке сквозь дыру купола красный закат озарял пустую стрельчатую нишу, в стену которой была вмурована белая плита с какими-то письменами. Пленникам снова бросили по лепёшке и кожаную бутыль-бортогу. Макар и Леонтий уступили бутыль раскольникам: пусть пьют первыми.
– Слышь, Мисаил, – придвинувшись поближе, зашептал Малахия, – нас ведь с порога райских врат калмыки украли… Я с женой уже пост держал, чтобы мученический венец в чистоте надеть… А как же теперь? Что делать-то, ежели отец Авдоний Чилигино в купель без нас окунёт и нас осиротит?
Леонтия пробрал озноб, когда он осознал, о чём говорит раскольник. Этот парень, Малахия, вместе с женой – да, видно, и вместе со всей деревней, – готовился к гари: огненному вознесению. Вот, значит, что хотел совершить Авдоний, – народ хотел пожечь! А Малахия боялся, что все сгорят, все на небо улетят, а он один на земле останется, будто проклятый.
– Молчи! – зашипел Мисаил. – Терпи – и обретёшь!
Он метнул взгляд на Леонтия – слышит ли? Леонтий быстро отвернулся, но было поздно: Мисаил понял, что тоболяк поймал это слово – Чилигино. Леонтию стало тесно, душно. Ох, не к добру он узнал тайну раскольщиков.
А джунгары у худука устроили себе пир. Где-то в пути они наткнулись на берёзовый колок и нарубили дров. Значит, можно было вместо вяленого мяса сделать боодог. Джунгары зарезали телёнка, отделили голову и ноги, достали потроха и обожгли тушу над огнём; потом насечённые потроха сварили в казане с черемшой, влили варево в тушу, зашили шкуру на брюхе и принялись томить тушу над углями, поворачивая на жердине. Это хлопотное занятие увлекло всех, даже толстого зайсанга Онхудая. Джунгары сидели у костра на корточках, шумно нюхали и смеялись. Отсветы костра играли на стенах ханаки, поросших травой, и на треугольных гранях шатра.
Леонтий никак не мог уснуть. Он старался не терять из виду Мисаила: опасался, что раскольник задушит его спящего или раскроит ему голову камнем. Снаружи доносились довольные голоса степняков, потом их унылые песни, а потом всё затихло. В степи, успокоившись, затрещали сверчки.
Внезапно Леонтий уловил слабый шорох и сразу вскинулся, выискивая взглядом Мисаила. Но злой раскольник был ни при чём. Яркая степная луна призрачно озаряла всё ту же стрельчатую нишу, а в косом потоке лунного света, как видение, парил человек. Вернее, он висел на верёвке, которая была сброшена вниз из прорехи в своде. Казалось, что Леонтий смотрит со дна реки на изнанку льда, а человек бесшумно опускается из проруби. Он мягко упал на пол сразу на ноги и на руки и, увидев Леонтия, прошептал:
– Тихо, Левонтий!
Леонтий в изумлении узнал Савелия Голяту.
А из-под свода вслед за Савелием спускались другие люди.
Савелий, пригибаясь, ловко пробрался к Леонтию.
– Макар, Евдоким, Афоня тут? – спросил он.
– Только мы с Макаром живы, – ответил Леонтий. – А кто с тобой?
– Раскольщики с Чилигино. Я их у Батырдайского яра встретил, они к степнякам ехали своих выручать.
Разбуженные ясыри просыпались, и им сразу закрывали рты пятернями. Нельзя было, чтобы в ханаку на шум заглянули сторожа – поднимут тревогу. Среди раскольников Леонтий увидел одноглазого Авдония и отодвинулся в тень. Авдоний обнимал и целовал Мисаила.
– Слава тебе господи, отче! – плакал Мисаил.
– Вы как подобрались-то? – подползая, спросил у Савелия Макар.
– Да мы с полудня уже тут, – в сумраке блеснули в улыбке зубы Голяты. – Ждали, когда степняки с вами приедут. Лежали на крыше за кустами. Снизу не заметить. Чуть не зажарились… Принимай оружье!
У товарищей Авдония для пленников были припасены сабли и луки. Леонтий получил саблю и даже не поверил её тяжести в своей руке.
– Замрите, братья! Замрите! – призвал Авдоний. – Сепфор, давай!
Сепфор с луком крадучись двинулся вдоль стены к пролому, наполовину заваленному кусками стены. На одном обломке, прислонившись спиной к другому, сидел караульный и дремал. Он не сомневался, что пленники не приблизятся к нему, не захрустев камнями развала, и он услышит. Сепфор остановился, до предела натянул лук и сронил стрелу. Стрела воткнулась караульному в висок; тот и не дёрнулся, а сразу мягко опрокинулся набок.
– Теперь второго, – распорядился Авдоний. – Готовьтесь, братья.
– Стан у них левее худука, – напомнил Голята. – И четверо у коновязи.
Раскольники обступили арку выхода, не показываясь в проёме. Леонтий увидел в руках Авдония страшное крестьянское оружие – косу на боевом ратовище. Авдоний держал её крепко, ловко и уверенно.
Второй караульный джунгарин сидел на земле, скрестив ноги, лицом к ханаке. Луна освещала высокую переднюю стену усыпальницы, пустую и плоскую, но стрельчатый выход в глубине был заполнен мраком. Джунгарин не различил, что в арке появился Сепфор и поднял лук. Стрела полоснула степняка по скуле; он встрепенулся и увидел, что из арки ханаки выбегают люди – и не пять человек, как было, а гораздо больше. Эти орысы – злые докшиты, они размножились в своей норе, как черви в трупе!
– Эмээлгэх! – истошно закричал джунгарин.
Он засуетился, вытаскивая саблю, съехавшую куда-то вбок, но Авдоний с разбега рубанул его косой по шее, и он рухнул. Русские бросились к стану.
Джунгары не сооружали ни шатров, ни навесов; они спали просто в траве на кошмах, подложив под головы сёдла. Крик караульного всполошил их, однако они успели только вскочить, как сразу налетели русские. Сколько их было, джунгары уже не сообразили. Сражаться пешими они не привыкли, а русские напали с такой быстротой и яростью, что степняки сразу кинулись в степь, к лошадям. Русские гнались с ними, секли по плечам и кололи в спины. Кое-кто из джунгар разворачивался, встречая врагов лицом к лицу, но русские набрасывались с разных сторон. В темноте под луной степняки и мужики дрались почти без воплей, осатанело и беспорядочно, лишь бы поразить, искромсать, повалить врага. От лютых замахов трещали суставы, и в каждый удар вкладывали всю силу. Бояться боли или смерти было некогда; потеряв выбитую саблю, мужики прыгали на джунгар, как рыси, душили, крушили кулаками или, схватив руку врага с оружием, впивались зубами. От топота людей и звона железа коровы проснулись и тупо смотрели на схватку, а лошади заволновались, переступая копытами и вздёргивая хвосты.
Зайсанг Онхудай выскользнул из побоища и помчался к табуну, не думая о своих воинах. Пусть управляются сами, как могут. Конечно, он не трус, но какой смысл сражаться? Его отряд смяли, расшвыряли, и уже ничего не изменить. Надо спасаться в степи. У него много других воинов в юрге, и в платке, что засунут за пазуху, спрятан золотой тигр и сложенная пополам золотая гривна – то, что один из ясырей завязал в кушак, а он нашёл и отнял.
– Тарлан! – закричал Онхудай, на бегу подзывая своего коня.
А Леонтий не заметил, как в нём очнулся тот служилый, который ходил на батыра Алдара, тайшу Баяра и мурзу Кильдея; тот служилый, которого товарищи по Тобольскому полку ценили за сноровку и спокойствие в бою. Леонтию не обносило голову бешенство, и он умел держать в руке саблю. Он сразил одного джунгарина и теперь теснил другого; клинки вспыхивали под луной; Леонтий ловил миг, чтобы его враг раскрылся. Когда степняк отбил летящую сверху саблю, задрав локоть выше, чем следовало, Леонтий нанёс ему тяжёлый удар левым кулаком в грудь. Степняк, охнув, попятился – и сразу получил железным окладом сабельного крыжа в лицо. Джунгарин упал, и Леонтий без колебаний рассёк ему горло. Это было правильно.
Чутьё служилого сработало у него раньше сознания. Он уклонился от нападения в спину, и мимо пронеслась рука с хутагой – джунгарским ножом, длинным, прямым и узким. Леонтий захватил эту руку, вывернул, заламывая в развороте, и сразу всадил хутагу тому, кто нападал, под нижнее ребро. И лишь тогда увидел, кто это был. Хрипя, на хутаге висел Мисаил. Наверное, он подобрал кинжал у кого-то из убитых степняков. Мисаил трясся всем телом, по усам и бороде у него расползались кровавые пузыри.
– Зарезать… сыщика… – выдохнул он и рухнул лицом в траву замертво.
Леонтий оглянулся. Бойня у худука завершилась. В измятой траве и на истоптанных кошмах кучами тряпья или шкур валялись джунгары и русские, хотя русских было гораздо меньше; некоторые корчились и выли, кто- то полз на четвереньках. Вдали бегали кони, несколько всадников уносились в степь. Голята джунгарской пикой докалывал кого-то лежащего. Макар рвал рубаху на полосы и обматывал плечо раненого мужика. Авдоний ещё не опомнился и, пригибаясь, с косой в руках рыскал среди мертвецов. Какой-то раскольник стоял и крестился, словно отчитывался перед богом за сделанное дело.
Никто не заметил, что Леонтий убил Мисаила.
Ведь он, Мисаил, с первой встречи вызверился на Леонтия – «сыщик, сыщик»!.. Хотя он был прав. Леонтий всё равно рассказал бы в Тобольске о том, что нашёл нырище Авдония – деревню Чилигино. Бугровщики были раскольникам своими, они бы не выдали, а Леонтий – чужак. Его следовало убить. Это удобно. Он тут один. Бугровщики заберут себе золото. А вину за всё можно спихнуть на джунгар… У Мисаила не получилось убить тоболяка, но у Авдония получится. Счастье, что Авдоний ещё не опознал Леонтия.
Надо немедленно уносить ноги, пока это возможно. Вон сколько пустых джунгарских коней, есть уже и осёдланные. Стараясь казаться незаметным, Леонтий не спеша направился к табуну, словно хотел просто посмотреть на добычу. Он был готов побежать, если его окликнут. Но его не окликнули.
Леонтий взял за узду тонконогого чёрного жеребца и, успокаивая, похлопал его по крупу. Чёрный конь в ночи будет почти не виден.
– Удираешь? – раздалось сзади.
Леонтий оглянулся. Рядом стоял Голята. Леонтий молчал.
– Я знаю отца Авдония. Кончит он тебя как сыщика, это уж наверняка, – уверенно сказал Савелий. – Я свистну, и не ускачешь далеко.
– И чего ты ждёшь? – угрюмо спросил Леонтий. – Свисти.
– Я грешен перед тобой, что бросил в яме, – усмехнулся Савелий. – А чем бугровщик грешнее, тем меньше фарта. Мне искупленье греха надобно.
– Бог простит.
– Я не буду свистеть, уходи. Но обещай не выдать воеводе, что золото у меня. У нас в слободе указ читали: царь велел в острог сажать, ежели кто из могилы чего себе возьмёт. Скажи в Тобольске, что калмыки хабар отняли. Ты – Ремезов, я тебе на слово поверю, коли пообещаешь.
Леонтий сунул ногу в стремя и взлетел в седло.
– Не выдам, – сказал он Савелию, тронул коня и направил в степь.
Глава 9
Дьявол в Чилигино
Они вдвоём лежали на верхушке высокой скирды, а с синего неба на них светило нежаркое солнце бабьего лета.
– Травой скошенной пахнет, прямо пьянит… – прошептала Епифания, поднося к лицу клок сена. – Не жалко тебе мира этого, батюшка?
– Мир меня не жалел, и я его не жалею, – беззлобно ответил Авдоний. – Там, где мы будем, воздух сладкий и трава шелковая.
Епифания повернулась набок и посмотрела на Авдония.
– Рассказывай мне, наслушаться тебя не могу.
– Осинки там как девочки, и на ветвях птицы сирины сидят, крылами радужными машут – важно так! – и поют ангельски, – глядя в небо, говорил Авдоний. – Кругом ходят львы кудрявые, и на хвостах у них листья и цветы.
– Неужели ты всё это видел?
– Видел, сестрица. Вот на груди у меня смотри – клеймо, – Авдоний оттянул ворот рубахи. – Как палач прижал мне печать раскаленную, так и у меня душа поплыла, поплыла, и вижу я, что кудрявый лев груди мои мягким языком лижет ласково так…
Епифания подалась вперёд и поцеловала клеймо на груди Авдония. Не по крестьянскому правилу было в страду, в самый полдень валяться на сене и ничего не делать. Но ржаные поля вокруг Чилигино оставались неубранные, с колосом, а сено уже никому не пригодится: его сожгут, а коров порубят.
– А Исуса ты встретил там, отче?
– Да куда мне, малой твари? – усмехнулся Авдоний. – Может, как приведу к нему стадо свое, так он и выйдет ко мне, а без подвига я нечист, от меня земным тленом смердит.
– Нет, отец, от тебя клевером пахнет, – ласково прошептала Епифания.
– Ты, божья душа, слышишь благоуханье, которое я оттуда принёс, – Авдоний подсунул руку под Епифанию, обнял её и прижал к себе. – Ох, как зовёт оно… Иной раз уснуть не могу – тревожит, манит, бежать хочу, лететь.
– А крылья у нас там будут?
– Будут, – уверенно сказал Авдоний.
– Ты летал там? – замирая, спросила Епифания.
– Там не летал. Я ведь паки живый был. Но когда меня на дыбе ломали, я почуял, что палач крыла из моих плеч выворачивает.
Отец Авдоний не убеждал, он просто рассказывал то, что видел и знал. Убеждали его увечья, истовость его стремления; убеждало то, что у него всё получилось: он выжил в муках, он бежал из неволи и вывел людей, а теперь строит свой Корабль. Епифания верила ему, но с какой-то девичьей робостью – прежде она и сама не чаяла, что в смраде и грехе своей жизни сумела сохранить в себе изначальную целомудренную боязливость.
– А как там любовь промеж людей творится? – тихо спросила она.
Пусть там, в раю, искалеченный и одноглазый отец Авдоний во плоти окажется прежним иноком с Сельги – прямым, красивым, златокудрым.
– А любовь там простая: смотришь в глаза – и блаженство.
– Я там в твои глаза буду смотреть, а ты в мои смотри, – она просила, но на самом деле требовала; без этого обещания она не взойдёт на Корабль.
– Семь тысяч лет взгляда не отведу, – сказал Авдоний.
Епифания откинулась на спину. Душа изнывала в каком-то томлении.
– Неужто ныне осенью обретём всё это? – страдальчески спросила она.
– Там нет осени. Там всегда весна.
Авдоний говорил правду. Он ведал тот мир как улицу за окошком.
…Деревня Чилигино была небольшая – в полсотни дворов. Она стояла на берегу мелкой речки Чилижки. Авдоний привёл сюда своих людей через две недели после побега. Путь к деревне ему указали тобольские наставники: Чилигино давно и прочно укоренилось в древлеправославии. Чилигинские жители разобрали беглецов по избам. В первый же день, выйдя за ворота, Авдоний увидел посреди деревни заброшенную церковь. Она высилась под снегом среди нетронутых сугробов, и даже тропка-частоступочка не тянулась к висячему крыльцу-рундуку с трухлявыми ступенями; мёртво зияли окошки с выбитыми косяками. Авдонию сказали, что иконостас в церкви давным-давно рассыпан: образа дониконова письма мужики унесли по своим домам, а доски никоновой работы спустили вниз по течению Чилижки. Глядя на разорённую и пустую храмину, Авдоний понял: се будет его Корабль.
Деревню основал беглый московский стрелец Стёпка Решетников. Он явился в Сибирь при воеводе Годунове. Коров и лошадей на обустройство он взял в долг в Далматовой обители. Далматовские иноки познакомили его со старцем Авраамием Венгерским. Авраамий совлёк Стёпку в раскол.
До поры до времени Стёпка держал свою веру втайне. Деревня его росла. Митрополит Павел прислал в Чилигино попа, и мужики построили церковь. Но лет двадцать назад поп умер. А вскоре в деревню нагрянули воеводские переписчики. Решетников стряс с мужиков деньги и сунул взятку казённым людям, чтобы те не указывали Чилигино в оброчных книгах и на чертежах. Так деревня исчезла с глаз митрополита и воеводы – стала для властей невидимой, словно Китеж-град. Никонианский вертеп заколотили, и Чилигино, затерянное в перелесках на краю Тургайской степи, обратилось к чистому исповеданию отцов. Духовным отцом для чилигинских жителей стал Авраамий, а Степана Решетникова деревня признала уставщиком.
Десять лет назад донеслась весть, что тюменские служилые изловили старца Авраамия и увезли в архиерейский каземат. Из этого бездонного застенка расколоучители уже не выходили. Уставщик Степан решил, что дни его исчислены. Вместе с сыновьями он соорудил морильню: в лесочке за околицей Решетниковы выкопали большую яму и сложили в ней сруб без окон и дверей с бревенчатым накатом вместо крыши. Вся семья уставщика – сам Степан, его жена, два сына с жёнами и детьми и незамужняя дочь – через последнюю щель в накате спустились в сруб. Чилигинские мужики закрыли щель бревном и засыпали морильню землёй. Четыре дня из недр слышались псалмы, потом всё стихло. Мученики вознеслись. А деревня на долгие годы лишилась наставника. Новым наставником оказался Авдоний.
Он вроде бы и не принуждал никого слушать себя. Хрисанф, Иефер, Мисаил, Пагиил, Сепфор, Елиаф, Навин, Урия, Саул, Аммос – все они, братья, сами, своей волей, приходили в пустой овин, где Авдоний молился, проповедовал и рассказывал о видениях, и вскоре за братьями потихоньку потянулись чилигинские мужики, а потом и бабы. Авдоний говорил о том, о чём подозревали повсюду на Руси, и в Чилигино тоже: царь Пётр – чадо погибели, немецкий подкидыш. Прежний царь, Лексей Михалыч, уповал на сына, а царица Наталья Кирилловна родила дочь; убоявшись мужнего гнева, она подменила девочку мальчиком из Немецкой слободы. Диавол и потянул подменённого царя в свои тенёта. Латынники и жиды царю-немцу оказались ближе своих-природных. С латынников пошли новые порядки в державе – от подневольной армии и казённых канцелярий до постыдного челооголения и мертвяковых волос на головах. Что творит сей лихой царь? Катьке-царице он крёстным отцом своего сына пихнул, то есть женился на духовной внучке! Столицу забросил, а ведь Москва – не просто город! Первый Рим пал и лежит невсклонно, погрязнувши в латинской ереси, и второй Рим – Царьград – тоже повержен махометанами; последним оплотом оставалась Москва – третий Рим, а царь её покинул и новый стольный град в чухонских болотах возвёл!
В чём же причина оному? В том, что иссякли времена, и с дьявола пали оковы, наложенные на тыщу лет архангелом Михаилом. Освобождённый дьявол учуял, где ему кровавая пожива, – на Руси! – и сунул сюда хобот свой – Никона. И рухнула Святая Русь. Царство лишилось святости, а церковь – благодати. Взреял над Русью, как коршун, латинский крыж вместо креста. Троеперстие утвердило лжетроицу – змия, зверя и лжепророка. Новый канон в истине Господа сомнение посеял. Амвон от евангельского четверокнижия переделали на пятистолпный – в честь папы и его патриархов. Белый клобук сменили на рогатую колпашную камилавку – так сподручнее сатане поклоны бить. Коленопреклонение и метания запретили – гордыня не дозволяет. Крестный ход посолонь навыворот водить повелели. Сугубую аллилуйю, провозглашённую самой Богородицей, заменили на трегубую. Да мало ли чего ещё!.. И со смрадной земли отступать уже некуда. Только в рай. А туда дорога не торная, и пройти по ней непросто.
– Ты о гари говоришь? – сразу спросил Авдония один из мужиков.
– Мы сюда гореть прибежали, – ответил Авдоний.
Он оглядел братьев. Никто ему не возразил. И Епифания не возразила. Но чилигинские мужики смотрели угрюмо, недоверчиво.
– У нас по Тоболу многие сожглись, – сказал мужик, которого звали Максимом Скобельцевым. – И топились, и в морильнях запирались. Степан Решетников себя и семью похоронил. Божий страх. Истинный ли это путь?
– Давай вскроем его морильню, – вдруг предложил Авдоний.
– Грех.
– Грех не знать.
На морильне в лесочке уже выросли кусты. Мужики расчистили снег, выдрали орешник с корнями и раскопали землю до склизкого бревенчатого наката. Епифания смотрела в разверстую могилу. Отец Авдоний стоял в толпе и улыбался – как-то надменно и криво. Мужики поддели багром одно из брёвен и сдёрнули его на сторону. В кровле морильни образовалась щель. Неужто кто-то полезет туда, чтобы потревожить тленные кости мучеников? Но из щели вдруг поплыл густой запах миро. Люди попятились от ямы.
– «Подай руку твою и вложи в ребра мои, – насмешливо сказал Авдоний Максиму, – и не будь неверующим, но верующим».
В тот день Чилигино склонилось на гарь.
Потом отец Авдоний объяснил, что гарь – не просто взять и спалить себя. Гарь должна повторять соловецкий подвиг: сперва насмертники примут монашеский постриг; потом нужна казённая воинская сила, угрожающая обители; потом учителя вступят в прения с пришедшими никонианами, чтобы нечестивцы, потерпев поражение, кинулись в бой в звероярости своей, и тогда начнётся оборуженное пружание; и лишь потом, затворившись, насмертники предадутся огненному свирепству. Так воздвигается небесный Корабль. И для него надо всё подготовить – пики и ружья, смолу и хворост, запоры и саваны. Словом, Чилигино вознесётся не раньше осени. К той поре, даст бог, по окрестным деревням пролетит слух о скорой гари, и те, кто возжелают успеть на Корабль, тоже явятся в Чилигино.
Эта весна стала самой безмятежной в жизни Епифании. Словно мягкое сияние опустилось с небес и обволокло деревню. Мужики не ссорились из-за покосов, не требовали друг с друга долгов, не припоминали обид. Бабы не ругались на скотину и на детишек. Истаял снег, запели птицы, зазеленела свежая трава, и в богородичные ризы облачились черёмухи. Отец Авдоний посветлел лицом, как-то выправился и выпрямился, движения его стали плавными, а в волосах и в бороде заблестело былое золото. Он ходил по домам, помогая кому в чём была нужда: рубил дрова, таскал воду, сгребал снег; он был ласков с любым встречным, он играл с детьми, а на Радуницу, когда девушки за околицей водили хоровод, он со смехом побежал в девичьем круге, и Епифания, глядя на это, не поверила своим глазам.
– А ну, быстрее, горлицы! – весело кричал Авдоний. – Давай, милые!
Епифания увидела в Авдонии того давнего инока с Сельги – его облик проступил сквозь изуродованного мужика, словно чудотворный образ сквозь копоть. И не было человека добрее и чище.
Епифания не вспоминала о Семёне Ремезове. Семён выцвел, поблёк, будто износился. Он не причинил ей никакого зла – а её память хранила только зло; его было так много, что оно вытеснило всё остальное. Дожди, бесконечные дороги каторжан, грязь, кандалы, гнилая солома, зловоние, голод и стужа, вши, плети, жадные руки стражников, чужая похоть… Но ведь на земле могут быть не только муки. На земле может быть и рай, и даже не в Беловодье, и не на блаженных островах Макарийских, а здесь, в деревне Чилигино, где нет ни печали, ни воздыхания. Зачем тогда сжигаться?
Авдоний, Мисаил и Епифания жили в доме чилигинского старосты Лупана Девятова, теснились в горнице вместе с матерью, женой, дочерями и неотделёнными сыновьями Лупана, их жёнами и детьми; Авдоний и Мисаил спали на широкой лавке, придвинутой к печи, а Епифания – на полатях с девками Лупана. Епифании редко удавалось застать Авдония одного, но как-то раз весенним синим вечером она заметила, что Авдоний задержался в бане, стоящей на задворках у берега Чилижки. Семейство хозяина уже отпарилось, а Мисаил куда-то ушёл. Епифания тихонько закрыла за собой дверь предбанника, задвинула деревянную щеколду и разделась до исподней рубахи. Она сама не знала, зачем делает это. В любви Авдония к ней никогда не было ничего плотского, греховного, и самой ей не хотелось мужчину – те угольки, которые раздувал в ней Семён, давно угасли. Но её влекло желание вернуть жизнь в правильный порядок, как от века заповедано, а правильный порядок – это когда муж знает жену и жена знает мужа. Здесь, в Чилигино, люди жили правильно, как бог повелел, – по милосердию друг к другу, значит, и ей с возлюбленным, за которым она прошла через ад, надо идти дальше – к божьему предустановлению для колен Адамовых и Евиных.
Авдоний сидел на приступочке под полком – голый, костлявый, мокрый; на груди его темнело клеймо, на рёбрах багровели рубцы от плетей. Он смотрел на Епифанию расширенными, почерневшими глазами. Движением плеч она сбросила рубаху к ногам, открывая себя Авдонию. А он вдруг пополз задом по приступочку прочь от неё, отвернулся и, сжавшись, уткнулся лбом в стену, как испуганное дитя. Руки его дрожали.
– Не надо, сестрица, – застонал он. – Не могу зреть наготу твою…
Епифания присела у него за спиной и погладила по руке.
– От бога нагота, – успокаивающе прошептала она.
– От бога? – она поняла, что Авдоний ощерился, как волк. – Ужели от него? Сколь раз при мне в узилищах невинных дев разоблаченных кнутами рвали, на дыбу вздымали, жгли и резали?.. Не могу видеть бабьего тела голого! Ножи, ножи, крюки, клещи!.. Чрева разъятые!.. Сгинь, морок!..
Авдоний трясся, будто в припадке. Епифания смотрела на него, и в душе её всё обугливалось. Никуда им обоим не деться от своей памяти. Нет рая на земле. И здесь, в Чилигино, нет преображения. Только доброе прощание. А дальше – Корабль. И Авдоний постиг эту страшную правду глубже их всех.
…Урочный час Чилигиной деревни пробил в грозовой Ильин день.
В июле на заимку, где жители Чилигино держали скот, напали степняки, увели всё стадо и трёх мужиков – Мисаила, который помогал пастухам, Перфильку Ферапонтова и Ваньку Стопырева, который уже постригся у Авдония в монахи и теперь звался Малахией. На коровушек Лупан Девятов махнул бы рукой, на Корабль их не возьмёшь, но людей следовало выручать. Краденое стадо двигалось медленно, и степняков можно было догнать. Лупан собрал для погони охочих мужиков, к ним присоединились Авдоний и трое братьев. Погоня ускакала в степь. У Батырдайского яра чилигинцы встретили бугровщиков – Савелия Голяту с товарищем; совокупно с бугровщиками, раскольники подстерегли степняков у ханаки. А после ночной резни Мисаил сказал Авдонию, что среди пленных бугровщиков был Леонтий Ремезов.
В Чилигино отец Авдоний стал уже главнее Лупана; он собрал сход на площади возле заброшенной церкви. Некошеная густая трава была полна воды от прошедшего дождя, и раскольники промокли по колено.
– Наш закров боле не тайна, братья, – объявил Авдоний.
– Старый Ремез нас не выдаст, – возразил Хрисанф. – Злоухищрений он не имеет, хоть и никонианин.
Хрисанф, старый зодчий, не забыл свои долгие разговоры с Семёном Ульянычем, тобольским архитектоном.
– А ты, брате, сказал ему о том изъяне в его храмине, от коего сей вертеп вборзе обвалится? – напомнил Авдоний.
Он имел в виду разлом в подвальном своде ремезовской церкви.
– Не сказал, – мрачно ответил Хрисанф.
– Ты ему не услужил, а вскую он тебе услужит?
– Ремезы не смолчат, – поддержал Авдония Мисаил. – Небось, воевода уже готовит войско против нас.
– Пора гореть, – сурово произнёс Авдоний, внимательно оглядывая толпу раскольников. – Еде ли чей дух в нестоянии?
Раскольники молчали. Над ветхой кровлей церкви, над тесовым шатром звонницы, мокрыми после грозы, со стрёкотом носились стрижи, испуганные недавним громом. В промытом небе висели тучи: те, что не пролились, были сырые и синие, а пустые облака светились изнутри алым пламенем заката.
Епифания тоже была на сходе, как и многие чилигинские бабы. Она смотрела на жёсткое, беспощадное лицо Авдония, слышала его приговор, но не понимала, хочет ли она покинуть эту жизнь. Она ведь и не испытала её, этой жизни: она не жила, а лишь в скорбях искала своего возлюбленного. А возлюбленный искал истину. И ежели он прорвался сквозь немыслимые беды и терзания, значит, он нашёл то, что искал. Все эти годы он брёл по горло в погибели, но не отдался ей, – значит, ему нужна была не погибель. Надо ему верить, хотя от его приговора у Епифании подкашивались ноги.
С Ильина дня Авдоний начал готовить Корабль.
Возле церкви скосили траву и на глаголь повесили било – железную доску с молотком, чтобы трижды в день призывать людей на моления; колокола-кампаны в расколе были запрещены. Моления вёл сам Авдоний. Брат Сепфор сколотил для него престол, а у чилигинских мужиков нашлись припрятанные с дедовских времён ветхий антимис, Евангелие дониконова письма и мятый оловянный потир. Авдоний по памяти читал ектении, стихиры и зачала из посланий святых апостолов, а братья и чилигинцы пели. Моления удерживали паству в решимости на огонь.
Чилигино оставило прежние крестьянские заботы. Бабы сидели по домам и стучали кроснами – ткали холсты и шили саваны. Мужики нарубили в перелесках тонких сухих дров и хвороста; дровами заполнили подклет заброшенной церкви, а хворостом и сеном обложили стены. Днями напролёт звенела работа в кузнице: чилигинский кузнец вместе с братьями Хрисанфом и Елиафом перековывали косы и серпы на оружие и ладили «железное утвержденье» – решётки на окна церкви, скобы и крюки. Храм надобно было укрепить, чтобы в час горения никониане не прорвались в него снаружи, а насмертники не вырвались бы изнутри. Меж подворий мужики вкапывали частоколы: здесь они будут держать оборону от никонианского войска, пока не придёт время отступить в храм – в «згорелый дом» – и зажечься.
Брата Мисаила, брата Саула и брата Навина Авдоний определил в попречники: они будут спорить со стратилатами никониан, будут обвинять в богохульстве и требовать ответов, которых и у самого Никона не имелось. Для попречников Авдоний списал на бумагу когда-то заученные им избрания из челобитной суздальца Никиты Добрынина, что никонианами был прозван Пустосвятом; Никита с пером в руке прочёл Скрижаль и Никоновы книги новопечатные и всю ересь из них выковырял. Никто ещё лучше Никиты не обличал отступников, а сам суздальский поп за правду своих слов заплатил усекновением главы. Словом, попречники прениями остановят воинство никониан, и насмертники успеют собраться в «згорелом доме».
А потом Авдоний начал пострижения: мужики и бабы, парни и девки вступали в иноческий чин и получали новые имена, и это было главным – до гари, конечно, – отречением от мира. Чилигинцы принимали игуменство Авдония, отказывались от хозяйства, супружества и родства. Епифания видела, как глупые девки ревут под ножницами, вместе с косами теряя надежду на замужество и будущих детей. Но отец Авдоний утешал:
– Оно на благо, милые. Чем боле грехов – тем доле гореть, мучиться. А вы ныне стали чистые, как ангелицы, сгорите вмиг, словно пушинки.
Сам Авдоний и братья его приняли постриг ещё на пути в Тобольск – в Соликамске, в подвале Соборной колокольни, куда по тайному ходу пролез старичок отец Мелетий, настоятель усольской киновии.
…Однажды вечером Епифания услышала тихий разговор отца Авдония с братом Мисаилом. Мисаил задержал Авдония у крыльца.
– Помнишь, отче, Корабли на Палеострове? Ты сам о них нам поведал.
– Как не помнить?
– Чёрный дьякон Игнатий отослал с первого Корабля своего выученика Омелия Повенецкого. Вторым был Корабль кормчего Пимена. А Омелий пособил кормчему Герману и вознёсся толие на третьем Корабле.
– К чему ты клонишь, брате? – насторожился Авдоний.
– Отдай кормило мне, я буду кормчим в Чилигино, – горячо зашептал Мисаил. – А ты беги. По Тоболу, по Ишиму и далее вглубь Сибере другие тайные деревни ести. Сколь много иных Кораблей ты воздвигнешь, отче, ежели от сего Корабля уклонишься? Зачем тебе гореть? Ты на земле нужен!
– Я подумаю, – глухо ответил Авдоний.
В эту ночь Епифания не могла уснуть. Неужели отец Авдоний уйдёт из Чилигино? Неужели возлюбленный предаст её пламени, а сам останется?
Авдоний разбудил её ещё до рассвета.
– Сестрица, поспеши по избам, где наши братья, – еле слышно приказал он, – повели от меня на моление с дрекольем быти.
Гулкие удары в било раскатились по улочкам Чилигино. Сонные люди потянулись на утреннее служение. Сепфор, Навин, Урия, Хрисанф и Саул несли в руках дубинки и обломки жердей. И Авдоний тоже пришёл с крепкой палкой – древком от косы. Он принялся раздвигать толпу, освобождая место.
– Брате, станьте по кругу, станьте по кругу, – говорил он.
– Что ты задумал, отче? – не понимал Хрисанф.
– Мисаиле, поди предо мною, – распорядился Авдоний.
Мисаил вышел на пустое пространство среди толпы. Он недоумённо оглядывался. Авдоний поднял руку, призывая к вниманию.
– Ответи мне, друже, – сурово сказал он, – вскую ты в ту нощь, егда мы с братиями вас из полона от степняков выручали, не заколол Ремеза?
– Духу недостало, отче, – Мисаил виновато опустил голову. – Грешен.
Епифании почему-то сделалось тревожно.
– А вскую Ремез тебя не заколол? – потребовал объяснений Авдоний. – Ибо же ты о нем бы мне рек, а я бы его вживе не выпустил.
– То у Ремеза спрашивать надобно.
Авдоний распрямился и свысока посмотрел на толпу чилигинцев.
– Се не Мисаиле глаголет, – веско произнёс он. – С брате Мисаиле мы сквозе преисподню продралися. Брате Мисаиле и сам смущения не ведал, и протчу в смущение не вводил! Ты не Мисаиле, бес!
Толпа замерла. Епифания не успела даже испугаться, когда Мисаил вдруг сжался, будто огромный кузнечик для прыжка, но Авдоний не дал ему прыгнуть, а сбил с ног страшным ударом древка от косы.
– Бей его, братове! – взревел Авдоний.
Мисаил вскочил, и Авдоний снова ударил его древком. Лицо Мисаила окрасилось кровью.
– Бей! – орал Авдоний.
Мисаил кинулся в толпу, но теперь его ударил Хрисанф. Отброшенный, Мисаил заметался в кругу былых товарищей, и всюду его встречали ударами. Обычный человек свалился бы, оглушённый, но Мисаил рычал и вырывался с нечеловеческой силой, словно не чувствовал боли. И братья тоже будто обезумели – они лупили Мисаила дубьём со всех сторон, и наконец он упал.
Он корчился в вытоптанной траве, хрипел, впивался пальцами в землю, и вдруг изо рта у него пошла пена. Его подбросило, переложило на спину и выгнуло дугой. Раскинув руки, он встал на темя и на пятки и покачался, потом ослаб и безвольно рухнул навзничь, а потом невозможным движением внезапно извернулся и покатился кубарем. Толпа с воплем шарахнулась назад. Мисаил – вернее, бес – растопырился и на руках прокрутился перед людьми колесом, подобно скомороху, а затем оказался на ногах и побежал мимо братьев по кругу, заглядывая в лица и хохоча. Глаза его были жёлтые.
– Всех возьму! Всех возьму! Всех возьму! – лаял он.
Авдоний снёс его смертельным ударом древка в висок. Мисаил отлетел и распластался, обмякнув уже без содроганий. Он был облит кровью, одёжа его порвалась, он лежал как тряпка – убитый наповал. В толпе от ужаса выли бабы, мужики тяжело дышали, кто-то бубнил молитву.
– Зрите, брате! – яростно крикнул Авдоний и харкнул на тело Мисаила.
И тело начало темнеть на глазах в распаде тлена. Лицо и руки раздулись, пополз смрад разложения, а слева на боку, где задралась рубаха, раскрылась чёрно-багровая гнилая дыра – это была рана от джунгарского ножа, который в ту давнюю ночь у ханаки Левонтий вонзил Мисаилу под ребро.
Авдоний обвёл потрясённую толпу бешеным взглядом.
– Довольно ли свидетельства, человече? – яростно спросил он у народа. – Дьявол весь мир уже в зев положил, и даже к нам проник! Где убо спасение обресть, понеже Корабля?
Глава 10
Сплетая нити
Семён Ульяныч уже привык к новой мастерской, выстроенной взамен сгоревшей, обжил её, хотя старая мастерская ещё мерещилась ему: то рука привычно тянулась туда, где раньше была полка с чернильницами, то ноги несли к поставцу с книгами, на месте которого теперь стоял сундук. Старая мастерская всегда казалась Семёну Ульянычу словно бы намоленной его трудами и помогала в работе, а новая ещё никак не отзывалась.
Леонтий выбрал время, когда в мастерской у отца не было брата Семёна. Леонтий тщательно закрыл дверь, прошёл к столу Семёна Ульяныча и присел рядом на лавку. Его мучила совесть, и он устал спорить с собой. Он знал, как истово отец мечтал достроить кремль, знал, зачем Семёну Ульянычу так нужно было могильное золото, которое забрал Савелий Голята.
– Я виноват, батя, перед тобой, – Леонтий виновато смотрел в сторону. – При домашних я тебе всего не открыл. Не хочу молчать больше.
– Ну, говори, Лёнька, – серьёзно согласился Ремезов.
И Леонтий рассказал. Рассказал про плен у степняков, про казнь двух бугровщиков, про Голяту, ушедшего с золотом, и про засаду на ханаке.
– С Голятой, батя, не слободские были, а раскольщики. Они своим на выручку направлялись и с Голятой заединились. А вёл тех раскольщиков знаешь, кто? Авдоний одноглазый. Вот где он всплыл.
– А я думал, он на Ирюме, – хмыкнул Ремезов. – Но что же золото?
– Один из раскольщиков – Мисаил, помнишь такого? – меня признал. В той драке у колодца он на меня с хутагой бросился. Опасался, что выдам их убежище. И я его, батя, зарезал.
– Грех, – твёрдо сказал Семён Ульяныч.
– А мне деваться некуда было. Или он, или я. И не я начал.
– Не оправдывайся.
Леонтий вздохнул.
– Словом, батя, надо было мне бежать. А поперёк пути Голята очутился. И он мне предложил: я ему золото оставлю, а он меня отпустит. Получается, я твоим кремлём себе живот выкупил. Стыдно мне перед тобой.
Семён Ульяныч свирепо засопел. Гнев на Леонтия толкнулся в сердце. Ремезов яростно глянул на киот: зачем же ты, господи, со мною так?.. В киоте рядом с образом Спасителя стоял образ Иоанна Богослова. После пожара Семён Ульяныч сам написал для себя эту икону и освятил в соборе. Иоанн, склоняясь над книгой, двумя пальцами запечатывал себе уста. Не суесловь. Не ропщи, человече. Думай, в чём вышний замысел на тебя. Ты ли Авраам, готовый заклать Исаака? Бог и без кремля Тобольск видит, а у тебя нет сына вернее Лёньки, пусть и простоват он, и не ученик тебе. Сенька-младший – богомолец, Петька – ветрогон, Ванька своей дорогой ушёл, а Лёнька всегда с тобой, во всём опора, даже в том, чего не понимает. Ведь говорили же владыки в ту встречу при митрополите Иоанне, царство ему небесное: проси, Семён Ульяныч, чтобы Матвей Петрович помог кремль достроить, проси. А он всё равно не попросил. Он решил купить и Гагарина, и царя. Не укоротил свою гордыню, и она, хоть боком, да выперла наружу.
– Нет твоей вины, Леонтий, – скрипуче сказал Семён Ульяныч.
– Спасибо, батя, – Леонтий взял руку отца и поцеловал.
Семён Ульяныч вдруг ощутил, что они с сыном – вдвоём во всём мире.
– А что с раскольщиками делать? – Леонтий смотрел на отца.
– А чего с ними делать? – Семён Ульяныч, отвернувшись, утёр глаза. – Сбежали к лешему, да и плюнуть им вслед.
– С ними Епифания. А Сенька по ней убивается.
– Унесли черти ведьму, и поклон чертям. Не нужна она ни нам, ни ему.
– Нельзя того от Сеньки утаить. Не по совести.
Душевного просветления Семёну Ульянычу хватило ненадолго.
– Ты чего, Лёнька, в праведники заделался? – вспыхнул он. – И предо мной покаялся, и пред братом грешен! Поди в Киев за просфоркой!
– Ежели я Сеньке про неё скажу, так он ополоумеет, помчится выручать. А его там прирежут, как меня хотели. Воинская команда туда нужна.
– Я не царь, у меня войска нету!
– У Матвей-Петровича есть.
Семён Ульяныч подпрыгнул от возмущенья.
– Да я ещё не сказал ему, что золота не добыл! Боюсь! Не время мне сейчас воинскую команду требовать! Петрович меня подсвешником забьёт!
Леонтий не знал, куда себя девать.
– Батя, надо войско, – обречённо повторил он. – Я краем уха слышал, Авдоний готовит гарь. Он всех спалит в Чилигине.
– Где? – поразился Семён Ульяныч.
– В Чилигине. Деревня ихняя где-то на притоке Тобола.
Семёну Ульянычу почудилось, что с неба опустился перст и тюкнул его в голову. Чилигину деревню Семён Ульяныч прекрасно помнил.
Лет двадцать назад, когда ещё не был архитектоном, Семён Ульяныч, служилый человек, плавал по рекам с отрядами воеводских переписчиков. Переписчики чуть ли не каждый год обшаривали глухие углы Сибири: искали новые жительства, укромно и самовольно выросшие в тайге, считали дворы по известным деревням и слободам, выспрашивали о разведанных угодьях. Всё это записывали в чертёжные книги, по которым потом дьяки Приказной избы окладывали мужиков тяглом. Только так воеводы могли узнать, сколько народу живёт под их рукой и какие подати следует собирать. Мужики ненавидели переписчиков хуже степняков. Прятались от переписей. Подпаивали казённых людей. Совали взятки, чтобы обошли учётом. Бывало, что полслободы пролетало мимо чертёжной книги, а переписчик, похмелясь, возвращался в Тобольск с парой десятков рублей в кармане. В иных слободах числилось по сотне дворов, а стояло три-четыре сотни. А бывало, что и вся деревня целиком ускользала от воеводского ока. На деле – есть, а на бумаге – ничего нету, однако у каждого переписчика по две новые коровы.
Матвей Петрович эту вольницу сразу придушил. Помнится, Васька Чередов, который со всякой переписи свой навар имел, с досады целый месяц пил не просыхая. И при Матвее Петровиче обложное населенье выросло вдвое, как опара на дрожжах; государь хвалил губернатора за умножение людишек. А дело было вовсе не в том, что бабы больше рожали, или с Руси беглых поднапёрло. Просто надо было знать, как в Сибири жизнь устроена.
Служилый человек Семён Ульянов сын Ремезов ходил в переписи охотно, но не ради взяток. Он измерял реки и селения и составлял карты. Однако невозможно это – быть у моря и не напиться. И ему тоже доставались деньги за утайку, хотя особо он не корыстовался. Хотя был случай, был. На Тоболе, на дальней речке, он убрал с чертежа деревню Чилигино. За эту услугу получил от чилигинцев восемь рублей с полтиной и три четверти ржи. Оно бы и ладно, только беда в том, что ежели деревни нет в описи, то на деревню нет и казённой управы. Воевода ни сном ни духом не ведает, что там творится. И в Чилигине, значит, обосновались раскольники. Деревня стала будто зачумлена. Дело там, выходит, уже до гари докатилось. А виной тому – он, сучий потрох Ремезов, пожива его давняя и бездумная. Вот так господь указует на грех и требует исправить, пока не поздно.
– Знаю эту Чилигину, – глухо сказал Семён Ульяныч Леонтию. – Завтра пойдём к Петровичу за войском.
Губернатор принял Ремезовых с особой честью – в своём кабинете. Он благодушно развалился в кресле-корытце, покойно сложил руки на животе и вытянул ноги. Он ждал добрых вестей. Семён Ульяныч боком неловко сел на скамью и всё кряхтел и возился. Леонтий стоял поодаль, как истукан. Лакей Капитон принёс Матвею Петровичу миску со свежей морошкой.
– Словом, не привезли мы золота из могилы, – наконец объявил Семён Ульяныч. – Сорвалось. Не обессудь, Петрович. Степняки налетели и отняли всё, что найдено, да ещё и четверых бугровщиков смерти предали.
Матвей Петрович сел ровнее и убрал ноги под кресло.
– Ох, огорчил ты меня, Ульяныч, – сказал он с сожалением. – А я крепко на те побрякушки надеялся… Без них у царя ничего просить не могу.
– Да почему же? – с досадой открыто взъелся Семён Ульяныч.
– Потому что не подмажешь – не поедешь, – неприязненно ответил Гагарин. – Не первый день на свете живём.
– Раньше-то ехали!
– Я и раньше подмазывал, Ульяныч, – устало возразил Гагарин. – А ныне я под подозрением, и денег просить не с руки мне.
– Ну, меня возьми с собой к Петру Лексеичу! – вдруг загорелся Ремезов. – Я не заробею сказать! Вот просто так сам возьму и попрошу!
– Просто так поганки растут, а при дворе просто так ничего не делается, – наставительно и горько сообщил Гагарин. – Для всего свой день нужен, свой подход и свой расход! Не твоё у меня время сейчас, Ульяныч! Понял?
– А как твою шкуру спасать – так моё время было? – дерзко напомнил Ремезов, понимая, что переходит черту дозволенного.
У Матвея Петровича от злости побелели скулы.
– Ты что, посчитаться решил?
– Я тебе помогал – на тебе долг! – отчаянно заявил Семён Ульяныч.
– У меня перед тобой, Ремезов, никаких долгов и быть не может! – свирепо осадил Гагарин. – Зарываешься ты, старый! Я – губернатор, а ты – архитектон, и цена тебе – сколько я заплатить готов!
– Ну, просветил, Матвей Петрович! – Ремезов вскочил и глумливо поклонился. – Оно и верно! Что-то сдурил я, за друга тебя почитая! А твоя дружба – пока досуг пустой и штаны не дымятся! Тьфу!
Нахлобучив шапку обеими руками, Семён Ульяныч кинулся прочь из кабинета – Капитон еле успел открыть дверь. Леонтий с каменным лицом остался стоять там, где стоял. Матвей Петрович вытащил кружевной платок, промокнул лоб и искоса глянул на Леонтия.
– Нехорошо с твоим батькой вышло, – поморщился он. – Разлаялись.
– Это дело не моё, Матвей Петрович, – бесстрастно сказал Леонтий. – У меня другое дело.
– Какое? – с подозрением спросил Гагарин.
– На Тоболе я тайную деревню раскольщиков нашёл. В переписи она не учтена, податей не платит.
– Ну, добро. Пошлю туда секретаря с писцом.
– Туда можно только с воинской командой. Они отбиваться будут.
– Нет войска у меня. Всё Бухгольц увёл.
Леонтий помолчал, словно оттаивая.
– Хоть кого надо набрать, Матвей Петрович, – проникновенно сказал он. – Хоть пленных шведов. И без проволочки. Это долг христианский.
– Ещё один долг на мне, Ремезов? – едва не зарычал Матвей Петрович.
– Они гарь готовят.
– Господи ты боже мой! – Матвей Петрович шлёпнул ладонями по ручкам своего креслица и закрыл глаза. – Опять напасть на мою голову!
А Семён Ульяныч от дома губернатора отправился на Софийский двор. Ещё позавчера монашек принёс ему записку от владыки Филофея: владыка приглашал зайти. Разъярённый разговором с губернатором, Семён Ульяныч ковылял прямо по лужам, злобно тыча палкой в грязь. Он тащился мимо амбаров, мимо своего мамонта, мимо часовни годовальщиков, Воинского присутствия, Приказной палаты, Прямского взвоза, Софийского собора…
После смерти митрополита владыка жил в Тобольске, а не в своём тюменском монастыре. Филофей занимал малую келью в Архиерейском доме. Семён Ульяныч склонился под благословение, но не успокоился.
– Не могу я, отче! – заявил он, опускаясь на лавку и бросая шапку в угол кельи. – Всё помню, о чём вы, отцы, мне тогда говорили: проси, мол, у кесаря смиренно, ласковое теля двух маток сосёт, а не могу я! Душа горит! За себя – дак попросил бы, только я не за себя прошу, а за правду! А как за правду – с цепи срываюсь! Всё вдрызг!
– Опять с князем рассорился? – проницательно спросил Филофей.
– Да в клочья! Носы друг другу порасшибали. Я его, бесстыжего, всеми грехами по харе хлестнул, а он меня дворовым холопом обозвал.
Филофей сокрушённо покачал головой.
Семён Ульяныч по лавке подъехал задом немного ближе к владыке.
– Отче, в посаде слух ползёт, что тебя снова в митрополиты поставят, – Семён Ульяныч испытующе поглядел на Филофея. – Оно правда?
– Бог ведает.
– Шепчут, что тебя местоблюститель к себе в Москву вызывает.
– Писал он мне.
– Хиротонисать-то всё одно при царе будут.
– Говори, чего хочешь, – усмехнулся Филофей. – Не юли.
– Коли ты на поставлении царя увидишь, так попроси его за кремль.
Филофей перекрестился, с кротостью покоряясь своей участи.
– Попрошу, – сказал он.
– А я тебе сень на могилу Иоанна вырежу, – пообещал Ремезов.
Митрополита Иоанна погребли возле Софийского собора в наскоро построенном деревянном приделе. Придел освятили в честь Печерских преподобных Антония и Феодосия: пусть киевские праведники, зачинатели Лавры, осеняют последнее пристанище инока из своей обители.
– Сень – это хорошо, – согласился Филофей, поднимаясь. – Но и у меня до тебя есть вопрос, Семён Ульянович.
Владыка вынул из сундука холщовый свёрток, раскрыл его и разложил на топчане ржавую и рваную кольчугу. Эту кольчугу ему в Ваентуре отдал князь-шаман Нахрач Евплоев, когда сжигали идола Ике-Нуми-Хаума.
– Посмотри, – предложил Филофей. – Это Ермакова железная рубаха?
Ремезов встал и, опираясь на палку, навис над кольчугой.
– Не Ермакова, – после размышлений заключил он. – Не она. Ермакова кольчуга бита в пять железных колец, рукава и подол медные, на груди был орёл золотой, а на крыльцах сзади – мишень, печать такая медная. А у тебя простой работы рубаха, не княжеская.
– Значит, обманул шаман, – в голосе Филофея звучало удовлетворение. – Не подвело меня чутьё. А правда, что Ермаковы кольчуги чудотворные?
– Верят, что чудотворные, – Семён Ульяныч сел обратно на лавку. – Но дело-то не в чуде. Кольчуга тепло Ермака хранит. Кто наденет её – тот словно духом Ермака облекается и сам свою доблесть в себе возжигает. Чудо человек творит, а не кольчуга. Кольчуга – железо, икона – доска, а торжествует божий дух. Откуда эта рубаха у тебя, владыка?
– Вогулы на Конде отдали.
– Истинную кольчугу они не отдадут, не надейся. Истинную кольчугу с тела Ермака на Баише забрал себе кодский князь Алача. В этом доспехе он и потомки его с нашими казаками в походы ходили, покуда Кода служилой была. А как отставили Коду от службы, Анка Пуртеева, кодская княгиня, отправила кольчугу на Белогорье, чтобы на идола натянули.
– А вторая кольчуга где?
– Вторую отдали джунгарскому тайше Аблаю.
Семён Ульяныч многое мог рассказать об этом. Вторую кольчугу увёз в степь его отец Ульян Мосеич. Но с этой поездкой была связана тайна отца, которую Семён Ульяныч не хотел открывать. Не время и не место.
– Откуда ты всё знаешь, Ульяныч? – восхищённо спросил владыка.
– С юности по ниточке в ковёр вплетаю.
Семён Ульяныч покинул владыку в прекрасном расположении духа. Он шёл домой не спеша и даже не заругался, когда на Казачьем взвозе дорогу ему перегородило нерасторопное коровье стадо. За лето заплоты Тобольска обросли понизу лохматым бурьяном. По улицам плыл дым от летних кухонь во дворах. Ехали возы с огромными шапками свежего сена. Дожди прибили пыль, и дышалось легко. Бело-сизые пороховые облака заполнили полнеба, солнце то разгоралось в лазоревых просветах, то угасало, и где-то вдали за Сузгунской горой дрожала тихим рокотом подползающая гроза.
А к владыке Филофею вечером пришёл Матвей Петрович.
– В Питербурх собираюсь, – сказал он. – Жена отписала, что Лёшка, сын мой непутёвый, наконец-то изволил обжениться. Надо благословить. Да и следствие по мне снова учинили. Не унимается Нестеров. Буду отбиваться.
Филофей молчал, сдержанно улыбаясь.
– Поедешь со мной, владыка, ежели я петлю через Москву сделаю? Обратно в Тобольск прикатим по первопутку.
– Поеду, – согласился Филофей.
– Значит, примешь кафедру? – догадался Матвей Петрович.
Если бы владыка не пожелал снова стать митрополитом, то отсиделся бы в Тобольске. Чтобы отказаться, незачем тащиться в такую даль.
– Приму, – кивнул Филофей.
– Ну, хоть какая-то весть хорошая, – вздохнул Гагарин.
С митрополитом Иоанном отношения у него не сложились. А после кончины Бибикова Иоанн и вовсе считал Матвея Петровича душегубом. С владыкой Филофеем – другое дело. Филофею чужие грехи очи не застят.
– Отчего же в этой келье ютишься? – Матвей Петрович обвёл взглядом тесную каморку Филофея. – Переберись в келью, где Иоанн жил.
– Нельзя, – просто ответил Филофей.
– Без сана в митрополичий покой не хочешь?
– При чём тут сан? – улыбнулся Филофей. – Пойдём, покажу.
Филофей вернулся с Конды, когда с кончины Иоанна миновало уже три недели, однако Иоанна тогда ещё не похоронили. По правилам, отпевать митрополита должен был архиепископ или другой митрополит, пусть и бывший. Тобольский клир ожидал Филофея, чтобы владыка провёл должную службу, и лишь после этого тело митрополита предали бы земле. Для Иоанна уже построили придел, но тело лежало в холодном подклете Софийского собора. Филофей попросил пустить его в подклет попрощаться.
Отец Клеоник, эконом, большим железным ключом отпёр маленькую окованную дверь. В тёмной глубине подклета под низкими сводами светила лампада. Крестясь, Клеоник подвёл Филофея к открытому гробу с Иоанном. Конечно, прохлада подклета хранила усопшего, хотя остановить телесный распад она не могла. А Иоанн лежал в гробу бледный, но словно бы живой.
– Он нетленный, – шёпотом сообщил Клеоник.
Но это было ещё не всё.
Филофей открыл дверку в келью Иоанна и пропустил Матвея Петровича вперёд. Гагарин молча озирался. В келье всё оставалось так, как было при кончине митрополита. Окошко распахнуто. Лежак смят. На столе – бумага, перо и чернильница. В углу в киоте – черниговский образ Богоматери в голубом убрусе. А на полу под киотом, где упал и умер Иоанн, стояло серебряное блюдечко с тонкой свечкой, и на свечке мерцал огонёк.
– Когда его нашли, эта свечка у него в руке была, – негромко сказал Филофей. – И она горела. Гасить её не решились. Думали, сама собой истает, и оставили её на блюдце, вот как сейчас. Видишь – она до сих пор светит, и не убавилась ни на вершок. Здесь чудо было, князь.
Матвей Петрович потрясённо глядел на простенькую восковую свечу, которая не угасала уже два месяца.
– А я думал, святым будешь ты, – прошептал Гагарин Филофею.
Глава 11
Лазутчик
Степные травы полегли в октябре, и ночные заморозки окрасили волнистые просторы степи в неровный бурый цвет: местами красноватый, кое-где – с выморочной позолотой, а на пятнах ещё стоящих ковылей – в пушисто-белёсый. Травы мёртво хрустели под копытами драгунского дозора. Тусклое и желтоватое небо оставалось чистым, но гулял ветер, предвещая скорую непогоду. Ямыш-озеро лежало в неглубокой котловине и под ветром серебрилось мелкими волнами, будто покрытое дохлой рыбой. Казалось, что у берегов его уже оцепляет первым льдом, но это была шершавая корка соли, грязная от нанесённой степной пыли. «Табберту было бы любопытно ознакомиться со столь странным явлением, – подумал Ренат. – Но не мне».
Ямыш-озеро находилось в двух верстах от ретраншемента Бухгольца. Шведский драгунский дозор ехал осмотреть дальние берега озера на предмет леса: есть ли подходящие заросли вишни, осины или ольхи. Дрова – главная ценность. Драгун было два десятка. Отправляясь в дозор, драгуны обычно брали с собой и несколько артиллеристов, чтобы те не скучали в крепости.
– Похоже, что в голой скале, торчащей из моря где-нибудь в Тьюсте, и то больше жизни, чем в русских степях, – сказал Ренату Игго Берглунд, когда-то, давным-давно, драбант Скараборгского полка.
– Здесь не русские степи, – задумчиво возразил Ренат.
В отличие от многих своих товарищей по экспедиции, он знал, куда завёл их всех полковник Бухгольц. Ещё весной Ренат взял с собой Бригитту и отправился в мастерскую к Симону Ремезову, этому сибирскому географу и навигатору. Всё равно больше не у кого было спрашивать.
– Я прошу, Симон, показать мне ландкарты степей от степного города Доржинкит до российского города Астрахань.
Доржинкит по меркам степи находился недалеко от Ямыш-озера.
Гита стояла в стороне, в тени печки, терпеливо, как и должно, ожидая результата, а бородатый Ремезов рылся на полках, в шкафах и сундуках, с кряхтением выкладывая на стол свои нелепые самодельные книги.
– Да где же они, дьяволы? – ворчал он.
Ренат вежливо помогал старику доставать тяжёлые фолианты.
– Единого-то чертежа у меня нет, – сказал Ремезов, переворачивая толстые листы книги, – но из разных можно составить понимание.
– Посмотри, Гита, – по-шведски предложил Ренат.
Бригитта тоже подошла к столу, к книге, освещённой лучиной.
– Вот глядите. Это Ямыш-озеро и Доржинкит на Иртыш-реке, – длинный палец Ремезова ткнул в рисунок странного города. – Дале Барабинская степь до Ишима. Дале полуночный предел Тургайской степи, и через вершины Тобола на Яик. По Яику – полуночная граница Бухарских степей. А затем – Общий Сырт и Волга. Вот она щепится на себя и Ахтубу, а вот Астрахань.
– Зачем мне это видеть, Хансли? – тихо спросила Бригитта по-шведски.
– А ходил ли кто от Доржинкита до Астрахани?
– Ха! – возмущённо воскликнул Ремезов. – Так калмыки же и ходили! Всем народом! Когда тайши Хо-Орлюк и Далай-Батыр их из Джунгарии вывели, они свои улусы на Барабе держали, с татар ясак драли. Потом тайши меж собой рассорились, как это у калмыков завсегда ведётся, а Орлюк ещё и с нашими воеводами сцепился. Ну, и решил он все свои дымы вслед за солнцем влечь. Пошёл на Тургай, на Яик, на Общий Сырт. Ограбил кочевья каракалпаков, казахов, башкирцев, ногайцев. В конце концов его кибитки докатились до Рын-песков, до горы Богдо и Ахтубы. Это уже, почитай, где Астрахань. Орлюк-то Волгой не напился, переправился на другой берег и попёр на Терек. Там-то, в Кавказийских горах, ему башку и срубили.
– А джунгары калмыкам кто? Братья? – Ренат тщательно выговаривал эти головоломные русские названия народов.
– Братья и по крови, и по духу. Только год от года бьются друг с другом. Но им это не за обиду.
Ренат смотрел на чертежи с напряжением человека, который пытается за один раз запомнить множество сведений. Бригитта начала догадываться, зачем Ренат взял её с собой. Ремезов должен убедить её поверить Хансли.
Уже на улице, у ворот подворья Ремезовых, Бригитта сказала:
– Ты можешь объяснить мне всё это, Хансли?
– Я не вправе сообщить всего, но поверь мне, – Ренат мрачно смотрел в сторону. В конце заснеженной улицы с высокими заплотами и наезженными колеями возвышалась деревянная колокольня с шатром. – Через год, Гита, мы можем оказаться в городе степняков. Вдвоём, без твоего мужа. Свободные. И степняки помогут нам через все эти степи добраться до калмыков. Калмыки отведут нас к границам Турции. А Турция – союзник Швеции. И мы вернёмся домой. Не скоро, но вернёмся.
– Я увидела, насколько бесконечен этот путь, Хансли, – честно ответила Бригитта. – Я убеждена, что следовать этим путём – безумие.
– Ты можешь остаться, – сухо сказал Ренат.
– Конечно, я пойду за тобой, Хансли.
И вот сейчас, осенью 1715 года, он на Ямыш-озере. Его путь начался. Вернее, его путь начался, когда войско Бухгольца вышло из Тобольска.
Войско поднималось вверх по Иртышу. Шесть десятков дощаников и объёмистых лодок растянулись на четыре версты. Солдаты сидели на вёслах, а при попутном ветре поднимали паруса. По берегу, то приближаясь, то отдаляясь, двигался табун в тысячу голов. Плыть было трудно, однако солдатам нравилось. Бритые лица, мундиры, воинское равенство и дорога объединили русских и шведов, и драк не случалось. И справа, и слева стояла тайга, то вознесённая на длинных и крутых ярах, а то вровень с тёмной водой Иртыша. Летнее пекло только раз пересеклось быстрым ливнем. На ночлегах вместо шатров раскладывали костры-дымокуры от гнуса и спали на земле.
Последним русским городом на пути была Тара. До неё войско доползло в начале августа. Бревенчатый острог, колокольни и луковки, обширный посад, обнесённый валом, россыпь татарских юрт… В Таре войско получило ещё полторы тысячи лошадей. Здесь для солдат отслужили молебен.
За Тарой глухая жара ослабла, а хвойная тайга посветлела, пробитая лиственными деревьями. Приближалась осень и приближалась степь: её дыхание разрывало плотную тайгу, открывая обширные луговины. Когда над Иртышом потянулись стаи перелётных птиц, берега преобразились: ивняк, берёзы, липы и рябины пожелтели и покраснели. На большом перекате возле устья реки Омь солдатам впервые пришлось тащить суда на руках. Переправа заняла целый день. Бухгольц ходил по берегу, осматривался и размышлял. Перекат служил бродом, по которому джунгары перебирались через Иртыш в набеги на Барабинскую степь; так в Тобольске Бухгольцу пояснил Ремезов. Приказ государя требовал от полковника построить на пути от Тары до Яркенда не меньше пяти крепостей. Здесь, на Оми, для крепости было самое место: защита брода. Однако возведение ретраншемента отняло бы неделю, и пришлось бы оставить здесь гарнизон. А ведь будет ещё и крепость на Ямыше, где намечена зимовка, и в ней тоже следует оставить гарнизон для охраны соляного промысла. И Ямыш-озеро – только половина пути до Яркенда. Натыкаешь везде крепостей с гарнизонами – и придёшь в Яркенд с одним баталионом вместо двух полков. Бухгольц решил строить крепости на обратном пути. Не стоит распылять силы, пока не достигнута главная цель.
За устьем Оми стало ясно, что Иртыш течёт уже по степи, а не через леса, хотя повсюду ещё виднелись обширные облетающие рощи. Осенняя степь пылала яркой медью. Над ней, медленно вздуваясь и клубясь, плыли бесконечные тучи; землю то и дело подметали дожди. Они смывали, смывали медь, и пространство теряло краски. К концу сентября степь во все стороны стала серой и бурой. 1 октября с головной лодки прозвучал гулкий выстрел: это дозорные увидели на берегу высокий крест – знак Ямыш-озера.
От Иртыша до Ямыша было четыре версты. Солдаты вытащили свои суда на прибрежную луговину и перевернули их вверх днищами. От Ямыша до Яркенда войско двинется пешком. Но этот марш начнётся только весной, а сейчас требовалось позаботиться о зимовке. В двух верстах от Иртыша Бухгольц указал место для ретраншемента. Оглядывая степи, Ренат подумал, что здесь можно умереть с тоски, пускай даже вокруг два полка, артиллерия и табуны. Штык-юнкеру Юхану Густаву Ренату не было так тягостно даже в одиночестве таёжной корчмы под Тобольском.
…Дозор, в котором ехал Ренат, огибал озеро и приближался к брошенному лагерю степняков. Там стояли коновязи, покосившиеся плетёные загородки и две юрты из драных шкур, в прорехах которых виднелись решетчатые стенки. Ренат знал, что на Ямыш-озере русские и степняки ежегодно летом устраивают ярмарки. На противоположной стороне имелся такой же заброшенный лагерь русских с балаганами, покрытыми гнилым камышом.
– Тяжело жить, когда соль необходимо добывать так далеко от дома в таких вот озёрах… – заговорил было Игго Берглунд.
Одна из юрт вдруг словно взорвалась: через прорубленный выход из юрты вырвался наружу всадник и сразу кинулся прочь, нахлёстывая коня. Это был степняк. Откуда он взялся, что здесь делал и почему спрятался?
– За ним! – тотчас крикнул ротмистр Берент Кунов, командир дозора.
Драгуны сорвались в погоню.
Степняк припал к шее коня, а драгуны привстали на стременах. Ренат тоже скакал вслед за ними, хотя ему, артиллеристу, не имело смысла даже пытаться поспеть за передовыми драбантами – лучшими всадниками, лучшими воинами короля Карла. Пусть и пленные, драбанты в любом деле всё равно оставались лучшими. Русские брали у них уроки сабельного боя.
Игго первым настиг джунгарина. Ловкий степняк сразу перевесился на одну сторону своего коня, чтобы его не выбили из седла и не закололи пикой. Игго на всём скаку вытянул из ольстры – седельной кобуры – заранее заряженный двуствольный пистолет. Без всякого колебания он выстрелил джунгарскому коню в голову. Конь полетел с копыт, а степняк покатился по жухлой траве. Драгуны сразу окружили его, держа сабли наготове.
– Не руби! – отчаянно закричал джунгарин по-русски. – Не руби!
Ренат с холодным любопытством разглядывал степняка. Кожаная шапка с длинными ушами, большой запашной халат, кушак, кожаные штаны, сапоги с острыми и загнутыми носами. Тёмное скуластое лицо, узкие глаза.
– Разведчик, – понимающе сказал ротмистр Кунов и усмехнулся: – Наконец-то дикари заинтересовались нами. Доставим в ретраншемент.
Ретраншемент – земляная крепость – был достроен уже на три четверти. Солдаты выкопали рвы и отсыпали квадрат из валов-куртин с четырьмя бастионами по углам. Ворота в ретраншементе имелись только одни. Их прикрывал треугольный редут из валов пониже, тоже окружённый рвом. Внутри укреплений зияли длинные ямы для казарм и цейхгауза. Однако работы оставалось ещё много. Солдаты покрывали скаты валов срезанными пластушинами дёрна и прикрепляли его, втыкая длинные деревянные спицы. Весной дёрн прирастёт, и земляной ретраншемент не расползётся под дождями даже за сорок лет. Разобрав несколько дощаников, работники сооружали кровли над казармами и цейхгаузом, сколачивали ворота и барбеты – боевые площадки на бастионах и редуте, где потом встанут пушки. Множество солдат плели из лозняка сетки – будущие стены землянок, вязали толстые снопы из прутьев – фашины, которые будут установлены в ряд на гребнях куртин. Огромная взрытая стройка выглядела как свежевспаханное поле с гомонящей стаей грачей. Солдаты катили тачки, тащили доски и брусья; офицеры ходили с большими угломерами или с мерными верёвками, намотанными на локоть; чёрная, вывернутая из глубины земля истекала тёплым паром; дымили костры. Поодаль виднелся табун. Бухгольц объезжал строительство верхом; конь до брюха был перемазан грязью; в грязи были и ботфорты Бухгольца с высокими крагами, и ножны сабли.
– Господин Ожаровский, вы завершили трамбование эскарпа на западной стороне? – спрашивал он в одном месте.
– Так, Ыван Дмытржэвич. Утоптаныи плотны, яко на плацу. Провьерил на багынет – клинец не вошьол йи до сэрэдзыны.
– Каков уклон откоса, господин Шторбен? – спрашивал Бухгольц в другом месте.
– Две трети от прямого, господин полковник. Для конницы довольно.
Бухгольц двигался дальше.
– Рогатки готовы, господин Демарин?
– Гвоздей не хватило. Послал сержанта тягать из судов.
– Господин Кузьмичёв, вы подумали относительно апрошей?
– Предполагаю их излишними, Иван Дмитриевич. Снегом забьёт.
Ротмистр Кунов направил коня к Бухгольцу. Дозор ехал за командиром.
– Господин полковник! Я осмотреть озер! – отрапортовал Кунов по-русски. – Лес не иметь. Иметь много… э-э… трауэнверде…
– Плакучая ива, – перевёл находящийся рядом Кузьмичёв. – Ивняк.
– Да, – согласился Кунов. – И добавок много каммич.
– Камыш, – поправил Кузьмичёв.
– Что ж, ясно, – кивнул Бухгольц и указал пальцем: – А сие кто?
– Взять в плен на озере. Который смотреть тайно.
– Лазутчик, – подсказал Кузьмичёв.
Изловленный степняк стоял среди всадников дозора. Его руки были связаны, а верёвку держал Игго Берглунд.
Офицеры подходили поближе, чтобы посмотреть на первого пленника.
– Он говорить русский, – сообщил ротмистр Кунов.
– Ты кто? – с коня спросил Бухгольц, глядя на степняка.
– Я Бямбадорж, каанар зайсанга Онхудая!
– Тарабарщина, – поморщился Бухгольц, ничего не поняв.
– Его зовут Бямбадорж, Иван Митрич, – объяснил поручик Демарин. Он помнил рассказы Ремезова о джунгарских обычаях и владениях степняков на Оби. – По их меркам, он знатный человек, охранник при местном князе Онхудае. Этот Онхудай владеет всем здешним улусом и держит свою ставку в городе Доржинките в двух сотнях вёрст отсюда вверх по Иртышу.
Солдаты вокруг побросали работу и тоже глазели на пленника.
– Ты лазутчик? – напрямую спросил Бухгольц.
– Я смотреть, кто пришёл на Ямыш. Зайсанг хотел знать. Убить, жечь, взять коней зайсанг не хотеть.
– Вот, значит, и первая весточка, – удовлетворённо сказал Бухгольц. – А я всё гадал: куда азиаты провалились? Драбант, развяжи его.
Берглунд спешился и развязал верёвки на руках степняка. Потирая запястья, степняк недоверчиво глядел на Бухгольца снизу вверх.
– Ты – гость! – громко и внятно, словно глухому, объявил Бухгольц каанару Бямбадоржу и обвёл рукой строительство деташемента. – Ходи, где хочешь, смотри всё. Мы не враги. В твой город мы не идём. Здесь мы перезимуем и пойдём в Яркенд. Понимаешь меня?
Бямбадорж заулыбался и кивнул.
– Иван Григорьич, – обратился Бухгольц к Демарину, – сделайте ему визитацию ретраншемента. Ничего не укрывайте, на вопросы ответствуйте искренно. Потом накормите кашей, дайте шапку в подарок и пускай выберет себе любую лошадь.
– Слушаюсь! – Демарин шагнул к степняку и дружески хлопнул его по спине. – Пойдём, каанар, покажу нашу крепость!
– Эй, как тебя, Бамбар… дож, – окликнул Бухгольц. – У твоего князя есть люди, которые письменно читать по-русски в способности?
– У зайсанга много умелых русских невольников! – заявил степняк с простодушной гордостью.
Бухгольц хмыкнул и покачал головой.
– Митрофан Гаврилыч, – он глянул на поручика Кузьмичёва, – отпишите письмо для ихнего князя. Так, мол, и так, идём в Яркенд, намерения на баталию не имеем, словом, сами знаете. Письмо принесите мне под печать.
– Будет исполнено, Иван Митрич. Пускай Тарабукин мне бумаги даст.
Солдат Тарабукин был ординарцем Бухгольца.
– Тарабукин, поди дай.
Ренат потихоньку отъехал в сторону и направился к батарее.
Орудия были выстроены на будущем плацу ретраншемента в три ряда. Вокруг суетились артиллеристы в шапках-бомбардирках, красных камзолах без рукавов и полосатых чулках-цунках, перепачканных в грязи. Канониры и фузелёры ключами подтягивали болты и молотками подстукивали заклёпки на лафетах; приподняв стволы, мазали коломазью окованные железными шинами вертлюжные гнёзда; в нужном порядке укладывали в длинные колёсные тележки свои инструменты: правила, гандшпиги, пальники и шуфлы. Зарядные доставали из ящиков ядра, гранаты и стаканы с картечью, чтобы поменять под ними венчики из слежавшейся ветоши, иначе у снарядов тонкие запальные трубки из меди утыкались в днища ящиков и сминались.
Ренат думал о тайном поручении губернатора Гагарина. Под одеждой на груди у него висела золотая пайцза. Он должен вручить её джунгарскому князю – зайсангу. Но если этот каанар, лазутчик, привезёт зайсангу письмо от Бухгольца с заверением о мире, зайсанг, быть может, и не потащится за сто вёрст к ретраншементу, чтобы всё узнать самому. Быть может, он вообще куда-нибудь надолго откочует. Как же тогда передать ему пайцзу?
Артиллерией у Бухгольца командовал старый лейтенант Сванте Инборг. Он сидел на станине лафета и курил трубку. Из-под белых усов шёл дым.
– Господин лейтенант, – обратился к нему Ренат. – Дозвольте снова отлучиться с батареи.
– А в чём причина, штык-юнкер? – медленно спросил Инборг.
– Я был в дозоре с ротмистром Куновым. Мы гнались за лазутчиком. Я обронил шляпу. Хочу вернуться за ней.
– Обмундирование следует беречь, – наставительно сказал Инборг. – Разрешаю отлучку, штык-юнкер. По возвращении отчитайтесь.
В рекогносцировочных доездах Ренат уже изучил ближние и не очень ближние окрестности ретраншемента. Он знал, где надо ждать джунгарина – в небольшой глинистой лощине верстах в трёх от русских судов. В свой Доржинкит джунгарин отправится берегом Иртыша вверх по течению. Он не минует этой лощины. Туда Ренат и поскакал.
Он сидел в седле, смотрел по сторонам и ждал степняка. Над головой желтело тоскливое и пустое небо. Ренату совсем не нравилось то, что он задумал. Но это надо было сделать. В своей судьбе после плена он всё время отступал от жестокого выбора, отступал, отступал. Он не убил Цимса, когда никто бы и не дознался про убийцу, а в итоге оказался в таёжной корчме. Он не убил Дитмера – и попал в такую неволю, с которой и плен не сравнится. И вот он здесь – в степи, за полторы тысячи вёрст от Бригитты. Если он снова отступит, то потеряет и Бригитту, и жизнь. Князь Гагарин не простит ему неисполненного задания. Что ж, надо сделать этот шаг. Надо.
Конный джунгарин появился на краю лощины и начал осторожно спускаться. Ренат тронул коня и поехал ему навстречу. На голове у степняка была нахлобучена русская треуголка, к груди степняк прижимал русский горшок – видимо, с кашей в дорогу. Степняк заулыбался Ренату, и Ренат тоже улыбнулся ему, возненавидев себя за эту подлую улыбку.
– Здравствуй, орыс! – поравнявшись, сказал степняк. – Я друг!
– И ты здравствуй, – глухо ответил Ренат.
– Баярлалаа, орыс! Тёплой зимы тебе!
Степняк не спеша поехал дальше. Ренат развернулся в седле, доставая из-под полы камзола приготовленный пистолет, и выстрелил степняку в спину. Джунгарин упал лицом на шею лошади, лошадь испуганно прыгнула, и джунгарин боком вывалился из седла. Он шлёпнулся на мокрую землю, и рядом шлёпнулся горшок. Горячая каша поползла из горшка в грязь.
Глава 12
Русская гекатомба
Эти лодки – длинные, узкие и лёгкие – назывались насады. Они лучше прочих были приспособлены для передвижения по малым извилистым рекам или по большой реке против течения. Табберт, чьё детство прошло у гавани балтийского Штральзунда, полагал, что удобнее пользоваться распашными вёслами, но русские предпочитали шесты с окованными наконечниками. Русские весьма искусно управлялись с этими неказистыми орудиями, хотя на Тоболе, многоводном по осени, насады перемещались преимущественно вдоль берегов, где было неглубоко, чтобы шесты доставали до дна.
Под командованием капитана Филиппа Табберта фон Страленберга находилось тридцать человек: уволенные губернатором комбатанты, которых называли служилыми, также казаки, и ещё волонтёры, по-русски – «охочие люди». Конечно, сей отряд – не баталион и даже не рота, однако всё равно воинское подразделение, исполняющее тактическое задание. А иметь хоть какое-то дельное задание – большая удача в скуке русского плена. Табберт был признателен губернатору, который вспомнил о нём, когда потребовался офицер, чтобы возглавить небольшую гишпедицию против беглых крестьян.
Перед отправлением Табберт привёл в порядок свой мундир: заплатил хозяйке своего дома, чтобы она заштопала и отгладила камзол, рубашку, кюлоты и чулки, начистила пуговицы, пряжки и горжет, размягчила ремни в тёплой воде и смазала их деревянным маслом. Пистолеты и шпагу он отдал на проверку в оружейную мануфактуру мастера Пилёнка, а ботфорты отнёс к сапожнику на починку. Впрочем, вряд ли в этой гишпедиции ему придётся стрелять или сражаться, а мундир не соответствовал погоде сибирской осени.
Но Табберту всё равно нравилось. Ему нравилось командовать. Он сам выбирал места для биваков на берегах, пускай даже его подчинённые были недовольны, желая ночевать в попутных деревнях. Он расставлял караулы, невзирая на то, что здесь некому было нападать на его отряд. Он взыскивал провиант от старост в слободах. Каждое утро он проводил построения и принимал рапорты от караула и отчёты о состоянии оружия и лодок.
Табберт четыре года просидел в Тобольске безотлучно, и вот наконец-то границы его мира раздвинулись. Он прекрасно помнил ландкарту Тобола, которую так тщательно копировал из рукописей Симона Ремезова, и сейчас умозрительный чертёж животворно наполнялся содержанием. Табберт словно бы осматривал свои владения. Все названия, все объекты были здесь уже знакомы ему, и поэтому он странным образом ревновал к людям, что жили по берегам Тобола в слободах и деревнях: они поселились на его карте без дозволения, как в подвале дворца без дозволения хозяев заводятся мыши.
В насаде вместе с Таббертом плыли два казака и сыновья Симона Ремезова – Симон-младший и Леон. В самом начале гишпедиции Табберт отвёл их в сторону и предупредил, что дружеские отношения остались в доме их отца, а здесь он – командир, и называть его надо «господин капитан».
– Как скажешь, господин капитан, – покладисто согласился Леонтий.
А Симон сохранял мрачную и напряжённую сосредоточенность. Как командир, Табберт должен был следить за боевым духом своих солдат.
– Что иметь твой брат? – осторожно спросил он у Леона так, чтобы Симон не слышал. – Я не видеть его прежде столь… э… чужой людям.
– Сенька всю душу истерзал. В Чилигино у раскольщиков – его баба. Она с единоверцами сбежала. Сенька боится, что не успеет из гари её выхватить.
– Скажи Симон, мы успеть, – покровительственно пообещал Табберт.
Разумеется, он слышал о расколе. Семьдесят лет назад русская церковь претерпела большую реформу, но часть православных не приняла новшеств. Эти несогласные были названы раскольниками. Власть преследовала их, а они бежали на дальние и неосвоенные окраины державы. В приверженности старым порядкам они были настолько упорны, что иной раз даже устраивали добровольные самосожжения. Таёжные аутодафе были весьма необычными и любопытными явлениями. Впрочем, их дикарский характер не вызывал у Табберта сомнений. Скажем, прекраснодушный Курт фон Врех был склонен видеть в раскольниках некий русский аналог протестантов, но Табберт с Куртом не соглашался. Европейская Реформация влекла за собой огромные изменения: папа лишался власти, монастырские земли переходили коронам, создавалась новая система церковных иерархий, отличная от католической, и так далее. Однако русская реформация не вызвала особых перемен. Русское церковное византийство после реформ оставалось таким же полновластным и пышным, каким было и прежде, и лишь незначительно отличалось в обрядах. Здравомыслящий человек примет эти отличия без сопротивления: не всё ли равно? Но русские фанатики согласны были погибать за форму креста или за произношение пары звуков в Символе веры. Это было признаком варварства. А варварство возбуждало чрезвычайный интерес, и Табберт был убеждён, что впечатления этой гишпедиции пригодятся ему для будущих трудов.
Под осенней моросью насады поднялись вверх по тёмному Тоболу и свернули в устье притока – в Чилижку. Летом, в межень, лодки не смогли бы пройти по извилистой речонке, зажатой густым тальником и глухо заросшей по мелководью какими-то лопухами, а сейчас дожди наполнили Чилижку и очистили русло. Насады, словно щуки, вереницей скользили по узкой речке, усыпанной выцветшей палой листвой. От Тобола до Чилигино по прямой было десять вёрст, а по речным петлям – полтора дня ходу.
Их заметили раньше, чем сами они обнаружили Чилигино. Мальчонка, что сидел в кустах с удочкой, тихо пополз от речки, выбрался из зарослей и во всю прыть дунул через луговину к деревне.
– Мамка! Солдаты! – кричал он. – Мамка! Антихристы!
Чилижка привела насады в деревню. На отлогом берегу стояли бани, портомойни и жердяные сушила, вверх днищами валялись лодки-шитики, в воду заходили дощатые мостки на сваях. Насады мягко выехали на песчаную отмель. Служилые и казаки выбрались на замусоренный приплёсок.
Поодаль виднелись дома, амбары и ограды. Табберт заметил, что за домами и заборами мелькают люди в странных белых одеяниях. Где-то стучала железная колотушка. Табберт понял, что им не удалось захватить деревню врасплох. В небе плыли хмурые осенние тучи, и в красных рябинах шумел ветер. Его порыв донёс с улицы заунывное нестройное пение:
– Исусе, храме предвечный, покрый мя. Исусе, одеждо светлая, украси мя; Исусе, бисере честный, осияй мя. Исусе, каменю драгий, просвети мя; Исусе, солнце правды, освети мя…
– Лёнька, они уже саваны надели, – помертвев, сказал Семён Леонтию. – Им зажечься – только искру сронить…
Где-то там, в толпе раскольников, облачённых в погребальные одежды, к месту скорой гари шла его Епифания: просторный саван холодил её нагое тело, босые ноги ступали по ледяным лужам, ветер трепал хоругви.
– Перехватим, – ответил Леонтий, хотя и сам не очень верил в это.
– Зарядить ружья! – бодро распорядился Табберт.
– Надо «згорелый дом» отбить!.. – Семёну невыносимо было ждать, пока воинская команда изготовится. – Где он? Который?
– Не иначе как храмина, – сказал Леонтий. – Вон шатёр торчит.
Служилые и казаки торопливо заряжали мушкеты.
– Идут до нас какие-то! – вдруг крикнул один из казаков.
Из проулка от ближайшего подворья к отряду Табберта направлялась небольшая процессия раскольников – человек десять. Впереди шагали двое в белых балахонах и с иконами в руках, за ними – мужики с косами и вилами.
– Парламентёры! – догадался Табберт, вытащил из-за отворота камзола платок и красиво взмахнул им над головой, приглашая к переговорам.
Раскольники остановились.
– Благоволи выслушать, изволь ответить, – сурово произнёс один из них.
– Я весь внимать! – благосклонно улыбнувшись, пригласил Табберт.
Служилые и казаки смотрели на раскольников недоверчиво. Вдали по-прежнему тревожно стучало било, словно сердце деревни Чилигино.
– Господин капитан, нельзя время терять! – негромко сказал Леонтий.
– Возможен быть, крестьян, который здесь, сам выдать нам беглец, – снисходительно пояснил Леонтию Табберт.
Он не исключал, что здешние мужики, не вступая в оборону от воинской команды, откупятся теми, кого прежде укрывали. Это было бы разумно. Хотя в глубине души Табберт всё же надеялся увидеть настоящую гарь. За этим опытом он и явился сюда, в Чилигино.
С иконами к отряду Табберта пришли братья Саул и Навин.
Саул откашлялся в кулак.
– Священника бо дело обличити, а молчание вражда Богу и человеком, – сказал он. Это были слова из челобитной Никиты Пустосвята, заученные им от отца Авдония. – Понеже и врачом достоит с прилежанием прилагати пластырь тамо, идеже есть телесная язва, воином же воздвизати оружие и ополчатися крепко тамо, идеже есть супостатная брань, а кормчим искусство хитрости своея показывати во время зимы и ветрянаго волнования…
Табберт свысока улыбался, поощряя раскольника, хотя не мог уловить смысла слов на этом причудливом изводе русского языка.
– Попречник! – догадался Леонтий.
– Зубы заговаривает, пока там подпаляют, – зло сказал кто-то из казаков.
– Такоже и священником лепо о правых догматах поборати во время церковные скорби и находящаго на ню бурнаго противления, сиречь правыя и непорочныя веры повреждения, – продолжил за Саулом Навин.
В деревне стучало, стучало дошатое било. Семён знал, что там одноглазый дьявол Авдоний загоняет в «згорелый дом» насмертников – баб, даже тех, что с младенцами, парней и девок, детишек, стариков. А с ними и Епифанию.
Семён упал на одно колено, поднял заряженное ружьё и выстрелил. Саул изумлённо уставился на две половинки иконы у себя в руках – пуля расколола икону пополам и пробила ему грудь. Саул рухнул.
– Не сметь! – яростно взревел Табберт.
Но его не послушали. Грохнул ещё выстрел, и Навин тоже повалился. Чилигинские мужики, сопровождавшие попречников, на мгновение замерли, а потом молча повернулись и кинулись прочь в проулок.
– В храме гореть будут! – крикнул Леонтий. – Давай туда!
Служилые бросились за чилигинцами, не ожидая приказа командира.
– Стоять! – Табберт выхватил пистолет. – Стоять!
Он ничего не понимал. В гневе он был готов выстрелить по своим – но всё же не выстрелил, бессмысленно подняв ствол пистолета к пасмурному небу. Что происходит? К ним явились парламентёры – это начался торг об условиях капитуляции!.. Почему же служилые убили посланцев? Сие какие-то недобрые хитрости русской жизни, о коих он не осведомлён?..
Проулок, который вёл с берега на площадь, где стояла церковь, был основательно перегорожен: между крепкими заплотами подворий чилигинцы вкопали частокол. В нём оставался проход, однако там толпилась охрана – другие мужики с вилами и косами на ратовищах. Похоже, чилигинские раскольники готовились драться врукопашную. Мужики, что пришли с попречниками, спасаясь от служилых, неслись к проходу в частоколе.
Табберт на бегу подумал, что атакующим надо остановиться: командир должен изложить им план взятия прохода на приступ. Крестьянская оборона не выдержит правильно организованного штурма. Но служилые гнались за мужиками и без колебаний стреляли в спины. Табберт догадался: служилые хотят с разгона смять сопротивление крестьян у ограды, чтобы прорваться на площадь и перебить всех, кто попытается поджечь церковь. В приказах Табберта служилые не нуждались: этот швед не знал, как устроена гарь, а они знали и действовали на опережение. Табберт понял, что он тут лишний.
Пальба и вид убитых мгновенно развеяли решимость обороняющихся. Чилигинские мужики отскочили от частокола и помчались к площади. У них не получилось ни прений с антихристами, ни пружания, – весь порядок, замысленный Авдонием для Корабля, сломался. А служилые не отставали.
Вокруг церкви заполошно суетились те, кого ещё не загнали внутрь: отбившиеся дети в маленьких саванах; испуганные девки, в последний миг отпрянувшие от райских врат; неуклюжие старики и старухи, что запутались непослушными ногами в подолах смертных одежд и упали на полпути. Кто-то рыдал, кто-то отчаянно вопил, кто-то выкручивался из цепких чужих рук. Мужики-раскольники подхватывали отставших и тащили к храму, взашей толкали вверх по крутой лестнице висячего крыльца. Бревенчатая церковь, грозно раскинув тесовые крылья кровель, вздымалась над вытоптанной площадью, словно огромная птица, которая приземлилась здесь только на мгновение, чтобы подобрать птенцов, и готова тотчас взлететь в небо.
Служилые ворвались в белую толпу насмертников, как волки в стаю лебедей; не разбирая, ударами прикладов они валили на землю всех подряд: пусть избиты, зато не сгорят. Церковь понизу была обложена валом из дров, хвороста и соломы, и кое-где этот вал уже густо дымил; служилые хватали брошенные мужиками вилы и отгребали подожжённые кучи от стен. Леонтий увидел, как за угол храма нырнул брат Сепфор с огневищем в руке; Сепфора Леонтий помнил по Тобольску. Леонтий метнулся за раскольником, но опоздал: Сепфор, торжествуя, сунул своё огневище в узкую щель волокового окошка. Конечно, наглухо заколоченный подклет церкви тоже был заполнен дровами и соломой, и загасить в нём пожар уже никто не смог бы. Леонтий вскинул ружьё к плечу и безжалостно выстрелил Сепфору в лицо.
Табберт вышел на площадь, опустив пистолет, и просто наблюдал. Гнев его сменился глубоким недоумением: Табберт не знал, что ему делать. Он окунулся в самую гущу русской жизни – и оказался чужим и бесполезным.
В суматохе служилые оставили без внимания высокое крыльцо храма – никто не сомневался, что насмертники уже заперлись внутри, а оттащить горящие дрова сейчас было важнее. Но дверь под навесом крыльца вдруг приоткрылась. На лестницу с топором в руке скользнул брат Пагиил; он упал на колени и принялся рубить опорное бревно-косоур – если его перерубить, то лестница обрушится, и высокое крыльцо окажется недоступным, как птичье гнездо на дереве. В проёме двери появился Авдоний. Усмехаясь, он оглядывал площадь: с борта Корабля кормчий прощался с берегом.
Авдония увидел только Семён. Его мушкет был пустой после выстрела по Саулу. Семён бросился к Табберту и рванул у него из руки пистолет. Табберт растерянно выпустил оружие, отступая перед ошалевшим Ремезом.
– Заряжен? – бешено спросил Семён.
– Так, – кивнул Табберт.
Семён вытянул руку и прицелился в Авдония, но, ругаясь, перевёл ствол на Пагиила и выстрелил. Пагиил мешком свалился с крыльца на землю. Авдоний замер в проёме, осознавая случившееся, потом отшагнул назад и захлопнул дверь. Всё, его Корабль отплывает.
– Заколачивай! – приказал Авдоний Хрисанфу.
Хрисанф перекрыл дверь толстой доской и обухом топора принялся вбивать большие плотницкие гвозди длиной в полторы пяди. Никто из насмертников не сумеет отодрать такую доску и распахнуть дверь.
Церковь была полна народу. Детский плач, торопливый шёпот, кашель, молитвенный бубнёж и стоны сливались в сплошной гомон. Сквозь щели меж половицами уже курился дым, и всё вокруг заволакивала душная мгла. Авдоний расталкивал людей, пробираясь вглубь храма. Душа его вздувалась, как парус, в каком-то страшном вдохновении.
– Мы успели, братия! – голос его легко перекрывал шум. – Возлетаем! Корабль наш солдаты окружили – се беси! Они на главах рога прячут под мертвяковыми волосами! У них кафтаны куцые, дабы змеевитие хвостей не сковать! У них на стопах верзни аршинные, дабы копыта уместить! Они глаголят, как лают, а из пастей серный дым смердит! Обаче беси на ны не посягнути, ибо зде твердыня веры истинной, и не отвергнемся от нея!
– Надолго ли мука наша? – страдальчески спросила какая-то баба.
– Ненадолго, сестра! – широко улыбнулся Авдоний, будто ощерился. – Малый миг стерпи, и купно воспарим, как стая голубиц! Нам на небеси уже светы возожгли неизъяснимые, апостол Петр у райских врат ключами звенит, слышишь? – Авдоний наклонил голову, вглядываясь бабе в лицо. – Все на колена воздвигнитесь и молитесь! – закричал он, поворачиваясь направо и налево. – Сей час купель огненная на нас опрокинется, тягота земная от нас отыдет, дух возвеется, и вознесемся бестелесно в объятья божии!
Насмертники вокруг него опускались на колени, обнимая друг друга.
А снаружи Семён подобрал топор Пагиила и взлетел по лестнице на висячее крыльцо. Он толкнулся в дверь, чтобы убедиться – здесь заперто, и сразу обрушил топор на косяк, прорубаясь в церковь. Из-под двери полз дым, за досками слышались голоса – жуткие, будто из могилы. Рядом с Семёном уже не было места для другого человека, и три казака, чтобы не мешать, отступили вниз по лестнице, готовые броситься в храм, едва дверь упадёт.
У крыльца толпились служилые, вокруг церкви валялись избитые или убитые люди в саванах, из рук Леонтия вырывался парень в погребальном балахоне – Малахия, товарищ Леонтия по джунгарскому плену.
– Пусти меня! – выл он. – Пусти! Алёнушка моя! Меня забыли!..
Табберт смотрел, как Семён крушит дверь, и его пробрал озноб. Капитан Табберт нутром почувствовал, какой запредельный ужас сейчас запечатан в бревенчатой коробке церкви. Две стены её уже покрылись прозрачным бегучим огнём, а с третьей стороны от подножия храма из окошек подклета валил дым. Табберт снял треуголку и перекрестился дрогнувшей рукой.
Дым уже заполнил всю церковь изнутри; надрывались младенцы, в голос ревели дети. Авдоний прижимал к себе Епифанию, и она слышала, как у Авдония в груди что-то клокочет – то ли кашель, то ли смех. К Авдонию сквозь толпу пролез Хрисанф. Хватая кормчего за плечо, он проскрежетал:
– Внучеки мои ждут меня на небушке, я их вижу! – глаза у Хрисанфа налились кровью. – Скорблю токмо, что вертеп тобольский я не обрушил!
– Сам рухнет… – выдохнул Авдоний.
Хрисанф заглянул Авдонию в лицо, глаза у него были безумные.
– Тот вертеп – мой грех! Я за него долго сейчас умирать буду, пока до самых косточек не обуглюсь, и чашу страданий испью до дна!
– Отойди, брате!
Авдоний оттолкнул Хрисанфа, чтобы Епифания не слышала, но она слышала – и видела всё, что вокруг творится. Её колотило, и Авдоний сжимал её всё крепче. Из-под половиц вверх по бревенчатой стене вдруг плеснуло яркое пламя, освещая дощатый потолок, расчерченный длинными тяблами, и люди завопили, шарахнулись прочь от огня, в давке сшибая друг друга с ног. Завизжала и забилась девка, у которой затлели саван и коса.
– Больно вам?! – вдруг заорал Авдоний, подаваясь вперёд. – Больно?! Терпите, паскудники! Терпите, ироды! Это ваши грехи на душах обгорают!
Епифания уже не боялась умереть – ей страшно было увидеть, как люди вспыхнут заживо, но она не могла зажмуриться, не хватало сил. И огонь наконец прорвался. Всё вокруг мгновенно засияло, толпа повалилась, а над горой из людей Епифания вдруг увидела дьявола – огромного пламенного змея, который в бурлящем дыму выгибал и крутил кольца своего тела. У него была собачья голова с рогами, и он глянул прямо в душу Епифании.
В это время Семён нанёс последний удар топором, и дверь отскочила внутрь, но уткнулась во что-то мягкое. Семён упал на неё плечом, расширяя проход, и протиснулся в щель. Казаки с лестницы сунулись вслед за Семёном, но им навстречу из проёма двери попёрла вопящая толпа в саванах.
А в церкви были пекло, смятение и сплошной крик. Одна стена пылала до потолка. Люди метались, потеряв разум, роняли и топтали друг друга; бесновались, охваченные огнём, валились в шевелящиеся кучи, по которым ползли те, кто ещё мог двигаться. Семён расшвыривал насмертников с дороги, наступал на кого-то, задыхаясь, лез через упавших, как через живой бурелом. Он увидел Авдония. Авдоний стоял во весь рост и раскачивался в каком-то исступлённом упоении. У его коленей скорчилась Епифания.
– Ризою твоею облачи!.. – хрипел Авдоний. – Аллилуйя!.. Радуйся, Дево!.. Ключ от Царствия врат!.. Никакоже отыде!.. Бога невместимого!.. Приимя мя кающася!.. Ада победителю!.. Силою свыше!..
Семён за плечи дёрнул Епифанию к себе, но она ещё крепче вцепилась в колени Авдония. Тогда Семён ударил Авдония в лицо, однако тот не упал. Семён ещё раз ударил его, Авдоний покачнулся, и Семён оторвал от его ног Епифанию. Схватив за волосы, он поволок её к выходу. Авдоний остался стоять – он и не заметил, что Епифании рядом больше нет.
– Да низринется враг!.. – слышал Семён за собой сквозь вопли насмертников. – Крылия вознесенные!.. И пребуду вовеки!..
Теряя рассудок в дыму и зное, шатаясь и оступаясь, Семён не добрёл бы до двери, но откуда-то из мглы и бреда вдруг вынырнул Леонтий.
– Её возьми… её… – сипел пересохшим горлом Семён, переваливая на руки брата обвисшую Епифанию.
– Да что же ты за дурак, Сенька! – простонал Леонтий, принимая ношу.
Капитан Филипп Табберт фон Страленберг с площади наблюдал за этой русской гекатомбой в таком смятении чувств, какого не испытывал даже в битве под Полтавой. Война есть война, а тут – чудовищное извержение человеческого страдания, неукротимой веры и варварского самозверства. Конечно, он, швед, был здесь чужой, но он видел всё это своими глазами, и перед ним разверзлись такие глубины жизни сего народа, какие невозможно вообразить или измыслить. Если ему дорого христианское человеколюбие, он должен рассказать миру о своих открытиях. Конечно, эта история будет грозным предостережением от дикости нравов – но здесь, пред огнедышащей церковью, она вызывала в нём противоестественное восхищение.
Табберт смотрел, как его казаки и служилые вытаскивают людей из горящего храма – обожжённых, ополоумевших мужиков, баб и детей в обугленных лохмотьях. И у Табберта перехватило горло, когда он подумал, что, может быть, впервые в жизни видит, как одни люди спасают других, а не убивают их в сражении, не принуждают в работах и не обманывают на торжище. Ради такого духовного опыта стоило претерпеть лишения плена.
А потом крыша храма с пылающей главкой, затрещав, осела внутрь; вверх с гулом выдуло блистающее облако искр; освобождённый огонь взметнулся из сруба столбом и поглотил шатровый пик колокольни. На месте церкви ярился исполинский костёр, в котором таяли бревенчатые углы, сложенные в обло. В сыром осеннем воздухе, мешаясь с водяным паром, дым заклубился в непонятном гневном возмущении, и показалось, будто над пожарищем всплывает огромный невесомый парусник.
Глава 13
Степное чудовище
Разделённые десятью саженями пустого пространства, ворота редута и ворота ретраншемента глядели друг на друга. Днём их держали нараспашку для удобства коммуникации – проще говоря, чтобы солдаты и офицеры ходили из фортеции в фортецию без пароля на карауле. Воинское уложение требовало пропускать через затворённые ворота только с паролем, однако здесь, в степи, это не имело смысла – все были свои, и ворота не закрывали.
Кутаясь в епанчу, Ваня Демарин вошёл в редут. Курзон – внутренний двор, огороженный двумя куртинами-фланкадами и горжевой куртиной, – по размеру был не больше подворья Ремезовых в Тобольске. Барбеты на фланкадах белёсо курились – это канониры щётками сметали с орудий и боевых площадок тонкую и сухую ледяную пыль. Центр курзона занимала приземистая полуземлянка цейхгауза. На её плоской крыше и по всему курзону десяток солдат в одних камзолах лопатами сгребали снег в кучи и переваливали на волокуши; другие солдаты вручную вытаскивали волокуши в степь и опорожняли. На курзоне махал лопатой и Петька Ремезов.
– Как служба, Пётр? – заботливо и строго спросил Ваня.
Петька распрямился и улыбнулся. В походе он заматерел. Продёрскую его физиономию украшали противные реденькие усишки, а башку он брил у полкового цирюльника, чтобы не заводились вши. Глубоко напяленная треуголка оттопыривала красные от мороза уши.
– Да скукота, Ванька, – с весёлой досадой сказал он.
По отношению к Ване Петька так и не научился субординации. Для него Ваня всё равно оставался постояльцем, которого батька выгнал из дома.
– В транжементе хорошо. На зерцицах тоже здорово, только стрелять дают мало. А тут, в редуте, делать ни шиша нечего. Дай трубку курнуть.
В походе Петька чувствовал себя прекрасно. Ему всё было интересно: движение по реке, строительство укреплений, ружья, пистолеты, пушки, учения, байки старых солдат. На еду Петька сроду не обращал внимания – он и дома лопал всё, что дают; спать мог где попало, лишь бы не стоя; блохи – тьфу; командиры были не страшнее батьки, когда тот начинал орать.
– Гляжу, курить пристрастился? – спросил Ваня, хмурясь напоказ.
Ему приятно было ощущать себя бывалым и требовательным офицером, который опекает неопытного новобранца. Впрочем, он и без самолюбования чувствовал свою ответственность за Петьку. Петька оказался в армии из-за него, из-за Вани, и потому он должен следить за Петькой, хотя в попечении тот нуждался не больше, чем хитрый уличный пёс, шныряющий по ярмарке.
– Солдату курить положено, и в карауле греет, – заявил Петька.
– А что, мёрзнешь? – обеспокоился Ваня.
– Кто ж в степи зимой не мёрзнет?
– Как в ретраншементе будешь, зайди ко мне в казарму. Я тебе дам пуховый платок. Оберёшь вокруг тела под камзолом – тепло будет.
– Чей платок? – тотчас спросил Петька. – Машкин?
– Матушкин. Но твоя сестра просила беречь тебя.
– Машка дура, и ты дурак, – легко обобщил Петька.
Ваня молча полез под епанчу, достал трубку и кисет, натрусил табаку и умял пальцем. Петька лукаво наблюдал за ним.
– Принести от пушкарей огоньку, господин фицер? – спросил солдат, что махал лопатой поблизости, а сейчас остановился передохнуть.
Ваня знал, что солдата зовут Ерофей, а прозвище – Колоброд.
– Принеси, будь другом.
– А вы мне курнуть потом дадите.
– И мне тоже, – быстро сказал Петька.
– Не обижают тебя тут? – спросил Ваня, глядя вслед Ерофею, который направился к барбету. У канониров всегда теплились фитили в фитильниках.
– Да я сам кого хошь обижу.
Конечно, Петька не обидел его, но разбередил душевную рану. Ваня часто думал о Маше Ремезовой, хотя старался не думать. Он убеждал себя, что всё в прошлом. Да, единый раз дал себе волю, склонился к девице, но всё напрасно. Ей не такие нужны. Он – воин. Он ушёл в поход отвергнутый, отринутый, и вот он далеко-далеко от Тобольска, в снежных степях, и где-то рыщут орды. Но он защитит ту девицу, быть может, погибнет, исполнив долг чести, а она пускай никогда не узнает об этом; в том и слава, в том и горечь.
Ерофей вернулся, оберегая в ладонях тлеющий обрывочек фитиля. Ваня раскурил табак, выдохнул дым и протянул трубку Ерофею.
– Дядя Ерофей научил меня саблю у врага из руки выбивать, – сказал Петька. – Доставай свою саблю, Ванька, я покажу. Считай, что лопата у меня – это ружьё с багинетом.
Петька схватил лопату и встал в стойку, нацелясь на Ваню.
– Локоть повыше, Петька, – посоветовал Ерофей, пуская дым.
– Не будем ребячиться, Пётр, – с достоинством ответил Ваня. – И без того твою выучку увижу, если доведётся в бой пойти.
– Да какой тут бой, Ванька! – разочарованно вздохнул Петька, втыкая лопату в снег. – Я-то обрадовался, когда степняки явились. Думал, война начнётся! А они сэргэ вкопали и засели у себя в юртах, как барсуки, тарасун свой лакают из плошек. Так всю зимовку и прокукуем в транжементе! Даже не дадут пальнуть во врага!
Ваню тоже огорчало, что военных действий не ожидалось.
– Я попрошу майора Шторбена, чтобы принял тебя в ночной драгунский караул, – пообещал Ваня. – Почувствуешь хребтом, что значит боевая опаска. Она, Петя, вовсе не щекотит.
За куртиной, где-то в ретраншементе, вдруг раздался отдалённый треск барабана. В редуте все замерли, бросив работу и прислушиваясь к сигналу.
– «Го-род бе-ре-ги, И-лья-про-рок»! – прошептал Петька барабанную речёвку, которую придумал сам, а сейчас знало всё войско. – Тревога!
Из цейхгауза поспешно выбрался офицер, придерживая треуголку.
– По местам! – закричал он. – Всем построение!
– Ладно, братцы, мне пора, – заторопился Ваня.
Ерофей Колоброд ещё раз пыхнул трубкой и протянул её Ване.
– Эх, не дали покурить толком, ироды.
Ваня побежал к воротам, возле которых засуетились караульные.
Джунгары появились в окрестностях ретраншемента пять дней назад. Орда пришла из Доржинкита – больше неоткуда. Всадники со сменой лошадей, навьюченные верблюды, волокуши с поклажей, санные кибитки, овечья отара на прокорм… Высланный из ретраншемента дозор подсчитал, что степняков около трёх тысяч – немногим больше войска Бухгольца. С такими малыми силами нельзя атаковать крепость, вооружённую пушками, окружённую рвами, с рогатками на подступах, да ещё когда неоднократно облитые водой откосы куртин и бастионов покрыты льдом.
Джунгары обосновались за день: словно ниоткуда появились юрты, ограды для табунов и скота и сэргэ – вкопанные столбы-коновязи. Если степняки ставили прочные резные сэргэ, значит, они хотели остановиться на этом месте надолго. Лагерь степняков назывался юргой. От транжемента до юрги было четыре версты пустой и заснеженной декабрьской степи.
Майор Шторбен с караулом и какой-то тайша с каанарами встретились ровно посередине пути между ретраншементом и юргой. Майор заверил, что русское войско идёт в Яркенд мирной гишпедицией. Тайша удивился, словно в первый раз слышал об этом, но его убедили подарки – сукна, золочёные сабли и сёдла. Парламентёры разъехались, а на другой день съехались вновь. Великий зайсанг Онхудай решил поверить орысам и захотел прибыть в гости в русскую крепость. Надо было договориться о заложниках. Свою персону зайсанг оценил в десять старших офицеров. Полковник Бухгольц согласился. На рассвете назначенного дня майор Шторбен возглавил делегацию офицеров, и вот теперь из степи ехала к ретраншементу делегация джунгар.
Гарнизон, поднятый по тревоге, разглядывал степняков. Штык-юнкер Ренат стоял на бастионе возле своего орудия и хорошо видел джунгар сверху. Они показались ему мохнатыми пауками: растопыренные, в треухих волчьих малахаях, в чёрной кожаной броне, отороченной мехом, с длинными пиками, саблями, луками и щетинистыми колчанами стрел.
Поручик Демарин нёс службу у раскрытых ворот ретраншемента. Мимо него надменно проплыл грузный зайсанг Онхудай. Ваня рассчитывал увидеть в зайсанге пугающего величием степного вождя, но увидел свинорожего мужика с узкими глазами; монгольские усы и бородка тонкой чёрной нитью окольцевали презрительно изогнутый жирный рот; накладные кожаные латы топорщились, как шишка.
Зайсанг и четверо его тайшей спешились и спустились в землянку полковника Бухгольца. Бухгольц ожидал степняка со старшими офицерами из тех, кто остался после ухода заложников Шторбена: со старым майором Ионовым и капитанами Торекуловым, Ожаровским и Рыбиным. Каанары зайсанга тоже спешились и молча уселись у входа в землянку на корточки. И больше ничего не произошло. Через час офицеры скомандовали отбой, и ретраншемент продолжил жить обыденной жизнью со сменой караулов, экзерцициями на плацу и прочими привычными делами.
Короткий декабрьский день прогорал быстро, будто ворох хвороста. Холодное красное солнце коснулось горизонта, окрасив снежные равнины широким алым разливом. Приземистые бастионы отбросили длинные синие тени, словно были высокими, как лес. Дверь землянки Бухгольца наконец-то отворилась: переговоры завершились. Офицеры и джунгары выбирались наружу. Каанары зайсанга вскочили на ноги. К землянке направился поручик Каландер – дежурный по гарнизону; за ним торопились вестовые.
Бухгольц глубоко вдохнул свежий воздух – вся его землянка провоняла кислятиной кожаных одежд степняков. Полковник устал от недоверчивости и подозрительности зайсанга Онхудая. Он чувствовал, что ни в чём не убедил джунгарина, хотя честно рассказал о целях и сроках гишпедиции. Впрочем, это было ожидаемо. Для европейца война – когда армия идёт против армии, и вторжение двух полков есть куриоз, а не баталия держав. Но дикие степняки могут драться улусом против улуса, и для них оное означает войну народов. Бухгольц вспоминал слова тобольского архитектона: в степи свой закон.
Зайсанг Онхудай не спеша вышел на улочку ретраншемента, которая соединяла плац и ворота, и остановился, важно выпятив живот. Бухгольц, внутренне сокрушаясь, последовал за степняком: так на выпасе баба ходит за стельной коровой, которая ищет место, чтобы лечь и отелиться. Офицеры и джунгары пошли вслед за командирами. Онхудай заложил руки за спину, левой ладонью обхватив правое запястье. Джунгары понимали: так делает лишь тот, кто в роду главный. К закрытым воротам ретраншемента подъехал отряд из дюжины конных драгун, укутанных в кавалерийские тулупы. Караульные солдаты оттащили с пути отряда широкие рогатки и отволокли одну створку. Драгуны друг за другом выехали из крепости.
– Куда отправились твои унасаны? – спросил Онхудай у Бухгольца.
– Сие смена дозора. Всю ночь вкруг фортеции движимы разъезды.
– Ты боязливый, а я смелый, – с презрением сообщил Онхудай. – Ты покажешь мне свои стены и пушки?
– Изволь, любезный, – сквозь зубы согласился Бухгольц.
Онхудай не сомневался, что этот орыс, зайсанг орысов, ему солгал. Ведь он убил каанара Бямбадоржа, а говорит, будто принял его с честью как гостя и отправил с ним послание в Доржинкит. Куда же подевался Бямбадорж?
И не может быть, чтобы войско орысов шло в Яркенд за золотом. Все знают, что золота в Яркенде нет. Если бы оно там имелось, его непременно добывали бы китайцы, пока Яркенд принадлежал богдыхану, да и сейчас на речках под Мустыгом трудились бы невольники контайши Цэван-Рабдана. Однако орыс очень хочет, чтобы он, великий зайсанг Онхудай, поверил в сказку о золоте и мирном походе. Что ж, из желания орыса надо извлечь выгоду, пока сюда не пришёл с войском грозный нойон Цэрэн Дондоб.
Направляясь к куртине, Онхудай и Бухгольц шагали рядом.
– Ты сказал, что ты мой друг, но ты не уважаешь меня, – надменно заявил Онхудай. – Ты не снял саблю, когда говорил со мной в подземном доме, и не подавал мне вина двумя руками в пиале с золотом.
– Я не знаю ваших обычаев, зайсанг, – не скрывая неудовольствия, ответил Бухгольц. – Если бы знал, сделал, как указует обычай.
– На Ямыш-озере надо обмениваться аманатами.
Аманаты Онхудаю были не нужны, но ему хотелось унизить орыса.
– Нет, я не дам тебе заложников, – сухо ответил Бухгольц.
Достаточно того, что он подверг опасности офицеров во главе с майором Шторбеном, которые сейчас в юрге дожидаются возвращения этого борова.
– Значит, ты не хочешь мира со мной.
– Моё войско сильнее твоего, но я не атаковал тебя, – сдерживаясь, сказал Бухгольц. – Сие знак, что мы идём в степь с дружелюбием.
Для Онхудая это означало только то, что зайсанг орысов – глупец. Не стоило ему надеяться обмануть такого мудрого воина, как зайсанг Онхудай. Надо было напасть подобно ястребу, пока для орысов не потеряна возможность сразиться с равными силами, ведь скоро на Ямыш придёт большое войско, и преимущество окажется у джунгар. Неужели зайсанг орысов полагал, что хозяева степей просто так пропустят его к Яркенду?
Ещё две луны тому назад Онхудай послал гонца-элчи в Кульджу, где контайша Цэван-Рабдан и нойон Цэрэн Дондоб, главный полководец Цэвана, собирали войска для похода на Лхасу. Вернувшись, элчи рассказал, как разгневались контайша и нойон, узнав о вторжении орысов. Нойон передал Онхудаю, что сам придёт на Ямыш и разрешит судьбу орысов. Конечно, зайсанг Онхудай, великий воин, легко мог уничтожить пришельцев и без нойона, приняв на себя всю славу победы, однако нельзя было не оповестить контайшу. Они, ойраты, казнили смертью только за два преступления: если бросил в бою командира и если не сообщил о приближении врага. Так постановили великие предки на чуулгане под Тарбагатаем.
Онхудай и Бухгольц поднялись на бастион, занятый батареей Рената. Три орудия на колёсных лафетах были нацелены в амбразуры между фашин. Из лафетов торчали концы гандшпигов, наживлённых, но не вбитых глубоко. Вокруг каждой пушки стояли ящики с различными снарядами, накрытыми жестяными колпаками, и вёдра. К брустверам были прислонены длинные банники, прибойники, шуфлы и трещотки. Тихо дымили фитильницы.
– Во фрунт! – скомандовал артиллеристам офицер.
Артиллеристы вытянулись перед Бухгольцем – унтеры, штык-юнкеры, канониры и зарядные. Ренат угрюмо разглядывал Онхудая.
– Сколько у тебя воинов? – спросил степняк у Бухгольца.
– Я не скажу.
– Ты мне не доверяешь.
– Я же пустил тебя в ретраншемент, зайсанг, – Бухгольцу уже надоело убеждать упрямого степняка. – Ты видишь мою оборону. Это доверие.
Онхудай подошёл к пушке и поласкал её, как лошадь: подержал в ладони округлую торель, погладил герб на казённике, подёргал за скобы-дельфины на вертлюжной части, ощупал цапфы.
– Если ты мой друг, сделай мне подарок.
– Что тебе подарить? – вздохнул Бухгольц.
– Пушку.
– Нет, – твёрдо ответил Бухгольц.
Вдруг сигнальщик на бастионе затрубил в рожок.
– Тревога! – негромко крикнул командир батареи. – Господин полковник, отойдите в сторонку с этими… э-э… Картечь готовь!
Артиллеристы бросились по своим местам: кто-то выдёргивал пробки из стволов, кто-то хватал банник, кто-то склонился над зарядным ящиком. Ренат знал, что тревога не настоящая. Тревогу объявляли всегда, когда из степи возвращался дозор, – до тех пор, пока не станет различим звук барабана у дозорных. Но, действуя по уставу, Ренат вынул из подсумка медный прицел-полудиск с прорезью и насадил его на ствол пушки, а потом опустился на правое колено, как требовалось для прицеливания, ощутив сквозь кожаную крагу холод барбета. Канонир с молотком изготовился по команде Рената стучать по гандшпигам, изменяя наклон ствола. Онхудай оторопел, увидев столь быстрые, сложные и слаженные приготовления. Бухгольц усмехнулся.
Издалека долетел треск барабана. Дозорный бил артикул «шагом марш».
– Отбой тревоге! – сразу приказал командир.
Онхудай шагнул к узкой фузелёрной амбразуре и посмотрел наружу.
– Ты убрал охрану из степи? – спросил он у Бухгольца.
– Нет. Это возвращается смена.
Онхудай пронаблюдал, как драгуны проехали мимо бастиона и скрылись в тени редута. Донеслись голоса караульных, которые открывали ворота.
– Я ухожу! – решил Онхудай. – Высылай эмчи, чтобы в югре отпустили твоих людей.
– Тарабукин, Ожаровского ко мне! – приказал Бухгольц ординарцу.
– Ты плохой друг, – зло сказал Онхудай. – Ты ничего мне не подарил.
Ренат почувствовал, что пайцза под одеждой на его груди словно потяжелела. Пайцзу надо отдать вот этому отвратительному степняку. Ренат мрачно смотрел вслед Онхудаю, уходящему с бастиона. Неужели такому чудовищу он должен вверить не только свою жизнь, но и жизнь Бригитты?
Часть вторая
Ярость в снегах
Глава 1
Обоз
Петра Лексеича в ту осень в Петербурге не оказалось – он ушёл в море на воинском фрегате, и слава богу: без него дела делались быстрее. Главной семейной заботой Матвея Петровича в столице была свадьба сына Лёшки. Сей прохвост не хотел жениться, и Матвей Петрович ещё из Сибири пугнул его страшным письмом, в котором обещал лишить наследства; Лёшка, согнув выю, побрёл под венец с Анькой Шафировой, дочкой барона Петра Палыча, вице-канцлера. Государь ценил Шафирова за умение со всеми договориться и всему найти такое обоснование, при коем он, Пётр Лексеич, – спаситель мира и отечества. Матвей Петрович был доволен тем, что упрочил свою персону при государе. И Шафиров тоже был доволен, потому что он, холопий сын и смоленский жидовин, породнился с Рюриковичами.
Дале Матвей Петрович взялся за Правительствующий Сенат. В Сенате ожидало суда и вердикта длинное доношение обер-фискала Нестерова на губернатора Гагарина: ворует, мол, обеими руками, не зная меры. Господа сенаторы тайно ненавидели обер-фискала, но были сокрушены духом – все, кроме боярина Тихона Стрешнёва, который когда-то вытащил Нестерова из запечья на свет и ныне уповал на его благодарность. В Сенате Нестеров уже свалил князя Григорья Волконского и боярина Василья Апухтина: полгода назад по розыскам обер-фискала царь велел их казнить, но в последний миг заменил плаху обрезанием языков. Не считая Стрешнёва, сенаторов осталось всего шестеро. Граф Мусин-Пушкин приходился Матвею Петровичу своим человеком, почти роднёй: их связывало общее отцовское горе. Князь Долгоруков имел свою прибыль в китайских караванах. Князь Голицын слыл дураком. Ему и трём другим сенаторам Матвей Петрович отправил дорогие подарки – собольи шубы и шкатулки с червонцами, а в Сенате выложил на стол окладные, доходные и ясачные книги своей губернии. Пусть секретари сверят: у князя Гагарина казённому интересу ущерба нет, а доносы фискала – изветы и поклёпы. Матвей Петрович нашептал сенаторам: судите, как оно вам надобно, судари, ибо жаловаться на ваш суд Нестеров не сможет; царь запретил жаловаться на Сенат под угрозой петли, и Нестеров утрётся. И сенаторы постановили: князя Гагарина от облыжных обвинений избавить.
В Питербурхе Матвей Петрович поимел приват с канцлером графом Гаврилой Иванычем Головкиным: Ванька, сын Гаврилы Иваныча, был женат на Дашке, дочери Матвея Петровича, и князь Гаврюшка, любимый внук князя Гагарина, был назван в честь деда по отцу. Гаврила Иваныч, мудрый и спокойный, сказал Матвею Петровичу:
– Потерпи, свояк. Не навеки фискал. Он за яблочками до верхних веток тянется, а лесенка у него зыбкая. Придёт час – и дерзкий сверзится.
Успокоенный, Матвей Петрович поспешил в Москву.
Он рассчитался с купцами Евреиновыми, которые торговали в Сибири табаком и держали таможни, и условился о товарах с купцом Истопниковым, который готовил новый китайский караван. Матвей Петрович торопливо съездил в Сенницы – родовое имение, где со старшим братом Иваном он построил Вознесенскую церковь. Иван, царство ему небесное, и лежал под приделом этого храма. Матвей Петрович поставил свечи и поплакал о брате, вспоминая, как на иркутском воеводстве они срывались на Байкал порыбачить.
В Успенском соборе кремля Матвей Петрович смотрел на хиротонию владыки Филофея. Службу вёл сам отец Стефан Яворский, местоблюститель патриаршего престола. Он возложил Евангелие на главу владыки, возвращая всю полноту апостольской власти. Филофей вновь стал митрополитом.
Матвей Петрович даже опасался верить своей судьбе – пробовал её, как первый тонкий лёд: выдержит ли? И судьба держала. У него всё получалось: обвинения сняты, сын женат, Филофей – рядом, губерния зажата в кулаке, и в Москве собирается новый караван в Китай… Нет пока известий от войска Бухгольца, но в полковнике Матвей Петрович не сомневался. Бухгольц не избежит западни, всё равно попадётся, потому что он прямой и негнущийся, как оглобля. Словом, надо продолжать то, что задумано, – надо снаряжать обоз для Бухгольца, в котором к своему кавалеру-любовнику поедет эта шведская раскрасавица. И с ними исчезнут последние улики.
Обоз состоял из двух частей – воинской и купеческой. В огромной Сибири всё делалось медленно; Бухгольц уже вышел в поход, а в Тобольск ещё прибывали рекруты, повёрстанные по призыву губернатора в Иркутске, Якутске и Селенгинске. Матвей Петрович приказал обучить их и отправить вдогонку Бухгольцу. Наскреблось семь сотен новых солдат. Командиром этому воинству Гагарин назначил полуполковника Прокофия Ступина – больше было уже некого, не Ваську же Чередова вытаскивать из запоя.
Ступин должен был выйти, когда замёрзший Иртыш окрепнет. Каждый день Матвей Петрович навещал Военное присутствие и требовал от Ступина отчитаться о наличном состоянии солдатского обоза.
– Ты ведь меня знаешь, Матвей Петрович, – обижался Ступин. – Я тебе не Карпушка Бибиков, упокой, господи, его душу. Я казённые припасы на чужую сторону никогда не продавал.
– Не скули, показывай по описи. Дьякам я не верю, всё сам посмотрю. Бухгольцу в степи каждая пуля как золотая.
Матвей Петрович ничуть не лукавил. Обоз он собирал честно. Это было ему выгодно. Чем изобильнее он снабдит Бухгольца, тем ожесточённее тот будет сражаться с джунгарами. А чем жарче будут сражения, тем лучше он, Матвей Петрович, исполнит свои обещания, данные Тулишэню.
Загруженные поклажей и увязанные сани загромождали весь двор Военного присутствия. Без Бухгольца прежний строгий порядок утратился; сани стояли как попало. Всюду ходили солдаты и работники – таскали туда-сюда тюки, толкались, что-то теряли и с руганью разыскивали. Ступин и Матвей Петрович протискивались меж саней; Ступин отворачивал рогожи.
– Вот ядра трёхфунтовые половинчатые, – сверяясь с бумагой, пояснял полуполковник, тыча пальцем в короба с нумерами. – Вот двухфунтовые. Вот пистолеты в ящиках – триста пар. Вот мушкетные стволы в связках.
– Сколько?
– Считай, двадцать связок по дюжине.
– А полозья-то выдержат?
– Выдержат, я велел обозникам дополнительные копылья вбить… Вот мешки с чугунной дробью пятилотовой, по пуду каждый. Вот железная дробь, рубленная жеребьями. Далее смотри. Сто лядунок. Колёса храповые. Ящики с кремнями. Здесь верёвок просмолённых двадцать буртов. Двести конских попон. Скобы. Там – дощаничные припасы. В бочонках – смола. В кулях – пороховые картузы, есть по три мерки, есть по четыре.
– А где аптека? – как бы невзначай спросил Матвей Петрович.
– Вон баба принимает, – Ступин указал под навес летнего стойла.
Аптекой занималась Бригитта. Она бережно раскладывала в два сундука на санях какие-то мешочки и горшочки, доставленные в берестяных ларях.
– Здорова будь, кошка-бабочка, – заходя под навес, сказал Бригитте Матвей Петрович и незаметно подмигнул. – Прокофий, какого пса ты её на аптеку взял? Она же по-русски еле кумекает.
– Я говорить по-русски, – с достоинством возразила Бригитта.
– Она у шведов аптеку покупала, у вольдермана, – пояснил Ступин. – С ним по-ихнему говорить надо было.
Матвей Петрович сам попросил фон Вреха отрядить Бригитту вместе с обозом, но полуполковнику об этом знать было ни к чему.
– Ну, растолкуй тогда, что тут у тебя, – предложил Бригитте Гагарин.
– Это есть честнок от скорбут, – послушно начала показывать Бригитта. – Это чиповник. Варительный капуст в квасе от раненый гниль. Тереть хрен. Тщавель. Зверобой. Тщистотел. Сок полиыни.
– Ладно-ладно, – оборвал Матвей Петрович. – А муж при тебе?
– Мой солдат, – кивнул Ступин.
– До хмельного его не допускай. Он запойный.
– Запьёт – повешу.
– Ежели через неделю выйдете, когда думаешь у Ямыша быть?
– Через три месяца.
– А чего так долго? – удивился Матвей Петрович.
– Чем больше обоз, тем дольше провоз. Прикажи купцам от моего войска отцепиться, и быстрее поспею. Их шесть сотен человек – небось, сами себе защита. И без солдат не пропадут.
Вторую половину обоза составляли купцы с товарами. Они сами прилипли к Матвею Петровичу: возьми да возьми. Причина была в том, что с воинским обозом князь Гагарин отправлял казну – жалованье солдатам и офицерам. Ушлые купцы хотели там же, у крепости, устроить торг. Солдаты расхватают любые товары. Ради этой выгоды купцам не лень было тащиться за полторы тысячи вёрст. Матвей Петрович махнул на купцов рукой.
– Ладно, не ворчи, – сказал он Ступину. – С купцов тоже польза есть.
В Тобольске в торговом обороте вечно не хватало медной монеты, и купцы вернут солдатские деньги обратно в город.
Матвей Петрович издалека увидел, что на дворе Военного присутствия появился Ходжа Касым в толстом стёганом халате и в меховой шапке. Он пробрался между саней и работников и поклонился Матвею Петровичу.
– Дозволит ли мой господин поехать в его обозе и мне? – спросил он.
– А куда ты навострился, Касымка? – добродушно поинтересовался Гагарин. – Хочешь в воинской крепости лавку с коврами открыть?
– Нет, мой господин, – Касым ещё раз поклонился. – Я еду без товара. Хочу попасть в Кашгар к брату Юсуфу по торговым делам. С твоим обозом я хотя бы половину пути буду в безопасности. Я заплачу за твою милость.
– Ну, езжай, коли каждому солдату по кисету табака дашь, – хмыкнул Матвей Петрович.
– Семьсот кисетов? – против воли изумился Касым. – Это очень дорого!
– Тогда дуй в Кашгару в одиночку и кури свой табак сам.
– Один я погибну, ведь у нас война со степняками!
– Не бреши, нету никакой войны! – мгновенно разозлился Гагарин.
Касым спохватился, что сказал лишнее.
– Не гневайся, мой господин! – он согнулся ещё ниже. – Я уже согласен дать твоим солдатам табак! Я глупец!
Матвей Петрович недоверчиво оглядел Касыма с головы до ног.
– Ох, боюсь, это я глупец, – признался он. – Пускаю козла в огород.
Касым попятился, чтобы Гагарин не взял обратно своё разрешение.
Он еле удерживал себя в смирении перед губернатором. Каждое слово и каждое движение Гагарина казалось Касыму воплощением зла и разжигало ненависть. Касым шагал в Бухарскую слободу так широко, так стремительно, что верный Сайфутдин еле поспевал за ним. Что ж, пускай губернатор пока наслаждается своим непрочным счастьем, пускай торжествует. Его радость протечёт сквозь пальцы. Ходжа Касым умеет сдержать нафс – свои тёмные страсти, коими человек единоприроден с джиннами; значит, он всё равно одержит победу над тем, кто утратил зоркость духа, любуясь собой в зеркале удачи. Не зря Пророк предостерегает тех, кто возвысился: «Не криви лица своего пред людьми и не ходи по земле горделиво…»
Касым успокаивал себя намазом и дополнительной молитвой. Низкие поклоны-суджуды и божественные слова аятов гасили пламя его гнева, и он поднимался с молитвенного коврика с благодарностью в сердце, ибо предел его испытаний был очевиден и не слишком далёк. Китайская пайцза, без сомнения, окажется у зайсанга Онхудая, ведь Онхудай – хозяин Доржинкита: это он придёт к крепости Бухгольца, получит пайцзу из рук перебежчика и потом нападёт на русских. Касым поедет с обозом – конечно, не в Кашгар к Юсуфу, а на Ямыш-озеро к Онхудаю; он отыщет зайсанга и выкупит у него пайцзу, как мудро посоветовала Назифа. А пайцза – это жизнь Гагарина. И тогда Гагарин ответит за все свои бесчинства.
В безвыходной ярости и в напряжении ожиданий единственной отрадой для Ходжи Касыма была Хамуна. Каждый вечер Сулу-бике мыла её горячей водой и умащала аргановым маслом, а Назифа расчёсывала её чёрные волосы и заплетала два десятка косичек с бисерными нитями жамалак. Назифа уже давно перестала при этом дёргать Хамуну за пряди и причинять боль – всё равно эта бесчувственная дикарка не вскрикивала и не плакала. Назифа приводила Хамуну к ложу с балдахином, провожала мужа за полог и сидела на скамеечке, глядя в огонь светильника и размышляя о своей судьбе.
Когда-то и она скидывала одежды и уединялась с мужем, а сейчас её место – скамеечка перед ложем, хотя тело у неё ещё упругое и свежее, и оно не меньше, чем в юности, томится по ласкам любимого мужчины. Годы не победили её – они победили мужа. На пороге осени мужчина хочет ощутить весну, как будто чужое цветение способно остановить собственное увядание. Нельзя корить мужа за желание жить. Хотя это очень горько. Можно покорно испить эту горечь, если любишь мужа так, как она, Назифа, любит Касыма, можно принести себя в жертву… но не Хамуне! Назифа слышала всё, что происходило за пологом. Слышала тяжёлое дыхание Касыма и хриплый рык его наслаждения – но не слышала Хамуну. Юная любовница должна стонать, метаться, выкрикивать имя возлюбленного, и перед такой страстью мудрая и верная жена должна отступить, скрыв лицо в тени. Но Хамуна молчала. Молчала как земля, как могильная плита. И Назифа ненавидела эту дикарку за то, что Касым растрачивает остатки своего пламени на ту, что не способна понять и почтить последнюю яростную песню мужчины.
А Касым видел то, чего не видела Назифа. Он знал женщин, которые не хотели отдавать себя: они бились и сопротивлялись, а потом, сломленные, смирялись, или же терпели, сжав зубы, и ждали, когда мужчина насытится. В конце концов они покорялись своей участи, и женская природа необоримо отзывалась наслаждением. Но с Хамуной всё происходило иначе. В тот миг, когда женщина теряет волю, растворяясь в своём естестве, Хамуна просто исчезала, уплывала, ускользала. Её душа переносилась неведомо куда, и тело словно засыпало, ибо огненный джинн страсти входит в душу, а не в тело.




















