Читать онлайн Справедливый приговор. Дела убийц, злодеев и праведников самого знаменитого адвоката России бесплатно
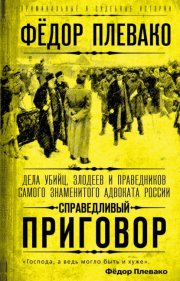
Дело В. А. Лукашевича, обвиняемого в убийстве мачехи
Заседание Екатеринославского суда с участием присяжных заседателей в г. Екатеринославе 7-го и 8-го февраля 1880 г. под председательством Товарища Председателя А. И. Лескова.
Обвинял Товарищ Прокурора И. Д. Ревуцкий, защищал Ф. Н. Плевако.
В ночь на 25 октября 1878 г. отставной ротмистр Николай Александрович Лукашевич, в имении своего отца, дер. Лукашевке, Екатеринославской губ., несколькими выстрелами из револьвера убил свою мачеху Фанни Владимировну Лукашевич.
Фанни Владимировна была второй женою А. П. Лукашевича, у которого от первого брака было два взрослых сына – Николай и Леонид.
Вскоре после того, как Ф. В. вошла в дом Лукашевичей, в нем начинаются ссоры, и отношения всех членов семьи обостряются; старший сын Николай, к которому она относится особенно враждебно, молча сносит ее обиды; младший – Леонид – покидает Лукашевку и поселяется в Екатеринославе.
Семейная жизнь Лукашевичей с каждым днем ухудшается, и незадолго до события 25 октября 1878 г. Ф. В. покидает мужа и переезжает в Екатеринослав.
По причинам, по делу невыясненным, Леонид Александрович Лукашевич кончает жизнь самоубийством, Николай Александрович уже не в состоянии спокойно говорить о мачехе: он подозревает ее в любовной связи с погибшим братом. Самоубийство брата постоянно волнует Николая Александровича и служит всегдашней темой разговоров в Лукашевке.
В ночь на 25 октября 1878 г. в доме Лукашевичей были отец с сыном и поздно засидевшийся у них в гостях арендатор их имения Авраменко; беседа вращалась около смерти младшего Лукашевича.
Ненависть к Ф.В. и раздражение против нее Николая Александровича доходят до крайних пределов.
Вдруг поздно ночью приезжает в Лукашевку Ф. В. для объяснений с мужем. Александр Петрович старается ее удалить и предупредить встречу ее с сыном, но это ему не удается. Несколькими выстрелами из-за спины отца в мачеху Николай Александрович ее убивает.
Приглашенному врачу пришлось лишь констатировать смерть Ф. В.; вскрытием трупа установлено, что Ф. В. в момент убийства была беременна.
Николай Александрович Лукашевич обвинялся по ч. I ст. 1455 Уложения о Наказаниях, т. е. в умышленном убийстве.
Вердиктом присяжных заседателей Н. А. Лукашевич признан совершившим убийство в припадке умоисступления.
Суд постановил: считать подсудимого оправданным по суду и, согласно ст. 96 Уложения о Наказаниях, отдать его родителям или благонадежным родственникам на попечение, с обязательством иметь за ним тщательное наблюдение.
Речь в защиту Н. А. Лукашевича
Вы, вероятно, помните, гг. присяжные заседатели, что в конце обвинительного акта говорится о том, какое вы будете дело рассматривать, о каком преступлении идет речь, что там вам прочитали статью 1455. Если вы обратитесь к Уложению и посмотрите, что собственно в I части 1455 ст. заключается, какое там преступление имеется в виду, то увидите страшные слова «умышленное убийство».
Мы полагали, что с этим обвинением нам бороться не придется, и после судебного следствия, по-видимому, с этой стороны для нас был выигрыш дела.
Но только что произнесенная прокурором речь закончена тем же обвинением – обвинением в умышленном убийстве.
Конечно, для того, чтобы судить, насколько данные обвинения подготовляют к подобному приговору, надо выяснить, что за деяние, в котором обвиняют нас? Нет ли в этом отношении между нами какого-нибудь разномыслия?
Но относительно умышленного убийства ни у одного народа не было разномыслия. Умышленное убийство – это самое страшное зло, на какое только способна злая воля человека, умышленного убийцы. Я не знаю такого заблуждающегося века, я не знаю такого заблуждающегося человечества или отдельного народа, где бы на умышленного убийцу смотрели иначе. На него везде идет гнев законодателя, раздражение общества, строгий приговор суда.
И совершенно понятно. Ведь умышленный убийца – это человек, который умеет заставить в себе замолчать то естественное чувство отвращения, которое возбуждается у человека при мысли о крови, о страданиях, о смерти. Ведь умышленный убийца – это человек, которому ничего не значат стоны, просьбы и мольбы жертвы, которую он разит. Умышленный убийца – это человек, которому ничего не значит разбить те скрижали, которые имеются в сердце всякого человека и на которых написано: «не убий». Поэтому нет выше кары, как кара, преследующая подобное деяние, нет выше зла, как зло – умышленное убийство.
Но ввиду этого законодатель, суд и тысячелетняя мудрость веков давно уже выработали положение в виде математической истины, не допускающей никакого возражения, что не всякое убийство следует считать умышленным убийством, что между убийством умышленным и убийством при других условиях может быть величайшая разница, и законодатель отвел для другого убийства название запальчивого.
Запальчивое убийство – другое дело. Здесь человек не имеет времени побороться с нравственными запросами, которые мешают ему исполнить известное зло. Запальчивое убийство необыкновенно быстро появляется, мысль необыкновенно быстро переходит в действие, так сказать, разум и совесть не успевают догнать той решимости, сила которой вызывается причинами, не всегда лежащими в самом подсудимом. В самом поступке запальчивого убийцы видно бывает, от каких причин произошло убийство: произошло ли оно от внешних причин – страха, ужаса, или от причин внутренних – мести, ревности и т. п.
Мало того, запальчивым убийцею иногда бывает человек, который вовремя не мог остеречься от того зла, на которое нечаянно напал. Здесь возможны даже мотивы нравственные, мотивы похвальные. Нередко убийство совершают ввиду того, что человек раздражен силою неправды тех, против которых убийца в минуту запальчивости направляет свою преступную руку.
Многие страны, которые опередили нас своим юридическим опытом, страны, которые более нас имели примеров, более думали над вопросами права, давно выработали у себя образцовый суд, которым мы владеем только несколько лет, – многие страны с давнего времени признали между этими двумя родами убийства такую разницу, что эти два преступления существенно отделены одно от другого. В то время, когда первое рассматривается как тяжкое преступление и суд над умышленным убийцею совершается при помощи представителей общественной совести, которые всегда призываются в самых важных делах, – запальчивые преступления во многих странах рассматриваются как такие деяния, которые не колеблят сильно общественный порядок; этого рода дела разрешают судьи в малом составе, потому что здесь нет уже такой кары, которая идет на преступника умышленного.
Наш закон в этом отношении составляет некоторое исключение. Правда, и он уступил требованиям справедливости: наш закон смотрит на запальчивое убийство, как на такое преступление, которое наказывается слабее; этот род убийства рассматривается как преступление низшего порядка. Но эта разница не выражена в такой существенной форме, как это сделано в других странах. У нас запальчивых убийц приводят сюда, рассматривают вопрос об их участи при вашем участии, а вы, гг. присяжные заседатели, уже по опыту знаете, что вас призывают на дела самые важные: где одни коронные судьи затрудняются разрешить вопрос о виновности, там законодатель призывает на помощь голос общественной совести.
Объяснить подобного рода аномалию в нашем уголовном процессе очень легко: наше Уложение отстало от нашего процесса. В то время, как мы пользуемся теперь судом самой последней выработки, судом, который может поспорить с судебными учреждениями стран более культурных, наше Уложение на несколько лет старее.
Но старость не везде достойна уважения. В нашем Уложении еще осталось много такого, что не подходит к требованиям науки и нуждается в усиленной работе серьезной мысли. Наше Уложение написано в то время, когда о новых судебных учреждениях не было и помину, когда судебный процесс составлял канцелярское производство, от которого общество было совершенно удалено; когда судебные дела решались руками, слишком не подготовленными, когда, по русской пословице, работа делалась топором там, где нужен искусный резец. В то время учение такого рода, которое бы различало убийства умышленное и запальчивое, умело бы отнести данное деяние к той или другой категории, – такое учение казалось не под силу, – не под силу тем, кто редактировал Уложение и творил суд и расправу.
Вот почему законодатель дал несколько более общую форму понятию о запальчивом убийстве и не обособил это преступление такими резкими признаками, по которым оно существенно отличалось бы от преступлений тяжких. Вот почему разрешение вопроса о том, к какой категории отнести то или другое деяние, передано суду с участием представителей общественной совести.
Но ввиду строгости закона, ввиду важности преступления, называемого убийством в запальчивости, недостаточно было бы остановиться только на том, не подходит ли настоящее деяние к этой категории: это противоречило бы и тем данным, которые дало нам судебное следствие.
Вот почему я должен сказать, что одним спором о том, к какому из двух видов убийств относится настоящее деяние, я не могу ограничиться: задача моя не будет выполнена, обязанности мои будут нарушены. Я должен идти далее, и сам законодатель дает мне для этого средство.
Законодатель знает еще случай убийства, – это случай, когда от моих насильственных действий последовала чья-либо смерть, хотя в моем намерении и не было мысли нанести ее. Здесь законодатель принимает во внимание, что все-таки моя рука была причиною смерти, убийства человека, хотя мысль и не шла за этим. Такое деяние законодатель рассматривает более снисходительно, и раз признают, что, причиняя смерть, преступник не имел умысла, законодатель рассматривает это деяние как менее наказуемое, более терпимое, причем рассуждает так: здесь рука была в несогласии с головой.
Но так как за грех, который совершила рука, за неимением возможности наказать преступную руку, пощадить голову и душу, наказывают человека в целой его личности, а не какой-либо отдельный член организма, то поневоле приходится рассматривать это деяние, как более слабое, которое является продуктом лишь одной руки, без всякого участия головы.
Вот третья форма преследования со стороны законодателя за деяния, производящие насильственную смерть.
Тем не менее законодатель не мог остановиться и на этом. Правда, с большою трудностью, с большою борьбою, шаг за шагом уступая требованиям науки и опыта, законодатель должен был признать, что совершаются убийства нередко в таком состоянии, когда суду человеческому нет места, когда обвинению нет основания. Это – убийства, совершаемые в таком состоянии человеческого духа, когда воля и разум оставляют человека.
В прежнее время трудно соглашались на подобного рода суждения. В летописях старых уголовных судилищ записаны отвратительные протоколы, рассказывающие о колесовании и других тяжких наказаниях, которым подвергались сумасшедшие и безумные за то, что в сумасшествии и безумии совершали те или другие деяния.
Уступая постепенно требованиям жизни, науки и справедливости, законодательство пошло дальше. Не только тот, кто безумен или сумасшедш от рождения, кто неисцелимо болен, бывает в таком состоянии; бывают в таком состоянии и люди, доведенные до болезни обстоятельствами жизни, сложившейся под влиянием особенных условий, которые оставляют в душе те нагноения, под давлением которых человек легко отдается известному току страсти, без всякого участия разума и воли.
Это – те деяния, которые законодатель называет убийством в состоянии умоисступления и доказанного беспамятства.
При этом законодатель вовсе не карает и объясняет это тем, что человек в это время делается бессмысленным животным, человек делается просто машиной, представляет собою странную смесь, смесь разумной воли с безволием. Законодатель знает преступление, зажигательство в беспамятстве, – такое преступление, для которого нужен известный ряд действий, известная осторожность, сообразительность: как, куда и в какое время пойти, что зажечь, чем зажечь и т. д., но и в этом случае законодатель допускает доказательства совершения подобного рода деяния в умоисступлении.
Таким образом, пред нами четыре категории одного и того же преступления. К какой из этих четырех категорий отнести данное дело, – это будет служить предметом того слова, с которым в последний раз я обращусь к вам в интересах подсудимого.
Признаюсь, я немало удивляюсь тому недоверию, с каким отнесся представитель обвинения к выводам того эксперта, который по обстоятельствам дела высказал свое мнение о болезненном состоянии подсудимого в момент несчастия.
Замечательно в этом отношении устроена человеческая мысль; вообще, с развитием и образованием, каждый любит наблюдать всякий внешний факт, всякое внешнее явление природы, и истолковывать причины внешних явлений не только текущих, но и давно протекших. В грудах мусора мы находим причины нынешнего состояния земли, в той или другой форме открываем причины, действовавшие за сотни тысяч лет, а пылкое воображение заходит даже за миллионы лет.
Но когда исследуем человека, то большею частью, как только привяжем известное деяние к делу его рук, так и полагаем, что задача мысли уже окончилась, что весь вопрос уже разрешен: чья рука совершила, того воля повинна. За человеком, вне его, причин не ищем и не признаем.
Прием отчасти разумный, но только им часто злоупотребляют. Разумность его вот в чем состоит. Судебный закон, запрещающий под страхом наказания известное деяние, признает самое суждение о нем мыслимым только под одним углом зрения: человек нравственно свободен и нравственно ответствен в своих деяниях. Но когда человек расстраивается, когда его мысли и чувства идут вразлад с действиями, тогда человек вовсе не ответствен за свои деяния, ибо он не есть необходимый автор тех или других действий и совершает их с такою необходимостью, с какою совершаются внешние явления природы.
Если так, то, собственно говоря, суд и положения закона будут пустыми словами. Если мы признаем человека совершившим известное деяние в силу роковой необходимости, значит он есть та лейденская банка, в которой совершилось то или другое действие, подлежащее исследованию науки. Суд, которому надлежит разобрать, кто виновен и кто не виновен, будет взамен суждения кидать в рулетку о виновности или невиновности человека; но может ли быть речь о виновности человека, которому суждено было совершить то или другое деяние? Может быть, со временем мы узнаем и то, что теперь, по мнению одного из экспертов, находится вне власти науки, обладающей еще малым запасом опыта и наблюдений. Может быть, со временем при новом толчке метафизических, философских воззрений тот инстинкт, который живет во всех, главным образом в обществе обыкновенных практических людей, настолько восторжествует, что придется иметь счеты с каждым деянием. Пока же я считаю совершенно соответствующим требованиям времени понятие об ответственности человека, доколе действия его имеют своей подкладкой свободную волю, потому что и нравственный человек может совершить безнравственный поступок.
Но при этом надобно одно помнить, что человек – не Бог и не демон, что силы его не безграничны и он не может справиться со всякими тягостями, которые идут ему навстречу. Человеческая душа в этом отношении похожа на человеческое тело. Самый рассудительный человек, отправляясь из одной местности в другую, конечно, старается идти по прямой дороге, – идет прямо, подходит к самой цели своего путешествия; но вдруг навстречу ему буря, от которой нет возможности спрятаться; как бы человек ни был убежден в крепости своих сил, но ему остается одно – пасть на землю – и выжидать, пока буря пройдет.
Сильная буря бывает не только вне человека, но и внутри его; эту бурю представляют собою страсти, которые волнуют человека и разлагают его внутренний мир. Как бы ни был благоразумен человек, как бы он ни желал удержаться от известного зла, но если ему придется повстречаться в собственной жизни со страстями, принявшими размер бури, то разум, который идет прямо, совесть, которая содействует тому, чтобы не шататься в стороны, замолчат, если только вполне разыгралась душевная буря.
Поэтому, как в душевной области, так и в области внешней не тот благоразумен, кто не падает, несмотря ни на какую бурю, а тот благоразумен, который не позволяет себе пуститься в дальний путь в то время, когда его может застигнуть буря и засыпать ему песком глаза.
Но человек – не Бог, силы его ограничены, он должен по возможности избегать всяких душевных бурь и не насаждать в своей душе тех мелких, сорных растений, которые, развившись, могут потом человека погубить. Когда раз, по неосторожности ли человека, или под гнетущим давлением внешних причин, в душе его посеяны те или другие семена, то из семян этих, равно как из семян, брошенных в хорошую почву, совершенно естественно выходит роскошная растительность. Как вырастают деревья из семян, так точно из причин являются поступки уже помимо воли человека.
Вот ввиду этого обстоятельства в настоящее время господствует учение, что не нужно быть сумасшедшим навсегда, не нужно быть безумным навсегда, но что можно быть в состоянии невменения, в состоянии того душевного угнетения, которого не существует и прежде события, к которому не бывает возвращения и после него.
С таким случаем, как я думаю и даже убежден, в настоящее время мы имеем дело.
Чтобы понять, в каком состоянии духа и в каком состоянии нравственной ответственности был Н. А. Лукашевич в ту злополучную ночь, в которую совершилось убийство Ф. В. Лукашевич, нужно себе представить всех действующих лиц той печальной драмы, которая разыгралась в семействе Лукашевичей. В этой драме, как и во всех драмах, которые мы видим на сцене, есть главные действующие лица, есть второстепенные артисты и есть люди без слов. Главными действующими лицами в этой драме являются покойная Ф. В. Лукашевич, Н. А. Лукашевич и отец его А. П. Лукашевич. Изучая их характер, их свойства, мы найдем очень многое; мы увидим, что многое, что выполняется волей и характером отдельного человека, есть результат соединения трех взаимно противоположных, несходственных элементов, которые, однако, вместе дают сплошную картину ссор в их семейной жизни.
Эти три лица я назвал. С одним из них, подсудимым, вы, конечно, знакомы более всего, ибо ему посвящались эти дни. Для определения характера этого человека и того, как он мог поступить в злополучную минуту, мы найдем немало данных в его жизни. Но как у дерева первые ростки определяют его будущий штамб и крону, так детство и первые годы ребенка нередко влияют на образование будущего характера, – иначе немыслимо говорить о семейных чертах.
Детство Н. Лукашевича не радостное. Хотя мы здесь недостаточно подробно изучили семейную жизнь отца Лукашевича с первой его супругой, но одно оказалось несомненным, – что Н. Лукашевич очень рано был лишен родительской ласки; его увезли подальше от Екатеринослава, в Петербург; из Петербурга он отправился к немцам, в Ригу, где и закончил свое воспитание.
Потом мы встречаем его на театре войны. Про дом свой он знал так, как евреи знали, живя в Египте, про обетованную страну, – что там есть что-то кипящее млеком и медом. На самом же деле этой страны он не знал, он только мечтал о ней.
Вместе с тем он был лишен главного условия, необходимого для правильного роста, того здорового дерева, которое называется «нравственным человеком», – того условия, которое природа предоставляет с рождения всякому человеку; это – участие матери, которую Н. Лукашевич никогда не видел.
Я не думаю, что только во втором браке старика была плохая семейная жизнь. Не было ли и во время первого брака каких-нибудь печальных страниц, которые заставили мать предпочесть держать своего сына вдали от семьи?..
Но отсутствие матери едва ли может быть заменено чем-либо. Гувернантки и бонны, окружавшие его с раннего детства, едва ли могли посеять в нем какое-нибудь нежное чувство…
Затем он провел свое детство исключительно в мужской школе, в среде мальчиков, в немецком заведении. Понятно, что у него не могло образоваться той необходимой нежности и ласки, которые сообщает человеку материнское воспитание.
Таким образом велось воспитание Н. Лукашевича. Потом, когда он поступил на службу, то был уже человеком зрелым, с характером жестким. Служебная обстановка его также была чужда элементов нежности. Судьбе угодно было поставить его жизнь так, что даже общественная деятельность не приучала к нежности. Едва он успел поступить на службу, как вдруг, по стечению исторических причин, общих для всей России, ему пришлось очутиться в действующей армии, сразу стать лицом к лицу с кровью и страданиями; тут уже и речи не могло быть о развитии нежных чувств.
Там он проводит год. После – возвращается в дом, но здесь застает уже существенную перемену. В этом доме давно уже нет матери; в этом доме завелась другая женщина, на правах матери, – Фанни Владимировна, которая имеет своих детей. В доме совершенно другая обстановка. Отец, естественно, мог привязаться, по известным нравственным и физиологическим условиям, и к этой новой женщине. Но привязанность мужа к жене никогда не могла связать мачеху и пасынка тою любовью, которая лежит в самой крови, в самом факте рождения.
Поэтому привязаться к мачехе, почувствовать родственные к ней отношения он не мог. Если эта женщина не отличалась особенно высокими нравственными качествами, если она не имела с ним нравственного общения, то, конечно, отношения между ними с первого же дня должны были быть натянуты, потому что не было того сдерживающего элемента, который примиряет родственною кровью людей даже после вспышки. В то же время его волнуют совершенно другие качества мачехи…
Но школа и служба научили его такту, научили сдержанности, военная дисциплина выработала в нем терпение. Конечно, не любовью к мачехе я объясняю ту выдержку, которая являлась ответом на различные сцены. Не родственным чувством, не духом любви, не примиряющим началом руководствовался Н. Лукашевич, когда подобного рода сцены оставлял без вредных последствий и часто, уходя без обеда, оставляя на несколько часов родительский дом, бродил с ружьем по полям.
Сдержанность долго его выручала. Но сдержанность без чувства примиряющей любви представляет собою здание из досок, не сбитых гвоздями, здание крайне непрочное и весьма опасное для прикасающихся к нему. Сдержанность – это только средство угнетать волю, загонять снаружи внутрь болезненные наросты. Такт и сдержанность напоминают мне те хозяйственные распоряжения, существующие в некоторых городах, когда накопляющиеся в домах нечистоты, вместо того, чтобы вывозить за город, в самих домах закапывают в землю. Снаружи все прилично и, как будто, есть порядок; но в сущности эти нечистоты накопляются, накопляются и заражают ту почву, которая скрывала их. Таким образом, результатом сдержанности являются те горькие плоды, которые, постепенно развиваясь в душе человека, заражают весь внутренний его мир.
Заражение это было тем ужаснее, что противовеса в этой душе и со стороны не находилось. И сама Фанни Владимировна была далека от чувств ласки, дружбы; она вовсе не старалась посеять семена этих чувств в своем пасынке Николае, равно как и в прочих лицах, с которыми она проживала по нескольку времени.
Таков Н. Лукашевич в момент приезда его в родительский дом.
В родительском доме живет Фанни Владимировна. Я о ней дурного ничего не скажу и вместе с прокурором разделю мнение, что на несчастную женщину много наговорено лишнего. Но я считаю возможным пока утверждать только следующее: что у ней характер был никуда не годный. Это я знаю не только из слов домашних, но и из показаний беспристрастных посторонних свидетелей, вроде мирового судьи Ковалевского, Кисель-Загорянского, Орловского и некоторых других.
Вы помните: к кому она ни адресовалась, на всех производила одно и то же впечатление, – в натуре ее для всех заметна была какая-то раздражительность. Приезжает к одному посоветоваться, чтобы начать дело с мужем. Тот говорит: «Нельзя с мужем!..» «Ну, так с сыном!..» Очевидно, начинается дело с сыном не потому, чтобы она действительно была обижена: она начинает одно дело взамен другого, чтобы только удовлетворить известному состоянию духа.
Вы знаете от других лиц, живущих в доме, какой несдержанный характер был у ней по отношению к пасынку. Вы помните, сколько происходило печальных сцен, ярко обрисовывающих историю развития отрицательных качеств ее души…
Другой вопрос, что было причиной всех этих историй, кто был виновником в подготовлении той почвы, на которой цвели всевозможные семейные безобразия. Быть может, почва эта была подготовлена проделками ее мужа. Может быть, совершенно справедливо, что он женился на ней только для того, чтобы вместо гувернантки по условию, за известную плату, иметь гувернантку даром, к чему присоединялись еще и другие удобства. Быть может, он, не любя второй жены, не любил и детей от второго брака. Все это, может быть, правда. Сам он далеко не владел таким сердцем, которое было бы вполне застраховано от других. Нет! Нет! Это сердце ныне занимал один предмет, завтра другой…
Но если только эти факты верны, то, конечно, женщина, которая мечтала в браке найти новую, обеспеченную, мирную жизнь, не могла быть счастлива. Она не могла относиться с уважением к человеку, который изменяет обязанностям семьянина, будучи в таком возрасте, когда бы уже нужно об измене отложить всякое попечение и настоятельно думать только о том, чтобы нам не изменили по нашим преклонным летам. Отсюда рождается неуважение к мужу; а вместо чувства любви, которое проявляется иногда, каким-то придаточным обстоятельством, начинаются те неприятные столкновения, которые весьма естественны в семье, где вместо любви и верности, вместо желания долго жить-поживать, – длинный ряд неудовольствий, обманов, измен и оскорблений.
Все это неизбежно сообщило некоторую резкость ее характеру. На ту беду она была в некотором отношении счастливою матерью, т. е. слишком часто приносила детей своему мужу. У ней появилось естественное чувство материнское. Но, как совершенно справедливо заметил и представитель обвинительной власти, с рождением детей известные отрицательные качества мачехи должны были сделаться ей вполне присущими. Самые добрые качества, качества матери, любящей своих детей, обусловливали в данном случае качества злой мачехи.
К этому надобно сказать, что, кажется, была у ней еще одна привычка – привычка считать в своем доме главным лицом то лицо, которое было главным в ее жизни до выхода замуж: слишком большое значение она придавала своей матери… Видимо, она мало знала ту давнишнюю, вековую истину, что, женившись, люди оставляют отца и мать и живут самостоятельною жизнью. Таким образом, она вводила в семью еще новый элемент, которому желала дать значение. Входя в дом, она получала права, которых не имели родные первой жены. Весьма естественно, что подобные права не могли не вызвать чувства отвращения в детях от первого брака, а также и со стороны жениной родни. Вы помните, что едва только состоится примирение, немедленно пишется матери: «Приезжайте…» Здесь вы видите новую черту характера, которая обусловливала семейный раздор.
Третье действующее лицо – старик Лукашевич. Я уже сказал мимоходом, что он стар, но не весь… Кроме того, сколько видно из дела, у него есть еще одно качество, качество рисоваться своим горем. Он даже здесь на суде, когда рассказывал длинную повесть своих отношений ко второй супруге, указывал, что, когда он жаловался на свою супругу, то она была кругом виновата, а он всегда был прав. Я оставляю этот вопрос в стороне. Но должен сказать, что есть лица, которых до известной степени можно назвать страстотерпцами: они любят рассказывать о том, что много страдают, даже болеют, но никогда не страдают за тех, кому сами причиняют страдания; они даже не понимают этих страданий и не упоминают о них; свою впечатлительность они слишком высоко ценят.
Старик Лукашевич был именно таким человеком. Он помнил только то, что ему нехорошо; но что другим худо, хотя бы и по его вине, он это совершенно забывал. Он не стесняясь, здесь на суде рассказывал о своем горе, причем напирал на то, что все его горе шло от второй жены. Следовательно, он не мог делиться с нею своими страданиями, он должен был искать на стороне покровителя, такого человека, с которым мог бы поделиться своим горем.
На ту беду в семейство, по окончании войны, приезжает Н. А. Лукашевич. В доме ему представилась картина не очень радостная. Многое изменилось из прежнего с тех пор, как он помнил себя. Правда, не было такого разрушения, какое изобразили м-ль Тюрен и Гофман. Но ведь привычки детства к известному месту вызывают много святых воспоминаний; иногда тот же самый образок, переставленный на другое место, мы считаем не тем; от самых незначительных перестановок мебели картина совершенно меняется. Лукашевич почувствовал, что здесь не тот дом, о котором он мечтал: в нем пахнет чем-то чужим; вместо меду – он встречает горечь; вместо обетованной страны он попадает в египетское рабство.
Затаенные чувства отца, по-видимому, быстро раскрылись пред старшим сыном. Чтобы не сделать с ним того же, что сделал с младшим, Леонидом, отец рассказывает ему свое горе, свои страдания, причиной которых выставляет свою жену. Как он мог не верить? Может быть, и в самом деле все это так, тем более, что ему передана только одна сторона медали. Как видно, он искренно верит всему этому; он вполне сочувствует отцу, он переживает все то, что происходило в самом страдающем отце.
В это время мачеха возвращается, и начинаются постоянные сцены. Мачеха все свое раздражение переносит на пасынка. Заботясь о судьбе своих собственных детей, она возмущается тем, что человек молодой, способный работать, живет у них в доме, ест их хлеб и т. д. Вместе с тем она раздражается еще и по другим причинам. Вероятно, под впечатлением рассказов своего отца, сын как словом, так и делом везде показывал, что он принимает сторону отца. А ей казалось, что ее значение в доме умалено, что отец отдает преимущество сыну, что отец даже может подпасть под влияние сына. Неприятностям нет конца… Конечно, ей надобно было попробовать объясниться откровенно, но мы не видим к этому ни малейшей попытки…
Таким образом, душа Фанни Владимировны была совершенно закрыта для старика Лукашевича. Хотя, по рассказам свидетеля Орловского, старик Лукашевич имел прекрасные сведения в деле сельского хозяйства и, быть может, в других подобного рода отраслях знания, но он был плохой знаток человеческой души и тех педагогических обязанностей, которые лежат на всяком отце по отношению к детям. Он слишком щедрой рукой расточал перед сыном свою семейную злобу, он слишком crescen возбуждал и возбуждал сына против своей жены. Вы знаете одну из тех сцен, которые происходили в Харькове, в Одессе и которые переданы отцом сыну в том смысле, что виной всех этих сцен была Фанни Владимировна.
Но и на этом дело еще не остановилось. Александр Петрович сам раздражался на жену и естественно, что во время раздражения перетолковывал всякий факт в сторону возможно худшую. Он не остановился даже перед очень злым подозрением и указывал на тот знаменательный факт, что с отъездом Фанни Владимировны в Екатеринослав в том же городе живет Леонид, указывал на тот факт, что между ним и мачехой ведется знакомство. Он начал подозревать и, может быть, сам распространял мнение о том, что сын Леонид и жена Фанни дошли до такого порока, которым возмущается здоровое нравственное чувство.
Требовать от отца фактических доказательств сыну было трудно и даже невозможно, потому что подозрение уже засело крепко в душе его.
Вы сами хорошо знаете тот житейский факт, как часто мы любим верить всему худому, если это касается наших врагов, наших недругов, хотя бы на самом деле этого и не было.
Я думаю, что Николай Александрович под влиянием отцовских рассказов о том зле, которое совершается в семье, быть может, склонен был даже верить и этому безобразному слуху.
Я лично готов разделить с прокурором мнение, что, может быть, бедная женщина была оклеветана. Я могу подыскать другие человеческие причины, почему Леонид сошелся с мачехой: у них было общее горе, так сказать, они имели одного общего врага.
Леонид часто жаловался, что отец его обижает в средствах; как он говорил, отец, будучи его опекуном, жил на его средства, а ему отпускал необыкновенно миниатюрную долю – 30 руб. в месяц; он жаловался, что отец даже нанес ему какое-то сильное оскорбление. Во всяком случае, что-то одно из двух случилось. Но то количество денег, которое оказалось накопленным в банке, исключает возможность подозрения отца в растрате сиротских доходов, хотя большею частью опекуны пользуются сиротскими деньгами и весьма часто злоупотребляют в своих отчетах. Не допуская в данном случае растраты и злоупотреблений со стороны старика Лукашевича, как опекуна, нельзя, однако, не признать, что он действительно стеснял своего сына: он слишком урезывал его средства к жизни, так что Леонид должен был бросить школу. Таким образом, в действиях отца он видел сознательную, умышленную деятельность лица, которое мешает ему жить.
Точно так же Фанни Владимировна сознавала, что муж нарушает священнейшие права жены и необыкновенно тяжело поступает с нею.
Вот в этом общем чувстве неудовольствия к человеку, который неправ по отношению известных обязанностей: к одному – отца, к другому – супруга, могла возникнуть такая приязнь, которая обыкновенно соединяет людей преследуемых, обиженных одним и тем же сильным врагом.
Но люди часто бывают слишком подозрительны, и А. П. Лукашевич объяснял все эти отношения иначе. Объясняя их иначе, он не преминул заподозрить самую ужасную связь мачехи с пасынком. Этого рода подозрение он вселил в смущенную, уже потерявшую равновесие, больную душу Николая Александровича.
Когда подобного рода мысль была высказана ему, то я думаю, что душа его возмутилась до крайней степени. Если бы даже в первый момент, когда сведения эти были ему сообщены, он немедленно дошел до известного зла, и тогда бы человек мыслящий не отказался от изучения этой души.
Для того чтобы уяснить душу, переполненную терпением, подавленную тяжелыми сценами, которые перед нею разыгрывались, мы обыкновенно, для объяснения этих запутанных, трудных вопросов, обращаемся к мудрецам времени. Мудрец веков, один из величайших английских писателей, разработав вопрос о том, как действуют страсти, как действуют разного рода душевные состояния на людей, вывел перед нами образ человека в лице Гамлета не с такими духовными силами, с какими является совершенно обыкновенный человек, Н. А. Лукашевич; но и Гамлет, когда выяснилось, что перед его глазами совершается безнаказанно величайшее из преступлений, что мать отправила на тот свет его благородного отца, сию же минуту обличает супружескую ложь и делается убийцей матери; возбуждение это продолжает действовать и далее: через несколько времени он становится убийцею своего отчима и убивает себя.
То же самое высокое чувство, только в более минорном тоне испытывал Н. А. Лукашевич.
Перед ним восстали образы всех сцен, постигших и оскорбивших его отца в самых священных его правах. Пред ним рисовалась Фанни Владимировна, насмеявшаяся над самыми священными узами семьи. Вместе с тем он и сам являлся страдающим лицом. Страдания его возбуждались с двух сторон. С одной стороны, его волновало чувство гнева. С другой – ужасная связь между такими двумя лицами, от которых нельзя было этого ожидать.
Хотя последнее еще не доказано, но одного подозрения уже достаточно для того, чтобы задавить в человеке все помыслы свободной воли. Правда, человек в таких случаях представляется очень жалким; при этом неизбежны бывают такие явления, что человек даже не видит того, чем он возмущается. События, которые другому человеку не позволяют даже подозревать, становятся доказательством таких отношений между мачехой и пасынком, которых на самом деле, быть может, и нет.
Тем трагичнее становится это положение, что о таком подозрении ему передавали люди слишком близкие. Будучи искренно убежден в этом, при каждой новой встрече с нею он все более и более раздражался. Но это было уже раздражение больного человека: потупила глаза, заговорила неловко, явился проблеск какого-то чувства, – все это рисовалось в превратном виде. Может быть, чувство раскаяния Ф. В. заставило бы подать ей руку помощи, уговорить ее отступить от этого зла; может быть, Ф. В., ни в чем неповинная, желая разрушить подозрения своего мужа, при встрече с ним хотела открыть ему какой-то секрет, хотела указать главного виновника всех семейных несчастий, – но и это желание Ф. В., вызванное, быть может, прежними дружескими отношениями, раздражало его.
К чувству гнева присоединилось еще другое чувство, которое тот же великий писатель показал в другом герое. Это – герой, который заподозрил свою жену в супружеской неверности, который долго скрывал свое подозрение, но чем дальше продолжал скрывать в себе это сильное чувство, тем оно более развивалось, пока из человека не сделало дикого зверя. Он готов был растерзать своего врага…
В таком положении находился слабый духом Н. А. Лукашевич. Между тем, покойная Ф.В., которая как-то особенно умела вызывать к себе ненависть людей, окружавших ее, нисколько не думала о примирении с пасынком. Напротив, она систематически, искусственно старалась волновать его и для этого придумала еще новый способ – судебный процесс. В начале октября месяца Ф. В. предъявляет против Н. А. в высшей степени неосновательный иск. Она заявляет мировому судье, что пасынок оскорбил ее, ссылается на массу свидетелей. Об этом процессе узнают в окрестности. Процесс этот еще прибавил сраму и без того обесславленному семейству Лукашевича.
Прокурор указал здесь на то, что, может быть, факт оскорбления и существовал, но он только не был доказан, потому что свидетели были расположены говорить в пользу Лукашевича. Утверждать это – значит говорить: я понимаю и умею отличить истину, а мировой судья не мог понять. Но мировой судья – такая же судебная власть, власть, так же способная отличить правду от неправды, как и представитель обвинительной власти. Свидетель рассказывал здесь о том впечатлении, которое произвело это дело на вызванных судьею свидетелей: они полагали, что призваны свидетельствовать по обвинению в чем-нибудь Фанни Владимировны. Но когда им объявили, что они призваны свидетельствовать за Ф. В. о каком-то несбыточном преступлении, то они были крайне удивлены.
Итак, это дело было вызвано известной чертой характера Ф. В., и мировой судья понял его совершенно правильно. Такого рода факт на душу, зараженную уже известными чувствами, не произвел целебного действия. Это никоим образом не привело к примирению и успокоению. Но зато эта новая сцена имела несомненное влияние на последующие действия.
И вдруг к этому присоединяется еще последнее извещение – о смерти брата, отношения которого к Ф. В. уже давно волновали Н. А., заставляли его задавать себе вопрос: «правда или нет?»
В одно прекрасное утро застрелился в Екатеринославе младший брат Николая Александровича – Леонид. Я не стану говорить об отношениях братьев, потому что не обладаю достаточным материалом для того, чтобы установить, как факт безусловно верный, что отношения братьев были очень дружеские.
Но кто знает человеческую жизнь, ее условия, человеческую природу в особенности, тот не сочтет абсурдом, когда я скажу, что раздирательная сцена, произошедшая у гроба безвременно погибшего брата, много содействовала скорому появлению другого гроба в том же семействе. Нет надобности мне доказывать существование пламенной братской любви и дружбы. Смерть – это тот момент, в который даже вражда, существующая между родственниками, умолкает. Если же не было вражды, а было до известной степени равнодушие, даже внутреннее чувство злобы за тот грех, который подозревался, то все это должно было смолкнуть у гробовой доски. Уже самый гроб все это примиряет.
Брат должен был думать о мотивах самоубийства не без тех мучений совести, которые говорили о грехе, какой он сделал. Стоя у могилы безвременно погибшего, у могилы человека, во цвете лет прекратившего свою жизнь, стоя у гроба, конечно, этот человек должен был, глубоко возмутившись, отыскивать причины смерти. Чтобы найти причину, вызвавшую преждевременную смерть, необходимо было сначала определить, какого рода могли быть эти причины.
Причин внешних не было. Денежные средства его, расстроенные прежде, только что поправились. Не было у него и долгов, чтобы из самолюбия, не имея возможности удовлетворить кредиторов, покончить с собою. Может быть, боязнь предстоящей ему воинской повинности? Но из писем Леонида, которые здесь были прочитаны, мы можем прийти к заключению, что он знал жизнь и не мог не знать, что при настоящих облегченных правилах военная служба не так страшна, как это кажется. Он мог ясно понимать, что полтора года казарменной службы не были так тяжелы, чтобы предпочесть ей пулю в лоб… Может быть, он боялся быть убитым на войне? Но война кончилась, и было бы нелогично, боясь быть убитым через год, убить себя в нынешнем году.
Очевидно, такого рода мотивов не могло быть. Мотивы, должно быть, лежали во внутренних причинах, в том разобщении, в каком он находился с родительским домом. Может быть, он застрелился от тех подозрений, которые относительно него ходили по городу. Может быть, и совершенно напрасно покойный обвинялся в том зле, которое дикая молва приписывала ему. Может быть, только из-за того, что он открыто принял сторону мачехи, пользовался ее ласками, про него говорили такие вещи.
Можно еще много подобрать разных других мотивов этого самоубийства. Во всяком случае это будут мотивы гадательные: действительные мотивы были известны только ему, и он унес их с собой в могилу.
Так можно было рассуждать о мотивах самоубийства. Но брат его Н. А. не мог так рассуждать. Он жил и рассуждал под тем миросозерцанием, которое в душе его было подготовлено рассказами отца, теми рассказами, которым он вторил.
При этом я не могу не вспомнить одну сцену из того события, которого он был свидетелем. В тот день, когда труп брата поднесли под нож анатома, чтобы в нервах, застывшей крови, в разрезанном сердце отыскать то, что можно было отыскать только в душе, которая под нож анатома не дается, – в эту минуту нужно было пощадить Н. А. От высоких тонов струны лопаются на всяком инструменте. И струны человеческой души не так крепки, чтобы могли выдерживать высокие тоны…
Но даже на самых похоронах разыгралась сцена, которой верить трудно. В ту минуту, когда нужно было смолкнуть и забыться ради общего горя, его личность сильно задевают. На могиле брата ему посылают такой привет, который не мог пройти бесследно даже в здоровой душе. У гроба брата ему шлют такой привет: «И ты, подлец, пришел сюда!»
Одна эта сцена на могиле могла окончательно разорвать уже подорванную душу. Но у него оставалось одно утешение, у него было одно целебное средство, – это деревня, куда он мог уехать, откуда Ф. В. выехала навсегда, взяв с мужа обязательство платить ей известную сумму денег.
Вдруг и она едет туда. Это была непростительная ошибка с ее стороны, которая доказывает, как неосмотрительно поступала покойница, как легко она могла делать ошибки. Она едет в этот дом именно в то время, когда возмущение в доме достигает самых крайних пределов, когда стены вопиют против нее; когда не только родственники, но и чужие возбуждены и разделяют мнение о том, что в смерти Леонида она виновна. Приезд ее был необыкновенно неудачен: она как будто приехала именно для того зла, которое совершилось, для того несчастья, которое обрушилось на голову подсудимого.
Когда Н. А. возвратился в деревню после похорон, то его здоровые, крепкие нервы были уже сильно подорваны. Он постоянно ходил по комнате и не мог ничем заниматься. Его волновала исключительно несчастная судьба покойного. Кроме того, он находился под новым тяжелым впечатлением, которое испытал на могиле брата. Он привык к подобным впечатлениям, когда они получались за столом, при одних и тех же людях, до известной степени привыкших к этой обстановке. Но ведь слова, сказанные ему Ф. В. на могиле брата, были произнесены во всеуслышание, при массе окружающих посторонних людей, которые могли подумать Бог знает что.
Слова эти, быть может, роковые, в ту минуту остались без всякого ответа со стороны Н.А. В то время он еще не мог чувствовать всего значения этого ужасного привета, но такого рода чувства долго действуют и не скоро остывают.
Судьбе угодно было, чтобы Ф. В. приехала в дом поздно вечером, в тот самый момент, когда Н.А. разговаривал о смерти брата с Абраменком, когда он уже сильно волновался. В этот момент, когда шла речь о только что пережитом несчастии, рана, которая еще не зажила, которая, так сказать, затянулась легкой пленкой, вновь была расцарапана. Он вновь начал представлять себе всю историю этого самоубийства, того порядка, который довел до самоубийства его брата и всего того, что совершилось. В это время сердце его опять начало сильно биться, душа его опять стала страдать от того, что уже было пережито; но в это время он еще сильнее страдал, потому что перед ним сразу восстали образы многих сцен.
Я не знаю драмы более удачной по эффекту, нежели та, которую разыграла природа. В то время, когда Н. А. говорил Абраменке: «Больше никто, как она виновата», – в это время входит Еременко и говорит: «Фанни Владимировна приехала».
Об этом докладывают в 11 часов ночи, когда все домашние имели полное право успокоиться. Понятно, какое состояние духа должно было быть у него.
Когда здесь об этом состоянии духа спрашивали людей сведущих, то по данным науки ответ был один и тот же. В это время его аффект достиг высшей степени. Это был такой толчок человеческой природе, при котором в одно мгновение разум и воля оставляют человека: человек делается рабом всего того, что им пережито. Яд, которого так много накопилось в груди, моментально разливается по всему организму, не встречая себе ни малейшего противодействия…
Таким образом, мы покончили с главными действующими лицами и с той обстановкой, при которой они действовали.
Чтобы понять, как быстро эта сцена достигает своей развязки, мне придется сделать отступление в сторону. Нужно напомнить вам, кто были ее свидетели. Большая доля вашего внимания отдана интересному показанию свидетельницы Тюрен. Ее показание действительно интересно тем, что к каждому ее слову можно относиться без всякого доверия. И тем не менее она – самая достоверная свидетельница не только самого факта, но вообще того, что тамошняя атмосфера вырабатывала из людей посторонних.
В своем рассказе г-жа Тюрен представила целую повесть о том, что совершалось в этом доме. Правда, ей все казалось в мрачных красках, но некоторые явления она объясняла очень удачно. Г-же Тюрен все мерещились поджоги, убийства, отравления и т. п. Может быть, это особенность ее болезни, может быть, русские нервы не похожи на нервы людей тех стран, где, благодаря тесноте населения, преступления очень часто совершаются и принимают иногда такие тонкие формы, до каких наша широкая русская натура еще не доросла. Во всяком случае она все видела в темных красках, в таких красках, для названия которых нет даже слов в том языке, на котором она с нами говорила. Вероятно, она всю свою повесть охотнее сообщила бы там, где ей пришлось бы говорить на своем природном языке, без всякой подделки.
И я думаю, что в этом доме были причины, которые располагали к такому миросозерцанию людей, живущих там…
С другой стороны были люди, которые разделяли общее горе, и это было тем опаснее, что разделяли искренно. Во время ссоры, происходившей в коридоре и в той комнате, где совершилось несчастие, туда и сюда постоянно бегали те женщины, которые жили в качестве гувернанток и бонн. Г-жа Тюрен несколько раз вбегала в детскую – узнать, спят ли дети, то она опять бежит в коридор, то побежит в столовую. Каждому незначительному действию она придает значение. Когда Ф. В. начинает раздеваться, с целью остаться ночевать, г-же Тюрен представляется, что она ищет пистолет. Когда приехавшая с Ф. В. г-жа Волковникова выходит в переднюю (мы этого вопроса не разъяснили, хотя его очень легко можно было разъяснить), ей кажется, что она ходила за пистолетом, что она принесла его, или что-то вроде того.
Всему этому верить нельзя. Но поверьте же тому, что, вероятно, г-жа Тюрен первая вызвала всю эту страшную сцену.
После долгой суеты она обращается к Н.А. и говорит: «Спешите к вашему отцу, – ваша матушка, Фанни Владимировна, что-то хочет сделать ему».
Такие слова, как искра к пороху, были поднесены человеку, находившемуся в высшем состоянии аффекта, человеку, который в этот день подводил итог своим страданиям.
К несчастью, мы поздно хватились, что эксперты не слышали обвинительного акта; поэтому я не мог с достаточной ясностью рассмотреть вопрос о самих выстрелах. Между прочим здесь было сказано, что все выстрелы были сознательно направлены в цель. Но для нас не имеет особенного значения число выстрелов. Для нас важен другой вопрос – о той решимости^ с какою был сделан первый выстрел. Если вы вспомните то расстояние, на котором были произведены выстрелы, то увидите, что первая пуля была смертельна, что она положила женщину на месте, а прочие уже вошли в труп – изнизали тело уже погибшей женщины. Очевидно, человек, который производил эти посмертные выстрелы, уже не владел своей рукой. Тут был человек, который действовал в страхе того зла, которое отделило его руку от сознания, окончательно помраченного искрой – криком Тюрен и поздним приездом Ф. В. Лукашевич.
Убийство совершается мгновенно. Раздирательные сцены следуют одна за другой. Проблеск сознания, что сделано великое, ужасное зло… Он бежит заявить сельской полиции о том, что случилось. Его догоняют, берут. Он приходит в какое-то исступление, начинает рвать на себе платье. Потом это возбуждение сразу переходит в минорный тон. Сын становится на колени перед отцом и просит прощения: «Прости, отец! я убил твою жену, мою мачеху».
Отец, в свою очередь, стоя на коленях, умоляет сына не налагать на себя рук.
Может быть, эти факты, которые имели место вслед за выстрелами, не подходят под картину аффекта? Но представители науки, конечно, не откажут мне в ответе, если бы я предложил им такой категорический вопрос: все ли случаи и все ли формы душевных болезней записали они на страницах своей медицины? Можно ли признать, что изложенные по этому предмету правила никогда никаким исключениям подвергаться не могут? Наверное, представители науки скажут, что на подобные вопросы другого ответа, кроме отрицательного, быть не может. Действительно, многие факты в судебной медицине уже обобщены, но наука еще далеко не дошла до таких положений, которые бы представляли собою математические истины, по которым можно было бы заранее определить, каким логическим законом разрешается та или другая задача. Поэтому дальнейшее поведение Лукашевича, если и не вполне совпадает с тем, как обыкновенно разрешаются аффекты, все же не может служить доказательством того, что он совершил зло сознательно. Наконец, один из представителей науки обратил здесь внимание на случай, который свидетельствует о замечательной сознательности убийцы в состоянии аффекта. Это – случай, когда отец в состоянии аффекта зарезал своих детей, затем отправился в полицию заявить об этом и просил, чтобы, прежде чем его арестуют, ему подали медицинскую помощь.
Странные бывают явления в природе человека, и наука еще не сказала нам своего последнего слова. Сознание и бессознательность, воля и безволие так перепутываются в душе человека, что, сколько бы мы ни изучали ее природу, мы никогда Hfe можем сказать, что в будущем каждый отдельный факт из жизни отдельного индивидуума не представит ничего такого, что бы нам еще не было известно, еще не было нами вполне изучено…
(После трехминутной паузы). Около мертвого трупа Фанни Владимировны началось судебное следствие. Судебный следователь собирал данные о том, каким образом произошла эта смерть. Судебный следователь убедился даже в том, что мертвый труп унес не одну жизнь, что он унес с собою в могилу жизнь, еще не начавшуюся, а только зарождавшуюся. Но уже сам прокурор и обвинительная камера не признали возможным вменять в вину Лукашевичу, чтобы он знал, что мачеха его была беременна. Этот факт был вне его воли. Я даже не знаю, для чего упоминают о том, что она была беременна, если это не может иметь никакого отношения к его деянию. Я думаю, что правильно поставленная юстиция всякое случайное зло, стоящее вне нашей воли, не может выставлять на суд, доколе желает, чтобы ваш приговор был приговором чистого правосудия. И если указывают на то, какие неожиданные последствия произошли от того или другого деяния, последствия, которые были для нас самих неведомы, но от которых пострадало еще другое лицо, этим сводят современное состояние юридической науки на старые понятия, согласно которым наказание есть возмездие за содеянное зло. Между тем современное правосудие имеет более высокие задачи, его цель – не карать и не миловать, а разрешать вопросы о виновности по внутреннему убеждению и чистой совести.
Прежде чем окончить защиту, мне нужно остановиться на некоторых мелких замечаниях представителя обвинения, в речь которого вкрались несколько уродливых соображений. Со стороны обвинения вам, между прочим, было указано на то, что на настоящем следствии некоторые свидетели, преимущественно свидетели подсудимого, сознательно добавили такие события, о которых не было сказано на предварительном следствии, предполагая, что такие события, хотя их на самом деле не было, помогут подсудимому.
Я должен защитить подсудимого от подобного нарекания.
Здесь было указано на показания двух свидетелей – старика Лукашевича и г-жи Тюрен. Г-жа Тюрен прямо заявила, что некоторые события, записанные на предварительном следствии, не совпадают с тем, что она говорила. Я думаю, если принять во внимание, что следствие писано на русском языке и писано совершенно правильно, чисто русским человеком, то не будет никакого сомнения в том, что некоторые слова свидетельницы, плохо владеющей русским языком, прошли еще через цензуру судебного следователя, – он выправил мысль просто в интересах грамотности. В этом легко убедиться, если мы вспомним показание Тюрен, данное ею здесь на суде.
Но не так резки соображения г. прокурора относительно показания Тюрен, как относительно показания отца Лукашевича. Прокурор говорит, что г. Лукашевич не поместил в предварительном следствии важного факта, на который ссылается здесь на суде, – об одном из номеров той гостиницы, в котором будто бы покойная жена его имела свидание с пасынком Леонидом. Что подобного рода факт создан свидетелем, а не нами, что в этом факте ни мало не повинен подсудимый, это видно из характера нашей защиты. Едва настоящее дело, в силу закона, перешло в мои руки, как подсудимый слишком хорошо понял и узнал, что на такие сомнительные данные представитель его на суде ссылаться не будет; что представитель его на суде не возьмет на свою совесть, не будучи внутренне убежден, клеветать на покойную женщину; что в этом отношении защита ограничивается только указанием на то, что А. Лукашевич, верил ли или не верил он, говорил ли правду или клеветал на свою покойную жену, но об этом факте передал Н. Лукашевичу и таким образом пустил в его больную душу подозрение.
Во всяком случае анализ этого случая с покойными второй женой А. Лукашевича и сыном его Леонидом вовсе не входит в нашу задачу. Да это не может входить и в задачи представителя обвинения, потому что эти лица уже ушли от нашего земного суда, уже явились на суд небесный, на тот суд, который всякому воздает по делам его.
Я не буду останавливаться на других мелких соображениях представителя обвинения. Представитель обвинения, между прочим, указывает на то, что показания всех домашних свидетелей, совершенно согласные между собой, возникли на почве предварительных соглашений, что показания эти о характере покойной резко отличаются от показаний других, посторонних свидетелей относительно ее личности. Понятное дело, что подобного рода соглашения могут быть установлены только теми лицами, в интересах которых заставить свидетелей показывать на суде в ту или другую сторону.
Но у нас есть русская пословица, довольно удачно обрисовывающая характер человека, живущего в семье: «в людях – ангел, не жена; в доме с мужем – сатана». Человек, может быть дома один: может и поссориться, и подраться; но как только явится к посторонним людям, он будет совершенно другой. Чувство ли деликатности, ложный ли стыд, но во всяком случае в человеке есть какое-то чувство, которое заставляет его дома быть одним, а вне дома другим. На людях человек всегда сдерживается от тех резкостей, которыми судьба его наделила. Поэтому нет ничего удивительного, если Фанни Владимировна вне дома выказывала иногда такие качества, которых в доме никогда не проявляла.
Вот те мелкие замечания, которые я имел сделать против некоторых соображений прокурора.
Оканчивая свою обвинительную речь, прокурор опять-таки остановился на предумышленном убийстве. Отрицая в данном случае возможность убийства в запальчивости, он утверждал, что Н. Лукашевичу выгодно было оставаться в доме отца, и этим мотивировал то деяние, которое Лукашевич совершил против Фанни Владимировны. Если бы только такая цель была в деянии подсудимого, то Лукашевич, не будучи от природы совершенно лишен здравого смысла, должен бы был понимать, что хотя бы даже подобного рода деяние и совершилось, хотя бы ему и удалось удалить этим путем из дома мачеху, но и сам он в этом доме не остался бы. Когда люди прибегают к известному средству, то прежде всего думают о целесообразности этого средства. А если мы остановимся на целесообразности, то увидим, что в этом отношении прокурор безусловно проиграл свою мысль. Если подсудимому выгодно было остаться в доме из каких-то корыстных видов, то ему также было выгодно в те тяжелые дни, когда брат его лежал в гробу, быть как можно ласковее с своей мачехой, которую он считал виновницей смерти брата. От смерти брата он вдвое разбогател и должен был отказаться от всякого возмущения против мачехи. Обыкновенно, когда к таким людям переходят средства, они бывают очень рады тому, что чья-то другая рука позаботилась о благе их и увеличила их благосостояние. Таким образом, эти два основания умышленного убийства падают сами собою.
Я вначале предполагал другой способ исследования настоящего дела, способ подведения деяния подсудимого под запальчивость, и думал, что по отношению к запальчивости мне придется долго бороться с прокурором. Но прокурор сам достаточно подробно доказывал, что запальчивости здесь нет; по его мнению, здесь должно быть что-нибудь одно: или выше запальчивости, или ниже запальчивости. Таким образом, сам прокурор указал нам на невозможность подведения настоящего деяния под запальчивость и раздражение.
Тем не менее перед нами все-таки мертвое тело, которое бы не было мертвым, если бы в 1878 г. не существовало ночи на 25-е октября. Но так как эта роковая ночь была, и обстановка ее вызвала печальный поступок со стороны Н. Лукашевича, то я утверждаю, что здесь никакого умысла не было, что сама рука поднялась в то время, когда он был выведен из себя сбивающим с толку криком г-жи Тюрен, которой казалось, что отцу его грозит какая-то опасность, которая испугалась какой-то драки.
Если это так, то, хотя Н. Лукашевич поступил и неосторожно, тем не менее он не совершил преступление, а впал в преступление. Его душа, подавленная предшествующим горем, была доведена до такого состояния, которое, наконец, превысило его силы: он не перенес этого и впал в преступление. Часто у людей не его темперамента, не его закала, у людей старых, опытных, являются такие действия, которые свидетельствуют нам, что многие люди, в высшей степени достойные, по-видимому, застрахованные обстоятельствами жизни от всяких побуждений к тому или другому преступному деянию, нередко совершают преступления. И их оправдывают. И понятно: когда заберется в душу тот червь, который покоится неизвестно где и незаметно подтачивает духовные силы человека, то вдруг, моментально, существо разумное превращается в существо непонятное, – дикого зверя… Вот почему я думаю, что и в данном случае будет справедливо признать то состояние души, при котором нет места для вменения, то беспамятство, до которого человек был доведен путями, часто скрытыми от нас.
Я всегда разделяю то убеждение, что есть истинный смысл у законодателя, который менее преследует людей, совершивших известное зло, если предшествующие обстоятельства располагали к этому. Например, если в пьяном виде человек совершает преступление, то принимается во внимание, каким образом человек очутился в таком состоянии. Хотя человека в пьяном виде законодатель признает в известной степени больным, тем не менее, если человек искусственно, умышленно привел себя в такое состояние, то он карается. Если же человек постоянно находится в состоянии опьянения, то законодатель относится к нему гораздо снисходительнее.
Опьяняет душу человеческую не одно вино. Опьяняют еще и страсти: гнев, вражда, ненависть, ревность, месть и многие другие, между которыми бывают даже благородные побуждения. Поэтому нет ничего труднее, как анализировать душу и сердце человека. Здесь нужно тщательно разобрать, какое чувство закоренилось в груди, откуда это чувство явилось, когда и как оно развивалось? Конечно, рассудительный человек должен избегать стоять на такой дороге, где ему грозит какая-нибудь опасность. Но вот что бывает: иногда то или другое злое чувство искусственно развивают даже те самые лица, против которых оно направлено. В деле Лукашевича замечательно ясно обрисовалось, как это злое чувство сеяли другие: Н.А. представлял собою только почву, на которой щедрой рукой разбрасывались разного рода семена, семена того, что могло только угнетать его душу. От самого рождения он был лишен всего того, что могло бы правильно развить его душу. Наконец, после тяжелой болезни, после изнурительных походов он довольно долгое время почти на каждом шагу сталкивается с несчастной Фанни Владимировной, в которой было все, что угодно, но только не было любви, мира, не было человеческих отношений к Николаю Лукашевичу. Поэтому я думаю, что голос защитника в этом случае есть голос смысла человеческого, что я говорю не столько в интересах подсудимого, сколько в интересах правосудия. Сознавая, что на моих плечах висит судьба подсудимого, я в то же время чувствую, что на моей обязанности лежит высокая задача содействовать правильному отправлению правосудия.
Представители науки ясно сказали нам, что мы имеем дело с аффектом, причем один из них отнес, и совершенно основательно, этот аффект к аффектам высшей степени. Вы скажете, как же при совершившемся зле, при признании со стороны самого Лукашевича того факта, что он застрелил свою мачеху, каким же образом можно сказать, что он в этом не виновен? Я не стану на это возражать моими соображениями, но скажу словами одного из достойнейших представителей вашей власти – словами одного из присяжных заседателей.
Недавно, две-три недели тому назад, Петербургский окружной суд, после довольно продолжительной сессии, закончил свои занятия. Когда председатель суда благодарил присяжных этой сессии за тот труд, который они понесли, то из их среды выступил почтенный профессор Таганцев и, обратясь к суду с речью от лица своих товарищей, сказал: «Присяжные заседатели, в свою очередь, приносят признательность суду за доставление им возможности исследовать всякое дело до мелочей»… При этом профессор добавил: «Уходя из залы суда, присяжные чувствуют, что они честно исполнили свою задачу. Да не смутит суд тот факт, что мы нередко выносили оправдательные вердикты, несмотря на то, что деяния были совершены. Для того чтобы признать человека виновным, еще недостаточно одного факта, им совершенного: мы ищем в деянии его злой воли, и только тогда, когда злая воля оказывается в наличности, для нас виновность человека становится вне всякого сомнения; в противном же случае совесть не дозволяет нам обвинить человека».
Что же такое злая воля? Мне думается, злая воля – это та способность человека, тот грех человеческой души, когда, понимая зло, человек желает его сделать, когда личный или имущественный интерес стоит у человека на первом плане; когда из-за того или другого интереса человек не желает знать ничьих страданий; когда самолюбие или корысть заглушают для него стоны и мольбы жертвы; когда человек говорит себе: «в моей собственной воле предписано ему умереть, и он должен умереть».
Вот злая воля. Карайте злодеев! Но когда такой злой воли нет, – пощадите душу человека. В том или другом зле часто сквозь гниль просвечивает чистое существо. Когда вы увидите, что есть только верхушка зла, а внутри лежит здоровый зародыш души, случайно зараженной, тогда по совести вы должны освободить такую душу от злокачественных наростов, вы должны пощадить эту душу. Когда вы увидите руку, обагренную кровью, думайте, что это преступная рука; но когда под этою кровью видна белая, чистая, на преступление неспособная рука, тогда остановитесь: эта рука еще способна на человеческие дела. Если я сию минуту наткнулся на лужу крови, виновата ли моя рука? Когда другая сила, сила внешних обстоятельств натолкнет меня на зло, будет ли моя вина?
Когда перед вами предстанут люди, в исследовании жизни которых вы увидите, что в их катехизисе написано, что для личных, или даже общественных целей, они готовы на всякое убийство, – карайте их. Когда перед вами стоят люди, которые в борьбе за тот или другой принцип, задавшись известными целями, не разбирают средств, – карайте их, не останавливаясь ни на минуту. Но когда перед вами стоит человек, которого вина вот в чем: одни пришли, меч принесли; другие наточили; сама жертва пришла, подняла этот меч; нашлись и те, которые дали меч в руки, – то вы подумайте, можно ли покарать этого человека?
Таков, по обстоятельствам дела, оказывается подсудимый Н. Лукашевич.
Меч ему принес отец, точили его друзья, плохие друзья – гувернантки и бонны, которые каждую минуту приносили все необходимое, чтобы меч не затупился в его руках. Сама жертва играла с этим мечом: она не оберегалась, а когда меч был уже поднят, она сама пришла, хотя тот вовсе и не думал…
Все совершилось в одну минуту. Это не было то раздражение, при котором человек схватил оружие и пошел отыскивать жертву. Это редкий случай, что жертва сама пришла, сама искала возможности, чтобы из человека сделать зверя.
Припомните, что происходило в то время в коридоре дома Лукашевичей, припомните всю ту суету, какая там была, и скажите достойный ваш приговор. Он пишется не на теле, а на душе человека, который понесет позор.
Не могу не закончить мое последнее слово просьбой к вам, просьбой, обращенной когда-то в этом зале к другим слушателям, которые сказали одно слово, и человек был чист от суда.
Вероятно, многие из вас в часы досуга бывали в театре и видели на сцене перед собой пьесу, в которой ревнивый любовник, в диком возбуждении своих страстей, пронзает кинжалом своего врага. Вы тогда приходили в экстаз, вы аплодировали, вам это казалось таким естественным чувством: вы аплодировали не тому, кто так верно изобразил эту ужасную сцену, но тому, кто действовал в этой сцене.
И вот перед вами теперь стоит и смотрит на вас человек, который не роль играет, а со страхом ожидает вашего приговора на всю жизнь. Перед вами стоит человек, который не искал преступления, но которого преследовало преступление. Неужели для этого человека уже ничего более не осталось, кроме сурового, кроме холодного обвинительного приговора? Суровый приговор окончательно отравит его на всю жизнь. Семейство Лукашевича много пережило горя. В этом семействе весь путь испещрен кровью, труп лежал, жизнь уничтожалась.
Спросите ваш здравый смысл, будет ли суровый приговор соответствовать интересам правосудия? Посоветуйтесь об этом с вашею умиротворяющею совестью и скажите ваш справедливый приговор, – мы примем его с благодарностью..
Дело Кострубо-Карицкого, обвиняемого в краже и изгнании плода
23 июля 1868 г. живший в своем имении майор Перемешко-Галич сообщил полиции о том, что у него украдено разных процентных бумаг на сумму около 38 000 руб. Он заявил, что эти процентные бумаги вместе с другими находились в ящике письменного стола в его кабинете, что 20 июля он, не пересматривая, взял их с собой в Липецк, а по возвращении домой обнаружил недостачу в 38 тыс. руб. Ящик стола взломан не был. Ключ же, которым ящик открывался, был найден в той же комнате.
В то время, когда, по предположению Галича, произошла кража, в квартире его из посторонних находились воинский начальник Николай Кострубо-Карицкий и племянница Галича Вера Павловна Дмитриева. Относительно участия Корицкого или Дмитриевой в краже денег ни у кого подозрения не возникало.
Через 3 месяца после пропажи процентных бумаг Галич узнал, что в г. Ряжске Вера Дмитриева, назвавшись женой майора Буринской, продала одному местному купцу 2 выигрышных билета.
Допрошенная, по указанию Галича, судебным следователем, Дмитриева признала факт продажи ею в Ряжске двух билетов. Объяснить происхождение этих билетов она, ссылаясь на запамятование, отказалась. Назвалась она чужим именем потому, что не хотела, чтобы стало известно ее пребывание в это время в Ряжске. В следующем своем показании, данном через несколько дней после первого, Дмитриева дала другое объяснение, которое устанавливало участие Кострубо-Карицкого в краже денег у Галича.
Дмитриева показала, что в Ряжск она ездила ввиду приближения родов, что проданные ею билеты дал ей Карицкий, с которым она в течение 4-х лет находилась в связи, что назвалась она чужим именем тоже по его совету. Она рассказала затем о своей поездке вместе с Карицким в Москву, где ®на по его поручению меняла процентные бумаги. При всех этих поездках, связанных с наступлением родов, она постоянно получала от Карицкого различные процентные бумаги. В последний раз, когда она уезжала, Карицкий дал ей большое количество купонов и попросил ее купоны эти разменять только в Москве, в других же городах ими не пользоваться.
О краже процентных бумаг у своего дяди Галича она сообщила Карицкому. Он велел ей об этом никому не говорить.
Кострубо-Карицкий заявил, что все рассказанное о нем Дмитриевой неверно. Предварительное следствие, однако, дало как-будто некоторые указания, подтверждающие участие Карицкого в краже. Было выяснено следующее: во время предполагаемого совершения кражи Карицкий был у Галича и имел свободный доступ к письменному столу, в котором хранились деньги. Допрошенные свидетели показали: служащий под начальством Карицкого капитан Радугин – что Карицкий, действительно, вместе с Дмитриевой ездил в Москву; один из купивших у Дмитриевой билеты, – что у нее было свидетельство, выданное Карицким на поездку в Москву, и, наконец, отец Дмитриевой Павел Галич показал, что она созналась в краже процентных бумаг лишь после долгого уединенного разговора с Карицким.
Из последующих показаний Дмитриевой выяснились факты, послужившие причиной обвинения Кострубо-Карицкого также и в том, что он, с согласия Дмитриевой, употребил средства к изгнанию ее плода. Она объяснила, что Карицкий, узнав от нее, что ей предстоят роды, неоднократно предлагал ей различные средства для производства выкидыша. Для этой цели он обращался к докторам Дюзину и Сапожкову (оба эти лица были привлечены по этому делу в качестве обвиняемых). Сапожков, после нескольких попыток сделать ей выкидыш, от этого отказался. Тогда сам Карицкий, узнав от Сапожкова, как надо делать выкидыш и получив от него же для этой цели инструкции, у себя на квартире сделал Дмитриевой операцию, после которой у нее родился недоношенный ребенок.
Карицкий и по этому обвинению отрицал свою вину и утверждал, что с Дмитриевой в связи никогда не был и что она на него клевещет.
Свидетели отчасти подтвердили рассказ Дмитриевой и показали, что о близких отношениях Карицкого с Дмитриевой знали многие.
Врач Сапожков, отрицая свою вину, показал, что Дмитриева несколько раз просила его устроить ей выкидыш, что от нее он слышал, что беременна она от Карицкого и что после выкидыша Карицкий обещал ему достать место врача в гимназии.
Дюзин сначала признал себя виновным в том, что уговаривал Сапожкова произвести выкидыш Дмитриевой, а затем от этого объяснения отказался.
Все эти лица вместе с обвинявшейся за недонесение Кассель судились Рязанским Окружным Судом с участием присяжных заседателей с 18–27 января 1871 г.
Полковнику Николаю Кострубо-Карицкому было предъявлено обвинение в краже процентных бумаг на сумму около 38 тыс. руб. и в употреблении с ведома и согласия Дмитриевой средств для изгнания ее плода; вдова штабс-капитана Дмитриева обвинялась в укрывательстве похищенных бумаг, в именовании себя непринадлежащим ей именем и в употреблении средств для изгнания плода; врач Павел Сапожков – в употреблении средств для изгнания плода; инспектор врачебного отделения Рязанского Губернского Правления врач Дюзин – в подстрекательстве к этому преступлению; и, наконец, Елизавета Кассель в недонесении об этих преступлениях означенных лиц.
Председательствовал Родзевич. Обвинял тов. прокурора Петров. Защищал Кострубо-Карицкого – Ф. Н. Плевако; Дмитриеву – кн. А. И. Урусов; Сапожкова – Городецкий; Дюзина – Спасович и Кассель – Киревский.
На суде все подсудимые свои показания подтвердили. Кострубо-Карицкий продолжал настаивать на полной своей непричастности к тем деяниям, которые ему ставились в вину, указывал на свое высокое положение, которое не могло позволить ему совершить преступление и все объяснял желанием Дмитриевой опорочить его.
Дмитриева, сознавшись в принятии мер к вытравлению плода, подробно рассказала об участии в этом преступлении, а также в похищении денег у Галича Кострубо-Карицкого.
Защитник Дмитриевой кн. Урусов, подробно разбирая показания Дмитриевой и Карицкого, приходит к заключению, что показание Дмитриевой правдиво, что оно заслуживает полного доверия, что нет никаких оснований предполагать, что Дмитриева клевещет на Кострубо-Карицкого.
Несмотря на отсутствие прямых улик против Кострубо-Карицкого, кн. Урусов, указывая на ряд противоречий в его показаниях, на целый ряд очень тяжких косвенных улик, полагает, что Карицкий совершил как первое, так и второе преступления. Своим высоким общественным положением Кострубо-Карицкий хочет обмануть правосудие.
Речь Плевако в значительной своей части посвящена возражению кн. Урусову.
Все подсудимые были оправданы.
Речь в защиту Кострубо-Карицкого
Гг. присяжные!
Вчера внимание ваше было посвящено двум речам: речи обвинителя и речи защитника Дмитриевой, которая, по свойствам своим, была тоже обвинением против Карицкого.
По окончании этих речей, когда слово мое было отложено до другого дня, признаюсь, не без страха отпустил я вас в вашу совещательную комнату; не без страха за участь того подсудимого, который вверил мне свою защиту, оставил я вас под убийственным впечатлением обвинений, которые так беспощадно сыпались вчера на его голову.
Защитник, кончая свою речь, обращал к вам не просьбу о помиловании Дмитриевой, а требование обвинить Ка-рицкого, обвинить – во имя равенства, братства, во имя христианского милосердия, – и последние слова этой речи: «обвините, обвините его, согните его гордую голову!» провожали вас в вашу комнату, как бы стараясь проникнуть туда вслед за вами…
Это страшно!..
Но защита Карицкого не лишена еще слова, – и вот, с надеждой на свои силы, я приступаю к исполнению своей обязанности.
Я уверен, что вы не допустите укорениться в вашей совести убеждению, что после слышанных вами вчера обвинений нет надобности в дальнейшем разъяснении дела, нет возможности иными доводами, которых еще не слыхали вы, разъяснением иных обстоятельств, которые были обойдены моими противниками, подорвать цену всех их слов и соображений.
Вы поймете, почему слышанный вами вчера защитник, защищая Дмитриеву, обвинял Карицкого и вносил какую-то особенную страстность во все свои обвинительные доводы, – вы должны понять, что виновность или невинность Карицкого есть вопрос жизни или смерти для Дмитриевой…
Вы слышали речь защитника, – эта речь была особенная, исполненная нехороших слов против всех свидетелей, которые показывали в пользу Карицкого. Вы слышали, что этими свидетелями руководила трусость перед начальством, что они чуть не клятвопреступники, что на них были затрачены огромные деньги, и проч, и проч. Ослепленный страстностью борьбы, защитник Дмитриевой и во время всего судебного следствия, и в речи своей указывал вам, что свидетели говорят заданные уроки, что мы явились во всеоружии интриги и подкупа…
Я не пойду этим путем.
Здесь, в храме правосудия, единственное дело защиты должно заключаться в спокойной и бесстрастной оценке фактов, в обстоятельном разъяснении улик. Здесь не место увлечениям, – мы должны быть чужды их, мы должны отогнать от себя все недостойное дела правосудия, которому мы служим. И обвинитель и защитники одинаково специально изучают дело, хотя и смотрят на него с различных точек зрения; обвинение не выше защиты, и защита не выше обвинения, – закон признает их равноправными: все должны быть равны перед законом…
Положение мое в настоящем процессе особенно трудно, и потому я прошу вас, гг. присяжные, пожертвовать мне несколькими часами усиленного внимания. То обстоятельство, что, кроме обвинителя от правительства против моего клиента, явился еще другой обвинитель, заставляет меня и дает мне, кажется, право обратить к вам эту просьбу и просить, требовать от вас ее исполнения. Когда обвинение одного подсудимого раздается в суде из уст защитника другого, когда задушить другого – значит снять петлю с себя, – тогда начинается страстная борьба не на жизнь, а на смерть, и средства уже не разбираются.
Как бы то ни было, но эта борьба объявлена мне, и я должен вступить в нее.
Прежде всего я должен заметить, что ни обвинитель, ни защитник Дмитриевой не доказывали вам прямо виновность Карицкого в тех преступлениях, в которых обвиняется он по определению московской судебной палаты. Нет, они требовали от вас разрешения других вопросов, которые, правда, наводят на некоторые размышления, способны даже бросить тень на Карицкого, но, в смысле прямого обвинения, ничего не доказывают ни за, ни против него.
Таких вопросов поставлено было перед вами три: доказана ли связь Карицкого с Дмитриевой, доказано ли свидание их в остроге и, наконец, имела ли какие-нибудь основания Дмитриева для своей клеветы? Затем, разрешив утвердительно два первых из этих вопросов и отрицательно последний, обвинение заранее торжествовало победу.
Но я не признаю этой победы. Я не признаю себя побежденным даже и в том случае, если вы, не решаясь совсем обратно ответить на предложенные вам вопросы, допустите только иную комбинацию ответов.
В самом деле, если вы решите, что и связь и свидание Дмитриевой с Карицким доказаны, и в то же время скажете, что Дмитриева могла все-таки оклеветать его, – то и в таких ответах ваших обвинение еще не найдет для себя прямой опоры. При наличности трех фактов, о которых идет речь, перед нами встает новый, самый существенный в деле вопрос, на который еще нет ответа: достаточно ли их для обвинения, можно ли на основании только этих фактов признать Карицкого виновным? Ведь, кроме некоторых данных о связи и свидании, судебное следствие не дало нам ничего такого, на чем могло бы быть построено обвинение Карицкого. Кража денег, подговор Дюзиным Сапожкова, прокол пузыря – не имеют ни в чем подтверждения, кроме слов Дмитриевой… Несуществующий факт не может иметь доказательств, – оттого их и нет, и на них никто не указывает.
Оба обвинителя, чувствуя недостаточно крепкую почву под ногами, дают в своих речах обширное место таким соображениям, которые вовсе не идут к делу и даже не заслуживают ответа с моей стороны.
Вам говорили об особенной важности настоящего дела, о высоком положении одного из подсудимых, о друзьях и недругах его. Вам говорили, что дело это решает вопрос о силе судебной реформы, решает болезненное недоумение общества, – может ли новый суд справиться с высокопоставленными подсудимыми. Обвинитель указывал вам на положение и известность защитников, связывал с этим возможность их влияния на общественное мнение и рядом указывал на свою малоизвестность.
Унижение паче гордости, – подумали мы тогда!
Вам говорили о каких-то слухах, – что влияние сильных людей и денег коснулось даже и вас…
И все это, как венцом, покрылось последними знаменитыми словами того обвинения, которое вы слышали вчера из уст кн. Урусова. Проповедуя вам символ либерализма – великие идеи равенства и братства, он, во имя этих идей, сумел просить вас осудить Карицкого, – осудить его даже и в том случае, если против него нет основательных улик, если и плохо доказано обвинение…
Светлое учение равенства, думаю, хорошо знакомо мне, вам и всем людям: оно прожило уже тысячелетия. Но с того самого дня, когда впервые было возвещено оно на земле, и до вчерашнего, конечно, никому не удавалось сделать из него такого пристрастного, такого извращенного применения!..
Пусть же пройдут мимо вас все эти громкие, благозвучные, но недостойные фразы. Вы пришли сюда сотворить правый суд, которого ждут от вас и общество, и подсудимые. Вы не решите и не должны решать вопросов о судебной реформе, о том, быть или не быть новому суду, силен или слаб он в борьбе с подсудимыми.
Таким вопросам здесь не должно быть места.
Здесь другие вопросы: жизнь и смерть, позор и честь, свобода и несвобода…
Жизнь одного человека дороже всяких реформ, и если бы за оправданием Карицкого должен был последовать конец нового суда, то и тогда вы все-таки обязаны оправдать его, если только по совести не признаете его виновным.
Вы не обвините его, по учению равенства и братства, за то, что он стоит выше других. Вы знаете, что каково бы ни было положение человека в обществе, оно – его заслуга, его труд, пользоваться плодами которого он имеет полное право. Лишить его принадлежащих ему прав за то только, что он выработал себе высокое положение в обществе, во имя братства, несмотря на бездоказательность обвинения, приготовить ему, по-братски, позор и бесчестие, – такую просьбу могло сказать вам только ослепление, только человек, которому совершенно чуждо и неизвестно то учение, которое он здесь так старательно проповедывал. Но вы иначе понимаете это учение и ваша совесть научит вас иначе применять его к житейским вопросам…
Теперь я последую за речью товарища прокурора и постараюсь во всех подробностях разобрать ее.
Обвинитель прежде всего говорит, что ребенка Дмитриевой не Кассель бросила на мосту, а Карицкий, и как-то непонятно доказывает это тем, что ребенок оказался именно на мосту, а не под мостом, в овраге, спускаться куда было бы Карицкому опасно.
Я положительно не понимаю такого соображения и думаю, напротив, что если бы Карицкий бросил ребенка, то он бросил бы его непременно под мост. И для этого вовсе не нужно было спускаться в овраг, – ведь ребенок был мертвый, а с мертвым нечего церемониться: можно было бросить вниз и прямо с моста.
Не ясно ли, что неопытная, трусливая рука работала это дело?
И если вы припомните, что Кассель признала себя виновною в подкинутии ребенка, то, конечно, вы никоим образом не припишете это Карицкому, хотя товарищ прокурора и старается доказать противное разноречием Дмитриевой и Кассель относительно того часа, в который последовали роды.
Он спрашивает: «матери ли не знать этого часа?» Я отвечаю: Конечно, мать, лежащая в родовых муках, вряд ли имеет возможность наблюдать за часами…»
Далее, переходя к оговору Дмитриевой Карицкого относительно прорвания ей околоплодного пузыря, товарищ прокурора считает этот оговор вполне вероятным и искренним. Карицкий берет у Дмитриевой уроки, как вводить зонд в матку, – значит, это для него новое дело, и он не может знать, как оно кончится: может быть, Дмитриева даже умрет от этой операции. Но Карицкий считает лишними подобные опасения: он настолько смел, что решается проколоть пузырь в своей квартире, хотя это не трудно бы сделать и в квартире Дмитриевой, где делались и вспрыскивания, и души, где можно положить больную прямо в ее постель.
Что за нелогичность! И неужели такой оговор, такое странное показание можно не считать клеветою?!.
Из числа свидетелей более всех не понравился обвинителю Стабников, показание которого дышет правдою, хотя и служит в пользу Карицкого. Показание это точно, подробно, и вместе с ним на сцену является записка Дмитриевой, которая бросает новый, яркий свет на все дело.
Как быть? Как подорвать значение этого неумолимого факта?
Свидетеля заподозривают, его начинают сбивать и для этой цели обращаются к суду с просьбой вызвать целую массу новых свидетелей. И вот гонцы от суда рассылаются по всей Рязани и в какие-нибудь полчаса собирают толпу людей, которых суд начинает допрашивать.
Но свидетели не противоречат Стабникову, а только подтверждают его показание. Тогда показание это заносят в протокол, не скрывая намерения преследовать Стабникова за какое-то преступление…
Все это совершается перед вами; но несмотря на все это, факт, что Кассель рассказывала Стабникову о том, что прокол сделан врачом Битным, что Кассель показывала ему записку Дмитриевой, – остался неопровергнутым. Из слов Кассель, из слов жены Стабникова, вызванной в свидетельницы из числа публики, сидевшей в зале, происхождение записки еще более подтвердилось.
Действительно, г-жа Стабникова иногда разноречила с мужем, – но возможно ли помнить все мелочи в жизни, особенно, когда не знаешь, что помнить их надобно для какого-нибудь дела? А говорить, что сходство показаний всех этих свидетелей находится в связи с темными предположениями о влиянии, – было бы совершенно неуместно. Свидетели эти взяты по просьбе защитника Дмитриевой, солидарного с прокурором в обвинении Карицкого, – взяты вдруг… Не вся же Рязань закуплена Карицким! Стабников даже и вызван в суд Сапожковым. Неужели Карицкий сам не вызвал бы его, если б только он знал, что будет показывать Стабников!..
Обвинительная власть поставила перед вами вопрос о побуждениях, какие могли иметь подсудимые для совершения выкидыша. Понятно, что у Дмитриевой могли быть побуждения: скрыть беременность было ей нужно и по отношению к мужу, и по отношению к отцу, и к кругу знакомых.
Но нет этих побуждений для Карицкого!..
Теперь я должен несколько остановить ваше внимание на показаниях Галича, дяди Дмитриевой, который по делу о краже является в качестве потерпевшего лица.
Этот свидетель объяснил нам, что в июне 1868 года, когда у него в деревне ночевал Карицкий, все деньги были целы. Были они целы также и в начале, и в середине июля, т. е. до и после поездки его в Воронеж. Пропажа обнаружилась в конце июля. Галич помнит, как и когда он брал с собой деньги. Украденная пачка лежала отдельно, когда была в Липецке, в деревне же деньги лежали вместе. В июле Карицкий у Галича не был, а Дмитриева была и в деревне, и в Липецке.
Показание это дает нам капитальные факты: Карицкий был в июне, деньги при нем и после него были целы; деньги пропали в июле; пропажа случилась в Липецке. Вы, вероятно, помните, что, когда окончил Галич свое совершенно ясное показание, на него напали и целыми сотнями вопросов целый день старались сбивать несчастного старика! Всякая малейшая неточность его вызывала всеобщее изумление. Доходило до того, что фразы: «я проверял бумаги и видел, что они целы», и «я проверял пачки, вижу, что они целы, – отсюда я заключал, что все в целости», – называли противоречием, называли доказательством ничтожности слов свидетеля.
Но ведь это заходит за пределы житейской опытности, за пределы здравого рассудка. Кому придет на мысль сомневаться, что в жизни разве только незанятый ничем человек будет ежедневно перебирать все свои бумаги и деньги? Обыкновенно, если деньги лежат в пачках, то целость этих пачек ведет к заключению о целости и денег.
Свидетель, говорят, сбивался под перекрестным допросом. Еще бы не сбиться! Вместо вопросов о деле, вместо выпуклых фактов, надолго остающихся в памяти, его закидали вопросами о мелочах, которых человек не помнит и не считает нужным помнить. Путем различных подробностей, путем утомления свидетеля повторением одного и того же наконец добились каких-то неточностей, о чем и было во всеуслышание объявлено.
Но кто внимательно прислушивался к показанию Галича, тот вынес из него, конечно, то, что вынес и я, т. е. что деньги похищены не в июне, что они были целы в июле и пропали в конце этого месяца, когда Карицкого не было у Галича.
В это время там было другое лицо, – оттого-то защита Дмитриевой и стремится к невозможному усилию – момент кражи объяснить задним числом.
Предполагая в Галиче свидетеля, поющего по нотам, изготовленным Карицким, обвинители забывают, что дружба Карицкого и Галича сильна только верой в честность Карицкого, и что дружеская услуга Галича Карицкому, простирающаяся до укрывательства его вины, была бы слишком необъяснимою странностью.
Давая полную веру всем росказням Дмитриевой, товарищ прокурора требует от Карицкого ясных доказательств того, что он не ездил с нею в Москву менять украденные билеты.
Карицкий представил такое доказательство в виде свидетельства, выданного ему из канцелярии воинского начальника. Разве этого мало? Разве свидетельство это не подтверждено свидетельскими показаниями?
Но обвинители Карицкого не останавливаются ни перед чем, не пренебрегают никакими средствами: они бросают темные тени на все наши доказательства. Они оспаривают формальное свидетельство, говорят, что свидетели не могли объяснить закона, который допускает выдачу подобных справок. Кн. Урусов глумится, указывая на то, что свидетельство выдано подчиненными Карицкого своему начальнику.
Неправда! День выдачи свидетельства опровергает эту остроумную заметку: Карицкий был не воинским начальником, а обвиняемым в то время, когда было дано ему это свидетельство. А между тем свидетели совершенно ясно разъяснили, почему отсутствие Карицкого должно было оставить за собою след в делах его управления…
Что касается до вопроса о пропаже контромарок, то свидетели подтвердили этот факт, и мы видим, что обвинение обрадовалось этому: оно доказывает этим, что у Карицкого было побуждение украсть деньги.
Но, увы, контромарок пропало только на 37 руб.!..
Теперь мне следует сказать несколько слов о показании свидетеля Соколова, бухгалтера здешнего казначейства, которое, по моему крайнему убеждению, должно быть истолковано в пользу моего клиента, потому что оно изобличает само себя…
Но мне что-то дурно, и я прошу у председателя небольшого отдыха…
(После 10-минутного перерыва).
Я остановился, гг. присяжные, на показании свидетеля Соколова, продавая которому похищенные у Галича билеты, Дмитриева будто бы сказала, что билеты эти принадлежат Карицкому: так показал свидетель на суде.
Но странно, почему ни одним словом не заикнулся он об этом на предварительном следствии? Между тем, из показаний г. Соколова видно, что он хорошо понимает значение того факта, о котором свидетельствует, и потому, я думаю, если бы только этот факт был в действительности, то он, сознавая его важность, непременно показал бы о нем следователю…
И вот я снова спрашиваю: почему не сделал он этого? Не потому ли, что самого факта не было, что ничего подобного сама Дмитриева никогда не говорила ему, что показать так понадобилось теперь по каким-нибудь посторонним соображениям?..
Не подумайте, чтобы я желал вступить на тот путь, который сам осуждал в начале своей речи. Нет, я не буду кидать в свидетеля грязью, не возьму на себя права называть ложью его показание.
Притом, по моему мнению, всякое показание может быть и не лживо, и не достоверно в одно и то же время: свидетель может говорить неправду и думать, что он говорит правду, – это совершенно естественно. Он может ошибаться, может, будучи очевидцем некоторых фактов, придать к ним много новых, – таких, о которых только слышал он, и которые были восприняты его умом путем различных предположений.
Так и в настоящем случае: свидетель Соколов легко мог усвоить себе несуществующие обстоятельства и показывать во вред моему клиенту, предположив, что он виновен… И это неудивительно! В деле, которое наделало так много шума, в котором обвинение против одного подсудимого несвоевременно раздается даже из вчерашних газет, неуместно вспоминающих суд над Юрловым и Обновленским, – подобные обвинительные обстоятельства могут являться на устах свидетелей.
Но вас не должно смущать это.
Далее, в качестве улики против Карицкого, товарищ прокурора выдвигает и то обстоятельство, что в начале 1869 года, около станции Рязанской железной дороги, в снегу, найден был конверт с купонами от билетов Галича. Дмитриева находилась в это время уже под арестом, – значит, она не могла подбросить конверта, и в этом я совершенно согласен с обвинителем.
Но что же из этого? Товарищ прокурора спрашивает: кто, кроме Дмитриевой, мог подбросить купоны?.. И отвечает: конечно, тот, кто боялся оставить их у себя как улику в краже, т. е. Карицкий, ежеминутно ожидавший обыска.
Я положительно не понимаю этого соображения. Мне кажется, что если бы купоны действительно находились у Карицкого, и ему нужно было бы уничтожить этот след преступления, то достигнуть этой цели, не разъезжая подбрасывать их, он мог бы более легким способом: зимою в каждом доме, каждый день, топятся печи и камины…
Вот как несостоятельна эта улика.
Выдвигая ее, обвинение само подрывает доверие к себе: оно прибегает к натяжкам, – из этого видно, что оно доказывает невозможное или, по крайней мере, то, что не может быть доказано.
Перейдя к свиданиям в больнице и остроге, из которых первое имеет за себя действительно веские аргументы, я и здесь не могу не указать на то, что свидание острожное далеко не бесспорно.
Морозов, смотритель острога, и ключница утверждают, что его не было, и последняя свидетельница обвинителем не опровергнута. Для нее, как уже оставившей занятия в остроге, для Морозова, который уволился от должности смотрителя, нет особых причин скрывать свое упущение по службе.
Их опровергают бывшие арестанты Громов, Юдин и Яропольский.
Но, вопреки предварительному следствию, один из них показал, что не видал, а ему сказали, что был Карицкий, другие разноречат в обстоятельствах, относящихся до одежды, в какой был Карицкий, и других, правду сказать, мелочах, которые, однако, имеют свое значение.
Свидетели эти появились на предварительном следствии при странных обстоятельствах. Они сидели в одной камере вместе с десятками других арестантов. Один из них, Громов, поступает в дворянское отделение, чтобы прислуживать в камере дворянина-арестанта. Там лицо, которому он прислуживает, расспрашивает его и затем доносит, что к Дмитриевой приезжал Карицкий.
Доносчик называет из полусотни арестантов только троих, и все трое арестантов оказываются из числа таких, которые на другой день должны оставить тюрьму. Прочие оставшиеся, которых можно было бы десяток раз переспрашивать, почему-то не знают ничего об этом свидании.
Сближая эту странность с тем, что донес о свидании Карицкого не кто другой, как Сапожков, в то время находившийся под стражей, мы получаем относительно свидетельских показаний арестантов совсем иной вывод. Вывод этот делается еще более основательным, если вспомнить, что Дмитриева сама здесь опровергает единообразное показание свидетелей о часе свидания. По их словах, свидание было в 7 часов, при огне, а по ее словам, это было в 3 часа, т. е. днем.
Опровергая свидетеля Морозова, обвинитель и защитник Дмитриевой главным доводом считают показание нотариуса Соколова. Непримиримое противоречие – между ним и Морозовым.
Одно странно в показании г. Соколова: разговор Морозова с ним ограничился, по его словам, двумя фразами. Раз приходит к нему Морозов и говорит: просится у меня Карицкий к Дмитриевой. И более ничего.
Соколов не может указать по этому делу никакого разговора с Морозовым, хотя, по его словам, дело его интересовало. Морозов ему ничего более не говорил. Интересное признание Морозова им хранилось почему-то в секрете, и только благодаря особенному участию, с каким один из свидетелей заботился о ходе процесса, секрет сделался известен защитнику Дмитриевой и обнаружился на суде.
Странно, почему Морозов, ни о чем по делу Дмитриевой не разговаривавший с Соколовым, приходил к Соколову, сказал ему эти две фразы, необходимые для будущего его уличения на суде, и более никогда ни о чем не говорил. В этой странности простая причина недоверия моего к Соколову.
Свидание в больнице прокурор основывает на показании Фроловой. Но самый ее рассказ, что между Карицким и Дмитриевой, людьми, относительно говоря, состоятельными, шел спор о том, дал или не дал Карицкий Дмитриевой 10 руб. за то, чтобы она показала у следователя так, как он ей сказал, служит лучшим опровержением действительности события. Если припомним, что, по осмотру, оказалось, что замазка окна, которое, если верить Дмитриевой, отворялось для свидания, была суха, какою она не могла бы быть, если бы была недавнего употребления, то обстоятельство свидания будет далеко не достигнуто, если можно считать событие это все-таки возможным.
Вопрос, во всяком случае, – спорный и решить его я предоставляю вашей совести и убеждению, гг. присяжные.
Вот и все фактические доводы, выставленные обвинением. Как видите, будучи озарены светом защиты, они лишаются всякой силы и значения.
Более фактов нет в деле, – я покончил с ними. Теперь я должен вступить в темный лес тех обвинительных предположений, которые опираются, главным образом, на оговор Дмитриевой, имеющий вид чистосердечного сознания.
Много ли в нем чистосердечия – это мы увидим…
Была ли связь между Карицким и Дмитриевой? Вот неразрешимый вопрос, вокруг которого вращалось все судебное следствие. Дмитриева упорно настаивала на связи, – Карицкий также упорно отрицал ее.
Я, со своей стороны, не придаю большого значения разрешению того, кто из подсудимых более прав в настоящем случае; но, если угодно моим противникам, я готов даже признать существование связи, хотя и должен заявить, что судебное следствие не убедило меня в этом.
В самом деле, свидетельницы Царькова и Акулина Григорьева, т. е. прислуга Дмитриевой, и свидетельница Елена Гурковская, дочь хозяйки того дома, в котором несколько лет живет подсудимая, не дали нам решительного, категорического ответа на вопрос о связи. А между тем, от прислуги, от людей, с которыми живешь под одной крышей, мне кажется, трудно утаить подобную связь, как бы секретны ни были сношения любовников.
Никто не видал, чтобы Карицкий и Дмитриева дозволяли себе ту простоту и бесцеремонность обращения, которые допускаются между людьми близкими. Царькова показала, что иногда она уходила ночевать к матери и, по возвращении, получала от г-жи Кассель выговоры, что «вот мол тебе спокойно, а я всю ночь беспокоилась, – у нас ночевал Карицкий»…
Давая веру этому показанию, придется допустить, что несчастные любовники дожидались случая остаться наедине и провести вместе ночь до тех пор, пока их горничной придет в голову случайное желание уйти на ночь из дому. Что за странные отношения! Я не буду, да и не могу проникать в душу Царьковой, – вы сами оцените ее показание. Замечу только, что, если Дмитриева остерегалась своей горничной, то, вместо того, чтобы постоянно скрываться, она могла бы, кажется, совсем прогнать ее от себя…
Существует еще один сильный аргумент против связи: это – те близкие, родственные отношения Дмитриевой к семейству Карицкого, которых не отрицают ни мой клиент, ни сама Дмитриева. Жена Карицкого чуть ли не каждый день ездит к Дмитриевой, ухаживает за нею, целые часы просиживает у ее постели, с теплым сочувствием следя за той болезнью, виновником которой был Карицкий…
Скажите, в каком краю мы живем? Что это за Аркадия?! Жена в нежной дружбе с любовницей мужа… Естественно ли это?..
Близкие отношения свои к Карицкому Дмитриева хотела доказать, между прочим, и письмами, которые она писала к нему на «ты», как к своему «милому Николаю».
Но что за странная судьба этих писем на «ты». Одно из них, содержащее в себе упрек и весть о погибели, не доходит до Карицкого и прямо из кармана Дмитриевой попадает к следователю; другое вместо Карицкого, посылается к Каменеву, который, к сожалению, не полюбопытствовал прочесть его. Напротив, те письма, которые получаются Карицким, писаны на «вы», самым холодным и вежливым тоном.
Далее, в числе доказательств связи следуют солдаты, которых посылал Карицкий к Дмитриевой. И, наконец, право этой последней пользоваться экипажем Карицкого. Вот и все.
И все эти доказательства, повторяю, не убеждают меня в существовании связи…
Но вам говорили еще о слухах, говорили, что связь была известна всей Рязани.
Я – не рязанец, не знаю здешних сплетен и не могу судить, насколько основательны они. Но вы, быть может, признаете их за доказательство. Хорошо. Признайте существование связи, – я уже сказал, что не придаю ей никакого значения в настоящем деле.
Что же из того, что связь между Карицким и Дмитриевой действительно была?.. Если смотреть на дело беспристрастно, без предвзятой мысли во что бы то ни стало обвинить человека, то нечего было и спорить из-за этого вопроса. Неужели мужчина, находящийся в связи с женщиною, непременно участвует во всех делах своей любовницы, непременно главный виновник всех ее преступлений?
Мне возразят на это, что в противном случае, если бы подсудимый не сознавал себя виновным, – ему незачем бы было скрывать свою связь перед судом, зная, что всякое отрицание доказанного факта может служить во вред ему. Я вполне согласен с этим: отрицание подсудимым безразличных фактов, дозволительных поступков кидает тень на все его показания.
Но дело в том, что связь мужа с чужой женой, с точки зрения общественной нравственности, – вещь далеко не дозволительная; связь эта на обыкновенном языке называется преступною, и открытое признание ее, хотя бы и здесь, на суде, не могло быть безразлично для Карицкого, который имеет дома больную жену и детей, имеет, наконец, и известное общественное положение, не как подсудимый, а как человек.
Этим объясняется поведение Карицкого на суде. Может быть, он стал на ложную дорогу и, раз допустив себя до этого, все более и более сбивается с прямого пути.
Но ложь, обнаружившаяся в одном случае, еще не доказывает лжи во всем. Допустим, что Карицкий солгал в отношении связи, – разве это доказывает, что и все его показания, от первого до последнего слова, были ложью?
Нет! Оставьте за ним право не представлять собою особых совершенств и быть таким же человеком, как и все другие…
Рядом с вопросом о связи в настоящем процессе стоит другой вопрос, на который и во все время судебного следствия, и в речах с особенною силой напирали обвинители, надеясь найти в его разрешении твердую улику против Карицкого.
Это – вопрос о свидании, которое, так же как и связь, и не доказано и, как я думаю, не имеет в деле обвинения моего клиента никакого значения. *
Свидание в остроге само по себе не составляет преступления: арестанты имеют полное право видеться с родственниками, людьми близкими, знакомыми; в тюрьме, как известно, происходят сотни вполне законных свиданий. Значит, в настоящем случае весь вопрос сводится к цели и средствам свидания, к тому, что было результатом его.
Прежде всего признаем самый факт: пусть свидание в остроге совершилось, – между Карицким и Дмитриевой, как людьми когда-то близкими, оно совершенно естественно.
Но какую же цель могло иметь это свидание? Вот существенный для обвинения вопрос.
Дмитриева говорит, что Карицкий явился просить ее снять с него оговор и заставил, умолял ее, написать известную записку.
Правда ли это? Рассмотрим показание Дмитриевой.
Карицкий приходит к ней просить о снятии оговора о выкидыше, когда еще нет никаких данных у следователя для обвинения его, и ничего не предпринимает по краже, относительно которой Дмитриева уже дала показания. Карицкий торгуется с ней, предлагает 4000. Она просит 8000 руб. из числа выигранных по внутреннему пятипроцентному билету.
Но никаких 8000 руб. Дмитриева никогда не выигрывала; а так как на предварительном следствии этот факт был положительно опровергнут справкой из банка, который указал имена выигравших по 8000 руб. и в числе их Дмитриевой не было, то Дмитриева почти об этом не упоминала, и, следовательно, рассказ Дмитриевой о торге между нею и Карицким относится к области вымыслов, как и весь ее оговор.
При свидании все время сидел смотритель Морозов, а когда ему надобно было выйти, то вместо него был поставлен часовой солдат. Таким образом, если верить Дмитриевой, то Морозов допустил тайное свидание, но не допустил разговоров Дмитриевой, один на один и, уходя, поставил свидетеля – часового, чтобы сделать это свидание известным большему числу лиц.
В этой путанице подробностей я вижу дальнейшее неправдоподобие оговора. Дмитриева покончила на этом, когда давала свои объяснения суду. Далее она не шла. Замечу, что столько же подробностей свидания занесено и в обвинительный акт.
Надобно заметить, что у Дмитриевой господствует прием показывать на суде только то, что записано в обвинительном акте. Сколько бы показаний у нее ни было на предварительном следствии, но на судебном она их знать не хочет: она держится только слов, занесенных в этот акт.




















