Читать онлайн Ослепление бесплатно
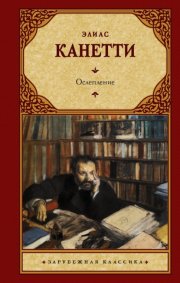
Часть первая. Голова без мира
Прогулка
– Что ты здесь делаешь, мальчик?
– Ничего.
– Почему же ты здесь стоишь?
– Просто так.
– Ты уже умеешь читать?
– Умею.
– Сколько тебе лет?
– Девять исполнилось.
– Что бы ты выбрал – шоколадку или книгу?
– Книгу.
– Правда? Молодец. Поэтому, значит, ты и стоишь здесь?
– Да.
– Почему ты не сказал это сразу?
– Отец ругается.
– Вот оно что. Как зовут твоего отца?
– Франц Метцгер.
– Тебе хочется поехать в какую-нибудь незнакомую страну?
– Да. В Индию. Там водятся тигры.
– Еще куда?
– В Китай. Там есть огромная стена…
– Ты, наверно, не прочь перелезть через нее?
– Она слишком толстая и большая. Через нее не перелезешь. Для того ее и построили.
– Все-то ты знаешь! Ты много читал.
– Да, я читаю всегда. Отец отнимает у меня книги. Мне бы в китайскую школу. Там выучивают сорок тысяч букв. Они даже в книге поместиться не могут.
– Это тебе только кажется.
– Я высчитал.
– Но это не так. Оставь эти книги в витрине. Это все дрянь. У меня в портфеле есть кое-что получше. Погоди, покажу. Знаешь, что это за буквы?
– Китайские! Китайские!
– Ты, однако, смышленый мальчик. Ты уже когда-нибудь видел китайскую книгу?
– Нет, я догадался.
– Эти два иероглифа означают Мэн-цзы, философ Мэн. Он был великий китаец! Он жил две тысячи двести пятьдесят лет назад, а его все еще читают. Запомнишь?
– Да. А сейчас мне надо идти в школу.
– Ага, значит, по дороге в школу ты осматриваешь книжные лавки? А как зовут тебя самого?
– Франц Метцгер. Как и отца.
– А где ты живешь?
– Эрлихштрассе, двадцать четыре.
– Я тоже ведь там живу. Что-то я не припоминаю тебя.
– Вы всегда отводите глаза, когда кто-нибудь идет по лестнице. Я вас давно знаю. Вы господин профессор Кин, но вы не учите. Мать говорит, что вы никакой не профессор. А я думаю – профессор, потому что у вас есть библиотека. Такого нельзя и представить себе, говорит Мария. Это наша прислуга. Когда я вырасту, у меня будет библиотека. Там будут все книги, на всех языках, и такая китайская тоже. Теперь мне надо идти.
– Кто же написал эту книгу? Еще не забыл?
– Мэн-цзы, философ Мэн. Ровно две тысячи двести пятьдесят лет тому назад.
– Прекрасно. Можешь как-нибудь прийти ко мне в библиотеку. Скажи экономке, что я разрешил. Я покажу тебе виды Индии и Китая.
– Вот хорошо! Приду! Приду непременно! Сегодня днем?
– Нет, нет, мальчик. Мне надо работать. Не раньше, чем через неделю.
Профессор Петер Кин, длинный, тощий человек, ученый, синолог по специальности, сунул китайскую книгу в набитый портфель, который он носил под мышкой, и тщательно запер его. Он смотрел вслед этому умному мальчику, пока тот не скрылся. От природы несловоохотливый и угрюмый, он корил себя за этот разговор, который завел без важной причины.
Во время своих утренних прогулок между семью и восемью он обычно заглядывал в витрины каждой книжной лавки, мимо которой проходил. Чуть ли не с удовольствием отмечал он, что макулатура и бульварщина распространяются все шире и шире. У него самого была самая значительная частная библиотека в этом большом городе. Крошечную часть ее он всегда носил с собой. Его страсть книголюба, единственная, которую он позволил себе в своей строгой и трудовой жизни, заставляла его принимать меры предосторожности. Книги, даже скверные, легко соблазняли его купить их. Большинство книжных лавок открывалось, к счастью, лишь после восьми. Иногда какой-нибудь мальчик-ученик, старавшийся войти в доверие к начальнику, появлялся раньше и дожидался первого служащего, у которого торжественно принимал ключи. «Я здесь уже с семи!» – говорил он, или: «Я не могу войти!» Подобное усердие легко заражало такого человека, как Кин; ему стоило усилия тут же не последовать за служащими. Среди владельцев лавок поменьше часто встречались ранние пташки, которые возились за уже открытыми дверьми с половины восьмого. Наперекор этим соблазнам Кин гордился своим туго набитым портфелем. Он плотно прижимал его к себе особым способом, который придумал, чтобы с портфелем соприкасалась как можно большая площадь тела. Ребра осязали его через тонкий, плохой костюм. Верхняя часть руки лежала в боковой ложбинке; она точно входила в нее. Предплечье поддерживало портфель снизу. Растопыренные пальцы доставали до любой плоскости. Свой педантизм он оправдывал перед собой ценностью содержимого. Упади портфель случайно на землю, откройся замок, который он каждое утро, выходя, проверял, именно в этот опасный миг, – драгоценные произведения погибли бы. Ничто ему не было так отвратительно, как грязные книги.
Когда он сегодня, возвращаясь домой, остановился перед одной витриной, между нею и им вдруг втиснулся мальчик. Кин воспринял это как невоспитанность. Места ведь хватало. Он всегда становился на расстоянии одного метра от стекла; тем не менее он без труда читал любые буквы в витрине. Глаза его служили безотказно – для сорокалетнего человека, день-деньской сидящего над книгами и рукописями, факт немаловажный. Каждое утро глаза доказывали ему, как хорошо обстоит с ними дело. В такой отдаленности от продажных и публичных книг выражалось и его презрение, которого они, если сравнить их с неприступными и нелегкими сочинениями его библиотеки, в высокой мере заслуживали. Мальчик был мал, Кин – длины необыкновенной. Заслонить ему витрину мальчик не мог. Но Кин ожидал все-таки большей почтительности. Прежде чем отчитать мальчика, он отошел в сторону, чтобы рассмотреть его. Глядя на заглавия книг, мальчик медленно и беззвучно шевелил губами. Он терпеливо переводил взгляд от тома к тому.
Каждую минуту он поворачивал голову назад. На другой стороне улицы над лавкой часовщика висели огромные часы. Было без двадцати восемь. Малыш явно боялся прозевать что-то важное. Стоявшего позади себя он не замечал. Может быть, он упражнялся в чтении. Может быть, заучивал наизусть названия. Он обходился с ними ровно и беспристрастно. Сразу было видно, где он на миг задерживался.
Кину стало жаль его. Малыш тратил на эту пошлятину свой свежий, уже, может быть, жадный до чтения ум. Иные ничтожные книги он прочтет в более поздние годы лишь потому, что ему сызмала знакомы их названия. Как ограничить восприимчивость первых лет? Стоит ребенку научиться ходить и читать по складам – и он уже отдан на произвол любой скверно вымощенной улице, товару любого торговца, который черт знает почему метнулся на книги. Мальчишкам надо бы расти в солидных частных библиотеках. Каждодневное общение только со строгими умами, умная, сумрачная, спокойная атмосфера, упорное привыкание к безупречному порядку в пространстве и времени, – какое другое окружение более способно помочь столь нежным созданиям справиться с их молодостью? Единственным в этом городе владельцем серьезной частной библиотеки был, однако, сам Кин. Он не мог пускать к себе детей. Его работа не разрешала ему никаких отклонений. Дети шумят. Ими нужно заниматься. Для ухода за ними нужна жена. Для приготовления пищи достаточно обыкновенной экономки. Для детей надо заводить мать. Если бы мать была только матерью; но какая же удовольствуется своей истинной ролью? Каждая по своей главной специальности – женщина и предъявляет требования, исполнять которые честному ученому и во сне не придет в голову. Кин отказывается от жены. Женщины были ему до сих пор безразличны, безразличны будут и впредь. Поэтому мальчик с неподвижными глазами и подвижной головой останется обделен.
Из жалости он заговорил с ним, вопреки своему обыкновению. Он рад был бы откупиться шоколадкой от своих воспитательских чувств. Но тут оказалось, что есть девятилетние, которые предпочитают шоколадке книгу. Последовавшее затем поразило его еще больше. Мальчик интересовался Китаем. Он читал вопреки воле отца. Слухи о трудностях китайского письма подзадоривали его, вместо того чтобы отпугнуть. Он узнал это письмо с первого взгляда, хотя никогда не видел его. Экзамен на смышленость он выдержал с отличием. До книги, которую ему показали, он не дотронулся.
Может быть, он стыдился своих грязных пальцев. Кин проверил их: они были чистые. Другой схватил бы и грязными. Он спешил, уроки начинались в восемь, но он оставался на месте до последней секунды. В приглашение он вцепился как умирающий с голоду, – отец, видно, сильно мучил его. Он готов был прийти сразу же днем, в самое рабочее время. Ведь он жил в том же доме.
Кин простил себе этот разговор. Исключение, которое он позволил себе, стоило, казалось ему, затраченных усилий. Исчезнувшего уже мальчика он мысленно приветствовал как будущего синолога. Кого интересовала эта заброшенная наука? Мальчики играли в футбол, взрослые зарабатывали на жизнь; свободное время они коротали за любовью. Чтобы восемь часов спать и восемь часов ничего не делать, они отдавались остальное время ненавистной работе. Не брюхо, а все тело возвели они в ранг своего бога. Небесный бог китайцев был строже и достойнее. Даже если на следующей неделе мальчик не явится, что маловероятно, у него в голове останется имя, которое трудно забыть, – имя философа Мэна. Случайные толчки, полученные неожиданно, дают людям направление на всю жизнь.
Улыбаясь, продолжил Кин свой путь домой. Он улыбался редко. Это редкость, чтобы кому-то больше всего на свете хотелось владеть библиотекой. Когда ему было девять лет, он мечтал о книжной лавке. Мысль о том, чтобы расхаживать по ней хозяином, казалась ему тогда кощунственной. Книгопродавец – король, король – не книгопродавец. Для служащего, думалось ему, он слишком мал. Мальчишку на побегушках всегда куда-нибудь посылают. Какая ему радость от книг, если он будет только носить их под мышкой в виде пакетов? Он долго искал выхода. Однажды он пошел из школы не домой. Он вошел в самый большой в городе магазин, шесть витрин книг, и громко заплакал. «Мне нужно кое-куда, поскорей, я боюсь!» – захныкал он. Ему показали нужное место. Он хорошенько запомнил его. Вернувшись, он поблагодарил и спросил, не может ли он немного помочь. Его сияющее лицо позабавило служащих. Еще недавно оно было искажено смешным страхом. Они вовлекли его в разговор; он многое знал о книгах. Они нашли, что он умен для своего возраста. Под вечер они отрядили его с тяжелым пакетом. Он съездил на трамвае туда и обратно. Столько денег он успел накопить. Перед самым закрытием магазина, уже смеркалось, он доложил, что поручение выполнено, и бросил на прилавок расписку. Кто-то дал ему в награду кисленький леденец. Пока служащие надевали пальто, он тихонько прошмыгнул в глубину магазина, к тому надежному месту, и заперся там. Никто ничего не заметил; они все думали, наверно, о свободном вечере. Он ждал там долго. Лишь через много часов, поздно ночью, он осмелился выйти. В магазине было темно. Он стал искать выключатель. Днем он об этом не подумал. Когда он нашел его и уже прикоснулся к нему, он побоялся зажигать свет. Может быть, кто-нибудь увидит его с улицы и отведет домой.
Глаза его сами собой привыкли к темноте. Только читать он не мог, это было очень печально. Он снимал с полок том за томом, листал их и действительно разобрал некоторые названия. Потом он стал пользоваться переносной лестницей. Он хотел узнать, не прячут ли наверху тайн. Он упал и сказал: мне не больно! Пол был твердый. Книги были мягкие. В книжном магазине человек падает на книги. Он мог бы взгромоздить перед собой целую башню, но беспорядок претил ему, и прежде чем снять с полки новую книгу, он ставил на место предыдущую. Спина у него болела. Может быть, он просто устал. Дома он сейчас давно уже спал бы. Здесь это не получалось, волнение не позволяло ему уснуть. Но его глаза перестали разбирать самые крупные заголовки, это раздражало его. Он стал подсчитывать, сколько лет можно было бы читать здесь, совсем не выходя на улицу и не ходя в дурацкую школу. Почему не остаться здесь навсегда! На маленькую кровать он накопил бы денег. Мать побоялась бы. Он тоже боялся, но только чуть-чуть, он боялся, потому что здесь было так тихо. Газовые фонари на улице погасли. Кругом сновали тени. Призраки все-таки существовали. Ночью они все слетались и торчали над книгами. Они читали. Им не нужно было света, у них были такие большие глаза. Теперь он не прикоснулся бы, нет, ни к одной книге вверху, да и внизу тоже. Он подполз под прилавок, стуча зубами. Десять тысяч книг, на каждой торчал призрак. Потому было так тихо. Порой он слышал, как они перелистывают страницы. Они читали в точности так же быстро, как он. Он привык бы к ним, но их было десять тысяч, один мог и укусить. Призраки сердятся, когда до них дотрагиваются, они думают, что над ними глумятся. Он сжался в комок, они пролетали над ним. Утро пришло лишь после множества ночей. Тогда он уснул. Когда служащие открывали магазин, он ничего не слышал. Они нашли его под прилавком и растормошили его.
Сперва он притворился, что еще спит, потом быстро заревел. Они, мол, заперли его вчера, он боится матери, та наверняка везде искала его. Хозяин расспросил его и, узнав его имя, сразу же отправил домой с одним из служащих. Он, мол, просит прощения у дамы. Мальчика по оплошности заперли, но вообще-то все благополучно. Он, мол, передает наилучшие пожелания. Мать поверила и была счастлива. Теперь тот маленький лжец обладал великолепной библиотекой и столь же знаменитым именем.
Кин терпеть не мог лжи; с малых лет он держался истины. Он не знал за собой ни одной лжи, кроме этой. Она тоже была предана проклятию и забвению. Только разговор со школьником, который показался ему точной копией себя, Кина, в детстве, напомнил о ней. «Долой это, – подумал он, – скоро восемь». Ровно в восемь начиналась работа, его служение истине. Наука и истина были для него тождественными понятиями. К истине приближаешься, отъединяясь от людей. Обыденность была поверхностным хаосом всяческой лжи. Сколько прохожих, столько лжецов. Поэтому он вовсе не смотрел на них. У кого из дурных актеров, из которых состояла масса, было лицо, способное пленить его? Они меняли лицо каждый миг; ни дня не оставались они в одной и той же роли. Это он знал наперед, опыт был тут излишен. Его честолюбие состояло в упорстве нрава. Не только какой-нибудь месяц, какой-нибудь год – всю свою жизнь он оставался одним и тем же. Характер, если им обладаешь, определяет и наружность. С тех пор как он стал думать, он был долговяз и тощ. Свое лицо он знал лишь приблизительно, по стеклам книжных витрин. Зеркала у него дома не было, из-за сплошных книг не хватало места. Но что лицо его было узким, строгим и костистым, он знал; этого было достаточно.
Не испытывая ни малейшего желания замечать людей, он шел с опущенным или высоко над ними поднятым взглядом. Где были книжные магазины, он и так безошибочно чувствовал. Он мог спокойно положиться на свой инстинкт. То, что удается лошадям, когда они трусят домой, в свои конюшни, удавалось и ему. Ведь гулять он ходил, чтобы подышать воздухом незнакомых книг, они вызывали у него желание возразить, они немного освежали его. В библиотеке все шло без запинки. Между семью и восемью часами утра он позволял себе кое-какие из тех вольностей, из которых жизнь прочих состоит целиком.
Хотя он и наслаждался этим часом, он соблюдал порядок. Перед тем как перейти оживленную улицу, он помедлил немного. Он любил шагать равномерно; чтобы не торопиться, он выжидал удобную минуту. Кто-то громко крикнул кому-то: «Не скажете мне, где здесь Мутштрассе?» Спрошенный ничего не ответил. Кин удивился; на улице были и кроме него молчаливые люди. Не поднимая глаз, он прислушался. Как отнесется вопрошающий к этой немоте? «Простите, пожалуйста, не скажете ли вы мне, где здесь Мутштрассе?» Он повысил степень своей вежливости; повезло ему, однако, не больше. Спрошенный не отвечал. «Вероятно, вы не расслышали моих слов. Я хотел справиться у вас. Не будете ли вы столь любезны и не объясните ли мне, как отсюда пройти на Мутштрассе?» Любознательность Кина взыграла, любопытство было ему неведомо. Он решил взглянуть на молчавшего, при условии, что тот и теперь будет безмолвствовать. Человек этот, несомненно, был погружен в свои мысли и хотел избежать всяких помех. Он опять промолчал. Кин одобрил его. На тысячи один характер, противостоящий случайностям. «Вы что, глухой?» – закричал первый. «Теперь второй в долгу не останется», – подумал Кин, переставая испытывать радость от своего подопечного. Кто сдержит свои уста, когда его обижают? Он повернулся к улице; время пересечь ее наступило. Удивляясь продолжающемуся молчанию, он задержался. Второй все еще не отвечал. Тем более сильной вспышки гнева следовало теперь ожидать. Кин надеялся на спор. Если второй окажется человеком обыкновенным, то он, Кин, неоспоримо останется тем, кем он считал себя: единственным человеком с характером среди здешних пешеходов. Он подумал, не пора ли ему уже взглянуть туда. Событие это происходило справа от него. Там бушевал первый: «Вы не умеете вести себя! Я спросил вас самым вежливым образом! Что вы строите из себя! Вы хам! Вы что, немой?» Второй молчал. «Вы должны извиниться! Плевать мне на Мутштрассе! Любой мне покажет ее! Но вы должны извиниться! Слышите?» Тот не слышал. Поэтому он вырос в глазах прислушивавшегося. «Я отправлю вас в полицию! Знаете, кто я?! Скелет вы несчастный! И такой считает себя образованным человеком! Откуда ваша одежда? Из ломбарда? Такой у нее вид! Что это у вас под мышкой? Я вам еще покажу! В гробу я вас видел! Знаете, кто вы такой?!»
Тут Кина злобно толкнули. Кто-то схватил его портфель и потянул к себе. Рывком, изрядно превосходившим его обычные силы, он вызволил свои книги из чужих лап и резко повернулся направо. Взгляд его был направлен на портфель, но упал на маленького толстяка, ожесточенно кричавшего на него: «Нахал! Нахал! Нахал!» Второй, молчальник и человек с характером, был Кин сам. Он спокойно повернулся спиной к жестикулировавшему невеже. Этим узким ножом он разрезал его брань надвое. Жирный негодяй, чья вежливость в считанные секунды перешла в наглость, не мог обидеть его. На всякий случай он перешел улицу быстрее, чем собирался. Когда носишь с собой книги, надо избегать рукоприкладства. Он всегда носил с собой книги.
Ведь в конце концов ты не обязан откликаться на глупости любого прохожего. Недержание речи – величайшая опасность, угрожающая ученому. Кин предпочитал изъясняться письменно, а не устно. Он владел более чем дюжиной восточных языков. Некоторые западные оказывались понятны сами собой. Ни одна человеческая литература не была чужда ему. Он думал цитатами, писал хорошо продуманными абзацами. Бесчисленные тексты были обязаны ему своим восстановлением. В поврежденных или загубленных местах древних китайских, индийских, японских рукописей ему приходило на ум сколько угодно всяческих комбинаций. Другие завидовали ему из-за этого, а он должен был отбиваться от избытка. Со скрупулезной осторожностью, месяцами все взвешивая, предельно медленно, строже всего относясь к самому себе, он давал свое заключение о какой-нибудь букве, каком-нибудь слове или целом предложении только тогда, когда был уверен в их неуязвимости. Его опубликованные до сих пор работы, немногочисленные, но каждая из которых служила основой для сотни других, создали ему славу первого китаиста своего времени. Коллеги по специальности знали их досконально, чуть ли не наизусть. Положения, записанные им когда-либо, считались решающими и непреложными. В спорных случаях обращались к нему как к высшему авторитету и в смежных областях знания. Мало кому оказывал он честь письмами. Но тот, кого он избирал, получал в одном-единственном послании несметное множество рекомендаций и был на годы обеспечен работой, успешность которой, при таком рекомендателе, была гарантирована заранее. Личных связей он ни с кем не поддерживал. Приглашения он отклонял. Где бы ни освобождалась кафедра восточной филологии, ее прежде всего предлагали ему. Он отказывался с презрительной вежливостью.
У него нет, мол, ораторского дара. Плата за его деятельность отравила бы ему самую деятельность. По его скромному мнению, те же плодовитые популяризаторы, которым доверяют преподавание в средней школе, должны занимать и кафедры высших учебных заведений, чтобы настоящие исследователи, истинно творческие натуры, могли отдаваться исключительно своей работе. В посредственных головах и так нет недостатка. Поскольку он предъявлял бы к своим слушателям самые высокие требования, лекции, которые он читал бы, привлекли бы лишь немногих. Экзаменов не выдержал бы у него, по-видимому, ни один соискатель. Он направил бы свое честолюбие на то, чтобы проваливать молодых, незрелых людей до тех пор, пока они не достигнут тридцатилетнего возраста и – от скуки ли, или просто остепенившись – хоть ненадолго что-нибудь выучат. Даже набор в факультетские аудитории людей, чья память была тщательно проверена, представляется ему делом рискованным и по меньшей мере бесполезным. Десять студентов, отобранных после труднейших вступительных экзаменов, преуспели бы, останься они в своем кругу, несомненно больше, чем смешавшись с обычными в любом университете оболтусами. Его опасения носят, таким образом, серьезный и принципиальный характер. Он просит ученый совет не возвращаться к своему предложению, которое, хотя он и не считает его почетным, было сделано из почтительности.
На конгрессах, где обычно говорят очень много, Кин был главным предметом обсуждения. Их участники, бо́льшую часть своей жизни тихие, робкие и близорукие мышки, тут раз в несколько лет становились совершенно другими людьми. Они приветствовали друг друга, сближали самые несходные головы, шушукались, ничего толком не говоря, и неуклюже чокались на банкетах. Глубоко растроганные, радостно взволнованные, они высоко несли свое знамя и хранили свою честь в чистоте. Они неустанно клялись в одном и том же на всех языках. Даже не давая обетов, они бы не отступились от них. В перерывах они заключали пари. Действительно ли появится на этот раз Кин? О нем говорили больше, чем просто о знаменитом коллеге, его поведение возбуждало любопытство. То, что он никогда не пожинал плодов своей славы, что более десяти лет упорно избегал поздравлений и банкетов, где его чествовали, несмотря на его молодость, что на каждом конгрессе он обещал выступить с важным докладом, который потом вместо него читал по рукописи кто-нибудь другой, – на это его коллеги смотрели просто как на отсрочку. Когда-нибудь, может быть, именно в этот раз, он вдруг появится, с достоинством примет тем более бурные после такой длительной сдержанности аплодисменты и, под возгласы одобрения позволив избрать себя президентом конгресса, займет то подобающее ему место, которое он даже заочно по-своему занимал. Но господа ошибались. Кин не появлялся. Легковерные проигрывали пари.
Кин сообщал, что не приедет, в самый последний час. Посылая свою рукопись тому или иному избранному им лицу, он сопровождал ее ироническими замечаниями. Если при богатой программе развлечений найдется время и для работы, чего он, ради всеобщего удовольствия, отнюдь не желает, то он просит познакомить конгресс с этим пустячком, итогом двухлетнего труда. Для таких случаев он обычно приберегал новые и поразительные результаты своих исследований. За воздействием, которые эти результаты оказывали, за дискуссиями, которые вокруг них разгорались, он следил издали самым недоверчивым и добросовестным образом, как если бы отвечал за основательность каждого сказанного там слова. Собравшиеся мирились с его сарказмом. Из ста присутствующих восемьдесят ссылались на него. Его достижения были бесценны. Ему желали долгой жизни. Его смертью большинство было бы до смерти напугано.
Те немногие, что воочию видели его в его более молодые годы, уже не помнили его лица. Его не раз письменно просили прислать фотографию. Он не обзавелся ею, отвечал он, и обзаводиться не собирается. И то и другое соответствовало истине. Зато до одной уступки он снизошел добровольно. В тридцать лет, не составляя вообще-то завещания, он отписал свой череп с его содержимым институту исследования мозга. Он мотивировал этот шаг пользой, которую принесло бы объяснение его поистине феноменальной памяти особым строением, а может быть, и бо́льшим весом его мозга. Он, правда, не верит, написал он директору этого института, что гений есть память, как то многие с некоторых пор полагают. Он сам никоим образом не гений. Но отрицать полезность для его научной работы той почти пугающей памяти, какой он обладает, было бы ненаучно. Он носит в голове как бы вторую библиотеку, не менее богатую и надежную, чем та настоящая, которая, как ему доводится слышать, вызывает везде столько шума. Он сидит за письменным столом и сочиняет статьи, где касается мельчайших подробностей, не справляясь нигде, кроме как в библиотеке своей головы. Конечно, цитаты и ссылки на источники он позднее тщательно проверяет по реальной литературе; но только из добросовестности. Он не припоминает, чтобы память его когда-либо подвела. Даже его сны имеют более четкую структуру, чем у большинства людей. Бесформенные, бесцветные, расплывчатые видения чужды снам, которые он до сих пор принимал к сведению. Ночь ничего не ставит у него с ног на голову. Звуки, которые он слышит, естественного происхождения; разговоры, которые он ведет, остаются совершенно разумными; все сохраняет свой смысл. Не его специальность исследовать, вправду ли существует предполагаемая связь между его точной памятью и однозначными, ясными снами. Он только самым скромным образом на это указывает и просит не считать соображения личного характера, которые он позволил себе в данном письме, признаком самонадеянности или болтливости.
Кин перебрал еще несколько фактов своей жизни, представлявших его необщительный, робкий и чуждый всякой суетности характер в правильном свете. Но досада на наглеца, который сперва спросил его о какой-то улице, а потом обругал, с каждым шагом росла и росла. Видно, ничего другого не остается, сказал он, вошел в подворотню, оглянулся – никто не наблюдал за ним – и вынул из портфеля длинную узкую записную книжку. На титульной ее странице значилось высокими, угловатыми буквами: Глупости. Его глаза сначала задержались здесь. Затем он перелистал книжку, больше половины было исписано. Все, что ему хотелось забыть, он вносил сюда. Начинал он с даты, указания часа и места. Далее шел случай, который снова показывал глупость людей. Подходящая цитата, каждый раз новая, составляла концовку. Собрание глупостей он никогда не перечитывал; взгляда на титульную страницу было достаточно. В будущем он собирался это издать под названием «Прогулки синолога».
Он достал остро заточенный карандаш и написал на первой пустой странице: «23 сентября, 3/4 восьмого. На Мутштрассе какой-то прохожий спросил меня, где Мутштрассе. Чтобы не посрамить его, я промолчал. Он не смутился и переспросил еще несколько раз; он вел себя вежливо. Вдруг его взгляд упал на табличку с наименованием улицы. Он понял свою глупость. Вместо того чтобы поскорей удалиться, как то сделал бы я на его месте, он страшно разозлился и стал ругать меня самым грубым образом. Если бы я не пощадил его, я избавил бы себя от этой неприятной сцены. Кто был глупее?»
Последней фразой он доказал, что и себе не дает поблажки. Он был беспощаден ко всем. Удовлетворенно засунув записную книжку в портфель, он забыл об этом прохожем. Во время писания книги в портфеле пришли в неудобное положение. Он поправил их. На следующем углу он испугался немецкой овчарки. Собака пробивалась сквозь толпу быстро и уверенно. На туго натянутом поводке она тащила за собой слепого. Об его физическом недостатке, помимо собаки, свидетельствовала белая палка, каковую он нес в правой руке. Даже самые торопливые прохожие, у которых не было времени на слепого, дарили собаке восхищенный взгляд. Она отталкивала их в сторону терпеливой мордой. Поскольку она была красивой и сильной, все относились к ней хорошо. Вдруг слепой снял с себя картуз и протянул его, одновременно с палкой, навстречу прохожим. «На кормежку собаке!» – попросил он. Дождем посыпались монеты. Посреди улицы вокруг слепого и собаки образовалась толпа. Движение застопорилось; к счастью, на этом углу не было полицейского, который регулировал бы его. Кин рассмотрел нищего с близкого расстояния. Он был одет с изысканной бедностью, и лицо у него было интеллигентное. Поскольку он непрестанно шевелил мышцами вокруг глаз, – он подмигивал, поднимал брови и морщил лоб, – Кин почувствовал недоверие к нему и решил, что это мошенник. Тут появился мальчик лет двенадцати, оттолкнул собаку и бросил в картуз тяжелую пуговицу. Слепой уставился на нее и поблагодарил еще чуть-чуть любезней, чем прежде. Пуговица звякнула так же, как золотые. У Кина сжалось сердце. Он схватил мальчика за вихор и шлепнул его, поскольку вторая рука была занята, портфелем по голове. «Как тебе не стыдно, – воскликнул он, – обманывать слепого!» Тут он вспомнил, что было в портфеле – книги. Он ужаснулся, такой большой жертвы он еще ни разу не приносил. Мальчишка с ревом убежал. Чтобы вернуться на обычный, куда более низкий уровень сострадания, Кин вытряхнул всю свою мелочь в картуз слепого. Окружающие громко кивали головами; теперь Кин показался себе более осторожным и мелочным. Собака снова натянула поводок. Затем, как только появился полицейский, поводырь и ведомый двинулись дальше.
Кин поклялся себе, что при угрозе слепоты покончит с собой. При каждой встрече со слепым его охватывал один и тот же мучительный страх. Немых он любил; глухие, хромые и прочие калеки были ему безразличны; слепые беспокоили его. Он не понимал, почему они не расстаются с жизнью. Даже если они знали шрифт для слепых, их возможности читать были ограниченны. Эратосфен, великий александрийский библиотекарь, ученый-универсал третьего дохристианского века, к чьим услугам было более полумиллиона свитков, сделал в восемьдесят лет ужасное открытие. Его глаза начали ему отказывать. Он еще видел, но читать больше не мог. Другой дожидался бы полной слепоты. Он счел разлуку с книгами достаточной слепотой. Он мудро улыбнулся, поблагодарил и после нескольких дней голодовки умер.
Этому великому примеру маленький Кин, чья библиотека состоит лишь из двадцати пяти тысяч книг, когда придет время, последует с легкостью.
Остаток пути к своей квартире он проделал в ускоренном темпе. Наверняка было уже восемь. В восемь начиналась работа. Неточность возбуждала у него позыв на рвоту. То и дело он украдкой хватался за глаза. Они видели хорошо и чувствовали себя приятно и в безопасности.
На пятом, и последнем этаже дома на Эрлихштрассе, 24, находилась его библиотека. Дверь квартиры была защищена тремя сложными замками. Он отпер их, прошел через переднюю, где стояла лишь вешалка для одежды, и вошел в свой кабинет. Он осторожно положил портфель на кресло. Потом несколько раз прошелся взад и вперед по анфиладе четырех высоких, просторных комнат, составлявших его библиотеку. Все стены были до потолка облицованы книгами. Он медленно оглядел их до самого верха. В потолке были прорублены окна. Своим верхним светом он гордился. Окна в стенах были замурованы много лет назад, после жестокой борьбы с домовладельцем. Таким образом, он приобрел в каждой комнате четвертую стену – лишнее место для книг. Да и свет, равномерно освещавший сверху все полки, казался ему более справедливым, более соответствующим его отношению к книгам. Соблазн наблюдать за происходящим на улице, этот порок, отнимающий много времени и явно свойственный человеку от природы, отпал вместе с боковыми окнами сам собой. Каждый день, садясь за письменный стол, он благословлял эту счастливую идею и упорство, которому был обязан исполнением высшего своего желания – обладать богатой, упорядоченной и замкнутой со всех сторон библиотекой, где ни лишний предмет мебели, ни лишний человек не отвлекут его от серьезных мыслей.
Первая комната служила кабинетом. Массивный письменный стол, кресло перед ним и второе в углу напротив составляли здесь всю меблировку. Кроме того, здесь ютился еще диван, который Кин предпочитал не замечать, потому что на нем он только спал. На стене висела переносная лесенка. Она была важней, чем диван, и перекочевывала в течение дня из одной комнаты в другую. Пустоты трех других комнат не нарушал даже стул. Нигде не было ни стола, ни шкафа, ни печки, которые перебивали бы пестрое однообразие полок. Красивые, тяжелые ковры, везде покрывавшие пол, согревали жесткий полумрак, который через широко распахнутые двери соединял все четыре комнаты в единый высокий зал.
У Кина была твердая, энергичная походка. На ковры он ступал с особенным нажимом; его радовало, что такие шаги не вызывают ни малейшего шума. В его библиотеке даже слону не удалось бы громко топнуть по полу. Поэтому ковры он очень ценил. Он удостоверился в том, что все книги сохранили порядок, в каком ему пришлось покинуть их час назад. Затем он начал опорожнять портфель. Входя, он обычно клал его на стул перед письменным столом. А то бы он, чего доброго, забыл о нем и, не вынув из него книг, сел за работу, к которой его около восьми часов тянуло вовсю. С помощью лесенки он принялся расставлять тома по местам. Несмотря на его осторожность, последний – дойдя до него, Кин заторопился еще больше – упал с третьей полки, для которой даже не нужно было стремянки, на пол. Это был тот самый Мэн-цзы, которого он любил больше всех. «Болван! – прикрикнул он на себя. – Варвар! Невежда!» – и, бережно подняв книгу, поспешил к двери. Прежде чем он достиг ее, ему пришло в голову нечто важное. Он вернулся и как можно тише подвинул к месту несчастного случая лестницу, которая висела напротив. Обеими руками он положил Мэн-цзы на ковер у подножья стремянки. Теперь он мог направиться к двери. Он отворил ее и крикнул:
– Самую лучшую пыльную тряпку, пожалуйста!
Вскоре после этого в незапертую дверь постучалась экономка. Он не ответил. Она скромно просунула голову в щель и спросила:
– Что-нибудь случилось?
– Нет, давайте тряпку!
В его ответе, вопреки его воле, ей послышалась жалоба. Она была слишком любопытна, чтобы махнуть на это рукой.
– Ну, доложу я вам, господин профессор! – сказала она укоризненно, вошла в комнату и с первого взгляда поняла, что случилось. Она скользнула к лежавшей на полу книге. Из-под синей накрахмаленной юбки, достававшей до ковра, ног женщины не было видно. Голова ее была посажена косо. Оба уха были у нее широкие, плоские и оттопыренные. Поскольку правое касалось плеча и было частично закрыто им, тем большим казалось левое. Ходя и говоря, она качала головой. Ее плечи попеременно аккомпанировали этому качанию. Она нагнулась, подняла книгу и раз десять основательно провела по ней тряпкой. Кин не пытался опередить ее. Вежливость ему претила. Он стоял рядом и следил, на совесть ли выполняет она свою работу.
– Да, это случается, когда стоишь наверху на стремянке, доложу я вам.
Затем она подала ему книгу, как тарелку, на которой нет ни пылинки. Ей очень хотелось завязать разговор с ним. Но это ей не удалось. Он коротко сказал «спасибо» и повернулся к ней спиной. Она поняла и пошла прочь. Взявшись за ручку двери, она вдруг обернулась и спросила с лицемерной любезностью:
– У вас, наверно, это уже часто случалось?
Она видела его насквозь и честно негодовала: «Ну, доложу я вам, господин профессор!» «Доложу я вам» прокалывалось острым шипом сквозь ее елейную речь. «Она еще, чего доброго, уйдет от меня», – подумал он и сказал смягчающе:
– Я просто так. Вы же знаете, какие ценности хранятся в этой библиотеке!
Столь приветливой фразы она не ждала. Она не нашлась что ответить и удовлетворенно вышла из комнаты. Когда она удалилась, он стал корить себя. О своих книгах он говорил как грязный торгаш. Как иначе заставишь такую особу прилично обращаться с книгами? Истинной их ценности она не понимала. Она, конечно, думала, что он спекулирует ими. Таковы люди! Таковы люди!
После непроизвольного поклона, относившегося к лежавшим на письменном столе японским рукописям, он сел наконец за него.
Тайна
Восемь лет назад Кин поместил в газете следующее объявление:
«Ученый с библиотекой необыкновенной величины ищет ответственную экономку. С предложениями пусть обращаются только люди самых твердых правил. Всякое отребье будет спущено с лестницы. Жалованье несущественно».
У Терезы Крумбхольц было тогда хорошее место, на котором ей дотоле недурно жилось. Она каждый день, прежде чем подать завтрак своим хозяевам, внимательно прочитывала отдел объявлений «Ежедневной газеты», чтобы знать, что происходит в мире. Она не собиралась кончать свои дни в этой обыкновенной семье. Она была еще молодая особа, ей не было еще сорока восьми, и больше всего ей хотелось перейти к одинокому мужчине. Там можно устроиться лучше, а с женщинами ведь не найти общего языка. Она, однако, поостережется бросать свое надежное место ни с того ни с сего. Пока она не выяснит, с кем имеет дело, она не уйдет. Она знает, как врут в газетах и какие златые горы сулят порядочным женщинам. Не успеешь войти в дом, как тебя изнасилуют. Тридцать три года бьется она одна на свете, но этого с ней еще не случалось. И не случится, она глядит в оба.
На сей раз объявление прямо-таки бросилось ей в глаза. На словах «Жалованье несущественно» она задержалась и несколько раз задом наперед перечитала фразы, как бы усиленные сплошным жирным шрифтом. Их тон импонировал ей; это был настоящий мужчина. Ей было лестно представлять себя человеком самых твердых правил. Она видела, как спускают с лестницы всякое отребье, и искренне радовалась этому. Ни минуты не опасалась она, что с ней самой могут обойтись как с отребьем.
На следующее утро, уже в семь, она стояла перед Кином, который, впустив ее в переднюю, тотчас же объявил:
– Я категорически против того, чтобы в мою квартиру входили незнакомые люди. Вы можете взять на себя ответственность за сохранность книг?
Он рассматривал ее пристально и подозрительно. До ее ответа на этот вопрос он не хотел составлять себе мнение о ней.
– Ну, доложу я вам, за кого вы меня принимаете? Растерявшись от его грубости, она дала ответ, в котором он не нашел никаких недостатков.
– Вам следует знать, – сказал он, – почему я уволил свою последнюю экономку. Из моей библиотеки пропала одна книга. Я велел обыскать всю квартиру. Книги не оказалось. Я вынужден был тут же уволить ее. – Он возмущенно умолк. – Вы должны это понять, – прибавил он затем, словно переоценил было ее смышленость.
– Порядок должен быть, – ответила она быстро. Он был обезоружен. Величавым жестом он пригласил ее в библиотеку. Она скромно вошла в первую комнату и остановилась в ожидании.
– Круг ваших обязанностей таков, – сказал он строго и сухо. – Ежедневно вытирать пыль в одной комнате сверху донизу. На четвертый день вы кончите. На пятый снова начнете с первой. Можете вы взять это на себя?
– Позволю себе.
Он снова вышел, отворил входную дверь и сказал:
– До свидания. Сегодня и приступим.
Она стояла уже на лестнице и все еще медлила. О жалованье он не сказал ни слова. Прежде чем отказываться от места, ей надо было спросить его. Нет, лучше не стоит. Как раз и останешься в дураках. Она ничего не скажет, он, может быть, сам даст больше. Над двумя спорившими силами, осторожностью и жадностью, одержала победу третья – любопытство.
– Да, а как насчет жалованья?
Смутившись от глупости, которую, возможно, сморозила, она забыла начать с «ну, доложу я вам».
– Сколько спро́сите, – сказал он равнодушно и захлопнул входную дверь.
Своим обыкновенным хозяевам, которые на нее полагались, – уже больше двенадцати лет она жила у них и стала неотъемлемой принадлежностью дома, – она, к их ужасу, объявила, что с нее хватит, что лучше зарабатывать свой хлеб на улице, чем так. Ничем нельзя было переубедить ее. Она уйдет сейчас же, прожив в доме двенадцать лет, можно уволиться и без предварительного уведомления. Добропорядочное семейство воспользовалось возможностью сэкономить на выходном пособии по двадцатое число. Оно отказалось выплатить его, поскольку прислуга не предупредила о своем уходе заблаговременно. Тереза подумала: «Ну, что ж, придется раскошелиться ему», – и ушла.
Свои обязанности по отношению к книгам она выполняла, к удовольствию Кина. Про себя он выражал ей за это свою признательность. Хвалить ее публично, в ее присутствии казалось ему излишним.
Еда всегда подавалась вовремя. Хорошо ли она готовила или плохо, он не знал; это было ему совершенно безразлично. Во время приема пищи, проходившего за его письменным столом, он бывал занят важными мыслями. Обычно он не мог сказать, что у него сейчас во рту. Сознание надо беречь для настоящих мыслей; они питаются им, они нуждаются в нем; без сознания они немыслимы. Жеванье и пищеварение происходит само собой.
Тереза относилась к его работе с известным почтением, потому что он регулярно платил ей высокое жалованье и не был ни с кем приветлив, да и с ней тоже не разговаривал. К натурам общительным, вроде ее матери, она с детства испытывала большое презрение. Свою работу она выполняла самым тщательным образом. Поблажек она себе не давала. С самого начала к тому же ее занимала одна загадка. Это ей нравилось.
Ровно в шесть утра профессор вставал с дивана, на котором он спал. Одеванье и умыванье продолжались недолго. Вечером, перед тем как улечься самой, она стелила ему на диване и вкатывала в кабинет, в самую середину, умывальник на колесиках. На ночь тот здесь и оставался. Четырехстворчатая ширма, расписанная снаружи незнакомыми буквами, ставилась так, чтобы избавить профессора от этого неприятного зрелища. Он терпеть не мог мебели. «Умывальную телегу», как он называл свой умывальник, он изобрел сам, чтобы этот противный предмет, выполнив свое назначение, поскорей исчезал. В четверть седьмого профессор отпирал дверь и с силой выталкивал телегу из комнаты. Разгона хватало на весь длинный коридор. Возле кухонной двери умывальник стукался о стенку. Тереза ждала в кухне, ее комнатка находилась рядом. Она открывала дверь и кричала: «Уже поднялись?» Он не отвечал и запирался снова. Потом он еще до семи оставался дома. Никто не знал, что он делает столько времени до семи. Вообще же он всегда сидел за письменным столом и писал.
Этот темный, тяжелый колосс был внутри до отказа набит рукописями, снаружи перегружен книгами. При самом осторожном шевелении того или иного ящика стол издавал пронзительный свист. Хотя шум Кина раздражал, он оставил в старинном, полученном по наследству столе это устройство, чтобы экономка, если его, Кина, не окажется дома, сразу же услыхала воров. Ведь эти чудаки обычно ищут золото, прежде чем приняться за книги. Механизм своего драгоценного стола он скупо и исчерпывающе объяснил Терезе тремя предложениями. Он со значением прибавил, что прекратить свист невозможно, не может и он. Днем она слышала этот звук каждый раз, когда Кин извлекал какую-нибудь рукопись. Она удивлялась: этот шум он терпел. На ночь он прятал все бумаги. До восьми часов утра письменный стол безмолвствовал. Когда она убирала комнату, она находила на нем только книги и пожелтевшие брошюры. Тщетно искала она новой бумаги с его собственными буквами. Было ясно, что от четверти седьмого до семи, три четверти часа, он вообще не работал.
Может быть, он молился? Нет, она так не думала. Кому охота молиться? Молитвы не вызывали у нее сочувствия. Достаточно лишь взглянуть на эту шушеру, которая ходит в церковь. Ну и людишки там собираются. И вечное попрошайничество ей тоже противно. Надо что-то дать, потому что все на тебя смотрят. А куда пойдут твои деньги, никто не знает. Молиться дома – зачем? Жаль время тратить. Порядочному человеку это не нужно. Она порядочна от природы. Другие только молятся. Но ей все-таки хочется узнать, что происходит в комнате между четвертью седьмого и семью. Она не любопытна, этого никто не скажет о ней. Она не вмешивается в чужие дела. Женщины сегодня такие, они во все суют нос. Она только выполняет свою работу. Ведь все день ото дня дорожает. Картошка стала уже вдвое дороже. Это искусство – сводить концы с концами при таких ценах. Он запирает все четыре двери. А то можно было бы как-нибудь подсмотреть из соседней комнаты. Хозяин, который вообще-то так строго расходует время и не тратит ни минуты впустую!
Во время его прогулки Тереза обыскивала доверенные ей комнаты. Она предполагала какой-то порок, какой именно, оставалось под вопросом. Сперва ей мерещился труп женщины в чемодане. Поскольку под коврами тело никак нельзя было поместить, она отказалась от мысли об обезображенном трупе. Не было шкафа, который мог бы помочь, а ей так хотелось, чтобы были шкафы – у каждой стенки по шкафу. Значит, преступление пряталось за какой-то книгой. Где же еще? Ее чувство долга, может быть, и удовлетворилось бы смахиванием пыли с корешков; непристойная тайна, которую она хотела раскрыть, вынуждала ее заглядывать и за книги. Она вынимала каждую в отдельности, стучала по ней – не полая ли, – дотягивалась неуклюжими, мозолистыми пальцами до деревянной панели, ощупывала ее и недовольно качала головой, ничего не найдя. Ее интерес ни разу не заставил ее выйти за пределы установленного рабочего времени. За пять минут до того, как Кин отпирал квартиру, она уже стояла на кухне. Она спокойно проверяла один стеллаж за другим, не спеша, без небрежности и никогда не теряя надежды полностью.
В эти месяцы неутомимых розысков она не относила своего жалованья в сберегательную кассу. Она не брала ни гроша оттуда, кто знает, что это были за деньги. Купюры, те самые, которые ей вручались, она складывала в чистый конверт, где еще в полной неприкосновенности хранилась вся почтовая бумага, вместе с которой она двадцать лет назад купила его. Преодолев веские опасения, она поместила его в сундук, содержавший ее имущество, сплошь отборные хорошие вещи, приобретенные за большие деньги в ходе десятилетий.
Постепенно она поняла, что не так-то скоро разгадает загадку. Ничего, у нее есть время. Она может и подождать. Ей живется неплохо. Если в конце концов что-то выйдет наружу – она не виновата. Она обшарила библиотеку до последнего вершка. Да, иметь бы доброго знакомого в полиции, солидного, порядочного человека, который учитывал бы, что у нее хорошее место, – такого можно было бы деликатно посвятить в это дело. Извольте, она многое сносит, но что не на кого опереться… Чем сегодня интересуются люди? Танцами, купаньем, развлечениями, только не серьезными делами, только не работой. У ее хозяина, человека серьезного, тоже есть свои безнравственные стороны. Он ложится спать только в двенадцать. Лучший сон – до полуночи. Порядочный человек ложится в девять. Ничего особенного все равно не произойдет.
Так преступление сжалось и сделалось тайной. Тучное, упрямое презрение обволокло скрытый порок. Только любопытство осталось в ней, между 6.15 и 7 она была всегда начеку. Она допускала редкие, но человеческие возможности. Вдруг его погонят наружу внезапные спазмы в животе. Она поспешит в комнату и спросит, не нужно ли ему чего-нибудь. Спазмы проходят не так скоро. Через несколько минут она все разузнает. Но умеренный и разумный образ жизни Кина был слишком полезен ему. За те восемь долгих лет, что Тереза жила в его доме, его ни разу не мучили колики.
В утро после встречи со слепым и его собакой Кину срочно понадобились разные статьи. Он разворошил ящики письменного стола. Скопились кучи бумаги. Черновики, поправки, копии, все, что относилось к работе, он бережно хранил. Он находил писанину, содержание которой устарело и было опровергнуто. К его еще студенческим годам восходил этот архив. Чтобы отыскать какую-нибудь мелочь, которую он и так знал наизусть, только подтверждения ради, он терял несколько часов. Он прочитывал тридцать листов, когда нужна была какая-то одна строчка. Ненужные, давно изжившие себя вещи понадобились ему. Он проклинал их, зачем они здесь. Он не мог пройти мимо напечатанного или написанного, раз уж оно попалось ему на глаза. Другой отказался бы от такого подробного чтения. Он выдерживал от первого до последнего слова. Чернила выцветали. Было трудно разбирать бледные контуры букв. Ему вспомнился слепой, которого он встретил на улице. Он, Кин, играет своими глазами так, словно они открыты навеки. Вместо того чтобы ограничить их работу, он легкомысленно увеличивает ее из месяца в месяц. Каждая бумажка, которую он кладет на место, стоит ему частицы зрения. Собаки живут недолго, и собаки не читают; поэтому они помогают слепым своими глазами. Человек, который транжирит зрение, достоин своей собаки-поводыря.
Кин решил освободить письменный стол от хлама утром, сразу как встанет, ибо сейчас он был занят работой.
На следующий день, ровно в шесть, – ему еще снился какой-то сон, – он вскочил с дивана, бросился к переполненному колоссу и рывками выдвинул все его ящики. Раздался свист; резкие, душераздирающие, усиливающиеся звуки огласили библиотеку. Казалось, будто у каждого ящика есть горло и каждый старается позвать на помощь громче, чем соседний. Его грабят, его мучат, у него отнимают жизнь. Они не могли знать, кто поднял на них руку. Глаз у них не было; единственным их органом был пронзительный голос. Кин разбирал бумаги. Это длилось довольно долго. Он терпел шум; то, что он начинал, он доводил до конца. С грудой макулатуры на тощих руках он прошествовал в четвертую комнату. Здесь, поодаль от свистков, он с руганью стал разрывать листок за листком. Постучали в дверь; он заскрежетал зубами. Постучали снова; он топнул ногой. Стук перешел в грохот. «Тихо!» – приказал он и выругался. Он и сам рад был бы не шуметь. Но ему было жаль своих рукописей. Только злость давала ему отвагу уничтожать их. Наконец, длинноногим, одиноким марабу, он стоял среди горы обрывков, робко и смущенно, словно в них была жизнь, ощупывая их и тихо жалея. Чтобы не причинять им еще и ненужной боли, он осторожно отставил в сторону одну ногу. Покончив с кладбищем, он облегченно вздохнул. У двери он нашел экономку. Усталым движением руки он указал на кучу бумаги и сказал: «Убрать!» Свистки были немы, он вернулся к столу и запер ящики. Они не пикнули. Он слишком сильно рванул их. Механизм сломался.
Когда поднялся шум, Тереза как раз влезала в крахмальную юбку, которой она завершала свой туалет. Она до смерти испугалась, кое-как закрепила на себе юбку и поспешно скользнула к двери кабинета. «Боже мой, – заныла она флейтой, – что случилось?» Она постучала сначала робко, потом стала стучать все громче. Не получив ответа, она попыталась открыть дверь – тщетно. Она скользила от двери к двери. Она услышала, что сам он находится в последней комнате, откуда донесся его злой возглас. Тут она принялась колотить в дверь изо всех сил. «Тихо!» – крикнул он зло, так зол он еще никогда не был. Полураздраженно-полусмиренно опустила она твердые ладони на твердую юбку и застыла деревянной куклой. «Такое несчастье! – шептала она. – Такое несчастье!» – и продолжала, скорей по привычке, стоять на месте, когда он уже открыл.
Медлительная от природы, она все же вмиг поняла, какой тут представился случай. С трудом сказав: «Сию минуту», она проскользнула в кухню. На пороге ее осенило: «Боже мой, он снова запрется, привычка – такая сила! Непременно что-нибудь да помешает, в последний миг, так уж водится! Не везет, не везет мне!» Это она сказала себе впервые, ибо обычно считала себя человеком с заслугами, а потому и везучим. От страха голова ее сильно закачалась. Она снова скользнула в коридор. Верхняя часть ее туловища низко склонилась вперед. Ноги задрожали, прежде чем осмелились оторваться от пола. Тугая юбка заволновалась. Скользя, она достигла бы своей цели гораздо тише, но это было для нее слишком привычно. Торжественный случай требовал торжественной поступи. Комната была открыта. Посредине еще лежала бумага. Чтобы дверь не захлопнул ветер, она заложила ее толстой складкой ковра. Затем она вернулась в кухню и с совком и веником в правой руке стала ждать знакомого звука катящегося умывальника. Ей хотелось самой сходить за ним, очень уж долго он не появлялся сегодня. Когда он наконец стукнулся о стенку, она забылась и крикнула, как всегда: «Уже поднялись?» Она втолкнула его в кухню и, сгорбившись еще сильнее, чем прежде, потащилась в библиотеку. Совок и веник она положила на пол. Медленно прокрадывалась она через промежуточные комнаты к порогу его спальни. После каждого шага она останавливалась и наклоняла голову в другую сторону, чтобы прислушаться правым, менее изношенным ухом. На тридцатиметровый путь у нее ушло десять минут; она казалась себе отчаянно смелой. Ее страх возрастал в той же пропорции, что и ее любопытство. Тысячу раз представляла она себе, как она будет держаться, достигнув цели. Она крепко прижалась к косяку двери. О свеженакрахмаленной юбке она вспомнила, когда было уже слишком поздно. Она попыталась все обозреть одним глазом. Пока второй оставался в укрытии, она чувствовала себя уверенно. Нельзя было допустить, чтобы ее увидели, а ей нельзя было ничего проглядеть. Правую руку, которую она любила упирать в бок, но которая так и норовила расслабиться, она заставила не шевелиться.
Кин спокойно расхаживал перед своими книгами и издавал нечленораздельные звуки. Под мышкой у него был пустой портфель. Он остановился, подумал немного, принес стремянку и полез наверх. Он снял с верхней полки какую-то книгу, перелистал и сунул в портфель. Спустившись, он снова походил, встрепенулся, потянул какую-то книгу, которая не поддавалась, нахмурился и, вытащив ее, дал ей шлепка. Затем она исчезла в портфеле. Он выбрал пять книг. Четыре маленьких, одну большую. Вдруг он заторопился. С тяжелым портфелем он влез на верхнюю ступеньку лесенки и втиснул первую книгу на прежнее место. Его длинные ноги мешали ему; он чуть не упал.
Если бы он упал и расшибся, пороку был бы конец. Рука Терезы поднялась, она вышла из повиновения; рука схватила мочку уха и сильно дернула ее. В оба глаза глядела теперь Тереза на находившегося в опасности хозяина. Когда его подошвы достигли толстого ковра, она облегченно вздохнула. Книги – это обман. Истина еще выйдет наружу. Она знает библиотеку как свои пять пальцев, но порок толкает на выдумки. Есть опиум, есть морфий, есть кокаин, как все это углядеть? Ее не обманешь. Это спрятано за книгами. Почему, например, расхаживая по комнате, он никогда не пересекает ее? Он стоит возле лесенки и хочет снять что-то с полки прямо напротив. Он мог бы просто-напросто взять это, но нет, он непременно пойдет вдоль стены. С тяжелым портфелем под мышкой он делает большой крюк. Это спрятано за книгами. Убийцу тянет на место убийства. Теперь портфель полон. Больше туда ничего не влезет, она знает этот портфель, она ежедневно стирает с него пыль. Теперь что-то произойдет. Ведь еще нет семи? Когда будет семь, он уйдет. Но разве уже семь? Никак не может быть семь!
Нагло и уверенно она наклоняет вперед верхнюю часть туловища, упирает руки в бока, навостряет плоские уши и жадно таращит узкие глазки. Он хватает портфель с двух сторон и кладет его на ковер. Его лицо кажется гордым. Он нагибается и стоит согнувшись. Она обливается потом и дрожит всем телом. У нее выступают слезы, – значит, все-таки под ковром. Так она сразу и подумала. Можно ли быть таким глупым. Он выпрямляется, хрустит суставами пальцев и что-то выплевывает. Или он просто сказал: «Так»? Он берет портфель, достает один из томов и медленно ставит его на место. То же самое проделывает он со всеми остальными.
Терезе делается дурно. Тьфу ты пропасть, вот тебе раз! Нечего больше видеть. Вот тебе и серьезный человек, который никогда не смеется и не обронит ни слова! Она тоже серьезный человек и работящий, но разве она так поступает? Пусть отрубят ей руки, прежде чем она так поступит. Он выставляет себя дураком перед собственной экономкой. И у такого типа есть деньги! Много, много денег! Над ним надо бы учредить опеку. Как он распоряжается деньгами! Будь у него в доме другая женщина, такая, что пробу негде ставить, из нынешней молодежи, она уж вытянула бы из-под него последнюю простыню. У него даже кровати нет. Что делает он с таким множеством книг? Он же не может читать все сразу. Она бы назвала такого человека дураком, отняла бы у него деньги, чтобы он их не промотал, и отпустила его на все четыре стороны. Она покажет ему, порядочную ли женщину заманил он к себе в дом. Он думает, что может одурачить любую. Ее не одурачишь. Восемь лет, может быть, и подурачит, но не дольше, нет!
Когда Кин собрал для прогулки второй набор книг, первая злость Терезы прошла. Увидев, что он собирается выйти, она с обычным самообладанием скользнула назад к куче бумаг и с достоинством ткнула в нее совок. Теперь она казалась себе интереснее и значительнее.
Нет, решила она, от этого места она не откажется. Но в сумасшествии она его изобличила. Она кое-что узнала. Если она что-то увидела, она сумеет это использовать. Она мало что видит в жизни. Она никогда не покидала черты города. Загородных прогулок она не признает, потому что жаль денег. Купаться она не ходит, потому что это неприлично. Поездок она не любит, потому что нигде не ориентируется. Если бы не надо было делать покупки, она никогда не выходила бы из дому. Все стараются хоть как-то надуть тебя. Цены растут с каждым годом, и раньше все было по-другому.
Конфуций, сват
В приподнятом настроении вернулся Кин домой с прогулки в следующее воскресенье. По воскресеньям улицы в этот ранний час бывали пустынны. Свой свободный день люди начинали со спанья. Затем они надевали лучшую свою одежду. В благоговейном раздумье проводили они первые часы бодрствования перед зеркалом. В остальные часы они отдыхали от собственных физиономий при помощи других. Каждый, правда, был для себя лучше всех. Но чтобы это доказать, они выходили на люди. В будни они потели или болтали ради куска хлеба. В воскресенье они болтали даром. Под днем отдыха подразумевался первоначально день молчания. На то, что вышло из этого установления, как и из всех прочих, на его прямую противоположность, Кин взирал насмешливо. Для него не было проку в дне отдыха. Ибо молчал и работал он всегда.
У двери квартиры он увидел свою экономку. Она, по-видимому, ждала его уже давно.
– Приходил молодой Метцгер с третьего этажа. Вы ему обещали. Вы уже дома, сказал он. Горничная видела, как по лестнице прошел кто-то высокого роста. Через полчаса он снова зайдет. Он не будет мешать, он только за книгой.
Кин не слушал. Когда было произнесено слово «книга», он напряг внимание и с опозданием понял, о чем шла речь.
– Он лжет. Я ничего не обещал. Я сказал, что покажу ему виды Индии и Китая, когда у меня будет время. У меня никогда не бывает времени. Пошлите его прочь!
– Люди сразу на голову лезут. На этих, доложу вам, пробу негде ставить. Отец его был простой рабочий. Хотела бы я знать, откуда у него денежки. Но все дело в них. Теперь только и слышишь: все для детей. Нет никакой строгости. Дети так обнаглели, что просто диву даешься. В школе они все время играют и ходят гулять с учителем. Как было, доложу я вам, в наше время! Если ребенок не хотел учиться, родители забирали его из школы и отдавали в науку ремесленнику. Какому-нибудь строгому мастеру, чтобы чему-то научился. Сегодня палец о палец не ударяют. А работать, что ли, кто-нибудь хочет? Скромности нет и в помине. Поглядите на молодых людей, когда они гуляют в воскресенье. Каждой фабричной девчонке подавай новую блузку. Зачем им, доложу я вам, такие дорогие тряпки? Ведь все же ходят купаться и опять раздеваются. И купаются-то вместе с парнями. Где это было видано прежде? Работали бы, гораздо умнее было бы. Я всегда говорю, откуда у них берутся деньги? Ведь все с каждым днем дорожает. Картошка стала уже вдвое дороже. Удивительно ли, что дети наглеют? Родители им все позволяют. Раньше, бывало, закатят оплеуху-другую, справа и слева. Вот дети и слушались. Плохая пошла жизнь. Когда они маленькие, не учатся, а как вырастут – не работают.
Сперва раздражившись, оттого что она задерживала его длинной речью, Кин вскоре почувствовал какой-то удивленный интерес к ее словам. Эта необразованная особа придавала такую важность учению. В ней таилось доброе начало. Может быть, с тех пор, как она стала ежедневно общаться с его книгами. На других людях ее сословия книги не оставляли никакого отпечатка. Она была восприимчивей, быть может, мечтала об образовании.
– Вы совершенно правы, – сказал он, – я рад, что вы так верно думаете. Учение – это всё.
Они тем временем вошли в квартиру.
– Подождите, – приказал он и исчез в библиотеке. Вернулся он с каким-то томиком в левой руке. Листая книжку, он вывернул трубочкой узкие, строгие губы. – Послушайте! – сказал он и сделал ей знак отойти подальше. Предстоявшее требовало простора. С пафосом, резко противоречившим простоте текста, он прочел: – «Мой учитель велел мне писать каждый день три тысячи знаков и каждый вечер еще три тысячи. В короткие зимние дни солнце заходило рано, и я не успевал выполнить свой урок. Я выносил столик на веранду, которая выходила на запад, и дописывал там.
Поздно вечером, просматривая написанное, я уже не мог бороться с усталостью. Тогда я начал ставить возле себя два ведра с водой. Если меня одолевала сонливость, я снимал с себя платье и выливал на себя первое ведро. Раздетый, я снова садился за работу. Благодаря холодной воде я некоторое время сохранял свежесть. Постепенно я согревался, и меня снова клонило ко сну. Тогда я пускал в ход второе ведро. С помощью двух ведер я почти всегда справлялся с заданием. В ту зиму мне пошел девятый год». – Взволнованно и с восхищением захлопнул он книгу. – Так раньше учились. Отрывок из воспоминаний о молодости японского ученого Араи Хакусэки.
Во время чтения Тереза подошла ближе. Ее голова обозначала такт его фраз. Ее длинное левое ухо само тянулось навстречу словам, которые он свободно переводил с японского. Он непроизвольно держал книгу немного косо; Тереза безусловно видела незнакомые знаки и восхищалась гладкостью его чтения. Он читал так, словно в руке у него была немецкая книга.
– Ну и ну! – сказала она, он кончил, она тяжело дышала. Ее удивление развеселило его. Разве поздно, подумал он, сколько ей может быть лет? Учиться можно всегда. Начать ей следовало бы с простых романов.
Тут раздался настойчивый звонок. Тереза отворила. Маленький Метцгер всунул свой нос.
– Мне можно! – крикнул он громко. – Господин профессор позволил!
– Никаких книг! – крикнула Тереза и захлопнула дверь. За дверью неистовствовал мальчик. Он выкрикивал угрозы. Он был так зол, что нельзя было разобрать ни слова.
– Ему, доложу я вам, пальца в рот не клади! Сразу насадит пятен. Он ест на лестнице бутерброд.
Кин стоял у порога библиотеки; мальчик не заметил его. Он дружелюбно кивнул экономке. Ему было приятно, когда охраняли интересы его книг. Она заслуживала некоторой благодарности:
– Если вам захочется что-нибудь почитать, можете смело обратиться ко мне.
– С вашего позволения, я давно уже хотела попросить об этом.
Ну и оживилась она, когда зашла речь о книгах! Обычно ведь она совсем не такая. До сих пор она держалась скромно. Он не собирался устраивать библиотеку с выдачей книг на дом. Чтобы выиграть время, он ответил:
– Хорошо. Завтра что-нибудь подыщу вам.
Затем он сел за работу. Его обещание беспокоило его. Правда, она ежедневно стирает с книг пыль и еще ни одной книги не повредила. Но вытирать пыль и читать – разные вещи. У нее толстые, грубые пальцы. Тонкая бумага требует тонкого обхождения. Твердый переплет крепче чувствительных листков. И умеет ли она вообще читать? Ей далеко за пятьдесят, она не торопилась. Поздно учащимся стариком назвал Платон своего противника киника Антисфена. Теперь появляются поздно учащиеся старухи. Она хочет утолить жажду у родника. Или ей стыдно передо мной, потому что она совсем ничего не знает? Благотворительность, прекрасно, но не за чужой же счет. Почему книги должны страдать за других? Я плачу ей большое жалованье. Это мое право, это мои деньги. Отдавать на ее произвол книги было бы трусостью. Перед невеждами они беззащитны. Я не могу сидеть рядом, когда она будет читать их.
Ночью некий привязанный со всех сторон человек стоял на террасе храма и отбивался деревянными чурками от двух вздыбившихся ягуаров, свирепо наседавших на него справа и слева. Оба были украшены странными лентами самых разных цветов. Они оскаливались, фыркали и вращали глазами так дико, что мороз пробегал по коже. Небо было черное и тесное, оно спрятало свои звезды в карман. Стеклянные шары текли из глаз пленника и вдребезги разбивались, упав. Поскольку ничего не менялось, ты привыкал к жестокой борьбе и зевал. Вдруг взгляд случайно упал на лапы ягуаров. Это были человеческие стопы. Ого, мелькнуло в голове у наблюдавшего за борьбой долговязого образованного господина: это мексиканские жрецы, ведающие жертвенными обрядами. Они исполняют священную комедию. Жертва, конечно, знает, что должна умереть. Жрецы наряжены ягуарами, но я распознал их.
Тут правый ягуар берет увесистый каменный клин и ударяет им жертву в самое сердце. Один край клина взрезает грудь. Кин ослепленно закрывает глаза. Он думает, что кровь брызнет до неба, и порицает это средневековое варварство. Он ждет, чтобы кровь успела вытечь, и открывает глаза. Ужасно: из вскрытой груди выскакивает книга, затем выскакивает вторая, третья, много. Им нет конца, они падают наземь, их охватывают клейкие языки пламени. Кровь зажгла костер, книги сгорают. «Закрыть грудь! – кричит Кин пленнику. – Закрыть грудь!» Он показывает руками: вот как надо сделать, только скорей, только скорей! Пленник понимает; сильным рывком он освобождается от пут и кладет обе руки на сердце, Кин облегченно вздыхает.
Тут жертва широко-широко разрывает себе грудь. Книги, книги бьют фонтаном. Десятки, сотни, их не счесть, огонь лижет бумагу, каждая книга зовет на помощь, повсюду раздаются пронзительные вопли. Кин протягивает руки к книгам, которые полыхают ярким пламенем. Алтарь гораздо шире, чем он думал. Он делает несколько прыжков и нисколько не приближается. Теперь надо бегом, если он хочет застать их живыми. Он бежит и падает, проклятая одышка, это бывает, когда не следишь за своим телом, он готов разорвать себя от ярости. Никчемный человек, когда что-то нужно, он никуда не годится. Эти гнусные изверги! О человеческих жертвоприношениях он знал, но книги, книги! Теперь он у самого алтаря. Огонь опаляет ему волосы и брови. Костер огромен, издали он казался маленьким. Они, наверно, в самой середине пламени. Полезай туда, трус, хвастун, ничтожество!
Но почему он ругает себя? Он же в гуще огня. Где вы? Где вы? Пламя ослепляет его. Что это, черт побери, куда ни сунешь руку, везде он натыкается на кричащих людей. Они отчаянно цепляются за него. Он отбрасывает их, они опять тут как тут. Они подползают снизу и хватают его за колени, а сверху на него падают горящие факелы. Он не глядит вверх и все же отчетливо видит их. Они вцепляются ему в уши, в волосы, в плечи. Они стискивают его своими телами. Безумный шум. «Отпустите же меня! – кричит он, – я вас не знаю. Что вам от меня нужно? Как мне спасти книги?»
Вот один уже кинулся к его рту и держится за сжатые губы. Ему хочется еще что-то сказать, но он не может раскрыть рот. Он мысленно молит: они же погибнут, они же погибнут у меня! Ему хочется заплакать, где же слезы, глаза жестоко закрыты, в них тоже вцепились люди. Он хочет топнуть ногой, он пытается поднять правую ногу, – тщетно, она падает под свинцовой тяжестью горящих людей. Они ему отвратительны, эти жадные существа, никогда они не бывают довольны жизнью, он ненавидит их. Как хочется ему обижать их, мучить, ругать, он не может, не может! Ни на миг не забывает он, зачем он здесь. Глаза у него насильственно закрыты, но духом он зорок. Он видит книгу, которая растет в четыре стороны и заполняет небо и землю, все пространство до горизонта. По краям ее медленно и спокойно жрет красный жар. Неподвижно, беззвучно и невозмутимо принимает она мученическую смерть. Люди визжат, книга сгорает безмолвно. Мученики не кричат. Святые не кричат.
Тут слышится голос, он знает все и принадлежит самому богу: «Никаких книг. Все суета». Кин сразу же понимает, что это вещий голос. Он с легкостью стряхивает с себя горящее отребье и выскакивает из огня. Он спасен. Разве было больно? Адски, отвечает он себе, но все-таки не так страшно, как обычно кажется. Он бесконечно счастлив благодаря этому голосу. Он видит, как сам же вприпляску покидает алтарь. На некотором расстоянии он оборачивается. Его так и подмывает посмеяться над пустым огнем.
Вот он стоит погруженный в созерцание Рима. Он видит копошащиеся части тела, кругом все провоняло горящим мясом. Как глупы люди, он забывает свою злость, один прыжок – и они спаслись бы.
Вдруг – он не понимает, что́ с ним – люди превращаются в книги. Он громко кричит и сломя голову бросается в сторону огня. Он бежит, задыхается, ругает себя, прыгает в огонь, ищет, и его стискивают молящие тела. Старый страх охватывает его, голос бога освобождает его, он вырывается и смотрит на ту же картину с того же места. Четыре раза он дает себя одурачить. Скорость происходящего от раза к разу растет. Он знает, что обливается потом. Он втайне мечтает о передышке, дарованной ему между возбуждением и возбуждением. В четвертую передышку его настигает Страшный суд. Исполинские повозки, высотой с дом, с гору, до неба, приближаются с двух, с десяти, с двадцати сторон к прожорливому алтарю. Голос, мощный и сокрушительный, глумливо провозглашает: «Теперь это книги!» Кин вскрикивает и просыпается.
Этим сном, самым ужасным на его памяти, он был еще полчаса спустя подавлен и удручен. Оплошная спичка, когда он бродит по улице удовольствия ради, – и библиотека погибла! Она была у него застрахована и перестрахована. Но он сомневался в своей способности продолжать жить после уничтожения двадцати пяти тысяч томов, а не то что заботиться о выплате по полису. Он застраховал их в презренном состоянии духа, позднее он стыдился этого поступка. Всего охотнее он отменил бы страховку. Только чтобы никогда больше не входить в учреждение, где на книги и скот распространялись одни и те же законы, только чтобы избавить себя от агентов, которых, несомненно, послали бы к нему на дом, он вовремя делал нужные взносы.
Разложенный на составные части, сон теряет свою силу. Мексиканские пиктографические рукописи он рассматривал третьего дня. Одна из них изображала жертвоприношение пленника, которое совершали, вырядившись ягуарами, два жреца. О старике Эратосфене, александрийском библиотекаре, он подумал несколько дней назад, по поводу встречи с каким-то слепым. Название «Александрия» будило в каждом воспоминание о пожаре в знаменитой библиотеке. На одной средневековой гравюре по дереву, над наивностью которой он всегда смеялся, были карикатурно изображены десятка три евреев, горевших ярким огнем и даже на костре упрямо выкрикивавших свои молитвы. Микеланджело он восхищался; выше всего он ставил его «Страшный суд». Там грешников тащили в ад безжалостные черти. Один из про́клятых, воплощение страха и горя, прижимал ладони к трусливой тупой башке; с его ногами что-то делали черти; бед он никогда не замечал, не замечал он и собственной беды, которая теперь постигла его. Вверху стоял Христос, отнюдь не христианского вида, и проклинал жестокой, мощной рукой. Из всего этого сон и выстроил сновиденье.
Выкатив из комнаты умывальную телегу, Кин услышал непривычно высокое «Уже поднялись?». Зачем этой особе понадобилось так громко кричать, да еще в такую рань, когда почти еще спишь? Верно, он обещал ей книгу. Ей можно предложить всего лишь какой-нибудь роман. Только от романов уму пользы мало. За удовольствие, которое они, может быть, и доставляют, надо платить с лихвой: они разлагают и самый лучший характер. Учишься вживаться во всяких людей. Находишь удовольствие в непрестанной суете. Растворяешься в персонажах, которые тебе нравятся. Каждая точка зрения делается понятной. Покорно задаешься чужими целями и надолго упускаешь из виду свои собственные. Романы – это клинья, которые пишущий актер вбивает в цельную личность своего читателя. Чем лучше он рассчитает клин и сопротивление, тем расщепленнее останется личность. Романы государство должно было бы запретить.
В семь Кин снова открыл дверь. Тереза стояла перед ней, уверенно и скромно, как всегда, несколько сильнее скосив ухо.
– Позволю себе, – напомнила она нагло.
Кину ударила в голову его скудная кровь. Эта проклятая юбка торчала здесь и помнила все, что ей необдуманно обещали.
– Вы хотите книгу! – вскричал он, и голос у него сорвался. – Вы ее получите!
Он швырнул дверь ей в лицо, прошел дрожащими ногами-ходулями в третью комнату и вытащил одним пальцем «Штаны господина фон Бредова». Книга эта была у него с ранних школьных лет, тогда он давал ее читать всем одноклассникам и терпеть ее не мог из-за вида, в каком она с тех пор пребывала. Переплет в пятнах и засаленные страницы вызвали у него злорадство. Он спокойно вернулся к Терезе и поднес книгу к самым ее глазам.
– Это не нужно было, – сказала она и вытащила из-под мышки толстую пачку бумаги, оберточной бумаги, он только теперь заметил ее. Она не спеша выбрала подходящий листок и накинула его на книгу, как распашонку на младенца. Затем взяла второй листок и сказала: – Двойной шов надежнее.
Когда оказалось, что новая обложка сидит недостаточно хорошо, она сорвала ее и примерила третью.
Кин следил за ее движениями так, словно видел ее впервые в жизни. Он недооценивал ее. Она обращалась с книгами лучше, чем он. Ему старье было ненавистно, а она обертывала его сразу двумя слоями. Она не прикасалась к переплету ладонями. Она работала только кончиками пальцев. Да и пальцы были у нее совсем не такие толстые. Ему стало стыдно за себя и радостно за нее. Не следовало ли принести что-нибудь другое? Она заслуживала менее грязного материала для чтения. Ну, начать-то она могла и с этого. Все равно ей скоро понадобится вторая. При ней библиотека была в безопасности, вот уже восемь лет, а он и не знал.
– Я должен завтра уехать, – заявил он вдруг, она как раз расправляла сгибами пальцев обертку, – на несколько месяцев.
– Тогда я смогу наконец как следует вытереть пыль. Разве за час управишься?
– Как вы поступите, если случится пожар?
Она испугалась. Бумага упала на пол. Книга осталась у нее в руке.
– Боже мой, буду спасать!
– Да я вовсе не уезжаю, я просто пошутил. Кин улыбнулся. Тронутый свидетельством полной веры, что он уедет и оставит книги в одиночестве, он подошел к ней, похлопал ее по плечу костлявыми пальцами и сказал почти дружески:
– Вы славная особа.
– Посмотрю-ка, что вы для меня выбрали, – сказала она; уголки ее рта доставали уже до самых ушей. Она открыла книгу, прочла вслух: – «Штаны…» – запнулась и не покраснела. Лицо ее слегка покрылось потом. – Ну, доложу я вам, господин профессор! – воскликнула она и, мгновенно возликовав, ускользнула в кухню.
В течение следующих дней Кин старался обрести прежнюю сосредоточенность. У него тоже случались мгновения, когда он уставал от своих буквенных трудов и испытывал тайное желание выйти на люди на более долгий срок, чем то позволял его нрав. Открыто борясь с такими порывами, он терял много времени; в споре они обычно набирали силу. Поэтому он придумал более действенный способ: он старался перехитрить их. Он не клал голову на письменный стол и не предавался усталым желаниям. Он не бежал на улицу и не вступал с дураками в какие-то пустые разговоры. Напротив, он оживлял свою библиотеку изысканными друзьями. Чаще всего он склонялся к древним китайцам. Он приказывал им выйти из тома и сойти со стены, где было их место, подзывал их, усаживал, приветствовал их, угрожал им, как когда, вкладывал им в уста их собственные слова и отстаивал свое мнение до тех пор, пока они не умолкали. Дискуссии, которые он должен был вести письменно, приобретали от этого неожиданную прелесть. Он упражнялся в устной китайской речи и выпрямлял себя с помощью умных оборотов, легко и победительно слетавших с его губ. Если я пойду в театр, я услышу ничтожные разговоры, которые развлекают, вместо того чтобы наставлять, и нагоняют скуку, вместо того чтобы развлекать. Два-три полноценных часа я должен убить, чтобы в конце концов с досадой лечь спать. Мои собственные диалоги менее продолжительны, и уровень их высок. Так оправдывал он перед собой свою невинную игру, потому что со стороны она показалась бы странной.
На улицах или в книжных магазинах Кин нередко встречал варваров, которые изумляли его человеческими высказываниями. Чтобы сгладить впечатления, противоречившие его презрению к массе, он в таких случаях вспоминал один небольшой подсчет. Сколько слов произносит этот тип в день? Самое меньшее десять тысяч. Три из них имеют смысл. Случайно я услыхал эти три. Слова, которые сотнями тысяч в день мелькают у него в голове, которые у него на уме и которых он не произносит, – сплошная чушь; они написаны у него на лице; их, к счастью, не слышишь.
Экономка, впрочем, говорила мало, потому что она всегда бывала одна. Как-то сразу у них появилось что-то общее, к чему ежечасно возвращались его мысли. При виде ее ему тут же приходили на память заботливо обернутые «Штаны господина фон Бредова». Десятки лет стояла эта книга в его библиотеке. Всякий раз, когда он проходил мимо нее, от одного вида ее корешка у него екало сердце. Почему он не догадался поправить дело красивой оберткой? Он жалким образом спасовал. А вот пришла эта простая экономка и научила его уму-разуму.
Или она только разыгрывала перед ним комедию? Может быть, она подольщалась к нему, чтобы усыпить его бдительность. Его библиотека была знаменита. Из-за некоторых уникумов торговцы уже осаждали его. Может быть, она готовит большую кражу. Надо узнать, что она делает, оставаясь наедине с книгой.
Однажды он неожиданно для нее нагрянул в кухню. Недоверие мучило его, он хотел ясности. Если она будет разоблачена, он ее выгонит. Он просит стакан воды, она, видимо, не слышала, как он кричал ей. Пока она поспешно исполняла его желание, он проверил стол, перед которым она сидела. На вышитой бархатной подушечке лежала его книга. 20-я страница. Продвинулась она еще не очень далеко. Она подала ему стакан на тарелке. На руках у нее были при этом белые лайковые перчатки. Он забыл прижать пальцы к стакану, стакан упал на пол, тарелка вслед за ним. Шум и отвлечение были кстати. Он не проронил ни слова. С пятого года своей жизни, в течение тридцати пяти лет, он читал. Мысль о том, чтобы надевать для чтения перчатки, никогда не приходила ему в голову. Его смущение показалось ему самому смешным. Он взял себя в руки и спросил невзначай:
– Вы прочли еще мало?
– Я перечитываю каждую страницу раз десять, иначе нет никакой пользы.
– Вам это нравится? – Он заставлял себя задавать вопросы, а то бы он устремился вслед за водой.
– Книга всегда хороша. Понимать это надо. В ней были жирные пятна, я всячески пробовала, они не выводятся. Что мне теперь делать?
– Они и раньше там были.
– Все равно жаль. Какую, доложу я вам, ценность имеет такая книга!
Она не сказала «сколько же стоит», она сказала «имеет ценность». Она имела в виду внутреннюю ценность, не цену. А он-то болтал ей что-то о капитале, который, мол, составляет его библиотека. Эта женщина, наверно, презирала его. Это человек великолепной души. Она ночами сидела над старыми пятнами и мучилась с ними, вместо того чтобы спать. Он, из неприязни, дал ей самую растрепанную, самую захватанную, самую засаленную свою книгу, а она стала любовно за ней ухаживать. Она была милосердна – не к людям, это нетрудно, а к книгам. Она пускала к себе слабых и сирых. Она пеклась о последней, всеми покинутой, пропащей твари на земле божьей.
Кин вышел из кухни в глубоком волнении. Святой женщине он не сказал ни слова. Она слышала, как он что-то бормотал в коридоре, и знала, на что могла рассчитывать.
Походив по высоким комнатам своей библиотеки, он позвал Конфуция. Тот двинулся ему навстречу с противоположной стены спокойно и невозмутимо – в чем нет никакой заслуги, если твоя жизнь давно у тебя позади. Кин побежал к нему широченными шагами. Он забыл о всякой приличествующей почтительности. Его взбудораженность разительно отличалась от осанки китайца.
– Кажется, у меня есть какое-то образование! – крикнул он ему с расстояния в пять шагов. – Кажется, у меня есть и какой-то такт. Меня уверяли, что образование и такт составляют одно целое, что одно немыслимо без другого. Кто уверял меня в этом? Ты! – Он не боялся обращаться к Конфуцию на «ты». – И вот вдруг появляется человек без какого бы то ни было образования и обнаруживает больше такта, больше души, больше достоинства, больше человечности, чем я, ты и вся твоя школа ученых вместе взятые!
Конфуций не потерял самообладания. Он даже не забыл поклониться, прежде чем с ним заговорили. Несмотря на невероятные оскорбления, густые его брови не хмурились. Из-под них глядели древние черные глаза, мудрые, как глаза обезьяны. Он степенно открыл рот и изрек следующее:
– В пятнадцать лет моя воля была направлена на ученье, в тридцать я сложился, в сорок у меня уже не было сомнений, – но слух мой открылся лишь в шестьдесят.
Кин помнил эту фразу слово в слово. Но как ответ на его бурную атаку она очень рассердила его. Он быстро сравнил цифровые данные – сходились ли они. Когда ему было пятнадцать лет, он тайком, против воли матери, проглатывал книгу за книгой, днем в школе, ночью под одеялом, при скупом свете крошечного карманного фонарика. Случайно просыпаясь среди ночи, его младший брат Георг, которого мать приставила к нему сторожем, неукоснительно срывал с него одеяло проверки ради. От того, насколько ловко прятал он под собой фонарик и книгу, зависела читальная судьба следующих ночей. В тридцать лет у него сложилось отношение к своей науке. От профессуры он презрительно отказывался. На проценты с отцовского наследства он мог бы приятно прожить всю жизнь. Он предпочел пустить капитал на книги. Через несколько лет, может быть, только через целых три года, все будет истрачено. Денежные затруднения в будущем ему никогда не снились, стало быть, он не боялся будущего. Сорок ему было теперь. До сегодняшнего дня он не знал никаких сомнений. «Штанов господина фон Бредова» он, правда, не одолел. Шестидесяти ему еще не было, а то бы он уже открыл свой слух. Да и кому открывать ему свой слух?
Словно угадав этот вопрос, Конфуций подошел на шаг ближе, приветливо поклонился Кину, хотя тот был выше его на две головы, и дал ему такой доверительный совет:
– Наблюдай за повадкой людей, наблюдай за побудительными причинами их поступков, проверяй, в чем находят они удовлетворение. Как скрытен может быть человек! Как скрытен может быть человек!
Тут Кину стало очень грустно. Что толку знать такие слова наизусть? Надо их применять, проверять, подтверждать. Восемь лет совсем рядом со мной человек жил зря. Повадку ее я знал, а о побудительных причинах не думал. Что она делала для моей библиотеки, это я знал. Результат был у меня перед глазами ежедневно. Я думал, она делает это ради денег. С тех пор как я узнал, в чем находит она удовлетворение, я лучше знаю ее побудительные причины. Она выводит пятна на несчастных, униженных книгах, о которых никто не скажет доброго слова. Это ее отдых, это ее сон. Не застигни я ее в кухне из-за своего подлого недоверия, ее поступок никогда не стал бы известен. В своей уединенности она вышила подушку для приемыша и уложила его на мягкое. В течение восьми лет она никогда не носила перчаток. Перед тем как решиться открыть книгу, эту книгу, она пошла и купила на свои тяжело заработанные деньги пару перчаток. Она не глупа, вообще-то она особа практичная, она знает, что вместо перчаток могла бы купить три новых таких книги. Я совершил большую ошибку. В течение восьми лет я был слеп.
Конфуций не позволил ему подумать так дважды. «Ошибаясь, не исправляться – это и есть ошибаться. Совершив ошибку, не стыдись исправить ее».
Будет исправлено, воскликнул Кин. Я возмещу ей эти восемь потерянных лет. Я женюсь на ней! Она – лучшее средство для содержания в порядке моей библиотеки. При пожаре я могу на нее положиться. Если бы я создавал какую-то особу по своим планам, она не получилась бы настолько целесообразной. У нее хорошие задатки. Она прирожденная опекунша. У нее доброе сердце. Ее сердце закрыто для неграмотного отребья. Она могла бы завести любовника, какого-нибудь булочника, мясника, портного, какого-нибудь варвара, какого-нибудь болвана. Она не решается на это. Ее сердце принадлежит книгам. Что проще, чем жениться?
На Конфуция он больше не обращал внимания. Когда он случайно взглянул в его сторону, тот уже успел раствориться. Он услышал только, как голос Конфуция тихо, но ясно сказал: «Видеть нужное и не сделать нужного – это отсутствие мужества».
У Кина не было времени, чтобы поблагодарить его за это последнее ободрение. Он ринулся к кухне и так рванул дверь, что ручка ее сломалась. Тереза сидела перед своей подушкой и делала вид, что читает. Почувствовав, что он уже стоит сзади, она поднялась и дала ему увидеть его книгу. От нее не ускользнуло его впечатление от прошлого разговора. Поэтому она снова задержалась на третьей странице. Он помедлил, не нашелся что сказать и посмотрел на свои руки. Тут он заметил отломившуюся дверную ручку, он со злостью швырнул ее на пол. Затем он стал перед ней навытяжку и сказал:
– Дайте мне вашу руку!
Тереза выдохнула: «Ну, доложу вам» – и протянула ему ее. «Сейчас начнется совращение», – подумала она и вся вспотела.
– Да нет, – сказал Кин, он употребил слово «рука» не в прямом смысле, – я хочу жениться на вас!
Такого быстрого решения Тереза не ожидала. Она перекинула потрясенную голову в другую сторону и ответила гордо, борясь с заиканьем:
– Позволю себе!
Раковина
Бракосочетание состоялось без шума. Свидетелями были один старый посыльный, добивавшийся от своего дряхлого тела последних маленьких услуг, и один компанейский сапожник-пьянчужка, который, хитренько улизнув от всех собственных бракосочетаний, с большим удовольствием глядел на чужие. Заказчиков поприличнее он настоятельно просил поскорее поженить их дочерей и сыновей. В пользу ранних браков он находил убедительные доводы:
– Как только детки лягут вместе, так уже и внуки готовы. Теперь надо вам и внуков поскорей поженить, и пойдут правнуки.
В заключение он указывал на свой хороший костюм, позволяющий ему присутствовать где угодно. Перед особенно хорошими браками он отдает его в утюжку, при обычных гладит сам дома. Об одном только он молит – чтобы его заблаговременно известили. Если ему долго не случалось бывать на такой церемонии, то он, работник от природы не быстрый, предлагал починить обувь срочно и даром. Обещания, связанные с этой областью, он, хотя вообще-то на него нельзя было положиться, выполнял точно в срок и взимал действительно небольшую плату. Дети, достаточно испорченные, чтобы жениться тайком против воли родителей, но недостаточно испорченные, чтобы обойтись без регистрации брака, большей частью девицы, пользовались иногда его услугами. Вообще-то сама болтливость, он был в таких случаях скрытен. Ни единым намеком не выдавал он себя, со смаком рассказывая ничего не подозревающим матерям о бракосочетании их собственных дочерей. Прежде чем отправиться к своему «идеалу», как он это называл, он вешал на дверь мастерской внушительную вывеску. На ней было написано кудрявыми, угольно-черными буквами: «Ушел по надобности. Возможно, приду. Нижеподписавшийся – Губерт Бередингер».
Он был первым, кто узнал о счастье Терезы. Он сомневался в правдивости ее слов до тех пор, пока она обиженно не пригласила его в загс. Когда церемония закончилась, свидетели вышли вслед за молодыми на улицу. Посыльный принял плату с подобострастной благодарностью. Бормоча поздравления, он удалился. «Если снова понадобится…» – звенело у Кина в ушах. На расстоянии десяти шагов беззубый рот был еще полон усердия. Зато Губерт Бередингер был горько разочарован. Такое бракосочетание было не по нему.
Он отдавал свой костюм в утюжку, а жених явился в будничном виде, в стоптанных башмаках, в изношенной одежде, не было в нем ни радости, ни любви, вместо того чтобы смотреть на невесту, он все смотрел на бумаги. «Да» он сказал так, как сказал бы «спасибо», руку этой старухе он затем даже не предложил, а поцелуй, которым сапожник жил несколько недель, – один чужой поцелуй возмещал ему двадцать собственных, – поцелуй, ради которого ему не жаль было раскошелиться, поцелуй, который, именуясь надобностью, висел на двери мастерской, официальный поцелуй, при котором присутствовал чиновник, поцелуй честь честью, поцелуй навеки, поцелуй, этот поцелуй не состоялся вообще. Свою обиду он спрятал за язвительной ухмылкой. «Минуточку», – хихикнул он, как фотограф, Кины помедлили. Тогда он вдруг склонился к какой-то женщине, ущипнул ее за подбородок, громко сказал «гугу» и стал похотливо обследовать ее пышные формы. Толще и толще становилось его круглое лицо, щеки натягивались, вокруг глаз дергались юркие змейки, его жесткие руки описывали все более широкие дуги. С каждой секундой женщина увеличивалась. Два взгляда посылались ей, третьим он ободрял жениха. Потом он совсем привлек ее к себе и левой рукой грубо схватил за грудь.
Правда, женщины, с которой развлекался сапожник, не существовало, но Кин понял эту бесстыдную игру и потянул прочь глядевшую на нее Терезу.
– Нализываются уже с утра! – сказала Тереза и вцепилась в руку мужа: она тоже была возмущена.
На ближайшей остановке они подождали трамвая. Чтобы подчеркнуть, что и этот день такой же, как все другие, Кин не взял такси. Подошел их вагон; он первым вскочил на подножку. Уже на площадке он подумал, что первой следовало бы пройти жене. Он слез спиной к улице и сильно толкнул Терезу. Кондуктор дал злобный сигнал отправления. Трамвай ушел без них.
– В чем дело? – спросила Тереза с упреком. Он, видимо, причинил ей немалую боль.
– Я хотел вам помочь подняться – тебе – пардон.
– Ну, – сказала она, – еще чего не хватало. Когда они наконец уселись, он заплатил за двоих.
Так надеялся он загладить свою неловкость. Кондуктор вручил ей билеты. Вместо того чтобы поблагодарить, она осклабилась; плечом она толкнула сидевшего рядом с ней мужа.
– Да? – спросил он.
– Можно подумать, – насмешливо сказала она и помахала билетами за тучной спиной кондуктора. Она смеется над ним, подумал Кин и промолчал.
Он начал чувствовать себя неуютно. Вагон наполнялся. Напротив него села какая-то женщина. Она везла с собой целых четырех детей, мал мала меньше. Двоих она держала у себя на коленях, двое стояли. Господин, сидевший справа от Терезы, вышел. «Вон там, вон там!» – воскликнула мать и быстро дала знак своим шалунам. Дети стали протискиваться туда, мальчик и девочка, оба еще дошкольного возраста. С другой стороны приближался какой-то пожилой господин. Тереза подняла руки, защищая свободное место. Дети пролезли под ними. Им не терпелось что-нибудь сделать самим. Головы их вынырнули у самой скамейки. Тереза смахнула их, как пыль.
– Мои дети! – закричала мать. – Что вы делаете?
– Ну, доложу вам, – ответила Тереза и со значением посмотрела на мужа. – Дети в последнюю очередь.
Пожилой господин тем временем подошел, поблагодарил и сел.
Кин перехватил взгляд жены. Ему захотелось, чтобы здесь оказался его брат Георг. Тот практиковал в Париже как гинеколог. Хотя ему еще не было тридцати пяти, он пользовался подозрительно хорошей репутацией. В женщинах он разбирался лучше, чем в книгах. Через какие-нибудь два года после окончания института его уже осаждало высшее общество, в той мере, в какой оно хворало, а оно, со всеми своими страждущими женщинами, хворало всегда. Уже этот внешний успех навлекал на него полное презрение Петера. Его красоту он Георгу, может быть, и простил бы, она была у него от природы, он не был в ней виноват. Искусственно обезобразить себя, чтобы избежать тягостных следствий такой большой красоты, не позволял ему слабый, увы, характер. Сколь слабый, можно было судить по тому, что он изменил избранной специальности и открыто переметнулся к психиатрии. Там он будто бы чего-то достиг. В душе он оставался гинекологом. Безнравственный образ жизни был у него в крови. Без малого восемь лет назад Петер, возмутившись нетвердостью Георга, сразу прекратил переписку с ним и порвал несколько тревожных писем. А на то, что он рвал, он имел обыкновение не отвечать.
Женитьба давала сейчас прекрасный повод возобновить отношения. Влиянию Петера Георг был обязан своей любовью к научной деятельности. Обратиться к нему за советом, вторгшись в его истинную, естественную специальность, было бы вовсе не стыдно. Как обходиться с этим робким, скрытным существом? Она была уже не молода и относилась к жизни очень серьезно. У женщины, сидевшей напротив нее, несомненно куда более молодой, было уже четверо детей, у нее их вообще не было. «Дети в последнюю очередь». Это звучало очень ясно, но что она действительно имела в виду? Может быть, она не хотела детей; он тоже не хотел их. Он никогда не думал о детях. Зачем она это сказала? Может быть, она считает его безнравственным человеком? Она знает его жизнь. Уже восемь лет ей известны его привычки. Она знает, что у него есть характер. Разве он когда-нибудь уходил ночью? Разве к нему когда-нибудь приходила женщина, хотя бы на четверть часа? Когда она приступила к службе у него, он решительно заявил ей, что принципиально не принимает никаких гостей ни мужского, ни женского пола, начиная с младенцев и кончая древними стариками. Пусть она выпроваживает любого. «У меня никогда нет времени!» – это были его собственные слова. Что за бес вселился в нее? Может быть, этот распоясавшийся сапожник. Она была наивным, невинным созданием, как иначе, при своей необразованности, прониклась бы она такой любовью к книгам? Но этот грязный малый играл слишком грубо. Его движения были прозрачны, даже ребенок, не зная, зачем тот вытворяет это, понял бы, что он ощупывал женщину. Таким типам, распускающимся публично, место в закрытых лечебницах. Они наводят людей на гнусные мысли. Она человек дельный. Сапожник ее заразил. С чего бы иначе она подумала о детях? Не исключено, что она об этом слышала. Женщины много говорят между собой. Она, наверно, видела роды, на каком-нибудь прежнем месте работы. Что тут такого, если она все знает. Лучше, чем если бы самому пришлось просвещать ее. Какая-то застенчивость есть в ее взгляде, в ее возрасте это производит почти смешное впечатление.
Я и не собирался требовать от нее никаких пошлостей, вот уж нет. У меня никогда нет времени. Шесть часов мне нужно на сон. До двенадцати я работаю, в шесть мне надо вставать. Собаки и прочие животные могут и днем заниматься такими вещами. Может быть, от брака она ждет этого? Вряд ли. Дети в последнюю очередь. Глупая. Она хотела сказать, что все это знает. Знает цепь, в конце которой – готовые дети. Она выражает это прелестным образом. Она отталкивается от маленького эпизода, дети разбаловались, фраза эта напрашивалась, но взгляд был адресован лишь мне, вместо всяческих исповедей. Понятно. Ведь такие знания вызывают неловкость. Я женился из-за книг, дети в последнюю очередь. Это ничего не значит. Она тогда сочла, что дети учатся слишком мало. Я прочел ей отрывок из Араи Хакусэки. Она была вне себя от радости. Так она себя впервые и выдала. Кто знает, когда бы я еще распознал ее отношение к книгам. Тогда мы сблизились. Может быть, она хочет только напомнить об этом. Она все та же. Ее мнение о детях не изменилось с тех пор. Мои друзья – это ее друзья. Мои враги остаются врагами и для нее. Короткой речи смысл невинный. О других связях она понятия не имеет. Мне надо быть начеку. Она может испугаться. Я буду осторожен. Как я скажу это ей? Говорить трудно. Книг об этом у меня нет. Купить? Нет. Что подумает книготорговец? Я не свинья. Послать кого-нибудь? Кого? Ее самое – тьфу ты, собственную жену! Как можно быть таким трусом. Я должен попробовать. Я сам. Если она не захочет. Она закричит. Жильцы – управляющий домом – полиция – отребье. Мне ничего нельзя сделать. Я женат. Мое право. Отвратительно. Как это мне пришло в голову? Меня заразил сапожник, не ее. Стыдись. В течение сорока лет. И вдруг. Я ее пощажу. Дети в последнюю очередь. Знать бы, что она действительно имела в виду. Сфинкс.
Тут встала мать четверых детей. «Осторожно!» – предупредила она и стала подвигать их вперед левой рукой. Справа, рядом с Терезой, находилась она, отважный офицер. Вопреки ожиданию Кина, она кивнула ей, приветливо попрощалась со своей недоброжелательницей, сказала:
– Вам хорошо. Вы еще не замужем! – и засмеялась, рот ее на прощанье сверкнул золотыми зубами. Лишь когда она вышла, Тереза вскочила и закричала отчаянным голосом:
– Извольте, мой муж, извольте, мой муж! Мы просто не хотим детей! Извольте, мой муж!
Она указывала на него, она тянула его за рукав. Я должен успокоить ее, думал он. Эта сцена была для него мучительна, Тереза нуждалась в его защите, она всё кричала и кричала. Наконец он поднялся на всю свою длину и сказал при всех пассажирах:
– Да.
Ее обидели, она должна была защищаться. Ее ответ был так же неделикатен, как и нападение на нее. Она была не виновата. Тереза опустилась на сиденье. Никто, даже тот господин рядом с ней, которому она помогла занять место, не взял ее сторону. Мир был отравлен симпатией к детям. Через две остановки Кины выходили. Тереза шла впереди. Он вдруг услышал, как за спиной у него говорят:
– Самое лучшее у нее – юбка.
– Крепость.
– Бедняга он.
– Что поделать – старуха не сахар.
Все засмеялись. Кондуктор и Тереза, которая пребывала уже на площадке, ничего не услышали. Но кондуктор все-таки засмеялся. На улице Тереза с довольным видом взяла мужа под руку и сказала:
– Ну и весельчак!
Весельчак высунулся из тронувшегося вагона, приложил руку ко рту и неразборчиво пробурчал какие-то слова. Он весь трясся, несомненно, от смеха. Тереза кивнула и в ответ на недоуменный взгляд оправдалась словами:
– Еще, того гляди, выпадет из вагона.
А Кин украдкой посмотрел на ее юбку. Она была синее, чем обычно, и накрахмалена еще жестче. Юбка была неотъемлема от нее, как раковина от моллюска. Попробуй-ка силой раскрыть створки раковины, в которой замкнулся моллюск. Огромный моллюск, величиной с эту юбку. Надо его растоптать, превратить в слизь и обломки, как тогда в детстве на берегу моря. Раковина не приоткрывала ни щелки. Он никогда не видел голого моллюска. Какую тварь прятала скорлупа с такой силой? Он хотел это узнать, тотчас же, в руках у него была твердая, упрямая штука, он мучился, орудуя пальцами и ногтями, моллюск мучился тоже. Он поклялся себе, что не сойдет с места, пока не взломает раковину. Моллюск поклялся себе в противном. Моллюск не хотел, чтобы его увидели. «Почему моллюск стыдится, – думал он, – я потом отпущу его на волю, даже снова закрою, я не причиню ему никакого вреда, обещаю, если он глухой, то пусть боженька передаст ему мое обещание». Он уговаривал раковину несколько часов. Его слова были так же слабы, как его пальцы. Окольных путей он терпеть не мог, двигаться к цели он любил только напрямик. Под вечер мимо проходил большой пароход, далеко в море. Он, Кин, ринулся на могучие черные буквы на борту и прочел название «Александр». Тут он рассмеялся среди своей ярости, мгновенно надел башмаки, швырнул раковину изо всех сил на землю и, ликуя, сплясал на ней гордиев танец. Теперь вся оболочка моллюска оказалась ненужной. Его башмаки раздавили ее. Вскоре моллюск лежал перед ним нагишом, комочек беды, слизи и надувательства и вообще не животное.
Терезы без оболочки – без юбки – не существовало. Юбка всегда безупречно накрахмалена. Это ее переплет, синий, цельнотканевый. Она ценит хорошие переплеты. Почему складки со временем не расходятся? Ясно, что она очень часто гладит юбку. Может быть, у нее их две. Никакой разницы не заметно. Ловкая особа. Никак нельзя мне мять ее юбку. Она лишится чувств от огорчения. Что мне делать, если она вдруг лишится чувств? Я заранее попрошу у нее прощения. Потом она сможет снова выгладить юбку. Я выйду тем временем в другую комнату. Почему ей просто не надеть вторую? Очень уж много трудностей чинит она мне. Она была моей экономкой, я женился на ней. Пусть купит себе дюжину юбок и почаще меняет их. Тогда можно будет крахмалить их не так жестко. Чрезмерная жесткость смешна. Люди в трамвае правы.
Подниматься по лестнице было нелегко. Незаметно для себя он замедлил шаг. На третьем этаже он решил, что находится уже у себя наверху, и испугался. С пеньем навстречу бежал маленький Метцгер. Едва увидев Кина, он указал на Терезу и пожаловался:
– Она не впускает меня! Она всегда захлопывает дверь. Отругай ее, господин профессор!
– Что это значит? – спросил Кин грозно, благодарный за козла отпущения, который вдруг явился как по заказу.
– Вы же разрешили мне. Я сказал ей это.
– Кому это «ей»?
– Вот этой!
– Вот этой?
– Да, мать сказала мне, что она не должна грубить, она всего лишь слуга.
– Ах ты паршивец! – воскликнул Кин и размахнулся, чтобы дать мальчишке затрещину. Тот пригнулся, споткнулся, упал и, чтобы не скатиться с лестницы, вцепился в юбку Терезы. Послышался хруст, который издает, когда его расправляют, накрахмаленное белье.
– Каково! – кричал Кин. – Ты еще и грубишь! Этот мальчишка издевался над ним. Вне себя от злости, он пнул его несколько раз ногами, кряхтя, приподнял его за вихор, влепил ему две-три костлявые оплеухи и затем отшвырнул его в сторону. Малыш с плачем побежал по ступенькам вверх.
– Я скажу матери! Я скажу матери!
Наверху отворилась и снова захлопнулась дверь. Женский голос начал браниться.
– Жаль ведь хорошей юбки, – оправдала Тереза это жестокое избиение и, остановившись, как-то особенно взглянула на своего защитника. Самое время было подготовить ее. Надо было что-то сказать. Он тоже остановился.
– Да, действительно, хорошая юбка. «Что прочно на земле?» – процитировал он, обрадовавшись своей находчивости, позволившей ему намекнуть на то, что позднее во всяком случае должно было последовать, словами прекрасного старого стихотворения. Стихами можно наилучшим образом сказать все. Стихи подходят к любой ситуации. Они называют предмет его самым церемонным именем, и все же их понимаешь. Уже продолжая идти, он повернулся к ней и сказал:
– Прекрасное стихотворение, правда?
– О да, стихи всегда прекрасны. Надо только понимать их.
– Все надо понимать, – сказал он медленно и со значением и покраснел.
Тереза толкнула его локтем в ребра, вздернула правое плечо, откинула голову в непривычную сторону и сказала колко и вызывающе:
– Что ж, видно будет. В тихом омуте черти водятся.
У него было такое чувство, что она имеет в виду его. Ее ответ он понял как неодобрение. Он сожалел о своем бесстыдном намеке. Язвительный тон ее замечания отнял у него последний остаток мужества.
– Я… я не то хотел сказать, – промямлил он. Входная дверь спасла его от дальнейшего смущения.
Он был рад поводу полезть в карман и поискать ключи. Так он хотя бы мог незаметно опустить взгляд. Он не нашел их.
– Я забыл ключи, – сказал он. Теперь он должен взломать квартиру, как тогда раковину. Трудности одна за другой, ничего не удается. Он растерянно полез в другой карман штанов. Нет, ключей нигде не было. Он продолжал искать, когда услышал какой-то звук со стороны замка. Взломщики! – мелькнуло молнией у него в голове. В тот же миг он увидел возле замка ее руку.
– Зато мои при мне, – сказала она, довольная донельзя.
Счастье, что он не позвал «на помощь». Это уже вертелось у него на языке. Всю жизнь ему пришлось бы стыдиться ее. Он вел себя как мальчишка. Забыть ключи – такого с ним еще не бывало.
Наконец они оказались в квартире. Тереза открыла дверь в его спальню и направила его туда.
– Я сейчас приду, – сказала она и оставила его одного.
Он огляделся и облегченно вздохнул, выпущенный из тюрьмы на волю.
Да, это его родина. Здесь с ним ничего не может случиться. Он улыбается, представив себе, что здесь с ним может случиться что-либо. Он избегает глядеть в сторону дивана, где спит. Каждому человеку нужна родина, не такая, как понимают ее примитивные ура-патриоты, и не религия, вялое предвкушение родины на том свете, нет, а родина, смыкающая почву, работу, друзей, отдых и духовный мир в одно естественное, упорядоченное целое, в собственный космос. Лучшее определение родины – библиотека. Женщин умнее всего держать подальше от своей родины. Если все-таки решаешься принять туда какую-нибудь, то сперва надо постараться, как он это сделал, чтобы она полностью ассимилировалась там. За восемь долгих, тихих, упорных лет книги добились для него покорности этой женщины. Сам он для этого и пальцем не пошевельнул. Его друзья завоевали эту женщину от его имени. Конечно, против женщин можно сказать многое, только дурак женится без испытательного срока. У него хватило ума подождать до сорока лет. Пусть другой попробует выдержать, как он, этот восьмилетний испытательный срок. То, что должно было произойти, созрело постепенно. Сам человек – своей судьбы владыка. Если вдуматься, то ему не хватало только жены. Он не бонвиван, – при слове «бонвиван» он представляет себе своего брата Георга, гинеколога, – он что угодно, только не бонвиван. Но тяжелые сны последнего времени были, вероятно, связаны с его чрезмерно суровой жизнью. Теперь это изменится.
Смешно и дальше уклоняться от положенного. Он мужчина, что должно произойти теперь? Произойти? Это чересчур. Сперва надо определить, когда это должно произойти. Сейчас она будет отчаянно защищаться. Его не должно это смущать. Понятно, что женщина защищает свое последнее достояние. Как только это произойдет, она будет восхищаться им, потому что он мужчина. Таковы будто бы все женщины. Произойдет это, стало быть, сейчас. Решено. Он дает себе честное слово.




















