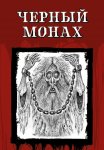BlackGrifon
Добавлен: 13.03.2024 03:33
Когда еще руки дойдут до «Серапионовых братьев», а перечитать культовую сказку – всегда с удовольствием. В переводе И. Татарниковой блистательное ехидство Эрнста Теодора Амадея Гофмана каждый раз открывает потайные донья искусной литературной шкатулки. Например, только сейчас стало очевидным, что рассказчик упоминает кота Мурра. И таким образом увязывает произведения в одну авторскую вселенную еще до того, как это стало мейнстримом.Но самое любимое в сказке – это средневековые грубости, которые Гофман изящно протаскивает в гостиную добропорядочного чиновника. Здесь полно забавных ритуалов, а Кукольное царство –и вовсе жесткая пародия на рококо, которому сегодня наследует гламур. Детская наивность и готический страх, деконструкция и морализаторский пафос – атомная смесь, в которой каждый читатель может запрыгнуть на свой уровень восприятия.«Сказка о твердом орехе» - шедевр в шедевре. Помимо того, что Гофман искусно сплетает вымысел и действительность, едко и коварно запутывая читателя в рассказываемых историях и их проекциях на реальность, это неподражаемый образец сказочной деконструкции. Мощный сарказм черпает вдохновение в бесстыдном средневековье, когда королева сама рубит колбасы, а король впадает в ипохондрию, почувствовав недостаток сала. Королевское самодурство – частый прием в народном сказительстве. Но у Гофмана персонажи обретают полнокровные человеческие черты, которые не заслоняет безудержный и горьковатый смех. Формально соблюдая приличия, писатель замаскировал пикантные аллюзии, в том числе и на политику. Гротеск рисует царство террора, из которого исчезает милосердие, и кровная месть ослепляет, лишает разума. Отчасти здесь есть и свифтовские мотивы в соотношении объемов, сопоставления масштабов причины и последствий конфликта.Не удивительно, что сказка стала конфетно-кружевным символом Рождества. Ведь здесь есть чудеса, творимые добрым сердцем и вечная мечта всех детей быть принцами и принцессами. Хотя Гофман исподтишка ставит вопрос о том, является ли внешняя красота обозначением красоты внутренней, по умолчанию считается, что благополучный итог – когда есть и то, и другое. Но ведь сложно не заметить иронию в финале, когда вновь перемешиваются потусторонние фантазии и повседневность. Мари, которая внезапно доросла до свадьбы, получает не награду за свое сострадание уродцу, а какое-то карикатурное видение.Кстати, художник Роберт Ингпен не делает Мари красавицей. Возможно, этой девочке еще предстоит стать принцессой, но непослушные соломенные волосы, болезненно-бледная кожа, маленький носик указывают на вычитанную из текста неврастеничность. В версии Ингпена Мари не единожды болеет после приступа ночного кошмара, а будто постоянно находится на грани жизни и смерти. Отсюда и медиумические способности. Правда, не всегда художник так трепетно читал сказку. Например, доломан на Щелкунчике не фиолетовый, а клишированный красный. Да и на голове не шапка рудокопа, изначальный образ игрушки, а монархическая корона (и вот тут фиолетовый бархат!). Глазки у изуродованной Пирлипат не зеленые, а воспаленно-красные. На руку победившего Щелкунчика Ингпен не стал надевать золотые коронки, хотя сабля патетически окровавлена. И самое интересное в работе художника над сказкой не цветные иллюстрации, а карандашные наброски. На них гораздо больше подробностей и они напоминают раскадровки или эскизы костюмов и грима для театральной постановки. Все они настолько замечательные, выразительные, действенные, что хотелось бы однажды увидеть их воплощенными на сцене. Всегда искусный стилизатор с без труда узнаваемой манерой, Ингпен передал не только романтический дух начала XIX века, но и отдал дань балету. На одной из иллюстраций есть целая галерея мышей в танцевальных позах. И это, кстати, тоже часть сценической культуры – фантастических балетов, торжествовавших в XVIII веке и возродившихся в начале XX столетия.