Читать онлайн Малуша. Пламя северных вод бесплатно
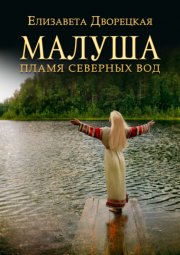
Часть первая
Эти две женщины состояли между собой в родстве уже двадцать пять лет – с тех пор как юная Эльга вышла замуж за старшего сына Сванхейд. Обе они были знатного рода и каждая много лет полновластно правила в своей части великого Восточного Пути: одна в Хольмгарде над Волховом, в северной его оконечности, а другая в Киеве, где было его сердце. Но сегодня, в один из дней последнего месяца зимы, они впервые в жизни увиделись воочию. В первый раз за все эти годы Эльга киевская с дружиной отправилась на север, к реке Великой, в свои родные края. Ловать привела ее к Ильмень-озеру, и дальше обоз двинулся вдоль западного его берега, до устья другой большой реки – Шелони. Шелонь, что текла к озеру с запада, служила дорогой к Плескову. Но прежде чем повернуть на запад, Эльга, оставив дружину, обоз и челядь в Будгоще, с десятком отроков пересекла по льду Ильмень, чтобы хотя бы раз в жизни повидаться со своей старой свекровью.
Более десяти лет уже не было в живых Ингвара – сына одной из них и мужа другой, того, чья память их связывала. И, когда Эльга вошла в просторную гридницу старого хозяйского дома, когда Сванхейд сделала несколько шагов ей навстречу – редкая честь, какой старая госпожа удостаивала лишь самых почетных своих гостей, – когда они впервые взглянули друг на друга, обе сразу подумали о нем.
– А твой сын похож на тебя, – сказала Сванхейд, знавшая Святослава. – Только глаза и лоб у него от Ингвара.
«Она совсем не похожа на сына, – отметила в это время Эльга, хотя понимала, что трудно было бы отыскать сходство между семидесятилетней, морщинистой, сгорбленной старухой и мужчиной в расцвете сил, каким был Ингвар, когда она видела его в последний раз. – Разве что глаза…»
Зато большое сходство было между самой Сванхейд и ее обиталищем, Хольмгардом, самым старым и прославленным варяжским гнездом на Волхове. Полтораста лет назад площадка городца была обнесена стеной в виде дуги, что упиралась концами в берега Волхова и прикрывала поселение со стороны суши, оставляя открытым выход к воде, как многие поселения норманнов в разных частях света. Поначалу его укрепления состояли из четырех рядов бревенчатых срубов, засыпанных землей, и глубокого широкого рва. Из этого гнезда варяжске вожди вели войны, подчиняя себя ближние и дальние волости. В округе городцов было немало: и варяжских, и словенских, из-за чего этот край у варягов получил название Гарды – Города. Но уже давно укрепления Хольмгарда не подновлялись, год за годом их подмывали разливы Волхова. Сейчас от четырех рядов городней уцелели только два, тын над ними разрушился, ров заплыл, занесенный паводками, и на некоторых его участках уже выстроили хлебные клети с печами для выпечки и разные кладовки. Только на южном конце дуги, со стороны озера, над воротами, сохранилась вежа, с которой можно было видеть реку от самого истока. Такова же была и Сванхейд: мощная и прекрасная прежде башня обветшала, сохранив лишь следы былого величия. Эльга много слышала о ней в давние годы, когда это была рослая, статная, не слишком красивая лицом, но величественной повадки женщина. Как и Эльга, после смерти мужа она осталась госпожой в своем краю и много лет управляла им твердой рукой. Но годы согнули ее, лицо покрыли морщины, лишь взгляд голубых глаз, по-прежнему острый и умный, да уверенная речь выдавали, что рассудок и дух ее не понесли урона в битве со временем.
– Садись, – Сванхейд кивнула гостье на резное кресло возле своего почетного хозяйского сидения. – Обычно здесь сидит Бер, мой внук, но он охотно тебе уступит…
Эльга улыбнулась, глянув на крепкого светловолосого парня лет восемнадцати, который встретил ее на причале и проводил сюда. Это был единственный сын ее родной сестры Бериславы, и его она сегодня тоже увидела впервые.
– Или ты хочешь сесть сюда? – слегка дрожащая рука Сванхейд указала на высокое кресло хозяйки; его подлокотники были украшены резными бородатыми головами, а на сидении лежала подушка, обшитая куньим мехом. – Ты имеешь на это право. Еще когда Ингвар… – она сглотнула и перевела дух, словно от имени сына ей сушило горло, – единственный раз был здесь, я сказала ему: если бы ты привез твою княгиню, я уступила бы ей место хозяйки, потому что ты – истинный глава этого дома.
Сванхейд и правда нелегко было говорить об Ингваре. Всю жизнь она провела в разлуке с тем из своих сыновей, кто наиболее возвысил род; мать почти его не знала и теперь смотрела на его вдову, будто надеялась перенять у нее знание того, кто ушел от них навсегда.
– Нет, нет, – с улыбкой возразила Эльга. – Я ни за что не лишу тебя места, которое ты украшала целых пятьдесят лет.
– Но ты – госпожа всех земель от Варяжского моря и до Греческого. Мой сын объединил их и сделала тебя их хозяйкой.
– Теперь уже не я их госпожа. У моего сына есть жена, княгиня Прияслава. Теперь он владеет всеми нашими землями и Прияна делит с ним эту власть.
– Но я слышала, между ними неладно и она оставила его? Вернулась к родне в Свинческ, уже года два назад, разве нет? И вместе с ребенком?
– Так было. Но наконец этот разлад в прошлом. Перед Карачуном Прияна возвратилась в Киев и привезла сына. Ему уже два года. Я верю, теперь между ними все пойдет ладно.
Эльга подавила вздох. Примирение сына с невесткой стоило ей немалых трудов и было оплачено дорогой ценой.
– Так значит, мы с тобой обе теперь лишь старые вдовы, – промолвила Сванхейд и, повернувшись, побрела назад к своему престолу. Светловолосый внук подал ей руку и помог усесться. – Давай тогда сядем и поговорим, как две старые вдовы. Ради чего ты пустилась в такой долгий путь? Ведь не для того же, чтобы меня повидать?
Хоть Эльга и славилась мудростью, ответить на этот вопрос было не так легко. Почти два месяца она ехала из Киева на север, в Плесков, где родилась сорок лет назад и где жила ее кровная родня, но княгиня киевская не ездит в такую даль ради родственных свиданий.
– Ты ведь собираешься вернуться? – видя заминку, Сванхейд пристально взглянула на нее.
Быть может, с возвращением в Киев молодой княгини для старой там не осталось места?
– Куда? – Гостья не сразу поняла ее.
– В Киев.
– О да! – Эльга как будто удивилась. – Разумеется, я вернусь. Меня никто не гнал из дома. Как ты могла подумать?
– Отчего же нет? – Сванхейд повела рукой. – Твой сын, а мой внук, отличается суровым нравом. Ведь та твоя родня, что сейчас живет в Плескове, туда не по доброй воле приехала. Святослав изгнал из Киева сводного брата. Едва не убил. Это правда, слухи меня не обманули?
Эльга промолчала, не возражая.
– Я ведь знаю Святослава, – продолжала Сванхейд. – Он прожил у меня здесь два года. Те последние два года… пока Ингвар был жив. Он был еще отрок, но крутой нрав в нем уже был виден.
Эльга взглянула на Бера: тот молча усмехнулся и прикусил нижнюю губу, будто мог кое-что порассказать о крутом нраве своего двоюродного брата – киевского князя Святослава.
– Это правда, что нрав у него нелегкий, – согласилась Эльга. – Но у него, слава богу, хватает ума понять, что без советов матери собственный нрав его погубит. Он хочет жить, как Харальд Боезуб или как Ивар Широкие Объятия, завоевать все страны, какие только ему известны. Но что происходит в уже покоренных землях, его мало занимает, лишь бы ему платили дань и давали людей в войско для новых походов.
– Это мы заметили! – Сванхейд прищурилась. – Вот уже десять лет как он здешний князь, но мы ни разу еще не видели его!
– Прошлым летом он собирался на угличей и дальше от них на запад, но поход сорвался, потому что к нам наконец прибыли послы от Романа…
– Да, я слышала, Константин умер. Что об этом рассказывают?
За минувший год случилось столько всяких событий, что повествование затянулось. Смерть Константина, цесаря греческого, посольство от его сына и наследника – Романа, приезд в Киев Адальберта – епископа, назначенного для руси Оттоном, королем восточных франков. Но Святослав вынудил епископа уехать, и на обратном пути на немцев напали разбойники. Вожак разбойников при этом оказался убит, и в нем узнали Володислава – бывшего князя древлян, который уже десять лет, со времен войны в земле Деревской, считался погибшим. Лишь минувшей весной вдруг выяснилось, что он жив и скрывался.
– Но теперь он несомненно мертв, его опознали несколько человек, кто хорошо знал его в лицо. В их числе Олег Предславич, – рассказывала Эльга, и Сванхейд кивала: Олега она знала, он был ее зятем. – А у меня на руках осталось двое Володиславовых детей. Они в Киеве с той зимы, когда мы разбили древлян, но поначалу жили с матерью, Предславой. А когда два года назад она уехала в Плесков, они остались у меня. Их двое, сын и дочь. Девушку мы зовем Малушей, но ее первое имя было Мальфрид – в честь бабки.
– Мальфрид? – повторила Сванхейд, и голос ее дрогнул. – Она ведь внучка моей дочери Мальфрид?
– Да, дочь Предславы, твоей внучки от Мальфрид. Она уже совсем взрослая. Я держала ее при себе, она носила мои ключи, но было немало охотников взять ее в жены. Я отослала ее во Вручий, к ее деду Олегу, но ее едва не похитил Етон плеснецкий. Оставлять ее в наших краях было слишком опасно, и я решила, что лучше ей уехать из Русской земли и жить со своей матерью. Подальше от всех наших раздоров…
– Так ты привезла ее с собой? – Сванхейд наклонилась вперед. – Эту девушку?
– Да, я хочу, чтобы она жила с Предславой.
– Где же она? Я хочу повидать мою правнучку.
– Я оставила ее в Будгоще, со всем обозом.
– Что же так? – Сванхейд явно была недовольна. – Это ведь старшая моя правнучка, и она уже совсем взрослая… При мне никого почти не осталось, вон только Бер. Я была бы рада…
– Она сейчас не совсем здорова, – сдержанно ответила Эльга, намекая, что хочет уйти от этого разговора. – Пусть отдохнет пока в Будгоще у Вояны, наберется сил. А потом у матери ей будет лучше всего.
Эльга пробыла в Хольмгарде только одну ночь, а наутро пустилась в обратный путь через озеро, к своим людям. Сванхейд сама вышла проводить ее к внутреннему причалу, где ждали сани на льду. Потом Бер повел бабку обратно в покои, придерживая под руку, чтобы не поскользнулась на утоптанном снегу. Оба поначалу молчали, пытаясь уяснить себе впечатления от этой встречи. Знаменитая киевская родственница оправдала свою славу: она была еще красива, умна, держалась просто, но в каждом движении ее, в каждом взгляде сказывалось величие. Сама она вроде бы вовсе не думала о своем высоком положении, но, видя ее, забыть о нем было невозможно. От всего ее облика исходило ощущение значимости, как тонкий дух греческих благовоний от ее одежды. Слушать ее было весьма любопытно, однако…
– Ты знаешь, – сказала Сванхейд внуку, когда он усадил ее на скамью возле очага, – я вот думаю, а не провела ли она меня?
– Провела, дроттнинг[1]? – Бер поднял светлые брови.
– Она рассказала столько всего занятного – про греков, про немцев, про древлян, про бужан… Но главного я так не поняла. Зачем все-таки она поехала в Плесков?
* * *
Когда Малуша вспоминала свой последний приезд в Киев, ей казалось, что там все время было темно. Со Святославом и гридями они добрались до города поздно вечером, почти ночью; она помнила, как сидела позади седла у Хольгера, телохранителя, а вдоль тынов теснились люди; раздавались радостные крики, огонь факелов бросал рыжие отблески на веселые лица. Потом пришел день – единственный полный день, который она тогда провела в Киеве, но этого дня она не помнила: так быстро он проскользнул и опять сменился ночью. Ведь был канун Карачуна – в эту пору почти и не рассветает. Потом настал тот тяжкий вечер, когда она ждала Святослава и заснула, не дождавшись, потом проснулась ночью и ужаснулась, что его рядом нет. Потом пришло утро, когда она видела его в последний раз… нет, в предпоследний. Он отправился на Святую гору к матери еще в темноте, а потом вернулся и сказал… что ей, Малуше, нужно уехать из города, потому что на днях приезжает Прияна, завтра или даже сегодня… Его водимая жена и молодая княгиня киевская. Она согласилась к нему вернуться.
Даже сейчас, два с лишним месяца спустя, у Малуши при этих воспоминаниях наворачивались слезы от боли в груди, от острого, режущего чувства несправедливости. Хотелось спросить у кого-то: почему с ней так обошлись? Чем она заслужила это унижение и тоску? Но кого спросить – Христа? Отец Ригор говорил, что бог кого любит, тому и испытания посылает. Но Малуша никак не могла понять, что из любви можно так мучить человека.
– Почему ты так худо за ней глядела? – почти кричала мать на Эльгу, когда они все приехали в Варягино на реке Великой и Предслава узнала, что случилось с ее дочерью. И правда вышло небывалое дело, если мать, всегда такая веселая и покладистая, возвысила голос на свою старшую родственницу, а к тому же княгиню киевскую! – Я оставила ее тебе! Я думала, ты будешь за ней смотреть как следует! А она в твоем доме осрамилась с ног до головы и нас всех опозорила!
– Ты думаешь, я хотела этого? – возмущенно отвечала Эльга. – Спроси у нее – я хотела? Я ее к Святше в постель посылала? Да я им велела и не думать, когда они мне только в первый раз сказали! Я вызвала Прияну из Свинческа! Я отослала Горяну в монастырь в землю Оттонову, к йотуну на рога, чтобы Прияна могла приехать! А Малфу я отправила к твоему отцу! Сама отвезла и с рук на руки передала! Что же дед так худо внучку стерег, что и трех месяцев не прошло, она у Святши оказалась, будто ее Встрешник перенес! Думаешь, я хотела этого позора в роду! Да я Святше сказала – не оставишь ее, прокляну! Вон, Свенельдич подтвердит!
Мать рыдала и просила прощения.
– Зачем вы меня за Володислава выдали? – причитала она. – Все беды от этого пошли!
– Твой отец вас обручил, – с досадой напоминала Эльга. – Нам осталось только тот уговор выполнить. А у нас, знаешь, в ту зиму не такие красные были дела, чтобы слово нарушать.
Про Малушу они забыли – не замечали, что она сидит в углу и все это слышит. Многого она раньше не знала. «Знать, судьба ее такая горькая!» – говорила мать потом. «Видно, так!» – с досадой отвечала Эльга, недовольная, что судьба одолела даже ее.
Княгиня ведь думала, что в силах одолеть судьбу. Со своей она управилась. А чужая вырвалась из рук. И, пытаясь что-то исправить, спасти род от позора и поношения, Эльга уехала из Киева в темную зимнюю пору, повлеклась с дружиной и обозом на край света, в Плесковскую землю, надеясь скрыть от людей, что ее единственный сын наградил ребенком деву своего же рода, ее, Эльги, двоюродную правнучку. А по отцовской ветви она, Малуша, происходит из князей деревских, и в этом корень ее бед. Родство с князьями деревскими еще малым ребенком привело ее в плен и в рабство, не позволило устроить жизнь как у всех. Из-за этого родства ее не отпускали замуж, пока она не попыталась помочь себе сама. Теперь она бывшая княжна деревская, бывшая полонянка и княгинина ключница, бывшая Святославова хоть[2]… А в настоящем-то она кто?
Мстислав Свенельдич, воевода, молчал, не встревая в спор женщин. Но Малуша и сейчас, после долгого совместного путешествия, бросала на него настороженные взгляды. Если княгиня и правда захочет, чтобы ее совсем не было, Свенельдич устроит это, не успеешь глазом моргнуть.
Но что там Свенельдич! Малуше казалось, что все ее родичи, даже мать, смотрят на нее откуда-то с острова Буяна и совсем-совсем не понимают, чего она хочет. Даже мать пришла в такое отчаяние, что почти накричала на княгиню, только потому, что та не помешала им со Святославом сойтись. Сама же Малуша куда сильнее гневалась на то, что их разлучили. Быть со Святославом она хотела сильнее всего. Даже сейчас. Но была не так глупа, чтобы обманывать себя, и давно уже поняла: первый виновник их разлуки – сам Святослав. Если бы он любил ее, их не разлучили бы ни Горяна, ни Прияна, ни Эльга, ни Свенельдич, ни лысый йотун. Но он больше не хотел ее видеть. Он позволил матери увезти ее на край света, чтобы убрать с глаз. И Малуше хотелось умереть – не то чтобы досадить ему, не то чтобы порадовать.
Но ничего такого она делать не собиралась. Была ведь причина, по которой ее увезли так далеко, а не отправили в село под Киевом переждать, пока слухи не улягутся.
Дитя. Ее ребенок, который ей остался на память о том месяце, когда Святослав при людях звал ее своей женой. И который должен был родиться, как Малуша высчитала, осенью, к окончанию жатвы.
* * *
Что теперь делать с глупой девчонкой? Даже мудрая княгиня Эльга не могла придумать, как поступить. Для сохранения позорной тайны лучше всего было бы отправить девушку в такое место, где ее совсем никто не знал, но Эльга не решалась отпустить ее с глаз. Она хотела обеспечить Малуше надежный присмотр и поэтому привезла ее к тем людям, кому сильнее всех доверяла: к своей сестре Уте, к брату Кетилю, к Предславе, матери Малуши, и Алдану, ее второму мужу. Но здесь, в Варягино, в полупереходе от Плескова, их род слишком хорошо знали: братья Олега Вещего и их потомки держали брод Великой уже лет тридцать. Сами князья плесковичей состояли ними в родстве: мать Эльги была плесковской княжной. Здесь семейную тайну не спрячешь.
Но в этих же краях имелась возможность найти самый лучший совет и помощь – помощь самой Нави. Эльга довольно скоро после приезда подумала об этом – едва узнала от Уты, что за годы ее отсутствия Бура-баба не сменилась, что в избушке за болотами живет все та же женщина, – но решилась не сразу. Не страх перед краем Окольного вызывал в ней дрожь и не память о своей вине перед чурами. Бура-баба… Всякий плесковский ребенок содрогался при мысли о старухе в птичьей личине, живущей в избушке с черепами на кольях, хотя никогда ее не видел. А Эльга знала ее еще в те годы, когда та была не старухой, а молодой красивой женщиной, живущей с мужем-воеводой и шестерыми детьми… Войдя в ту избушку с черепами на кольях, Эльга впервые за двадцать пять лет увидит свою мать… Тяжело ходить в Навь, но вдесятеро тяжелее – когда идешь повидаться с теми, кто был тебе близок в белом свете.
Но иного выхода Эльга не видела. Жизненная нить Малуши, ее младшей родственницы, так запуталась, что лишь Бура-баба и могла бы ее распутать. Человеческому уму это дело не под силу. Только чурам, зрящим со звезд.
В лес Эльга отправилась верхом. Провожали ее два старших племянника – Улеб и его младший брат Велерад. Тот шел впереди по узкой тропе через лес, ведя под уздцы лошадь Эльги, а Улеб с лукошком в руке замыкал маленькое шествие. Через ближний край леса было проложено немало тропок, но сестричи шли уверенно. По пути Эльга искала глазами голый ствол старой сосны с обломанной верхушкой – запомнился с детства, как первый страж навьей межи. Но точного места не помнила и не нашла: может, не сумела разглядеть среди заснеженных зарослей, а может, ствол тот рухнул и гниет в подлеске. И это удивляло: казалось, Навь должна быть неизменной, застывшей навек, как след на камне. А она тоже меняется… Как может меняться мертвое? Только двигаться в сторону жизни, нету во вселенной другого пути…
Сестричи проводили ее до ручья, а там остались стеречь лошадь. Улеб передал Эльге лукошко, потом помог сойти со склона ближнего, живого берега, но на лед не спустился – в Навь толпой не ходят. Эльга уцепилась за ветки куста и сама взобралась на тот берег. Ручей был невелик, берег невысок, а тропу еще не занесло: каждые несколько дней здесь кто-то проходил. Но было так же тревожно, как если бы ей предстояло дальше идти по дну озера.
Против своих ожиданий, на мертвом берегу Эльга успокоилась. Ничего вокруг не изменилось, и перехода в Закрадье она не ощутила. Пыталась вспомнить: а в юности ощущала? Но не помнила – кажется, в тот раз, когда они с Утой юными девушками приходили сюда, то дрожмя дрожали всю дорогу от дома.
Здесь тропинка была у́же – от берега к тыну ходят по одному. Эльга шла не торопясь, осторожно пробиралась меж сугробов, чтобы не споткнуться. В одной руке несла лукошко, другой придерживала подол длинного куньего кожуха. Ута предлагала ей для этой вылазки кожух попроще, на веверице, но Эльга отказалась: зачем скрывать, кто она такая, от тех, кто и так все на свете знает?
Впереди показался знакомый серый тын. Вот уже видны коровьи и лошадиные черепа на кольях – тоже заснеженные, замерзшие. Два-три было свежих.
Эльга сама себе дивилась – совсем не страшно. Она всю дорогу ждала, когда навалится былая жуть, а той все не было. И лес, и тропка, и тын впереди казались обыденными, даже черепа на кольях не внушали прежнего трепета. Это в юности им, девчонкам с брода, мнилось, что здесь всему миру середина. А казалось – окраина. Дальний глухой закоулок, где веками ничего не меняется. И сами Буры-бабы, сменяя одна другую, носят все ту же птичью личину, одно общее на всех лицо, одно общее на всех имя.
Тропинка подводила прямо к левой стороне ворот – к той, через какую полагалось входить. Будто клюка, к ближнему бревну была прислонена длинная серая кость. Эльга огляделась. Скалили крупные зубы лошадиные черепа, к коровьим рогам прилип мелкий лесной сор. Ей по-прежнему не было страшно. Время близилось к полудню, выглянуло солнце и светило, несмотря на сугробы кругом, совсем уже по-весеннему. Даже повеяло свежим запахом подтаявшего снега, несущим бодрость и ожидание летней воли. Ведь до равноденствия седьмицы три осталось, весна скоро!
От ходьбы по снегу в длинном кожухе Эльга запыхалась и теперь постояла, переводя дух. Потом рукой в варежке взяла кость и постучала ее концом в воротную створку. Теперь это не казалось ей путешествием в Навь – только обрядом, к которому надо отнестись с уважением.
– Избушка, повернись в Нави задом, ко мне передом! – попросила Эльга и толкнула левую створку ворот.
Та открылась, и в проем Эльга увидела хозяйку, в буром медвежьем кожухе мехом наружу – та прошла полпути от избушки к воротам. Слишком рано она взялась за створку, не дождалась ответа – дряхлая хозяйка не успела подойти. Одновременно с этим Эльга жадно глянула, сердце оборвалось – не та! Это не могла быть ее мать – и рост не тот, и вся она какая-то усохшая, согнутая… Матушка, Домолюба Судогостевна, была красавица, рослая, румяная, русые косы в руку толщиной, как сейчас у сестры Володеи…
– Ты кто… по делу пытаешь или от дела… – чирикнула хозяйка из-под птичьей личины из бересты.
Эльга снова вздрогнула. Феотоке Парфене[3]! Йотунов ты свет, а ведь это и впрямь она! Не другая. Голос остался почти прежним, только стал слабее. Нельзя не узнать голос своей матери – тот, который научаешься распознавать еще из утробы. А что высохла и согнулась – так ведь матушке седьмой десяток! И двадцать пять лет она здесь, в Нави, и живет. Те двадцать пять лет, пока ее вторая дочь правила в далеком Киеве… И мать узнала ее скорее, чем она – мать. Оттого и дрогнул голос, покачнулась клюка в сухой морщинистой руке. Оттого она сбилась, произнося слова, которые произносила за эти годы сотни раз при виде очередного гостя.
– По делу я… – ответила Эльга, скорее сердечно, чем испуганно. – Дозволишь войти… матушка?
Главным ее чувством была жалость. Боги, какая она старая! Еле ходит. Клюка у нее для подмоги слабым ногам, а не для страху. Горшок с киселем дрожит в другой руке.
– Марушка нам всем здешним матушка… – прошамкала старуха, но это следовало понимать как позволение.
Эльга все же дождалась, пока Бура-баба дойдет до ворот и протянет ей киселя на костяной ложке. А та шагала с куда большей робостью, чем гостья – будто сама испугалась пришелицы из живого мира.
Проглотив холодный кисель, Эльга прошла за ворота и притворила за собой створку. Даже на свежем воздухе леса ощущался исходивший от старухи запах – плотный, хоть потрогать. Запах тела, которое редко моют, запах дыма, сосновой смолы и хвои. А главное – запах старости, запах внутреннего тления. Душа переворачивалась. Прими ты хоть всю мудрость Занебесья и Закрадья, а нет таких, кто неподвластен времени. Но как жутко видеть жертвой неумолимой дряхлости собственную мать – ту, что привела тебя в белый свет и уже готова показать обратную дорогу… И придется идти за ней. Поколения не властны разорвать эту цепь – за кем пришел, за тем уйдешь. Что бы ни менялось в мире, этот закон нерушим. Сейчас Эльга с непреложной ясностью осознала это: как ни далеко она ушла от своей девичьей, плесковской жизни, незримая цепь потянулась за ней.
Вслед за старухой она прошла через двор. Приметила на снегу, кроме старушечьих, и еще чьи-то следы – большие, мужские. Сегодня кто-то проходил здесь в поршнях от снега, надетых поверх черевьев и набитых соломой для тепла. Не сидит ли у Буры-бабы гость?
Но в избушке было пусто. Дверь ее показалась Эльге совсем низкой, как лаз. Внутри висел густой дух старушечьего жилья. После светлого дня Эльга ничего не видела и, разогнувшись, первые два шага сделала ощупью. А когда глаза привыкли, изумилась: до чего же избушка мала! Как будто другая, не та, в какой она побывала двадцать пять лет назад… Да нет, новой изба не выглядит. Вот печка, где они с Утой варили бабке кашу, вон полати, где та, прежняя Бура-баба сидела, когда пряла ее Эльги, судьбу. А вон и столбушка[4] прислонена – орудие нынешней Буры-бабы.
– Принесла тебе гостинца, – Эльга поставила на лавку лукошко. – С поклоном от сестры моей Уты и прочих наших.
Бура-баба молчала. Но Эльга, которую годы киевской жизни наделили развитым чутьем, слышала, что это молчание не сердитое, а потрясенное, растерянное. Она сама-то где только ни побывала – до самого Царьграда добиралась, перед золотым Соломоновым троном стояла. Видела Святую Софию, Великую Церковь в Великом Городе, всю из разноцветного мрамора и золота, сама огромная, как волшебный город, глянешь под свод – голова кругом. А Бура-баба знает только свой двор, да ближний лес, да «божье поле», куда ее возят раз в год на окончание жатвы. За все двадцать пять лет в существовании ее не бывало ничего нового. Явись к ней вместо Эльги сама Марушка, и то удивила бы не сильнее.
– Видно, Сыр-Матёр-Дуб перевернулся… вниз ветвями, вверх корнями… – промолвила наконец Бура-баба. – Садись, коли пришла.
Эльга села. Еще раз огляделась. Нет, это какая-то другая избушка! Все было такое, как она запомнила – лавки, оконце на полуночную сторону – а не на полуденную, как у людей, и от этого не отпускало чувство перевернутости, иномирности. Полати, ларь, каменные жернова в бадье, ступа с пестом и метлой в углу. И хотя она отлично помнила, что это за ступа и метла, даже они, орудия Марены, не внушали ей трепета. Тем же осталось старое щербатое дерево, но дух из него ушел…
Или это она сама изменилась? Уж слишком много всего ей привелось повидать за эти двадцать пять лет. И каменных дворцов, и таких же темных, дымных землянок. Сильнее всех ее поражает именно это – осознание того, как далеко от былого увело ее время.
А может, крещение ее защищает. Дух остался в метле и ступе, но над нею старые боги не имеют власти. Поэтому ей больше не страшно здесь.
Так не напрасно ли она пришла? Малуша ведь тоже крещена. Судьба ее не во власти чуров, и чем ей поможет Бура-баба?
Но нет. Корень их общей вины так глубоко в памяти рода, что Христос до него не доберется. Только эта старуха, которая и есть корень рода.
– Рассказывай, с чем пришла? – слабый голос хозяйки прервал ее раздумья.
Бура-баба тоже села, напротив ее, поставила посох между колен и вцепилась в него обеими руками. Эльга старалась не смотреть на эти руки – боялась узнать их и вновь почувствовать режущую боль ушедшего времени.
– В роду моем беда случилась, – начала Эльга, подавляя вздох. – Большая беда, позорная…
Не настолько она позабыла обычаи, чтобы не уметь себя вести в этой избушке. Бура-баба – мать всем и никому, у нее нет имени. Никто из ныне живущих не может зваться ее родней. Эльга стала рассказывать о своей беде, и сильнее стыда ее мучила отчужденность – о родном внуке своей матери она вынуждена говорить как о чужом ей.
Да и к лучшему. За двадцать пять лет впервые до бабки дошла весть о никогда не виденном внуке – что девка из своей же родни от него дитя понесла.
Бура-баба слушала молча, не перебивая. Под личиной Эльга не видела ее глаз, но улавливала напряженное внимание. Рассказала обо всем – как впервые узнала, что Святослав хочет взять Малфу в жены, как запретила им об этом и думать, как пыталась помешать, отправила девушку за леса и реки, аж во Вручий. И как узнала за пару дней до Карачуна, что ушедший в полюдье Святослав уже месяц возит Малушу с собой по земле Полянской и называет своей женой…
– Я сюда ее привезла. Она сейчас в Варягине. Здесь мать за ней будет смотреть, и сестра моя. Но боюсь я… сумеем ли избыть беду? Не скажется ли еще? Что с тем дитем будет? Я думаю Малушу выдать замуж поскорее, чтобы дитя у молодухи родилось, как у людей водится. Но тревожно мне… уж если прицепилось лихо, от него не убежишь. Как бы хуже не сделать.
– Эх, матушки… – старуха покачала головой. – Княжьим столом ты владеешь, дружинами ратными повелеваешь, все земли обошла, все хитрости превзошла… А в своей семье, за своим сыном не доглядела!
– Он не дитя. Я десять лет за ним доглядываю, как он, отрок на четырнадцатом году, на стол отцовский сел. А теперь он зрелый муж, своих детей имеет, ему своя воля. Он меня выслушает, а сделает по-своему.
– Роды и земли, стало быть, тебе покоряются, а сын родной нет?
– Он князь русский.
Эльге не хотелось оправдываться. Она сделала что могла, но ни княгиня, ни родная мать не может управлять человеком, будто соломенной лелёшкой[5]. Противниками ее были упрямство сына и то неудержимое стремление юной девы к жениху, что пробьет даже каменные горы. Ей ли не знать? Двадцать пять лет назад и самой этой бабе – тогда еще Домолюбе Судогостевне – люди могли бы подать упрек: что же за дочерью не доглядела, позволила ей с чужими отроками в Киев бежать?
Бура-баба помолчала. Эльга вглядывалась в нее сквозь полутьму, пытаясь вновь почувствовать изначальную связь, голос родной крови. Ведь это ее мать, единственный человек на свете, кого она мысленно видела стоящим выше себя, хоть и привыкла числить ее в мертвых. Но ведь здесь – не белый свет, это рубеж Нави, и сидящая перед ней – не живая женщина, а стражница. У нее даже имя не свое, а то, что носят эти стражницы одна за другой многими веками. Эльга напоминала себе об этом, глядя в птичью клювастую личину из бересты, но за этими мыслями стояли другие: это та же самая женщина, что когда-то со слезами проводила ее, Эльгу, в лес к медведю. А теперь Эльга пришла к ней в это самый лес. И вот они сидят напротив, чуть дальше вытянутой руки. Но чувство родственной близости не приходило, не откликалось на зов рассудка. Уж слишком различную жизнь они вели эти двадцать пять лет. Дороги их лежали в противоположные стороны, и каждая ушла по своей очень, очень далеко. Теперь они дальше друг от друга, чем небо и земля. Чем эта затхлая, темная избенка – и Мега Палатион в Царьграде, с мараморяными полами и золотыми столпами.
Эльга покосилась на столбушку. Та самая, на какой ее судьбу спряли? Что там было-то? Она постаралась припомнить. Обещала ей прежняя Бура-баба долгую жизнь… потом что-то о дереве… один корень, три ствола… Она тогда поняла, что у нее будет всего один сын – потому и сбежала, чтобы сын ее не стал волхвом лесным. Это Святша. Он, выходит, тот ствол? А три ростка? У него два сына. Будет еще один? Бура-баба тогда предрекла ей вдовство – это сбылось. Эльга пыталась вспомнить еще что-нибудь важное, но не могла. Тот давний поход подвел ее к решению бежать от родных. А сделав это, она так погрузилась в новую жизнь, что причина, это пророчество, испарилось из памяти. Чуры оставили себе ее память, не позволили строптивой внучке взять с собой их самый дорогой дар.
– Не в его норове дело, – подала голос Бура-баба. – Твоя вина на детях сказалась. Ты знаешь, как ты из дома ушла, – голос ее дрогнул, и впервые она дала понять, что все знает и помнит не хуже самой Эльги. – Чуров ты обидела. Кровь их священную пролила. И куда бы ни пошла, проклятье их ты волочешь за собою, как тень свою. Оттого сын у тебя всего один, да и тот горе тебе несет, не радость.
Голос старухи дрожал. Но не от гнева – от горя. Она помнила, что речь идет о родном ее внуке. У Эльги мелькнуло в мыслях: а будь они, как все кривичи, живи одним родом под властью старейшин, вырасти Святослав на руках у ее матери – он стал бы другим? Не тем, каким вырос, повитый кольчугой вместо пелен, вскормленный с конца копья, баюканный песнями о победах дедов? Приученный считать за честь свою готовность идти вперед, прокладывая путь себе своим мечом и не оглядываясь назад? Ценить не дедовы обычаи, а свою доблесть? Не древние предания о чужих подвигах, а будущие – те, что сложат потомки о нем? Уж тогда бы он не смог…
«Да ну ладно!» – мысленно оборвала Эльга сама себя. Как будто в родах, что без совета стариков шагу не ступят, не бывает, чтобы дитя со своей кровью зачали от зимней тоски. Бывает. Случается. Вот только не часто родственный блуд ставит под угрозу божьего гнева целую державу от моря до моря.
Но насчет проклятья мать права. Эльга отчасти свыклась с этой мыслью за прошедшие месяцы, но услышать о нем из чужих уст было по-новому больно. И каких уст! Самой души материнского рода. Последней судьи и спасительницы.
– Как горю помочь? – прямо спросила Эльга. – Ты знаешь, мати. Научи меня. Что смогу, сделаю. Не хочу, чтобы проклятье мое детям и внукам передалось.
– Не спасти уж тех, кто под проклятьем родился. А кто не родился еще… Чтобы не родилось от сына твоего проклятое дитя, надо чуров просить. Авось помогут судьбу его перепечь.
– Попроси, – Эльга кротко взглянула в личину из бересты, как в живое лицо. – Кому, как не тебе? Ведь и в сыне моем, и в его чаде – твоя кровь.
Но Бура-баба отмахнулась рукой, в которой держала клюку: не хотела слушать о том, что для нее осталось на давно скрывшемся живом берегу.
– Судьбу его мне посмотреть надо. Пусть она придет… эта дева, что дитя носит. Может, выйдет из него навье дитя, а может, божье дитя…
У Эльги что-то дрогнуло внутри. Божье дитя – иначе медвежье дитя. Тот ребенок, который рождается у девы, живущей с медведем в его лесном дому. Но кто здесь будет этой девой? Малуша уже тяжела…
Блеснула в голове догадка, вспыхнула молнией надежда. Даже дух перехватило, но Эльга не позволила себе радоваться. Ничего еще не решилось.
– Я пришлю ее, – Эльга кивнула и встала. – Пойду, коли позволишь. За науку благодарю.
Свое дело как княгиня она сделала, а до родной своей матери ей не добраться – уж слишком та глубоко ушла. Она низко поклонилась, удивляясь этому ощущению. Даже цесарю Константину в его золотой палате она не кланялась – только кивнула. Но то было другое дело. Там она не желала признать себя дочерью надменного грека, чтобы не уронить честь своей земли. А здесь ей нужно было, напротив, вновь заручиться материнским покровительством этот жуткой женщины без лица, в изорванной и грязной одежде.
Эльга двинулась к двери. Протянула руку, ощутив, как здесь душно и как хочется скорее на волю к свету, свежему лесному воздуху и простору. Заснеженная чаща отсюда, из этой избы, как из могильной ямы, казалась желанной, будто цветущий луг.
– Не обидела бы ты чуров, – донесся вслед ей голос, в котором звучала не чурова, а своя, живая обида, – не ушла бы, не сгубила бы…
Речь старухи прервалась, голос иссяк.
Эльга обернулась, уже положив руку на дверь. Помолчала, потом все же сказала:
– Я не могла остаться. Если бы я осталась… сейчас эта твоя избушка ждала бы меня. А я не хочу… быть как ты. И я не жалею.
Она дернула дверь, скользнула, низко склонившись, наружу и закрыла дверь за собой, жмурясь от яркого света.
Может быть, не стоило говорить эти слова своей матери, она тоже не по своей воле сюда вселилась. Но Эльга должна была сказать это своей судьбе и всему роду кривичей, чья душа жила в этой избушке. Она приняла свое проклятье не напрасно. И она ни о чем не жалела.
* * *
По пути через лес двое провожатых косились на Малушу, будто она злым духом одержима. Обоих сыновей Уты она хорошо знала по Киеву – лет восемь на одном дворе росли. Однако теперь они держались так, будто она испорченная, и только тронь ее, скажи слово – порча на тебя перескочит. Понести дитя без мужа еще почти не беда рядом с тем, что случилось с ней – понести от родича в пятом колене. Это – проклятье. Теперь у нее в жилах как будто грязь вместо крови, а во чреве зреет змееныш.
Малуше тоже предлагали лошадь, но она отказалась. Братья сказали, что тропа хорошо натоптана, а ей нужно было запомнить обратную дорогу – назад она пойдет одна. Улеб шел впереди, она за ним, стараясь не оступиться и не заставить их вытаскивать ее из снега. Раза два останавливались, чтобы дать ей передохнуть. Улеб снимал с плеча свой толстый плащ, Велерад расчищал от снега поваленный ствол, и она усаживалась. Тяжелой она ходила конец третьего месяца – было еще незаметно. И легко носила – тошноты у нее почти не было, не болело ничего. Только есть хотелось все время. Ута как-то оборонила, что хоть в этом ей повезло. Ута знает – она носила то ли семь, то ли восемь раз.
Но даже на этих привалах братья с Малушей не разговаривали и не смотрели в лицо, будто боялись заразиться позором беззаконной похоти, в которой ее винили. Хотя уж чему-чему, а этому делу они у своего отца, Мстислава Свенельдича, научатся не хуже. Несколько лет прожившая в доме княгини, Малуша знала все Эльгины тайны, в том числе не самые приглядные. Ута когда-то родила старшего сына от Ингвара – мужа Эльги, а Эльга уже давно живет с мужем Уты, как со своим. А они сестры! Почему же ее-то, Малушу, в лес послали?
Ой! От мелькнувшей мысли стало холодно под кожухом. А что если сыновьям Уты велено завести ее в чащу и там бросить? Сиди, жди, пока придет Сивый Дед и станет расспрашивать: тепло ли тебе, девица?
– Ну, пойдемте, хватит мешкать! – воскликнула она и вскочила, отгоняя страх.
Парни молча двинулись дальше. Малуша брела за Улебом, успокаивая себя: да нет, не может быть. Если бы ее хотели оставить в лесу, то не собирали бы вчерашнего веча. На самом деле княгиня просто назвала в Варягино гостей из-за реки, но Малуше это показалось каким-то судилищем. Никто о ней дурного слова не сказал, но все так на нее посматривали… Оценивающе. Будто прикидывали, сколько девка стоит.
– Им сказали, что ты тяжела, – накануне вечером поведала ей мать. – О таком умолчать – потом хуже будет, нас обманщиками ославят. Сказали, будто с Карачуна понесла, с игрищ. И ты смотри, потом не проболтайся. Если будут спрашивать, скажи, не знаю, под личиной парень был.
Малуша молчала в ответ. Глупо было возражать: родные, пусть и сердились, хотели ее спасти. На игрищах в Купалии и Карачун случается, что девкам подол задирают. С игрища понести, когда деды возвращаются, беды нет. Чуры, значит, любят тебя. Таких девок даже охотно замуж берут, а в чьем дому дитя родится, тот и отец.
Воевода Кетиль, родной брат Уты, на днях вместе с Алданом ездил за реку, в Выбуты, в Видолюбье и еще куда-то. Толковали там со старейшинами, объясняли дело, звали в гости – невесту посмотреть.
– Мой отец у вас, Доброзоровичей, невесту взял и всю жизнь благодарил, – говорил им Кетиль, – теперь хотим долг отдать. Сия девица, Малуша, с моей сестрой и с княгиней киевской в родстве, самому Олегу Вещему праправнучка. Мать ее – Предслава Олеговна, дочь Олега Предславича, а тот сын Венцеславы, Олеговой дочери.
Об отцовском роде Малуши они умолчали, хотя здесь, на северном краю подвластных русам земель, о князьях деревских никто не думал и знать их не хотел. Другое дело – Эльга. Она плесковичам была своя, приходясь двоюродной сестрой нынешнему князю Судимеру Воиславичу. Эльга давала за Малушей хорошее приданое, и Свенельдич обещал, что старики еще подерутся за честь взять Малфу в род. Ее одели в крашеное платье, повесили на очелье серебряные заушницы, на грудь снизки разноцветных бусин, перстни, обручья – целое приданое на себе, а то ли еще будет! Велели угощать гостей. Уж это Малуша умела, как никто – года три подносила ковши в княгининой гриднице. Только улыбаться не могла себя заставить. Бросала короткие взгляды на незнакомые бородатые лица. Где-то среди них ее будущий свекор – родной батюшка, лютый медведушко… Малуша и не хотела знать, который – на вид они все одинаковые, почтенные. Сыновей-женихов даже не привели – не их ума дело. Ей до свадьбы и не покажут. Кого дадут – с тем и живи.
Малуша с трудом сглатывала, поднося гостям пироги, но тоска не отступала, душила. На глаза просились слезы, и спасало ее только приобретенная в киевской гриднице привычка сохранять невозмутимый вид, что бы ни происходило. Доносился голос Свенельдича: он расспрашивал старейшин о семьях, много ли сыновей, внуков, какое у кого хозяйство, сколько где засевают, сколько притереба, сколько пала[6], хороши ли были приметы на урожай озимых… Малуша знал, что он за человек – все это на самом деле занимает его не более, чем возня козявок под корягой. Но в его серых глазах светилось живое внимание, и весняки[7] отвечали охотно, уже веря, что киевский воевода – им лучший друг. К концу вечера они и правда подерутся за честь с ним породниться. Для успеха дела Свенельдич называл Малушу своей племянницей, хотя кровной родней она приходилась не ему, а его жене.
Вот-вот у нее появится жених. Какой-нибудь отрок вроде Велерада, остриженный в кружок, в беленой рубахе с тканым поясом… Или вдовец – как там эти старики рассудят, еще высватают ее за старого хрена… Вон тот, щуплый дед с коротковатой бородой все косится на нее своими глазками из чащи морщин – не с любопытством, как к будущей невестке, а с иным влечением, которое Малуша в гриднице тоже научилась с тринадцати лет отличать. Но в гриднице кто бы ее тронул, а здесь посватает ее дед за себя – и отдадут.
О Святославе Малуша старалась не вспоминать, но в этот вечер, для всех веселый, а для нее тяжкий, впервые подумала о нем не с тоской разлуки, а с гневом. Это он обрек ее на все это! И пусть она пошла с ним по доброй воле – он взял ее к себе, обещал сделать женой, а потом обманул и не смог защитить от позора и поношения! Вернее, не захотел. Натешился и выбросил из головы. Живет там со своей Прияной, будто Малуши и на свете нет, раз она ему больше не нужна.
Но она не исчезла. Святослав забыл ее, но ей еще жить и жить. Малуша понимала, что родные пытаются устроить ее дальнейшую жизнь как можно лучше. Даже Свенельдич разливается соловьем перед скучными и ненужными ему стариками, повествуя о своем давнем походе по царству Греческому, чтобы выторговать ей долю подобрее. Однако ей так тошно было думать, что Выбуты на том берегу, за бродом, отныне ее дом навсегда, а какой-то из этих весняков – ее судьба вместо Святослава, что она почти с надеждой подумала – может, она родов не переживет? Это ведь со многими случается…
После того дня Малуша отправилась в лес если не с радостью, то с надеждой. Может, эта таинственная, страшная Бура-баба, о которой говорили вполголоса, предречет ей что-то совсем другое? Не велит выдавать ее за сына Острислава Доброзоровича, или братанича Любомира Хорька, или внука Милонега Жилы. И что будет тогда… Этого Малуша не знала, даже вообразить не могла.
К Святославу ей не вернуться. Но может ведь быть, что у богов и судьбы припасено для нее нечто такое, чего ей и на ум не приходило?
* * *
– Запомнила, что сказать надо? – в пятый раз спросил Улеб, когда они остановились на берегу ручья.
Снегопадов в последние дни не было, и тут еще виднелись следы ног и копыт – с тех пор как здесь побывала Эльга.
– Да что я вам, дитя? – возмутилась Малуша. – Все я помню! Сорок раз слушала, как ваша мать рассказывала…
– Не перепутаешь? Стучи в левую створку и в нее же заходи. А выходить будешь из правой. И не шагай за ворота, пока Бура-баба тебе не даст киселя на ложке. За ложку сама руками не хватайся.
– И кость не бери голой рукой, – добавил Велерад. – Через варежку. Летом через рукав берут или через подол.
– Какие вы мудрые оба стали! – фыркнула Малуша. – Хоть сейчас в волхвы!
– Мы крещеные, нам нельзя в волхвы, – без улыбки ответил Велерад.
Улеб вздохнул и наконец прикоснулся к плечу Малуши – первый знак приязни, что она от них получила со дня приезда. Она поймала его взгляд: в нем было не презрение, как у некоторых, а скорее жалость. Уж Улеб-то знает, как играет человеком судьба и как может сломить и опозорить без вины. Велерад и сейчас на нее не посмотрел, храня хмурый вид. В свои семнадцать средний сын Мистины держался очень надменно, как никто в семье. Малуша была на два года его моложе, а ей казалось, что старше лет на десять. Молодые бывают строже стариков к чужим проступкам: кто сам в жизни еще обжечься не успел, всегда думает, что успеет отдернуть руку. Год-другой назад она и сама в душе презирала девок, приносивших в подоле, и была уверена, что сумеет остеречься. Но когда ее впервые потянуло к Святославу, когда она задумалась о нем как о своей судьбе, ей и в голову не приходило, будто надо чего-то «остерегаться!»
Малуша отвернулась от братьев, взяла собранное Утой лукошко и, придерживая подол, решительно полезла вниз, на лед ручья. С таким чувством, что оставляет позади всю свою злополучную прежнюю жизнь. Ах, если бы можно было!
Узкая тропа уводила в глубь ельника и скрывалась за развесистыми зелеными лапами. Малуша продвигалась вперед осторожно, прислушиваясь к звукам леса. Не так уж часто ей, почти всю жизнь проведшей в Киеве, приходилось бывать в лесу. Что это за птица стрекочет, щелкает? На глаза ей попался бараний череп на сучке дерева; Малуша вздрогнула и забыла о птицах. Это же навья тропа! Здесь, может, и не птицы вовсе голос подают…
Она шла, с каждым шагом углубляясь в жуткую сказку. Повесть о Буре-бабе была одной из первых, что ей довелось услышать. Еще пока она была совсем маленькая, лет трех-четырех, и пока они всей семьей жили в Искоростене, мать рассказывала им с Добрыней, как Эльга и Ута ходили к Буре-бабе. Потом Малуша еще не раз слушала эту повесть и могла рассказать не хуже самой Уты. Про то, как знатные девы плесковской волости перед замужеством ходят к Буре-бабе в лес узнавать свою судьбу, а потом к Князю-Медведю – за благословением и освящением. Одних он быстро назад отпускает, дня через три, а иные и по году с ним в лесу живут. Эльге предстояло идти туда – родичи хотели выдать ее за ловацкого князя Дивислава. На Ловати в те годы был свой князь. Но Эльга не желала ни за Дивислава выходить, ни у медведя жить. Молодой Ингвар из Киева хотел взять ее в жены и прислал Мистину Свенельдича, своего побратима. И когда Князь-Медведь явился за Эльгой, она притворилась покорной и пошла с ним. А следом Ута провела Мистину с четырьмя отроками. Они убили старого Князя-Медведя и увели Эльгу с собой. А Ута осталась ухаживать за Бурой-бабой – та умирала. Ута смеялась, когда рассказывала: дескать, думала, не выпустят меня, заставят вместо Буры-бабы Навь стеречь[8]. В те дни-то ей было не до смеха!
И вот сейчас та жутковатая сказка ждала Малушу наяву. Или все это снится ей – ельник, тропа, лукошко, оттягивающее руку… серый тын за дальними стволами… белые черепа на кольях…
Ноги отяжелели, но неведомая сила будто толкала Малушу в спину: иди, иди! Ее вел сам обряд – ступив на эту тропу, свернуть в сторону или оборотиться вспять уже нельзя. На обрядах держится равновесие мира, и каждый, смертный или бессмертный, выполняет свою долю этой работы.
Малуша медленно приблизилась к левой створке ворот. Поставила лукошко на снег, взяла рукой в варежке длинную кость и постучала. Стук показался ей глухим и слишком тихим. Однако постучать еще раз она сочла дерзостью и стала просто ждать. Кому надо – те услышат.
Полагается ждать отклика. А когда ее с той стороны спросят, зачем пришла, надо сказать…
Створка ворот скрипнула и отворилась. Позади стояла старуха – невысокая, щуплая, одетая в какую-то рванину и кожух мехом наружу. Из-под грязноватого красного платка свисали тонкие седые пряди, а глаза из гущи морщин пристально смотрели на гостью.
Малуша опешила: она ждала увидеть птичью личину и заранее готовилась не испугаться. Но хозяйка была без всякой личины, и только красный платок – знак принадлежности к Окольному, – отличал ее от обычных старух.
– Ты кто, девица? – тихим голосом спросила она. Будто здесь самая обычная изба.
– М-ма… Я – княжна древлянская, дочь Володислава и Предславы, – несмотря на растерянность, Малуша все же выцепила из памяти заготовленный ответ. – Пришла о судьбе моей спросить.
– Сколько лет не слышали мы тут русского духа, – хозяйка качнула головой, – а теперь что ни день зачастил…
– Я – не русь! – Малуша мятежно вскинула голову. – Я – древлянского рода, от корня Дулебова.
Она произнесла эти слова, будто в прорубь прыгнула. В Киеве она не посмела бы так сказать – даже так подумать. Ее мать считала себя русью, даже когда была древлянской княгиней и жила в Искоростене. Овдовев и вскоре выйдя за Алдана, она забыла о той жизни, как о неприятном сне. Но ее детям от Володислава отцовская кровь не давала забыть – эта кровь обрекла их на участь вечных пленников, рабов. Им тоже предписывалось забыть свой истинный род, но и забвение не сделало бы их свободными.
А здесь, в этом лесу, перед очами старухи, которую звали корнем рода и владычицей судьбы, Малуша вдруг ощутила неведомую ей никогда прежде свободу. Сама судьба вышла к ней навстречу с открытым лицом – так могла ли она лукавить с нею?
– Коли так, заходи, – старуха посторонилась и подняла небольшой самолепный горшок, который держала в другой руке. – Угощайся – без того нет тебе ходу в мой предел.
Малуша наклонилась и взяла в рот ложку овсяного киселя. В словах старухи слышалось обещание – шагнуть в ее предел означало обрести силу.
* * *
– Ты пойми: я должна была стать княгиней! – втолковывала Малуша старухе, что сидела напротив нее. – Но как иначе я могла того добиться? В ту войну Святослав меня всего лишил – рода, дома, земли родной, даже воли! И он один мог все это мне воротить. И… – она набрала в грудь воздуху, будто собиралась кричать, однако сказала очень тихо, – он такой… его как видишь, ни о чем больше не думаешь. Только чтобы быть с ним и делать так, чтобы ему было хорошо. И мнится, все, чего он хочет – оно так и должно быть. Даже если он тебя не любит…
– А он любил тебя? Ласков с тобою был?
– Он… я не знаю. – Малуша задумалась, пытаясь вспомнить. – Ему как будто нравилось, что я с ним. Он не обижал меня, нет. Подарки дарил. Веселый был со мной. Я так радовалась, что он меня в жены взял, что не думала…
Она запнулась, не зная, как выразить и ей самой не до конца понятное. Когда все решилось между нею и Святославом, она была так счастлива, достигнув своей цели, что о любви почти не думала. Казалось, если Святослав назовет ее своей женой, то с этим к ней придет все – любовь, честь, почет, богатство, неизменное счастье. Испытывала ли она это счастье? Скорее сознавала. Телом Святослав был рядом с ней, но мыслями и душой – далеко. Для нее не находилось места в его сердце, там все уже было полно. И не только Прияной. Прияна занимала в его душе все место, отведенное для женщин, но было его немного. Самой главной женой и возлюбленной этого человека была слава. Ради нее он был готов на все, к ней устремлялись его помыслы днем и ночью, и о собственной дружине он думал больше, чем обо всех на свете женщинах. Поэтому дружина обожала своего вождя, а вот женщины к Святославу не слишком-то влеклись, несмотря на его молодость, молодецкую внешность, знатный род, удаль и власть. На них от него веяло холодом, но Малуша в те дни была так полна своим огнем, что этого не заметила. Юность и наивное честолюбие ослепили ее, но она в его глазах значила слишком мало, чтобы отвлечь его от важных мыслей. А ей казалось, что если они вместе, то и она важна для него так же, как он для нее.
В избушке было почти темно, но светильник стоял на краю стола возле хозяйки, и Малуша хорошо видела ее лицо. В глазах старухи мерещилось нечто настолько знакомое, что от этого неосознанного узнавания Малушу пробирала дрожь. Уж лучше бы она в личине вышла, как положено! Ряженых Малуша не видала, что ли? Каждую зиму на Карачун такое вытворяют…
Ведь Бура-баба, к которой ходили Эльга и Ута, умерла. Прямо тогда, сразу после побега Эльги. Откуда же взялась эта, другая? И почему в ней мерещится нечто знакомое?
В ней и правда живет душа рода. Поэтому ее глаза на морщинистом лице кажутся виденными тысячу раз, хотя Малуша никогда с ней не встречалась. И она слушала гостью без гнева, без осуждения, даже головой не качала. Только всматривалась в лицо Малуши, будто хотела увидеть все то, что та не умела рассказать. Иногда посматривала на ее стан, и Малуша трепетала: а что если Бура-баба уже может разглядеть того, кто живет в ней, но внешне пока никак себя не выказывает? И это волновало Малушу всего сильнее. Что Бура-баба видит в ее чреве? Ведь ей открыто то, чего никто не может увидеть! Счастье или горе? Славу и честь или позор и поношение?
– Ты, говорят, можешь судьбу спрясть? – спросила Малуша, изложив все, что с нею приключилось.
– Ты уже спряла себе судьбу, – Бура-баба кивнула на тонкий белый поясок, обвивший еще совсем тонкий стан гостьи. – Два раза такое дело не делают. Не дождалась ты подмоги от кого постарее да помудрее, сам взялась… Что напряла себе, по той нити и пойдешь. Переменить я уже не могу.
Малуша со стыдом опустила глаза. Это правда – она взялась за дело не по своему уму. Ворожбе ее совсем не учили – кто бы стал, да и зачем? Об устройстве мира она только то и знала, что успел ей рассказать тот старый дед на Горине, хранитель веретена Зари. Но от кого ей было ждать подмоги? Только от самой себя.
– Чего же ты хочешь теперь? – спросила Бура-баба.
– Откуда мне знать? Я думала, ты меня на ум наставишь…
– Тебя замуж ладят за жениха из Выбут, да?
– Да, – Малуша отвернулась.
– Не по нраву тот жених?
– Я и не знаю, кто он будет. Они не столковались еще.
– Боишься, родня худого подберет?
– Они… нет, – Малуша мотнула головой. – Кетиль всех знает в отчине[9]. А Свенельдич… он такой, что в синем море золотую рыбу голыми руками выловит. Ему в родню худого не всучишь. Подберет самого лучшего.
– Так чего же тебе не житье? Или ждешь, что князь твой воротится?
Малуша подумала. Нет, этого она не ждала. Слишком далекие дали протянулись между нею и Святославом. Он остался будто за гранью того света – и она для него тоже. Не сойтись им, как двум берегам речным.
– Если я замуж выйду, – тихо начала она, не поднимая глаз, – и дитя мое у мужа в дому родится, там его нарекут, вырастят, и будет оно рода Любомирова или Милонегова. А оно… рода княжа. От Дулебова корня, от Олегова. Это будет дитя князя киевского. И я хочу ему… не простой доли, а высокой и яркой… как заря.
Она коснулась своего узкого белого пояска. Сотканный неровно, тот обладал скрытой волшебной силой. Недаром Малуша спряла нити для него на золотом веретене самой Зари-Зареницы. И под этим поясом ее дитя зрело, как солнце в бездне подземельной, чтобы в свой срок выйти на небосклон.
– Такую долю боги даром не дают.
– А я даром и не прошу, – тихо, но с упрямством ответила Малуша.
– Для такой судьбы дитяте надо особых сил набраться. А тебе – особую службу понести.
– Какую? – Малуша подняла глаза к лицу старухи.
– Такую судьбу не в белом свете вынашивают. А там, где самый корень сил земных и небесных живет.
– Где же это? – чуть слышно прошептала Малуша.
Но старуха не ответила. Помолчала, потом поднялась.
– Идем.
Малуша запахнула кожух и пошла за ней, на ходу затягивая верхний пояс. Бура-баба вывела ее из дома, но не повела к воротам, а завернула за угол. «Куда мы?» – хотела спросить Малуша, но прикусила язык. Она и так задала здесь слишком много вопросов. Теперь, после беседы, она точно знала: здесь не простая земля, а то поле, где зреют судьбы.
Позади избы в тыне обнаружилась еще одна калитка. Бура-баба подошла и толкнула ее.
– Вот туда ступай! – Она показала на узкую тропку, уводящую за ели.
– Но что… там? – не удержалась от вопроса Малуша. – Я же не с той стороны пришла!
– Забыла ты сказать, чтобы избушка к тебе передом повернулась, – Бура-баба улыбнулась, показав три уцелевших зуба, к удивлению Малуши, не ждавшей, что хранительница рубежа может улыбаться. – Теперь, чтобы на прежнюю дорогу попасть, с другой стороны выйти надо.
Малуша сперва поверила ей, потом усомнилась. Но делать было нечего: здесь не ее воля. Делай, что сказали.
– И ты поразмысли еще, – сказала Бура-баба, когда Малуша уже сделала шаг вперед. – Здесь камень судьбы твоей, а от него два пути-дорожки лежат. Направо пойдешь – выйдешь замуж в Выбутах, выносишь свое дитя и будешь жить с ним, как все люди живут. А налево пойдешь… вдоль края Окольного пролягут пути твои. И что ты отыщешь там – доброе ли, дурное ли, то мне неведомо.
Малуша подождала, но больше Бура-баба ничего не сказала. Поклонившись, Малуша двинулась вперед. Миновала калитку. Напутствие внушало ей надежду – значит, все же есть какой-то другой путь, которого она и сама не знает.
Позади раздался скрип затворившейся калитки. Обернуться Малуша не решалась – а вдруг там нет уже ни тына, ни избы, одни елки и сугробы? Лучше просто идти вперед.
Она сделала несколько шагов по узкой тропе среди сугробов. Впереди виднелся засыпанный снегом глубокий овраг или ров, через него – мостик из тонких бревнышек. Снег с него был счищен – значит, кто-то здесь ходит. Но кто – здесь ведь никто не живет, кроме самой Буры-бабы. Малушу не оставляло ощущение, будто она движется через сон, через морок, через какое-то болото бытия, где каждый шаг может привести к самым неожиданным последствиям. Здесь – не привычный ей людской мир. Не стоит и гадать – что впереди. Куда она придет, кого встретит?
Перед мостиком Малуша остановилась. Перед ней только одна дорожка – где право, где лево? Может, тот камень еще впереди, она просто до него не дошла?
И он вовсе не похож на камень?
Ты поразмысли, сказала ей Бура-баба. Судьба не отняла у нее выбор. Как в тех сагах, которые так любит слушать Святослав. Где приходится выбирать между жизнью и честью. Если бы Святослав видел ее сейчас, он понял бы – решимостью и жаждой вечной славы та, что носила ключи у его матери, не уступит тем дочерям древних конунгов, что были валькириями. И будет достойна его истинной любви, в которой он ей отказал.
* * *
Позади мостика тропка меж сугробов сворачивала направо. Малуша сперва усомнилась, но подумала, что развилка будет дальше, и прошла вперед. Когда все же решилась оглянуться, ни тына, ни мостика не увидела – все заслонили елки и сугробы. Вдруг заметила, что воздух сереет – день заметно прибавился к грядущему равноденствию, но все же близилась ночь. Вдруг испугавшись, Малуша заторопилась. Скоро стемнеет, а она одна в чужом лесу. Вернуться назад к Буре-бабе нельзя – там она уже была, а в такие места не ходят, как в гостевой дом на Подоле. Пока светло, ей нужно успеть дойти… куда? Она и не знала, куда идет и что ищет. Хоть куда-нибудь. Было страшно, словно ее уносило на лодочке в море – берег позади уже не достать, а впереди – лишь пустая беспредельность. Малуша прибавила шагу.
Тропка непрерывно петляла меж еловых стволов, ни впереди, ни позади Малуша почти ничего не видела. Тут и там одинаковые елки; не запутаться бы, с какой стороны она идет. Вот и развилка; Малуша уверенно свернула налево. Когда тропка опять разделилась, она опять свернула налево, но тут остановилась отдышаться. От волнения она все ускоряла шаг, стремясь прийти куда-нибудь побыстрее, и под кожухом уже вся взмокла. Она раскрыла ворот, ослабила платок на шее. Огляделась, но присесть было некуда.
Зато обнаружилось другое – потихоньку пошел снег. Крупные влажные хлопья неспешно летели с серого неба, садились на ее разгоряченный лоб. «Как красиво», – мелькнуло в мыслях, но тут же Малуша сообразила: да ей же это просто смерть! Если тропу занесет, что она будет делать? В чужом лесу, да на ночь глядя! Было не очень холодно, если идешь, но если придется сесть и ждать утра, то можно и замерзнуть.
Снова затянув платок, она пошла вперед. Снег все падал, он уже покрыл поверхность тропы, и хотя ложбину меж сугробов было видно, ноги уже вязли. К тому же снеговая влага пробралась через верхние поршни, набитую в них солому и сами черевьи, и вязаные чулки промокли.
На повороте тропинки Малуша поскользнулась и чуть не упала. Присела, привалившись к сугробу и переводя дух. Вдруг ощутила, что очень голодна – не считая ложки бабкиного киселя, она ничего не ела с утра. В горле пересохло, и она, сняв варежку, осторожно положила в рот немного снега. Вкус пушистых, холодных хлопьев напомнил ей детство, но тревога на сердце сгущалась так же быстро, как густели сумерки.
Сидеть нельзя! Малуша решительно заставила себя подняться, хотя ноги уже дрожали от усталости. Она должна куда-нибудь прийти, пока не настала ночь и снег не завалил все эти путаные тропки! Тропы не возникают сами собой – раз они есть, значит, близко люди…
А что если это звериные тропы? Что если здесь ходят не люди, а волки? Малуша наклонилась, пытаясь разглядеть отпечатки – ноги это или лапы? – но снег уже все скрыл. Будь она обычной девкой-веснянкой, то, конечно, сразу отличила бы человеческую тропу от звериной, но ей в лесу случалось бывать очень редко. Только в тот месяц, что прожила у деда во Вручем… Малуша отогнала эту мысль – не хотела думать, куда и зачем оттуда уехала и чем это закончилось.
«Да нет, не может звериная тропа начинаться прямо от бабкиной калитки!» – убеждала она себя, снова двинувшись вперед под снегопадом. Или может? Бабка-то не простая. Она из тех, кто зверям и птицам лесным мать… Но зачем-то она ее послала сюда! Велела выбрать дорогу… Если бы она сразу свернула направо, может, уже вышла бы туда, к ручью, где выход на человеческую сторону. Там она нашла бы обратный путь, где шла утром с братьями. А теперь будет кружить, пока…
Малуша упрямо перебирала ногами, хотя ей и приходилось шагов через десять останавливаться, чтобы отдышаться. Мысли стали отрывочными. Если она не успеет никуда прийти… ночевать в лесу… как? Всякий отрок это умеет, но она? Ее жизнь составляли гридница, погреба, клети, медуши, ледник, поварня… Говорят, надо развести костер… а у нее и огнива с собой нет! Кто же знал?
Вдруг она заметила, что снежинки больше не садятся на лицо. Остановилась, подняла голову. Снегопад прекратился, но так лишь заметнее стало, как успело стемнеть. Тропа впереди превратилась в ложбину меж сугробов, с покатыми краями. Позади Малуши тянулась рваная, ломаная цепочка сделов, сама наводившая на мысль о безнадежном одиночестве. Если настанет ночь, ей останется только залезть под елку… или лучше на елку, чтобы волки не достали? А сумеет она?
Малуша огляделась, выискивая елку поудобнее, и увидела, что за прорехой меж деревьями виднеется просвет. Опушка, поляна? Из последних сил она устремилась туда. Почуяла запах дыма – или ей мерещится? Окрыленная надеждой, торопясь или обрадоваться, или перестать надеяться она ускорила шаг, почти побежала, насколько позволял потяжелевший кожух и рыхлый снег под ногами. Остановилась, ловя воздух ртом.
Полянка была совсем маленькая, меньше княгининой гридницы в Киеве. На том краю из снега торчала заснеженная крыша полуземлянки. Над сугробами виднелось лишь несколько венцов ее стен, сложенных из огромных, в обхват, бревен. Из оконца слабо веяло дымом.
Застыв, Малуша вглядывалась, пытаясь понять, не мерещится ли ей это все. Это был тот самый человеческий дом, который она так жаждала увидеть, и в то же время он, лежащий под тем же ровным снеговым покровом, казался живой частью леса. Даже эти ошкуренные бревна, потемневшие от времени, будто бы продолжали расти и дышать.
Снег перед низкой дверью был истоптан – внутри кто-то есть. Малуша пыталась обрадоваться – раз есть люди, она не пропадет среди этих молчаливых елок. Но от вида избушки, от ее черного оконца веяло жутью. Кто может жить здесь – еще дальше, чем стражница Нави?
Ведь тут уже самая Навь и есть?
От этой мысли Малушу обдало холодом. Взмокшая от пота сорочка леденела под платьем и кожухом – вспотев, на холоде стоять нельзя. Навь или этот нет, но до ночи ей иного приюта в этом лесу не найти.
Задевая полами кожуха по сугробам, она двинулась к избушке. Подошла, глянула на оконце с отволоченной заслонкой, но сугробы все равно не дали бы к нему подойти. Спустилась в снеговую яму перед дверью – видно, раньше здесь были земляные ступеньки, но теперь засыпало. Собралась с духом, огляделась, но никакой кости не увидела. Наверное, можно стучать и рукой.
Замирая от волнения, Малуша стала ждать. Шли мгновения, отмечаемые бешеным стуком сердца, но изнутри никто не отзывался. Неужели никого нет? Но печь не сама же топится. Может, дверь-то отперта? Постучать еще? Позвать?
– Дома хозяева? – окликнула Малуша и хотела еще постучать…
– Здесь хозяева, – раздался низкий голос позади нее, и Малуша подпрыгнула от неожиданности.
Резко обернулась. Над ямой у входа стоял медведь на двух ногах.
* * *
Малуша не успела толком его разглядеть – лишь выхватила взглядом очертания крупного зверя, морды и торчащих небольших ушей, бурый мех… Вскрикнув, она отшатнулась, ударилась спиной о дверь – дверь подалась, и Малуша с размаха упала внутрь избушки.
Кожух отчасти смягчил падение, но ей показалось, что рухнула она прямо в бездну тьмы. Перехватило дыхание. В ушах звенело, перед глазами метались огненные пятна, голова кружилась. Малуша зажмурилась; каждый волосок пылал от потрясения, но руки и ноги онемели. Он никак не могла вдохнуть, чтобы сделать усилие и попытаться встать.
Скрипнул снег, стукнула дверь, стало совсем темно – что-то загородило дверной проем. Малуша попыталась отползти подальше от входа, но сама себя остановила – куда тут убежишь? Хотела перевернуться, но лишь оглянулась. Медведь был уже рядом; усилием заставив себя широко открыть глаза, она увидела бурую голову прямо возле себя.
– Ты не убилась? – донесся до нее низкий, но вполне человеческий голос. – Давай подниму. Да не бойся ты, не съем. Ну, не сразу…
Ей показалось, что на последних словах говоривший улыбнулся. Да разве звери могут улыбаться? Сильные руки приподняли ее, прижали спиной к чему-то большому, передвинули, развернули и усадили на твердое. Дверь закрылась, в избушке стало темно. Что-то большое прошло мимо нее, послышалось шуршание и потрескивание углей, вспыхнуло небольшое пламя, огонек приподнялся и поплыл – зажгли лучину от углей в печке.
Малуша привалилась к невидимой стене за спиной и перевела дыхание. Разом она успокоилась. Теперь ей вспомнились и другие сказки Уты – о живущем в лесу медведе, к кому они с Эльгой еще семилетними девочками ходили варить кашу. Вот и она попала к этому медведю. Чего ей ждать? Кашу она варить умеет, да и не девочка давно. Это и есть тот путь, на который ее посылала Бура-баба? Так или иначе, пришла она именно сюда и поворачивать назад поздно. Дверь закрыта, снаружи лес, снег и быстро густеющая тьма.
Загорелась вторая лучина. Огоньки были от Малуши чуть дальше вытянутой руки, и она уже начала кое-что различать во тьме. Скрипнула, стукнула заслонка на окне – печь уже не топится, нечего тепло выпускать. Малуша глубоко вдохнула.
– Ты откуда ко мне попала? – низким голосом спросила темнота.
Малуша еще робела обернуться, лишь покосилась в сторону печки. Медведь стоял в шаге от нее, опять на двух ногах, головой почти доставая до низкой кровли.
– Я… – она глубоко втянула воздух, собираясь с силами и с мыслями. Даже под угрозой немедленного съедении она не смогла бы толком рассказать, кто она такая. – Б… Бура-баба меня послала…
– Прямо ко мне и послала?
– Сказала, ступай… там твоя доля, – Малуша выдохнула, уже не помня, что сказала ей старуха.
От той беседы у нее теперь удержалось лишь общее впечатление право выбора – выбора дороги, уводящей в туман. В лес под снегопадом. Туда она и пошла и вот пришла в единственное место, в которое этот путь мог привести.
Это если повезет. Она ведь могла не найти избушки и пропасть в лесу под елкой, если только не пришел бы за ней сам Сивый Дед. Но то верная смерть. Уж лучше этот медведь. Малуша пока не решалась повернуться и как следует его рассмотреть, но в его жилье было тепло, пахло дымом, лесом и живым существом.
– Ты… Князь-Медведь, да? – она все же повернула к нему голову наполовину.
– Другого имени сроду не носил, – буркнул он чуть насмешливо, будто его веселила возможность, что его можно с кем-то спутать. – Ну, оставайся, коли пришла, я ж не зверь, на снег ночью не выгоню.
Малуше стало смешно – он говорит, что не зверь! Но она еще не настолько расхрабрилась, чтобы смеяться.
– Надо бы велеть тебе кашу варить, да печь протоплена, а каша у меня готова, – продолжал хозяин. – Кожух-то сними, а то упреешь.
Он был прав: в избенке было хорошо натоплено, и в кожухе Малуше быстро стало жарко. Однако она медлила: раздеться означало признать, что она остается. Но куда еще идти? Казалось, кроме этой избы-берлоги, в мире и вовсе ничего нет. Одна темнота.
Она развязала верхний пояс, стянула кожух, повела уставшими плечами и с облегчением вздохнула, освободившись от тяжести влажной от снега овчины. Развязала платок, спустила с головы на плечи. Провела рукой по голове, приглаживая волосы. Увезя ее из Киева, княгиня приказала ей по-старому носить девичью косу – выдавать ее замуж собирались как девицу, а не как отосланную прочь от мужа жену. Малуша тогда пыталась возражать – не бывает такого никогда, чтобы разделенную надвое косу опять заплетали в одну! «Тебе кто косу расплетал? – сурово спросила княгиня. – Кто крутил? Кто повоем покрывал?» Малуше отвечать было нечего: не мать, не свекровь, не иная большуха, а она сама в первое утро со Святославом разделила себе волосы надвое и заплела две косы. Брак, не признанный матерью жениха, законным считаться не мог, а Святослав от нее отступился. Пришлось и ей отступиться и принять облик девки, забеременевшей без мужа.
– Небось есть хочешь? – спросил Князь-Медведь.
– Да, – тихо созналась Малуша.
По сказкам Уты она знала, что медвежью кашу полагается отрабатывать. Еще втравит ее этот косматый в игру с припевом «а поймаю – съем». Только ей сейчас не хватало по углам от него скакать!
Однако вид у хозяина был ничуть не игривый.
– Иди садись, – Князь-Медведь указал ей на лавку возле стола в углу.
Малуша было встала, потом опять села и стала стаскивать поршни с соломой.
– Ноги промочила?
Малуша кивнула. Сняла обувь с правой ноги, пощупала мокрый чулок. Ноги были холодные.
Князь-Медведь подошел, присел возле нее. Малуша хотела поджать ноги, но он уже взял ее правую ступню и тоже пощупал. Во второй раз он к ней прикоснулся; ничего ужасного в этом не было, но Малушу облило дрожью от волнения. Руки у него были человеческие – кисти, пальцы, никаких черных подушек и бурых длинных когтей. На нее повеяло запахом: леса, дыма, шкуры, влажной шерсти… Запах был почти такой же, как от обычных мужчин, возвращающихся с лова. И дед, и его отроки пахли почти так же. Даже Свенельдич со своим младшим братом Лютом, когда они приезжали из леса и заглядывали к Эльге похвалиться добычей. Только у них к этому примешивался еще запах лошадей и кожаных ремней. И у Князя-Медведя лесной запах был гуще, словно исходил не от одежды, а из внутренней сущности.
А вот звери пахли совсем не так. Малуша ведь однажды встречала настоящего медведя – минувшей осенью, когда собирала клюкву в лесу возле Вручего. Чуть не засмеялась, вспомнив, как медведь и Соловец прыгали наперегонки, кто выше.
– Что смеешься? – Князь-Медведь поднял голову, и она увидела в глазных отверстиях личины его живой взгляд.
Малуша резко вдохнула, как при виде внезапной опасности. Но это был не страх, а скорее потрясение от прикосновения к чему-то потаенному. Малуша вцепилась в лавку, обливаясь дрожью, но глаз не отвела. Это же не настоящая звериная морда, это личина. Очень похоже, если не приглядываться, но ниже звериной морды видно рыжеватую короткую бороду и вполне человеческую шею. И шкура у него прикрывает только спину, а под ней – обычная рубаха и порты из некрашеной шерсти. Это человек, убеждала себя Малуша. Человек… Но с трудом верила: даже видя человека под медвежьей личиной, она не могла унять волнения от близости иного. Это далеко не обычный человек. И почему-то исходящий от него живой человеческий запах тревожил и смущал ее сильнее, чем могла бы испугать звериная вонь.
– Ступай к печи, ноги грей, – велел он.
Малуша не сразу решилась встать с места, которое уже сочла безопасным; хозяин, видимо, решил, что у нее нет сил, поэтому сам поднял ее за руку, отвел к печи и усадил на край лежанки. Потом опустился на колени и стал стаскивать с ее ноги мокрый чулок. Потом освободил левую ногу от обуви и тоже снял чулок. Повесил на загородочку, нарочно для сушку устроенную. Пощупал, проверяя, не обморожены ли пальцы. Вернулся с волчьей шкурой, знаком велел Малуше поднять ноги на лавку и завернул их в шкуру.
– Сиди так, отогревайся.
Потом погремел посудой возле стола в углу – стол был маленький, только вдвоем усесться, – принес Малуше миску каши из толченого проса и кусок хлеба. Она несколько удивилась – у лесного оборотня есть хлеб? Несмотря на голод, помедлила: приняв еды Князя-Медведя, она признает его власть над собой.
– Ешь, ешь, – он заметил ее колебания. – Коли боги тебя ко мне привели, значит, надо так.
– И что? – Малуша взглянула на него чуть исподлобья, но почти прямо. – Я должна здесь остаться?
– Сама решай, – Князь-Медведь сел близ устья печки, где внутри виднелись пылающие угли. – Тебе Бура-баба что сказала?
– Направо пойду – буду жить как люди, – поуспокоившись, Малуша вспомнила бабкино напутствие довольно отчетливо. – А налево пойду – особенную судьбу найду. Себе и… и не только себе.
Упомянуть о ребенке она пока не решилась.
– А ты хочешь жить как люди? – Князь-Медведь сидел к ней боком, но голову повернул в ее сторону.
– Как люди для меня хотят – нет, – негромко, но решительно ответила Малуша.
Как люди – это значит выйти замуж за кого-то из Выбут, ему родить княжеское дитя и забыть все былое: своих предков Олеговичей, своих дедов – князей деревских, свои мечты и надежды на возвышение… И для себя, и для дитяти. До рождения обречь его, наследника стольких княжеских родов, на обычную жизнь весняка. И хотя Малуша по опыту знала, как непроста желанная ей доля, мысли отказаться от нее все в ней противилось.
– Я тебя силой держать не стану, – сказал Князь-Медведь. – Хочешь – переночуй да возвращайся в белый свет. Я тебе и дорогу укажу. Ну а там уж придется волю родичей исполнять.
– А если я не захочу… возвращаться?
Князь-Медведь не ответил ей сразу, а какое-то время молча сидел, глядя на нее сквозь глазные отверстия личины. Словно прикидывал – а нужна ли она ему тут? Малуша сидела замерев, едва дыша, как будто решалась ее судьба. Забыла даже про миску каши, стоявшую у нее на коленях. Но сама не знала, чего хочет. Уйти? Остаться? Жить в этой берлоге, вместе с этим существом – не то человеком, не то зверем? Этого ли она желала? Может, в Выбутах оно все же лучше?
Вернувшись домой и согласившись жить в Выбутах, она решит судьбу свою и дитяти навсегда. А жить здесь, за гранью Нави – все равно что под землей. В белом свете судьбы осуществляются, а здесь они зреют. Если она сможет вырастить свою особую судьбу, выносить истинное дитя Зари, то не в Выбутах, а только здесь. А когда судьба прорастет, то сама скажется.
Пусть мудрость Нави ее научит, как быть!
– Ладно, ешь свою кашу, – Князь-Медведь отвернулся. – Утро вечера удалее, завтра еще потолкуем.
* * *
Каша была вкусная, с конопляным маслом, только несоленая. У княгини на дворе Малуша едала и получше, но никогда раньше так не радовалась миске каши. Пустую миску Князь-Медведь забрал у нее и унес к двери, где стояла лохань. Потом опять сел у печки и стал глядеть в устье, где дотлевали последние угли.
Малуша украдкой осмотрелась. Что бы она ни решила завтра, сегодня ей уж верно придется здесь ночевать. А где спать-то? Лавка, на которой она сидела, для спанья слишком узка, полатей в избушке нет. Она ведь строилась не для семьи. Лежанка здесь всего одна.
Князь-Медведь свою личину никогда, что ли, не снимает?
– Скучно так сидеть, – сказал он, едва успела она это подумать. – Расскажи что-нибудь.
– Что? – недовольно откликнулась Малуша, с тоской предвидя, что придется опять излагать все с начала про себя и Святослава.
– Ты байки знаешь какие-нибудь? А то ведь я со скуки того… могу тебя съесть.
Малуша тихонько фыркнула. Почему-то она не поверила этой угрозе. Несмотря на шкуру на плечах и личину, Князь-Медведь не выглядел существом, способным съесть девушку. Голос у него был глухой, как у того, кто не привык много разговаривать, но казался если не добрым, то хотя бы и не злым.
– Баек я много знаю, – она успокоилась. – Скажем, про то, как один человек со своим сестричем жил в лесу…
– Ну, давай, – хмыкнул Князь-Медведь, словно хотел сказать: как в лесу живут, я лучше тебя знаю.
– У одной знатной женщины должен был родиться ребенок, но она была тяжела уже шесть зим, а ребенок все не рождался, – начала Малуша.
«Сагу о Вёльсунгах» она хорошо знала, поскольку одну зиму за другой слушала ее в гриднице. Но в этот раз все было иначе: при упоминании о беременности она сразу подумала о себе, и то, что раньше было лишь любопытным случаем из древних времен, сейчас испугало, как грозное предсказание. Однако она храбро продолжала:
– И вот она решила, что нельзя так больше и пусть лучше дитя у нее из чрева вырежут, а если она умрет, то так тому и быть. Так и сделали, и дитя оказалось мальчиком, очень крупным и тяжелым. Он поцеловал мать свою, и она умерла. Дитя назвали Вёльсунг. Когда отец его умер, он стал князем всей земли Гуннской; был он велик ростом, великой мощи и отличался во всех мужских делах. Был он отважный воин, и никто не мог превзойти его в ратной доблести…
В груди закололо: при этих словах Малуша не могла не вспомнить Святослава. Сразу все: и то, что Эльга едва не умерла, когда рожала его – а лет ей тогда было столько же, сколько Малуше сейчас. И то, что он стал князем после отца и всех превзошел в доблести. И то, что она думала стать с ним повелительницей всей земли Русской, но вместо этого сидит вот в глухом лесу на северном краю света, в медвежьей берлоге, без чулок, рядом с получеловеком-полузверем и едва различает своего собеседника во тьме…
Однако она справилась с собой и почти твердым голосом продолжала:
– Но вот он вырос и женился, и было у них с женой десять сыновей и одна дочь. Все они были славные витязи, сильные, отважные, и во всяком деле никого не было их ловчее. Старший сын звался Сигмунд, и у него была сестра-близнец, Сигне, они родились вместе и никогда не расставались…
Опять с испугом подумала: а что если у нее самой родятся близнецы? Мальчик и девочка? Или два мальчика? И уже ей казалось, что это о своих будущих детях она рассказывает захватывающую, дикую, волнующую повесть.
– У князя, отца их, был большой дом, а он велел выстроить тот дом вокруг одного дерева, так что дерево росло посередине дома, и его называли родовым стволом…
Повесть была занятная: Бура-баба, не зная варяжских сказаний, никогда такой не рассказывала. Князь-Медведь слушал, одновременно разглядывая свою гостью; привыкнув смотреть сквозь отверстия личины, он видел ее гораздо лучше, чем она его. Он знал, что к Буре-бабе пришлют девку из Эльгиной родни, но старуха не предупреждала, что отправит ее сюда. Дева была особенная, таких он еще не встречал, хотя повидал их немало за те уже почти двадцать пять лет, что прожил в лесу. Другой жизни Князь-Медведь и не помнил: из белого света его забрали трехлетним дитем, и у него впрямь никогда не было другого, человеческого имени. За последние лет двенадцать-тринадцать в этой избушке перебывало немало дев, правда, ни одна еще не нашла сюда дорогу сама. Одни держались посмелее, другие робели так, что едва могли говорить. А эта вон уже басни рассказывает, будто у себя дома.
Но дело было не только в смелости. Что-то еще отличало эту, киевскую древлянку, от плесковских дев. Она родилась за тридевять земель отсюда, хотя имеет родню поблизости – в Варягино. И еще ближе – так близко, что и сама не подозревает…
При всей своей красоте и свежести эта девушка казалось лет на десять старше, чем была. В ней угадывалась привычка к множеству разных людей, знакомых и незнакомых, к разным местам, и потому она не несла на себе прочного отпечатка какого-то одного дома и рода, вечных повторяющихся впечатлений. Она привыкла к тому, что мир все время меняется. Поэтому и опомнилась так быстро. Но именно из-за этого своего склада она была почти такой же новостью, таким же особым существом для Князя-Медведя, как он – для нее. Ее присутствие волновало его, но, пожалуй, приятно. В его неизменной, всегда одинаковой жизни ее появление было единственным в своем роде событием.
Что же будет дальше? Захочет ли она остаться здесь? Эта изба в чаще – вовсе не то, к чему она привыкла. Но тот мир, который она знала, обошелся с ней неласково…
– А отец ей на это говорит: «Еще в чреве матери, как молвят люди, дал я зарок никогда не отступать перед врагами, хоть бы они грозили мне смертью, не бежать ни от огня, ни от стрелы, ни от копья…»
На этих словах Малуша с трудом подавила отчаянный зевок, что не очень шло к исполненной доблести речи.
– Кто? – спросил Князь-Медведь, очнувшись от своих мыслей.
– Ну, он… – Малуша поморщилась. – Отец ее, Вёльсунг. А еще Святослав однажды сказал, что он тоже такой зарок дал, – тихо добавила она, будто обращаясь к тому, кто внутри нее.
Святослав и правда сказал это однажды несколько лет назад. Он ведь тоже с детства слушал повесть о детях Вёльсунга и размеривал по ним свою будущую жизнь. А в ней зреет дитя Святослава. Что если и оно сейчас дает такой же зарок?
Или какой-то другой? Малуша прислушивалась к себе, закрыв глаза, но во всем мире стояла тишина.
– Ты спишь уже? – раздался рядом низкий голос, и она вздрогнула. – Иди ложись. Выйти надо?
* * *
Лежанка у Князь-Медведя оказалась вполне человеческая – не какая-нибудь куча палой листвы, а постельник, набитый пухом рогоза, причем свежим: Малуша пощупала опытной рукой и убедилась, что пух сваляться не успел, будто минувшей осенью только и собран. Одеяло было богатое – на лисьем меху. Лучше только у самой княгини – на куньем. Она-то, Малуша, на киевском дворе спала под овчиной.
– Богато живешь, – заметила она, сворачивая свой кожух, чтобы подложить под голову.
– Так я же князь, хоть и чащобный, – сказал хозяин и задул обе лучины.
Воцарилась тьма. Послышался шорох – Малуша догадалась, что он снимает свою шкуру с личиной. Оборвалось сердце, как будто рядом, невидимо, происходило настоящее превращение.
И вдруг она чуть не закричала: а что если теперь, когда стало совсем темно, он превращается в настоящего медведя? И вот теперь-то на самом деле может съесть? Сейчас возьмет и голову ей раскусит…
Но что толку кричать – услышать и на помощь прибежать здесь некому. Не то что в тот раз, когда на ее крик примчался дядька Соловец и стал с медведем состязаться, кто выше прыгнет.
Не дыша, Малуша перенесла мгновение слепого ужаса. Однако звериного рыка или шумного дыхания до нее не доносилось. Напротив, судя по звукам, вполне человеческие руки снимали обувь с человеческих ног. Тем не менее Малуша отползла подальше от края лежанки и забилась к самой стене.
Зашуршал постельник – невидимое в темноте, рядом с ней вытянулось тело. Невидимые руки потянули край одеяла, и Малуша отпустила.
– Спи, – сказал то же голос из темноты, и теперь он звучал совсем обычно, по-человечески. – Будешь много ворочаться – съем.
* * *
В тот вечер вся семья долго сидела в старой Вальгардовой избе над бродом реки Великой. Ждать Малфу назад начали почти сразу, как вернулись сыновья Уты. Послали отроков на край селения, откуда видно всю дорогу через заснеженный луг, чтобы сразу предупредили, когда девушка появится из леса.
Но вот уже стемнело, а ее все нет и нет. Никто не расходился. Предслава причитала: девка, да беременная, в лесу пропала, а мы сидим!
– Может, бабка делает ей предсказание судьбы, – пытался утешить жену Алдан. – А у нее такая любопытная и длинная судьба, что рассказ о ней занял весь день и ее оставили ночевать.
Наконец, когда уже близилась полночь, княгиня Эльга глубоко вздохнула и поднялась с места. Много лет назад она привыкла, что принимать решения – это ее право и обязанность.
– Идемте-ка на покой, – велела она встрепенувшейся родне. – Не придет она сегодня, нечего больше сидеть.
– А когда она придет? – со смесью вызова и готовности удариться в плач ответила измученная ожиданием Предслава.
– Может, завтра. Бура-баба ее у себя оставила. Она мне намекала, да я не знала, верно ли поняла. Мы завтра отроков опять в лес пошлем, пусть они спросят.
Все встали, задвигались, начали прощаться на ночь. Кетиль и Предслава с Алданом отправились по своим избам, Эльга и Мистина остались ночевать в Вальгардовой избе, где Эльга когда-то родилась, а теперь жила Ута с детьми. Когда дети – Улеб, Велерад, Витяна и Свеня – лезли на полати, Эльга проводила их взглядом. Когда-то и она спала там, но едва ли ей где-то приходилось спать на полатях после ухода из дома. Сейчас ей пришла на память та последняя ночь, которую она провела здесь – ту ночь, после которой за ней явился старый Князь-Медведь.
Ута принялась готовить постель на лавке. Взбив подушку, обернулась к сестре.
– Ты и впрямь думаешь, что она у Буры-бабы осталась и завтра придет? Или только Предславу утешаешь?
– Она… Бура-баба… что-то обмолвилась про… божье дитя, – тихо созналась Эльга.
Теперь, когда Предслава их не слышала, она решилась об этом сказать.
– Божечки! – Ута села на постель. – Но ведь для этого ей там год прожить придется?
– Это самое лучшее. Для нее и для нас. Если ее дитя родится в лесу, это будет дитя Князя-Медведя. И его преемник. Это самое лучшее, что для такого чада можно придумать. Я даже устыдилась, когда все поняла. Я чуров обидела… а они моему горю помогли. Ты не знаешь, – она вопросительно взглянула на Уту, – какой он? Ну, нынешний Князь-Медведь?
– Конечно, я знаю, какой он, – Ута вздохнула. – Я его видела еще трехлетним дитятей. Это же Воянки первенец.
Эльга охнула. Обе они помнили свадьбу Воянки, Эльгиной старшей единоутробной сестры. Та побывала в логове Князь-Медведь за несколько лет до того, как туда отослали Эльгу. Ута видела ее сына, который с рождения считался «медвежьим дитем». Лицом он был вылитый Видята, Воянкин муж, но это ничего не меняло в его до рождения определенной судьбе.
Мистина бросил серый кафтан на ларь, сел на постельник на лавке и начал разуваться. Все трое молчали, но на уме у всех было одно и то же. Наконец Эльга нашла для Малуши с ее бедой подходящее место – еще более подходящее, чем Выбуты. В лесу у Князя-Медведя ее никто не увидит, и скоро о ней забудут на всем белом свете.
Эльга и радовалась, что родовой позор будет надежно скрыт – все равно что в глубокий колодец брошен. Там, в Нави, ему самое место. Ради такого избавления от беды даже княгине киевской стоило ехать среди зимы на дальний край света.
Однако успокоения не приходило. Ребенок Малфы, зачатый от недозволенной, кровосмесительной связи, родится в Нави, и вырастит его оборотень. Что из него выйдет?
Сколь ни будь ты силен, а боги сильнее. Все больше в мыслях Эльги крепло убеждение: лукавая Навь обхитрила ее. Бура-баба ведает судьбу Малуши, но им, оставшимся здесь, эта тайна не откроется.
* * *
Малуша лежала, замерев в глухом мраке, как в полубреду: тело ломило от усталости, но мысли никак не могли успокоиться. Ее тянуло в сон, как в темную воду, но страшно было заснуть рядом с этим существом, и она невольно отгоняла дрему, прислушиваясь к его дыханию. И, судя по этому звуку, он тоже не спал.
До чего же она докатилась! Родилась княжной, наследницей княжеских столов. Была ключницей, доверенной служанкой, у самой княгини киевской. Была женой князя русского Святослава – правда, недолго. А теперь лежит где-то за гранью Нави, в медвежьей берлоге, рядом с человеком-зверем, кто не показывает своего настоящего лица из-под личины. Да живая ли она сама теперь?
Но, вопреки обстоятельствам, главным ее чувством сейчас было ожидание. Все ее мысли сосредоточились в тесноте этой берлоги, на лежащем рядом ее хозяине. О том, что завтра она может спокойно отправиться домой, то есть назад в Варягино, Малуша не думала. Ей вовсе не хотелось идти обратно. Что ее ждет в людском мире, она уже знает. Там осталась ее родная мать, но от Предславы Малуша отвыкла за те три года, что прожила без нее. Мать, наверное, любит ее, но у нее уже пятеро детей от Алдана, а старшая дочь лишь напоминает ей горести первого замужества. На все случившееся с Малушей она смотрит глазами княгини. Малуша для нее – позор всего рода русского, и смесь любви, стыда и жалости в ее взоре ранили сильнее, чем могли бы ранить гнев или презрение. Дед, Олег Предславич, брат Добрыня, единственная ее подруга Обещана – все они далеко-далеко, в земле Деревской и в Киеве, их она не увидит, наверное, больше никогда. В человеческом мире она лишняя, дочь давно разбитого и порабощенного древлянского рода. А ее дитя – и подавно.
Здесь же она лишней себя не ощущала. Навь беспредельна, она примет всех, как сама земля. В жилье человека-зверя Малуша не выглядела ни странной, ни обесчещенной – куда уж страннее, чем сам хозяин! Навь не осуждает и не одобряет, она просто живет по своим законам и делает свое дело, хоронит отжившее и выращивает будущее. Даже князья здесь не властны – здесь правит воля Буры-бабы и этого существа, что дышало рядом с ней в темноте. Только их покровительство и нужно, чтобы жить благополучно. Она спокойно выносит свое дитя, а дальше видно будет.
Но необычность обстановки долго не давала ей заснуть. Иногда она начинала дремать, потом просыпалась, пытаясь выйти из этого чудного сна, но рядом в темноте ровно дышал кто-то незнакомый. Тут же она вспоминала, кто это. Подмывало протянуть руку и осторожно потрогать – зверь ли это, покрытый косматой шкурой, или все же человек? Пожалуй, запах Князя-Медведя ей даже нравился: дух дыма и леса, согретый теплом живого тела, и бодрил ее, и умиротворял. Казалось, так может пахнуть только хороший, добрый человек… Да если бы это был человек!
Под утро она наконец заснула крепко, а проснулась от движения и скрипа двери. Протянула руку – место рядом с ней было пусто, но еще хранило тепло. В избенке было заметно прохладнее, чем вечером: печка за ночь остыла.
Малуша решительно вылезла из-под одеяла, прыгнула к печи, схватила свои чулки и начала натягивать. Они почти высохли – теперь на ногах досохнут. Заглянула в печь, но было слишком темно, чтобы искать растопку. Только заслонка на оконце была отодвинута, впуская свежий холодный воздух и немного утреннего света.
Позади опять заскрипела дверь. Малуша застыла, не отрывая глаз от печи. Так встревожилась, как будто ее саму застали в неподобающем виде или там, где быть ей нельзя. Наверное, сейчас на хозяине шкуры и личины нет – не надевает же он их, чтобы спросонья выйти по нужде! А здесь такое место, где не шутят. Если ей нельзя видеть его лицо, то лучше не давать воли любопытству. Тут не Киев – сгинет она в навьем лесу, искать никто не станет.
Послышался шорох. Потом Князь-Медведь прошел мимо нее и присел у печи. Шкуры на нем не было, но лицо закрывала кожаная личина с изображением медвежьей морды. Очень похожие десятками можно видеть на каждый Карачун, но Малуша едва удержалась, чтобы не отодвинуться. Его лицо – тайна. Любопытство к запретным тайнам сгубило очень многих девиц из преданий, а ее положение и без того шатко.
Князь-Медведь, не поворачиваясь к ней, стал закладывать в печку полешки и щепу, потом размял в ладони трут, взял в горсть вместе с пучком тонких полосок бересты, положил на них кремень, резко и сильно постучал огнивом – полетели искры, затлели на комке трута, на бересте вспыхнуло пламя. Князь-Медведь положил горящий комок под растопку. Устье печи живо оделось густыми пламенными отблесками; повеяло теплом, дым повалил наружу и потянулся в оконце под кровлей. Вполглаза наблюдая за его ловкими, уверенными движениями, Малуша еще раз убеждалась: это человек, ничего звериного в нем нет. Разве мог бы зверь так по-хозяйски ладить с огнем в домашней печи?
Пламенный отблеск упал на его лицо, осветил бурую кожу личины с нарисованными углем жуткими клыками…
– Вот, осталось, – когда Малуша умылась, Князь-Медведь вручил ей подсохший ломоть хлеба и кусок копченого темного мяса. Похоже, лосятина. – Ешь.
– А тебе?
– А я пойду на раздобытки. Ну что, – Князь-Медведь остановился перед ней, уперев руки в бока. – Проводить тебя до тропы?
– Н-нет, – Малуша чуть отползла по лавке.
– Остаешься?
– Я не… не знаю. Дозволь еще поразмыслить?
– Ну, поразмысли.
Князь-Медведь взял с ларя в углу у двери свою шкуру, повернулся к Малуше спиной и сменил кожаную личину на шкуру. Глянув на его спину под кожухом, она заметила довольно длинные, плохо расчесанные волосы, но тут же все скрылось под шкурой.
Потом он взял с того же ларя берестяной короб.
– У меня вон в той стороне, – он указал рукой, – клеть поставная. Залезть туда, найди лосятины копченой, а здесь крупа, – он кивнул на ларь. – Похлебку свари. Сумеешь?
– Я ключницей у княгини была! – Малуша возмутилась. – Такое умею сготовить, чтоб тебе и во сне не снилось!
– Ну, хозяйничай, – Князь-Медведь хмыкнул. – Только сама не вздумай бежать, – предостерег он, уже взявшись за дверь. – Заплутаешь, волки задерут. Отсюда тропы заговоренные, узлами завязанные, без моей воли никто отсюда хода в белый свет не отыщет. От избы далеко не отходи. А увидишь волков рядом – на двери засов.
– Ты скоро воротишься? – Малуше стало не себе от мысли, что придется одной сидеть в этом месте и ждать волков.
Но Князь-Медведь вышел, ничего не ответив.
* * *
Когда дверь за хозяином закрылась, Малуша еще какое-то время сидела неподвижно. Но снаружи не доносилось ни звука, лишь щелкала та неведомая птица. Наконец Малуша поднялась, чувствуя себя неожиданной хозяйкой этой странной избушки; чувство было немного тревожное, но где-то и приятное. Внутри самой истобки Малуша осмотрелась быстро: печка из камней, обмазанных глиной, несколько горшков возле нее, еще немного простой посуды на полках. Рядом с печью лежанка, где они спали, напротив стол и лавки, ларь у двери и другой ларь подальше. Каменные жернова в лохани. И все. В ближнем ларе лежали припасы: мешок лука, мешок чеснока, берестяной туесок крупной серой соли – немалое сокровище для глухого леса. В другом туесу еще оставалась крупно помолотая мука – для похлебки. Был мешок пшена.
Когда печь была вытоплена и в избушке стало очень тепло, Малуша надела кожух и обулась. Потом осторожно приоткрыла дверь и выбралась наружу. Быстро закрыла за собой дверь, чтобы не выпускать тепло, и постояла, вдыхая свежий морозный воздух и оглядывая поляну. Еще виднелись ее вчерашние следы, частью перекрытые сегодняшними следами Князь-Медведя. Затем она выбралась на поляну и оглянулась: а вдруг избушка исчезла? Но нет, та стояла на месте. Глядя по сторонам, Малуша двинулась по узкой тропке туда, куда указал Князь-Медведь.
Клеть поставная обнаружилась совсем рядом, шагах в десяти. Небольшой сруб был укреплен на шести обрубленных стволах-подпорах и поднял на высоту больше человеческого роста. Внизу лежала лесенка из крепких жердей. Приставив ее к двери, Малуша стала осторожно подниматься. Лазить в поставные клети ей еще не случалось – кладовые для припасов во владениях княгини выглядели совсем иначе, на дворе за тыном не было нужды поднимать их повыше от зверей.
На верхней ступеньке Малуша обеими руками вцепилась в деревянную ручку и навалилась на нее, благодаря чему почти упала внутрь, как вчера в саму медведеву избу. Клеть оказалась битком набита: закрытые бочонки, иные из которых отчетливо пахли медом или соленой рыбой, короба копченого мяса и вяленой рыбы. Малуша по привычке проверила припасы: бочонки исправные, гнилью и плесенью нигде не тянет, ни мышей, ни жучка. Осмотрела мясо и рыбу: провялено хорошо, не портится.
Чуть ли не впервые в жизни оказавшись так высоко над землей, Малуша ощущала себя кем-то вроде колдуньи, что превращается в птицу. Не хотелось спускаться – казалось, сейчас произойдет что-то чудесное, ведь не даром она взобралась в этот дом между землей и небом! Как княжеская дочь из предания, что от рождения жила на высоком дубу, чтобы до срока никто не видел ее красоты. Но тут же привычка хозяйничать взяла верх, и Малуша одернула себя: она сюда не мечтать влезла, а припасов взять.
Выбрав кусок копченого мяса, она осторожно спустилась вниз. Хозяйство у Князя-Медведя было небольшое: ни скотины, ни птицы он не держит, живет тем, что дают лес и река. А что в лесу не родится, то ему люди приносят. Даже если она и впрямь останется здесь жить, голодать ей у Князя-Медведя не придется.
Хозяин вернулся заполдень, когда у Малуши уже был готов горшок каши с порезанным луком и покрошенной копченой лосятиной. Князь-Медведь опустил на ларь заплечный короб и кивнул:
– Разбери.
Малуша охотно заглянула в короб: что у него за раздобытки? Внутри оказался туес с яйцами, два каравая довольно свежего хлеба – дня два как выпечено; внизу мешок гороху. Причем горох был тот самый, который она сама же и принесла Буре-бабе, только хлеб чей-то чужой. Видно, Князь-Медведь ходил к Буре-бабе, куда доставляются подношения из окрестных весей. Но спрашивать она не посмела. В таких местах за самое невинное любопытство могут нос откусить.
Увидев горшок с похлебкой, Князь-Медведь только кивнул. Он оказался малоразговорчив, но этому Малуша не удивлялась. Люди, привыкшие жить в одиночестве, такими и бывают. А медведи и подавно.
Пока она разбирала короб, Князь-Медведь успел сменить шкуру с мордой на кожаную личину. Свиту он снял – в избе, хорошо проконопаченной, прочно держалось тепло от утренней топки. Под свитой обнаружилась рубаха из небеленого льна – не грязная, но поношенная и протертая под локтями. При виде этого Малуша мельком подумала о нитке с иголкой, но пошивного приклада у нее с собой не было. Однако отвлеклась на другое: при свете дня она смогла убедиться, что строением тела ее хозяин ничем от человека не отличается. Был он высок ростом – она было думала, может, вчера это ей лишь показалось со страху, – довольно худощав, но явно силен, как всякий, кому приходится много работать руками.
– Садись, – он кивнул ей на стол, а сам достал с полки две ложки и положил возле горшка.
Они сели напротив друг друга, горшок с кашей Князь-Медведь поставил между ними. Малуша тайком посматривала на него: как же он будет есть в личине? Снимет? Но он лишь завернул нижний край, чтобы освободить рот. Малуша старалась на него не пялиться, но все же разглядела короткую рыжеватую бороду, губы и крепкие зубы. Все были на месте, и та часть лица, которую она видела, убедила ее, что хозяин – человек еще далеко не старый. Но и не юный, средних лет, может, тридцати или чуть меньше. О том же ей говорил его звучный голос, сильный и подвижный стан. Старый Князь-Медведь погиб на поляне перед этой самой избушкой двадцать пять лет назад. Этот уже тогда жил на свете – он ведь тому, старому, приходится сыном. Значит, ему не меньше двадцати пяти. Но и немногим больше.
Ели они в молчании. Закончив, Князь-Медведь положил ложку на стол и кивнул:
– Хорошая каша.
У Малуши отлегло от сердца. Она положила в кашу немножко соли, но сомневалась, следовало ли это делать: Князь-Медведь ведь не разрешал ей брать соль. В Нави не едят соленого, всякий знает, что жервтенную пищу не солят. Но раз соль у него есть, значит, нужна для чего-то?
– Прибери тут, – Князь-Медведь поднялся. – К ужину вернусь.
Он снова оделся, накинул шкуру с личиной, потом погремел чем-то в сенях и ушел, нагруженный бобровыми ловушками. Малуша перемыла ложки, вытерла стол, обмахнула лавки. Нашла у печи забытый горшок и оттерла его пучком сена. Как ни мала и бедна, по сравнению с привычным ей жильем, была эта избушка, Малуше нравилось быть здесь хозяйкой. Всю жизнь она прожила в подневольном положении: едва выйдя из детства, оказалась в услужении у княгини. Та осень, которую она начала у деда во Вручем, а закончила в дружине Святослава, мелькнула, как странный сон. Оглядываясь назад, Малуша видела себя в клетях и в поварне на Эльгином киевском дворе – там было ее привычное место. Но в Киеве она носила чужие ключи. Здесь ключей никаких не было, как и замков, но она почти с гордостью ощущала себя госпожой этих трех или четырех самолепных горшков и двух простых, ничем не украшенных ларей. Ее наполняло чувство воли и покоя – то и другое было ей прежде незнакомо, хотя она и не задумывалась над этим. Здесь она была защищена от всего мира стеной дремучего леса и волей покровителей рода. Отсюда ее не достанет ни плесковский князь Судимер, ни воевода Кетиль. А Эльга… она же хотела, чтобы Малуши не было. Тут ее как бы и нет…
Делать больше было нечего, и Малуша уселась на лежанку. Обнаружила, что ждет возвращения хозяина почти с нетерпением. Вчерашний страх уступил место жгучему любопытству. Может, он разговорится наконец? Расскажет ей что-нибудь о себе? Если она останется с ним жить, не могут же они всю жизнь провести в молчании!
Лес вокруг лежал бездной тишины, и казалось, нет ему конца и краю. И нигде ничего больше нет, кроме этой избушки, стены чащи вокруг да звезд на небе. А Киев, Плесков, Смолянск, виденный по пути, множество людей, населяющих белый свет, отсюда казались сном.
Когда у двери снаружи послышалось движение и шорох, Малушу облило дрожью: а вдруг это… что-нибудь жуткое? Засов-то она не накинула! Но это был Князь-Медведь – он вошел, неся в теплую душноватую избушку холодный запах ельника и снега. На шкуре белела снеговая крупа. Ловушек с ним не было – поставил на каких-то ему одному известных речных либо озерных ловищах. Бросил взгляд на пылающие угли в устье печи, на прикрытый горшок возле него, на две ложки посреди стола и полкаравая хлеба в ветошке. Он не сказал ни слова, и лица его Малуша под личиной не видела, но почему-то ей показалось, что все это ему нравится. Сняв шкуру, он расправил ее на ларе, чтобы подсохла, и, не поворачиваясь к Малуше лицом, прошел к лохани. Снял кожух, повесил на колышек, стянул рубаху и, стоя к Малуше спиной, стал умываться.
Малуша не сводила глаз в его спины, хотя и предполагала, что лесная жизнь развила в нем способность спиной чувствовать взгляды. Но зрелище это ей очень нравилось. Широкие плечи, стан, сужающийся к поясу, крепкие округлые мышцы на руках… Ей показалось, что на спине у него несколько старых шрамов, но в полутьме было трудно разглядеть. Спина у него была красивая, и от вида ее Малуша почувствовала волнение. Только сейчас она осознала, что вот уже сутки живет в этой избушке с мужчиной в расцвете лет. И что другие девы попадали в эту избушку ради известной цели, нужной для удачного замужества… Уж этот наделит их способностью рожать сыновей, «здоровых, как медведей», кто бы сомневался!
Но тут Князь-Медведь снова оделся, закрыл лицо малой кожаной личиной и повернулся к ней. Малуша к этому времени уже сидела, чинно сложив руки и задумчиво глядя в печь…
– Давай, расскажи, что там дальше было, – велел Князь-Медведь, когда она во второй раз за этот день вымыла две ложки и горшок после еды. Голос его звучал легче, чем вчера, как будто ее присутствие уже не казалось ему необычным.
– С кем было?
Весь день думая о том, что будет дальше с ней самой, Малуша и забыла, что вчера начала рассказывать о неудачном замужестве Сигне, дочери Вёльсунга.
– Ну, с князем тем, который дочку замуж выдал, а тот подлец зять его со всей дружиной перебил еще у лодок.
– А, Сиггейр! Когда убит был князь Вёльсунг, в живых оставались только десять его сыновей, а у Сиггейра еще была против них рать огромная, – начала Малуша. – И вот взяли их в плен и повязали крепко…
Она рассказывала, как десятерых пленников оставили связанными в лесу, как страшная старая волчица приходила каждый день и съедала одного из них, пока Сигне не сумела хитростью избавить Сигмунда, любимого своего брата, от волчицы и освободить. Как он начал жить в лесу. Как Сигне по очереди присылала к нему двоих своих сыновей от Сиггейра, но оба они оказались слабаками и трусами, – все в своего подлого родителя, – и она сама приказывала Сигмунду убить их.
Князь-Медведь слушал без единого звука и даже почти не шевелился, глядя в устье печи. Малуша, сидя по-вчерашнему на лежанке, едва различала его в полутьме, но была уверена, что он слушает, полностью поглощенный ее рассказом. С тем древним Сигмундом у него было много общего…
– Однажды пришла к Сигне вещая женщина, мудрая колдунья. Она умела менять людям обличья. Сигне ее попросила, чтобы они поменялись обличьями между собой, и так они и сделали. Колдунья осталась жить вместо нее с Сиггейром, и он не заметил, что вместо жены у него другая женщина. А Сигне пошла в лес, к избушке, где жил Сигмунд, и сказала ему, мол, в лесу заплутала, позволь мне переночевать у тебя…
Дойдя до этого места, Малуша вдруг смутилась: все было почти как у них вчера. Но Князь-Медведь еще не знал, что будет дальше, а она знала…
– Принял ее Князь-Ме… о, ну, Сигмунд, я хотела сказать. Сели они за стол, и он подумал, что это очень красивая и ладная женщина… – Малуша невольно понизила голос, как будто ей приходилось хвалить саму себя. – И пока они ели, он все на нее смотрел. А потом он сказал, что хотел бы, чтобы у них была одна постель на эту ночь, если она согласна. И она согласилась, и провела она у него в доме три ночи, и все между ними было так же. Потом Сигне вернулась к себе домой и опять поменялась с колдуньей обличьями. А потом у нее родился сын. Был он больше любого младенца, крепкий и сильный. Это потому что он был всей своей кровью из рода Вёльсунга, по отцу и по матери, и превосходил всех людей…
Малуша запнулась, вдруг подумав о своем ребенке. Они со Святославом были не так близки по родству, как те брат и сестра. Ее бабка, Мальфрид, по которой Малуша получила имя, приходилась родной сестрой Ингвару, Святославову отцу. То есть она Святославу двоюродная племянница. Будь каждый из них на одно поколение младше, брак между ними был бы допустим. Но этот позор содержит в себе и преимущество: ребенок от их связи будет и по отцу, и по матери происходить из рода Олегова.
Князь-Медведь поднял голову и взглянул на нее сквозь прорези, словно спрашивая: что ты замолчала?
– А что если она знала? – медленно выговорила Малуша, обращаясь не столько к нему, сколько к своим мыслям.
– Да уж конечно, знала, – уверенно ответил Князь-Медведь. – Она ж поняла, что от того змея поползучего, мужа ее, доброго приплоду не будет. Вот и сделала, чтобы от доброго семени сына принести.
– Я про Эльгу. Она тоже знала, что от меня и… И такой сын будет сильнее, чем те двое… В нем кровь Олегова будет густа, как вино, а у тех двоих, сынков Прияны и вуйки моей Горяны, жидка, как вода. Но они – от вольных матерей, водимых жен… Они старшие. Она боится за них. Потому и хотела меня с белого света сжить. Чтобы у меня не родился такой сын, что тех двух во всем превзойдет.
Малуша молчала, заново потрясенная полным пониманием своего положения. Вот в чем дело. Кровь ее будущего сына – не позор. То, что они сотворили, запрещено для обычных людей, но так поступали те люди, которым сам Святослав стремится подражать. Величайшие воины древних времен. Этого ребенка, которому только через полгода настанет срок родиться, уже сейчас боится сама княгиня Эльга! Потому что он будет вдвое сильнее любого из ныне живущих отпрысков Олегова рода – и ее самой, и двух ее старших внуков. И если уж она не решилась, как бестрепетная Сигне, пролить родную кровь, то попыталась лишить этого ребенка имени. Родись он сыном какого-нибудь Нежаты Милонежича – никому он не будет страшен.
Пока не явит себя однажды, сбросив чужие шкуры… У Малфы даже дух перехватило – ей мерещился витязь, под чьей поступью содрогаются облака…
Князь-Медведь молчал, но она чувствовала, что он внимательно ее разглядывает.
– Я не вернусь к ним, – наконец сказала Малуша, тихо, но с нерушимой убежденностью. – Я останусь… я хочу остаться. – Она подалась к Князь-Медведю. – Ты позволишь мне здесь пожить, пока мой сын не родится? Прошу тебя! – Она стиснула руки в мольбе. – Здесь его никто не посмеет тронуть. Здесь он появится на свет внуком Олеговым, а не каким-нибудь…
– Здесь он родится сыном медведя… – медленно выговорил хозяин. – Сыном Нави.
– И пусть! Сигмунд с сестричем-сыном его тоже волчьи шкуры носили и в чаще людей разрывали, как звери. А потом у Сигмунда был другой сын, от новой жены, его звали Сигурд, он тоже был великим воином, и он о себе говорил: «Я зверь благородный». И говорил, что нет у него ни отца, ни матери. А он был величайшим из людей! Я хочу, чтобы мой сын тоже был величайшим из людей! Хочу, чтобы Навь его вырастила. Очистила, как земля, и силой наделила. Тогда никто не станет его попрекать, и все будут почитать кровь Олега Вещего в нем!
– На легкую ли жизнь ты его обрекаешь?
В голосе Князя-Медведя Малуше послышалась насмешка, но это не могло ее смутить.
– Кто легко живет, тому славы не видать! Я соткала для себя и для него сильную судьбу, – она показала на свой тонкий белый поясок. – Нити для него спряла на золотом веретене Зари. Нам только укрытие нужно, пока он не родится и в силу не войдет. Лет до десяти. А потом все увидят, что рожден он не на позор, а на великую честь и славу!
«Ну а если не выйдет, – подумала она, – если погубит его злоба людская, то сам Один за телом его придет и заберет в свои палаты небесные!»
– До десяти лет я не могу, – Князь-Медведь качнул головой. – У меня тут жены больше года не живут, не положено так. Да и год живет только та, что мое дитя носит. Но коли Бура-баба тебя сюда послала…
Он, похоже, был в раздумьях. Такому, как он, постоянной семьей обзаводиться не положено – к нему приходят за благословением и уходят, его получив. Жить с ним дольше позволено только матери следующего Князя-Медведя, преемника. Эльге когда-то предлагали эту честь, но она ее отвергла, не постеснялась даже призвать на помощь чужих мужчин, вооруженных острым железом. А Малуша готова умолять о том, чтобы ей дозволили занять место, отвергнутое ее старшей родственницей. Но она в беде, а Бура-баба сказала, что только здесь она сможет вырастить добрую судьбу…
– Ведь Эльга отказалась быть женой… того Князя-Медведя, – тихо сказала Малуша, подняв глаза на молчащего хозяина. – Может, она меня сюда прислала, чтобы я ее заменила?
* * *
В этот раз Малуша и не пыталась заснуть сразу. Угли в печи погасли, было совершенно темно, и лежала она с открытыми глазами или с закрытыми, никакой разницы не составляло. Снова и снова она перебирала в памяти свои озарения. Боги управляли ее судьбой. Они хотели появления на свет ее ребенка, происходящего от Вещего Олега с обеих сторон. Видно, сынок вуйки Горяны, хоть и получил имя Вещего, больших надежд им не внушает. Но с ней будет иначе. Малуша чувствовала в себе силу родить великого воина. Кому, как не ей, внучке стольких княжеских родов! И потому боги свели ее со Святославом – величайшим воином из ныне живущих на свете. Пренебрегли даже их родством – и воспользовались им. Она-то думала, будто хочет возвыситься сама и сидеть на Олеговом столе рядом со Святославом. Отчаивалась, что это ей не удалось, что ее вытеснила смолянка Прияна. Но это вовсе не было поражением. Просто уже свершилось то, ради чего ей нужно было быть со Святославом. Теперь она может уйти, унося свою бесценную ношу. И здесь самое лучшее место, чтобы дать зерну славы прорасти, а ростку – подняться.
Князь-Медведь рядом с ней тоже лежал неподвижно, но по его дыханию она слышала, что он не спит. Сочтет ли он ее подходящей заменой Эльге? Ведь беглянка Эльга по матери своя здесь, она происходит из княжьего рода кривичей плесковских. А родство с Малушей у нее по отцовской ветви, Малуша здесь чужая. Может, таких не берут в медвежьи жены?
Малуша осторожно повернулась на бок, лицом к Князь-Медведю. Он не шевельнулся, но ей показалось, что звук его дыхания чуть изменился. Осторожно она протянула руку и притронулась к его плечу. Он ведь ей этого не запрещал? Пальцы ее коснулись теплой кожи – сорочки на нем не было. Видно, в сильно натопленной избушке ему жарко. У Малуши что-то оборвалось внутри от острого волнения. Спать голым нельзя, это навлекает на тело, не защищенное одеждой, злых духов, можно заболеть или даже умереть… но это же для людей. Каких духов бояться ему – живущему в Нави, воплощающему самый страшный страх нечисти?
Он опять не шевельнулся, будто не заметил. Но Малуша была уверена – он не спит.
Осторожно она передвинула руку вперед и положила ладонь ему на грудь. Не откусит же он ей руку, в самом-то деле? Наткнулась на кожаный ремешок, видимо, с каким-то оберегом, но не сошла еще она с ума – трогать обереги такого хозяина. Кожа у него была гладкая – говорят, оборотни и в человеческом облике весьма косматы, но его косматость осталась на снятой медвежьей шкуре. Рука ее коснулась его бороды. Малуша придвинулась ближе, немного приподнялась. Осторожно повела пальцами по его щеке. Его носа, лба, глаз она ни разу еще не видела, но на ощупь они оказались как у всех людей. Значит, не потому он скрывал свое лицо, что чем-то отличался. Наверное, у него, чье тело принадлежало чурам, тайной было само его собственное лицо.
Тут он впервые шевельнулся. Его ладонь поймала руку Малуши у него на лице; он перевернулся на бок, подался к ней и наклонился, почти прижимая ее к постельнику.
Теперь Малуша замерла; сердце бешено билось, по всему телу разливалась дрожь от волнения и приятного, какого-то обнадеживающего ожидания. Если уж ей нельзя его видеть, то можно по-другому познакомиться с тем, кто станет чудесным покровителем ее судьбы на ближайшие годы. Обычный его лесной запах ослабел, зато усилится запах тела, и от этого запаха Малушу пробирал трепет.
Мягкая борода в темноте коснулась ее шеи, и она ощутила прикосновение губ к своей коже. Глубоко вздохнула, ощущая истому и возбуждение. Волнение сменялось чисто телесным нетерпением; самым важным стало то, что ее обнимает полный сил мужчина – причем особых сил. Свободной рукой она провела по его затылку, по шее, по плечу. Его губы прошлись по ее горлу, подбородку, коснулись губ… Дрожа, Малуша приоткрыла рот и ответила на поцелуй. Она не ощущала ни малейшего страха перед ним, а лишь возбуждение и любопытство к тому, как его загадочная сущность проявится в деле любви.
Она расслабилась, выражая покорность. Его ладонь легла ей на грудь, погладила через сорочку, потом скользнула в разрез. Малуша невольно издала стон. В последние месяцы, расставшись со Святославом, она слишком страдала, чтобы думать о любви, тем более с кем-то другим, но сейчас ощутила, что тело ее зажило новой жизнью и наполнилось новыми силами. Ласки Князь-Медведя из темноты приносили ей более острые ощущения, чем она знала прежде, и она отдалась им, не думая больше ни о чем.
Чувствуя, как его невидимая рука скользит вверх по ее бедру, поднимая подол сорочки, она мельком подумала лишь об одном: говорят, что оборотня можно сделать человеком именно так – сойдясь с ним. Но если он сейчас не человек… то пусть лучше таким и остается…
* * *
Проснулась Малуша от шума и движения. Место рядом с ней было пусто, а Князь-Медведь сидел возле печки, закладывая полешки в пламенеющее устье. Он уже был одет, но личины на нем, кажется, не было. Услышав, что она зашевелилась, он медленно встал и обернулся. У Малуши ёкнуло сердце. В последний раз мелькнуло опасение, что вот сейчас он повернется – и она увидит звериную морду, покрытую шерстью… Но она успела вспомнить, как ночью прикасалась к его лицу – косматое не более, чем у любого зрелого мужчины. Да у многих обычных мужчин, виденных ею, борода и гуще, и выше подступает к глазам.
Вот он повернулся. Личины на нем и правда не было. Сквозь полутьму Малуша различала черты обычного человеческого лица. Князь-Медведь подошел, и она села на постельнике. Он присел рядом с ней, молча глядя ей в лицо. Они разглядывали друг друга, как будто впервые встретились. И ждали, что за этой первой встречей последует долгая жизнь, которую они проведут вместе.
Она не могла бы сказать, хорош ли он собой. Узкое лицо с глубоко посаженными глазами, рыжеватая борода на жестком, угловатом подбородке и немного впалых щеках. Все это просто не имело значения. Важнее всего был взгляд – пристальный, проникающий в душу, удивительно живой и полный силы на малоподвижном лице, не привыкшем выражать настроения и чувства.
С левой стороны на виске и на скуле виднелось темное пятно. Малуша подумала, что он извозился в саже, пока разводил огонь, и протянула руку.
– Это не стереть, – Князь-Медведь перехватил ее пальцы. – Говорят, похоже на след лапы медвежьей. Велес меня еще в утробе пометил.
– Поэтому ты… здесь?
Пятна Малуша не могла обнаружить в темноте – на ощупь оно не выделялось.
– И поэтому тоже. Ну, что? – немного хрипло произнес Князь-Медведь, и Малуша видела, что он тоже по-своему волнуется и напряженно ждет ее ответа. – Остаешься?
Глубоко вздохнув, она потянулась и обняла его за шею. Никогда в жизни – ни у родных, ни со Святославом, – она не испытывала такого чувства единения с кем-то. Все-таки она превратила его в человека. Оба они были странными среди людей – с юных лет выделились из всех и осуждены были жить особо. В этой избушке они были как те первые люди на земле. И Малуша чувствовала готовность остаться здесь навсегда, чтобы дать жизнь всему роду людскому.
* * *
В тот же день Князь-Медведь повел Малушу по тропе назад – к Буре-бабе. Та сама распустила ей косу, заплела две, уложила вокруг головы и покрыла платком – красным, выкрашенным корнем подмаренника. Таким же, как у нее самой, но поновее и поярче. Надела на нее поневу, как носили здешние жены – из трех полотнищ толстой полушерстяной тканины, черно-бурой в белую клетку. Поневу носили не так, как более привычную Малуше полянскую плахту – не оборачивали вокруг бедер, а вздевали на гашник и его повязывали под поясом. При этом Бура-баба что-то бормотала. Малуша едва дышала от волнения, кланяясь ей по завершении обряда. Теперь она и ее будущее чадо были защищены силой рода – самого его корня. Больше Эльга или другой кто не спросит ее с презрением, кто ей косу расплетал. Это сделала почти что сама Макошь, и даже киевской княгине придется уважать волю своего материнского рода!
Жить в лесу Малуше нравилось. Владея крохотной избушкой и четырьмя горшками, она ощущала себя госпожой своей судьбы, как ей не доводилось никогда ранее. Маленькое хозяйство, однако, давало занятий на весь день. Князь-Медведь очень много времени проводил в лесу; Малуша не спрашивала, куда он ходит и чем занимается, но он приносил то дичь, то рыбу, то припасы из весей – часть даров, что окрестные весняки доставляли к Буре-бабе. Порой и Малуша ходила к ней помогать по хозяйству. Иной раз в избушке оказывалось все вымыто и вычищено – значит, какие-то юные девы являлись попытать судьбу. Но редко – они больше ходят осенью, в пору свадеб.
С Князем-Медведем Малуша сжилась на удивление легко. Теперь он в избе личину не носил, но здесь царил вечный полумрак, не позволявший разглядеть его лицо, и у Малуши оставалось о ее лесном муже довольно смутное впечатление. Казалось, тайная сила отталкивает взгляд, не позволяет рассмотреть его черты как следует. Это было дыхание Нави, не дававшей Малуше забыть, что живет она вовсе не с простым лесным ловцом. Намного разговорчивее он не стал, но порой рассказывал ей какой-нибудь случай в лесу. Звери, особенно жившая поблизости медведица с приплодом, были ему ближе и понятнее людей. Однажды рассказал, как у него на глазах старый бобр дрался с молодым волком-переярком, подстерегшим его у выхода на лед. Победа осталась за бобром, а волк бежал, устрашенный отвагой противника и огромными острыми клыками. Малуша смеялась, но не знала, верить ли.
– Тут был случай, бобр мужику одному из Видолюбья бедренную жилу клыками перервал, тот и помер, перевязать даже не успели, – добавил Князь-Медведь.
Малуша покачала головой. С детства она наслушалась о том, кто в дружинах где и как погиб. Иной раз и на лову гибли, попав под лосиные копыта или на клыки вепря. Но никогда ей не рассказывали о человеке, которого убил бобр! И оттого ей еще сильнее казалось, что живет она в зачарованном краю за гранью обыденного.
Однако, несмотря на то, что говорили они немного, у Малуши сохранялось ощущение, что ее присутствие Князю-Медведю приятно. Что ему нравится, приходя домой, заставать здесь молодую жену с готовым ужином; нравится, снимая шкуру и превращаясь в человека, обнимать и целовать ту, что остается с ним не по суровому древнему обычаю, а по доброй воле. Чуть ли не впервые в жизни душа ее робко, лепесток за лепестком, расправлялась, распускалась из тугого комка, чувствуя тепло чьей-то привязанности, не отягощенной сомнениями и тревогами. И от этого она чувствовала себя счастливее с ним, чем даже со Святославом.
Осознав это впервые, Малуша удивилась – как можно их сравнивать? Один – как солнце ясное в небе, а другой – как зверь косматый в сумраке чащи. Но со Святославом она всегда тревожилась, всегда была не уверена, что желанна ему, всегда знала, что у него есть множество дел поважнее, чем она. С Князем-Медведем же все было иначе – они жили как будто вдвоем во всем свете, и она была для него такой же важной искрой тепла и разума, как он для нее.
Иной раз она с испугом думала – но ведь это только на год. Дольше ей нельзя будет здесь оставаться. Куда она пойдет потом? Но Малуша гнала прочь эти мысли. Каждый день здесь был так похож на другой, что только шаги весны, все ускорявшиеся, и отмечали прохождение времени. Скажи ей кто-нибудь, что она уже пять лет живет здесь, Малуша не удивилась бы.
У нее было еще одно мерило времени – зреющий во чреве ребенок. Но ведь Вёльсунга мать вынашивала шесть лет, так?
Темнело все позже, вечера становились все дольше, но длинные разговоры они вели редко. Куда чаще Малуша рассказывала о чем-нибудь Князю-Медведю, чем он ей. Бура-баба была разговорчивее, но ей не полагалось говорить о своей человеческой жизни. Лишь из некоторых их обмолвок Малуша постепенно поняла: Бура-баба в белом свете была родной матерью княгини Эльги! А Князь-Медведь – родной внук Буры-бабы и сын Эльгиной старшей единоутробной сестры, Вояны. По человеческому счету Князь-Медведь Святославу приходится первым вуйным братом! Впервые связав в голове концы, Малуша чуть не села мимо лавки. Вот боги забавляются – дитя у нее от брата-князя, а живет она с братом-медведем на другом краю света белого! И вот почему Бура-баба отнеслась к ней так по-доброму – Малуша ведь носит родного ее правнука! А Бура-баба, душа и хранительница рода, не могла бросить без помощи его росток, взошедший на ополье и нуждавшийся в защите.
Весной дитя у Малуши в животе начало шевелиться. Особенно сильный трепет внутри она ощущала, если вертела жернова, или толкла просо, или стирала. При тяжелой работе становилось трудно дышать. Присаживаясь отдохнуть, она клала руку на живот и вспоминала слова из сказания: «Был он больше любого младенца, крепкий и сильный…» В ней жил будущий великий воин, она знала это твердо. Не зря она так много ела – это ее чадо стремилось поскорее набраться сил. Хорошо, что Князь-Медведь то и дело приносил свежую рыбу, подстреленную птицу. Бура-баба велела растирать скорлупу от яиц и добавлять в кашу – а не то, сказала, зубы растеряешь. Бура-баба учила ее обычаям, что ей теперь можно делать, а что нельзя: велела во время еды класть возле себя вторую ложку, но не прикасаться ни к каким охотничьим орудиям, чтобы не отнять у ловца удачу. Дала ей щепки от разбитого молнией дуба и кусочек обмазки от своей печи, чтобы всегда носила при себе. Перед этим она посадила Малушу на лавку, встала на колени перед ней и завязала на ремешке, держа его у Малуши между ног, девять прехитрых заговоренных узлов; на этот науз и повесила мешочек с другими оберегами. Такого Малуша никогда раньше не видела, но теперь была уверена, что ее чадо защищают все силы Матери-Сырой-Земли. В пятницу – день Макоши – ей нельзя было расчесывать волосы или золить белье. В лунные ночи запрещалось показываться из дома, а если требовалось добежать до отхожего чулана за избой, Малуша укрывалась от луны волчьей шкурой.
Но вот лес зазеленел, тропки подсохли. Весняки выгоняли скотину на луга, и Князю-Медведю со всех сторон присылали особые лепешки, где внутри было запечено яйцо – они назывались балабки и считались жертвой за то, чтобы лесные звери не трогали стадо в лесу. Часть он оставлял себе – дней десять Малуша питалась почти только этими балабками, – часть уносил в лес и угощал медведицу.
На Весенние Деды Буре-бабе подносили особы пироги с ячневой кашей. Из Варягино эти пироги и лепешки доставили сыновья Уты, но только, как сказала Бура-баба, не Улеб и Велерад, а Улеб и десятилетний Свеня, младший. Велерада и его сестру Витяну забрал с собой отец, когда отбыл назад в Киев. Кияне уехали уже по воде, оставив в Плескове сани. А теперь Ута передавала Малуше поклон и особый гостинец, спрашивала, хорошо ли ей живется. Малуша через Буру-бабу ответила, что живется ей хорошо и ни в чем она не нуждается. Известие об отъезде княгини с дружиной она встретила с облегчением, но все прочее, связанное с киянами и родичами, казалось ей очень далеким, как полузабытый сон. Дремучий медвежий лес встал между ними стеной, оборвал все связи.
Топить в избе больше не было нужды, и Малуша готовила на печи снаружи, под навесом – пока лежал снег, она и не знала, что здесь есть летняя печь. Совсем рядом цвела земляника, и Малуша себя не помнила от удивления: никогда в жизни ей не приходилось следить за кипящим горшком, сидя среди зелени ветвей, слушая птиц, глядя на белые звездочки цветущей земляники в траве! Все это походило на сон. А вернее, сном казался киевский двор и его дымная, душная, шумная поварня с длинными очагами, где под присмотром ключников служанки варили каши и похлебки сразу в трех больших котлах. Вспоминая Киев, Малуша порой грустила, как молодуха даже в счастливом замужестве грустит по родному дому. Всегда жалеешь о привычном, о том, среди чего вырос. Как они там все – старшая ключница Беляница, старуха Векоша, десятские Даромил и Чернега? Тиун Богдалец? Эльгины телохранители и служанки? Брат Добрыня? Маленькая княжна Браня и Скрябка, ее нянька? Вспоминают ли ее, Малушу? Или им кажется, что она умерла сто лет назад?
Но хотела бы она вернуться туда? Чтобы все шло по-старому, и не было у нее никакого ребенка, и Святослав, приезжая к матери, иногда кивал ей мимоходом… Нет. Малуша мотала головой. Этого она не хотела бы. Та Малфа, что носила ключи у княгини, была совсем другой. Малуша нынешняя, в бурой поневе и красном платке, не желала возврата к прежнему, как птенец не желает вернуться в яйцо. И она хотела, чтобы у нее был ребенок.
Однажды утром Князь-Медведь сказал ей:
– Пойдем со мной сегодня.
– Куда? – удивилась Малуша.
Он никогда не водил ее с собой из дома, кроме как к Буре-бабе.
– А вот увидишь.
Узкое, продолговатое лицо его осталось почти неподвижным, но по голосу Малуше показалось, что он улыбается.
Подперев дверь поленом снаружи, чтобы не везли звери, они вдвоем пошли по тропинке. Но не к Буре-бабе, а в другую сторону. Шли довольно долго; знакомые Малуше окрестности избушки давно остались позади. Миновали болото – здесь была настлана гать, видимо, руками самого Князя-Медведя. Два раза он давал ей посидеть и отдохнуть.
Но вот наконец они пришли в березняк.
– Поищи, – сказал Князь-Медведь и сел на траву возле ствола, явно располагаясь отдохнуть, и сбросил личину с головы на спину. – Найдешь что полезное – можешь взять.
Малуша удивилась – что сейчас можно найти в березняке, для грибов и даже ягод еще рано. Однако послушно двинулась через рощу и вскоре наткнулась на «русалочью» березу: в ветвях завиты венки, обвязанные цветным тканцем, у ствола белеет рушник с какими-то подношениями. А на толстых ветвях висят длинные полосы беленой льняной тканины – «русалкам на рубашки». Ведь уже пришло то время, когда перед Ярилиными игрищами девки ходят к березам величать русалок.
Он про это и говорил, сообразила Малуша. Она сама теперь живет, как русалка: прясть и ткать ей нечего, без добрых людей будет не во что одеться. И дитя не во что запеленать… Не сразу она решилась: все знают, что отданное богам и иным «хозяевам» брать нельзя. Но вспомнила про свой красный платок: она уже месяца три ест хлеб, поднесенный владыкам Нави. Она – одна из тех русалок, что качаются голенькими на березовых ветвях и поют, выпрашивая рубашек себе и своим детям.
Оглядевшись – точно ли никого из людей рядом нет? – она потянулась, взялась за свесившийся конец тканины и стащила вниз. Тканина была хорошая – ровная, края не волной, плотная, свежая. В укладках годами не томилась, затхлым не пахнет, ни дыр, ни ржавых пятен, ни грязных потеков. Видно, только минувшей осенью и выткана, новым снегом выбелена. Раньше им такие привозили сотнями, когда от княгининых посадников в земле Полянской, Деревской и Смолянской доставляли собранную дань. Косяки льна убирали в клети, а потом служанки шили сорочки для челяди и отроков.
А эту принесла в рощу какая-то девка-веснянка, просила у русалок хорошего себе жениха. О чем девкам еще просить? Им хоть небо упади на землю – и тогда среди обломков будут жениха высматривать…
Малуша усмехнулась, сворачивая тканину. Будет чем дитя спеленать и из чего себе рубашку сшить. Обойдя три березы и собрав с них дары, она решила, что хватит: надо и настоящим… то есть другим русалкам оставить. Может, не у нее одной в животе кое-кто шевелится…
С добычей они пошли обратно. На полпути присели под рябинами, одетыми в белые соцветья – Малуше надо было отдохнуть. Давно перевалило за полдень, на траву падали лучи яркого солнца, горячего уже по-летнему, а здесь была приятная прохлада. Малуша закрыла глаза, вдыхая свежий запах рябинового цвета, травы, земли. Никогда в жизни своей, прошедшей на дубовых плахах киевского двора, она не ощущала такую близость к Матери-Сырой-Земле, такой кровной общности с ней. Обе они носили и приплод свой обещали в один и тот же срок…
Теперь в лесу уже не было тихо, как зимой: в волнах мягкого шелеста березовой листвы искрами рассыпался птичий щебет. Здесь, в березняке, птиц было куда больше, чем ельнике возле избушки. Тамошних она уже запомнила: дятел, юрок, кукша – ей называл их Князь-Медведь. Малуша уже видела в мыслях, как через год будет сидеть здесь с мальцом на коленях и рассказывать ему, где чей голос. «Кей-кей!» – это кукша кричит, с черной шапочкой и рыжим хвостом.
– Ку-ку! Ку-ку! – вдруг бухнуло совсем над головой, и Малуша вздрогнула.
Безотчетно она задрала голову, пытаясь увидеть кукушку в березовых ветвях. Но тут случилось нечто, потрясшее ее даже сильнее.
- Ой, не кукуй ты в поле, серая кукушечка!
- Ты лети-ка в дальнюю сторонушку,
- Унеси-ка мое горюшко великое!
– донесся из-за стены деревьев протяжный женский голос.
– Что это? – ахнув, Малуша поспешно поднялась на ноги и прижалась к березе, будто от опасности.
Только сейчас она осознала, как далек от нее весь род человеческий. Вот уже месяца три она не видела и не слышала других людей, кроме Князя-Медведя и Буры-бабы, – да и те не люди в обычном смысле. Она помнила, что на белом свете полно народу, но в мыслях ее они были далеко-далеко, за какой-то непроницаемой стеной. А услышав живой голос так близко, она испугалась, будто рядом заревело чудовище.
- Ой, да как попрошу я тебя, серая кукушечка,
- Ой как ты летаешь этим чистым полюшком,
- Где ни встретишь ты мою удалую головушку,
- Ты раздели-ка мое горюшко великое…
– У! У! – протяжно выкрикнула невидимая причитальщица.
– Ух! – ответил ей другой голос, тоже женский. – Ух!
– Это что? – с вытаращенными глазами Малуша повернулась к Князю-Медведю, который спокойно лежал под березой и даже не шевельнулся. – Русалки?
Она знала, что русалки издают крики навроде «у!» и «ух!». И сейчас как раз та самая пора, когда они гуляют в рощах и возле полей. Ей случалось в это время бывать с другими девками в рощах под киевским горами, и всегда их предостерегали от русалок. Но ни разу они их не слышали!
– Ку-ку! – гулко отозвалась невидимая птица, замыкая чародейный круг. – Ку-ку!
- Ты залети-ка на высокую могилушку,
- Разбуди-ка моего родного батюшку…
– завел уже новый голос, немного в стороне. И теперь уже два других отвечали ему:
– У! Ух!
– Это не русалки. Садись, что ты всполошилась? – Князь-Медведь похлопал ладонью по траве. – Здесь Любомирово льнище близко. Лен сеют да лелёкают.
– Лен сеют? А причитают чего? У них умер кто?
– Так это лелёкают, говорю же.
– Чего делают?
Порой в речи Князя-Медведя и Буры-бабы попадались незнакомые Малуше слова.
– Лелёкают, – спокойно пояснил Князь-Медведь. – На кукушку голосят. У вас так не делают разве?
– Нет.
– Обычай такой. Как услышишь кукушку – значит, из дедов кто проведать прилетел. Тогда заводят лелёканье – кто кого из своих поминает. И без кукушки можно – когда в поле работают, от пахоты до самой осени. А особенно когда с поля домой назад идут. Голосят, дедов окликают, чтобы в работе помогали. Бывают бабы, что красно лелёкают, они на всю волость славятся.
И, будто подтверждая его рассказ, со стороны невидимого за березами поля летело:
- Распускалася белая березонька!
- У!
- Прилетела серая кукушечка!
- У!
- А не ты ли прилетела, моя родная матушка,
- Ты послушай про мое великое горюшко…
Малуша старалась успокоиться, но сердце сильно билось, дитя трепетало в утробе. Разноголосое «У!» звенело над рощей, отражаясь от берез, будто сами деревья причитают. Будто весь воздух вокруг полон невидимыми гостями из Нави, что в эту пору ходят близ живых.
– А ты знаешь, откуда кукушка взялась? – спросил Князь-Медведь.
– Откуда? Откуда все птицы. Из Вырия.
– Слушай, я тебе расскажу.
Князь-Медведь сбросил с головы медвежью личину и шкуру с плеч. Собираясь в дальнюю прогулку, он надел их на случай встречи с кем-то из людей, но сейчас ему стало жарко. Малуша, пользуясь солнечным светом, вгляделась в его лицо. Князь-Медведь казался ей самым близким на свете существом, кроме будущего чада, они хорошо ладили, но его лицо, виденное по большей части в полутьме, она так и не выучила за эти месяцы. Сейчас, при ярком свете дня, он казался моложе, а рыжевато-русые волосы отливали золотом. Прямые темные брови, пристальный взгляд серых глаз… Темное пятно на левом виске – и правда, похоже на небольшой след медвежьей лапы.
– Жил в реке Великой водяной, и был он такого вида, как будто змеяка-уж огромный, – рассказывал Князь-Медведь. – Пошла одна девка купаться без рубашки, совсем голая, – он бросил на Малушу насмешливый взгляд, чуть прищурив глаза, – а он и схватил ее. Иди, говорит, за меня замуж. Деваться некуда, пошла она. Он на берегу-то как уж, а в воде вроде как человек. Стали они жить. Родился сын у них, назвали его Соловушка. Через три года заскучала девка и стала просить: отпусти да отпусти матушку проведать. Не хотел ее Уж отпускать, да больно она просила. Он и отпустил. Пошла она с сыном к матери своей. Мать не обрадовалась, что у нее уж речной в зятьях. Поговорили они, и улеглись все спать. А пока девка спала, мать ее поднялась тайком и к реке пошла. Встала там и кричит: ужак, ужак, это я, жена твоя, выходи, забери меня. Он и вышел. А она хвать – и топором голову ему срубила. Аж вся река кровью наполнилась. Дочка ее встала, выходит к реке – а река кровью течет. Поняла она, что мужа ее в живых нет, и от горя сделалась кукушкой. А сын их – птицей соловьем. Вот она все летает, кукует, по мужу своему плачет. И кто ее слышит – тоже по родным плачет.
Малуша отвернулась, чувствуя, как глаза наливаются слезами. Раньше, живя в Киеве, она не была такой мягкосердечной, а теперь нахлынули жалостливые мысли. Об отце, убитом минувшей осенью в схватке с дружиной младшего Свенельдича, Люта. О Князе-Медведе, который тоже – не из обычных мужей. И если кто-то сгубит ее лесного мужа, ей не будет пути назад в белый свет. Только и останется жить птицей – между небом и землей.
Никогда Малуша не ощущала себя дальше от рода человеческого, чем в этот ясный весенний день. Она взглянула на Князя-Медведя: он лег на спину, вытянулся на траве и прикрыл лицо от солнца медвежьей личиной – будто спрятался в свою непостижимую звериную сущность.
* * *
Больше Малуша в такие дальние вылазки не пускалась. Бродила по окрестностям избы, собирала сперва землянику, потом чернику и малину, потом грибы и сушила все это в печке. К концу лета живот сильно вырос, так что даже обуться ей бывало нелегко. Грудь тоже заметно увеличилась, и Малуша с трудом узнавала себя – стройную девушку, тонкую, как стебелек, что легко носилась меж клетями на княгинином дворе. «Я сама теперь медведица!» – говорила она, тяжело дыша, и Князь-Медведь усмехался в ответ. Не верилось, что это пройдет и она не останется на всю жизнь такой огромной, неповоротливой, тяжелой, как сама земля.
В дождях и грозах миновал Перунов день. Князь-Медведь вовсе не высовывался наружу, и Малуша сидела возле него, слушая далекие раскаты над кровлей и пожимаясь от веселого ужаса. Однажды среди порывов бури раздался уж очень громкий шум падения; назавтра, когда дождь перестал, оказалось, что неподалеку от избушки рухнула здоровенная ель. Вот тут у Малуши вытянулось лицо от испуга, уже ничуть не веселого – упади такая ель на избушку, могла бы раздавить со всеми тремя обитателями.
Она уверенно считала себя за двоих, как если бы дитя уже было у нее на руках.
– Да нет же! – успокаивал ее Князь-Медведь. – Ты глянь, какой сруб – полвека стоит и еще столько простоит, ничего ему не сделается.
Но Малуша долго не могла отделаться от боязни, что Перун метил-то в них. Промахнулся малость…
После Перунова дня наступала пора жатвы. На окрестных делянках начинали зажинать озимую рожь, к Буре-бабе потянулись гости с подношениями – приносили небольшие хлебы из новой муки, просили пожаловать на Дожинки. Хлеба ни у кого не было уже месяца два, с тех пор как кончилось старое зерно, но урожай ожидался хороший. «Самое дело, чтобы в хлебе спор был! – объясняла Малуше Бура-баба. – А без спора нет умолота, и сколько ни съешь того хлеба, сыт не будешь. А будет хлеб споркий – съел кусочек, да и сыт, и на весь год хлеба хватит, если в нем спор есть».
Малуша только дивилась. Раньше она знать не знала, что хлеб бывает со спором или без спора. У княгини на столе он не переводился круглый год, и вся челядь ее была сыта, даже когда весняки уже ели «болотную хлебницу»[10] и толокнянку вместо ржи.
День ото дня Малуша все больше волновалась и прислушивалась к чаду внутри. Все должно было случиться к окончанию жатвы, к пирам Дожинок. Возле полей она не бывала и не знала, как там у людей, но Князь-Медведь говорил ей, что дело близится к окончанию.
– Завтра Буру-бабу на «божье поле» повезут, – сказал он Малуше однажды, вернувшись вечером.
– Для чего?
– У вас там в Киеве, что ли, и «божьих полей» нет?
– Это куда князь и княгиня работать ходят? Есть. И Эльга ходила. Я с ней бывала там.
– Ну вот, хоть это знаешь. У нас тоже князь и княгиня ходят. Завтра будут «бабу резать». За нашей волокушу с лошадью пришлют. Сама уж не добредет, стара совсем стала. Я с ней пойду, а ты останешься. Тебе опасно в такую даль, да на люди.
Идти на поле Малуша вовсе не хотела – она сама уже боялась, отвыкнув, больших собраний чужих людей. Но страшно было остаться одной на весь день или даже на два. Ведь если «режут бабу» – значит, жатва закончена. Отеки с ног у нее уже сошли, живот опустился и дышать стало заметно легче, а Бура-баба говорила, что это признак скорых родов. Несколько раз она замечала, как напрягается живот. Что если у нее все начнется прямо завтра, а она одна в лесу?
– Завтра не начнется, – утешал ее Князь-Медведь. – Бабка ж тебе рассказала, чего ждать. Да и начнется – оно не вдруг все пройдет. Мы воротиться успеем.
Малуша хотела ему верить. Что изменит один день? Ну, два – Князь-Медведь и Бура-баба вернутся по своим избам завтра к вечеру.
Вот Князь-Медведь простился с ней и ушел. Малуша проводила его до начала тропы и, хотя его спина, покрытая бурой шкурой, сразу исчезла, растворившись среди таких же бурых еловых стволов, не сразу вернулась к избе, а еще постояла, глядя ему вслед.
Там, куда он ушел, начиналась тропа в белый свет. Сейчас Малуша впервые подумала, что когда-нибудь – после родов, – ей придется туда вернуться. Она живет здесь уже полгода – половину дозволенного срока. Раньше этот год казался беспредельным и она лишь привыкала к новой жизни, но теперь, добравшись до середины пути, уже невольно высматривала в тумане его конец.
Но она не хочет отсюда уходить! Здесь ее дом, думала Малуша, присев на лавочку возле летней печи и глядя на избу, полузарытую в землю. Сруб из бревен в обхват, дерновая крыша, крошечное оконце… Здесь ей было хорошо. А что ждет ее и дитя там, в белом свете? Одна неизвестность.
Бура-баба стала совсем стара… А что если она возьмет и умрет? Понадобится новая на ее место. Малуша невольно прикинула на себя: что если она останется жить в избе Буры-бабы, исполнять ее обязанности?
Сидеть стало как-то мокро. Поднявшись, Малуша обнаружила на сорочке влажное пятно чего-то клейкого. От испуга облило дрожью. Ой божечки! Неужели… а никого нет и два дня не будет.
Живи она в Варягине, Ута не оставила бы ее одну в такой час, хоть небо падай на землю!
Но делать было нечего. Глубоко дыша и стараясь собраться с духом, Малуша отправилась в избу и прилегла.
* * *
«Божье поле» было невелико – как велит обычай, двенадцать шагов в длину и столько же в ширину. Однако, несмотря на невеликие размеры, именно оно обеспечивало хлебом всю землю плесковскую. Рядом высилось святилище на пригорке, окруженное рвом с земляной перемычкой, ведущей к входу. Высокие дубовые идолы с площадки взирали на «божье поле» у подножия пригорка – оно не входило ни в чьи родовые угодья и принадлежало только богам. Вокруг не было иных полей – святилище окружали могилы, и сами деды круглый год оберегали «божье поле» и жизнь своих внуков. Весной плесковский князь первым принимался здесь за пахоту, потом за сев; все работы годового круга начинались здесь, при свидетельстве старейшин всех окрестных родов. Здесь княгиня первой начинала жатву и здесь ее первой заканчивала.
Ближе к вечеру на «божье поле» собралась нарядная толпа: отцы с цветными поясами на беленых сорочках, матери в красных поневах. Пришли князь Судимер и княгиня Льдиса. В рушнике княгиня принесла серп.
- Как покатилося золотое праведное солнышко
- Только не в ту сторону, где моя удалая головушка,
- Покатилося за лесыньки за дремучия,
– начала княгиня, встав у края поля и подняв к небу руки с серпом.
- Покатилося золотое праведное солнышко
- В подзакатную дальнюю сторонушку,
- Передай-как ты, золотое солнышко,
- Наш поклон дедам нашим родным, родителям…
– У! – единой грудью выдохнула сотенная толпа. – Ух!
И казалось, кости дедов содрогнулись под покровом земли, отвечая на общий призыв.
Княгиня принялась жать рожь, продвигаясь встречь солнцу – так положено при завершении этого важнейшего в году дела, подводящего итог всем годовым трудам.
- Попрошу я тебя, праведное солнышко,
- Передай ты от меня поклон низенький
- Моему родному доброму батюшке…
– начала свою речь Ута.
Она стояла впереди всех нарядных женщин, как самая знатная после княгини. Имеющая внуков, она уже не могла носить красную поневу и надела темную, но ее белый вершник был обшит узорным синим шелком, грудь украшали ожерелья из стеклянных и сердоликовых бусин, на синем очелье под белым шелковым убрусом блестел тканец из голубых шелковых и золотых нитей, с золотыми подвесками моравской работы. Дорогие уборы Уты, привезенные из Киева, славились по всей округе. Сама она к сорока годам заметно постарела – немного исхудала, побледнела, потеряла несколько зубов, на лице появились морщины, но даже сквозь них еще виден был облик юной миловидной девушки, какой ее знали в родных краях двадцать пять лет назад. Это сказывалась ее чистая, самоотверженная душа, не постаревшая ничуть, несмотря на бесчисленные испытания. С годами куда лучше стала заметна ее несгибаемая внутренняя сила – негромкая, неприметная, но всегда готовая подать помощь и заботу любому, кто в ней нуждался, но теперь подкрепленная богатым жизненным опытом.
- Ты взгляни, красное праведное солнышко
- На мою на бессчастную головушку,
- Ты найди на чужой дальней сторонушке
- Дорогих моих родимых детушек,
- Ты поведай им, мое солнышко,
- Как живу я, сиротинушка бесчастная
- С одной моей малой серой пташечкой…
– У! – единым голосом вскрикивали женщины, присоединяясь к зову.
У многих были слезы на щеках – причитающий голос бередил сердца, жалобил. Но так и нужно: деды тоже слышат. Деды помогают… Сейчас была пора говорить с мертвыми языком печали и слез, чтобы приблизить грань Нави и растворить ее незримые ворота.
Под голошение княгиня постепенно продвигалась по полю, шаг за шагом приближаясь к дальнему краю. Когда-то княгиня Эльга сосватала младшую дочь Сванхейд из Хольмгарда за своего вуйного брата Судимера. В то время жених был младшим из сыновей Воислава и никто не думал, что варяжка Альдис когда-нибудь станет княгиней. Но она так хорошо здесь прижилась, что сегодня, видя ее в красной поневе и белом вершнике, обшитом красным шелком, никто и не подумал бы, что родилась она в старинном гнезде варяжских князей на Волхове. Даже по-славянский она говорила так, как говорят все здесь.
Все собравшиеся следили за княгиней; по мере того как она продвигалась к краю поля, волнение возрастало. Пошел гул, неясный ропот. «Вон она, вон! – полетело по толпе, пока еще невнятно. – Вижу! Ой, божечки!»
Ута тоже бросила взгляд на крайние ряды ржаных колосьев. Княгине оставалось пройти шагов пять, и было заметно, что в одном месте, на самом западном углу, рожь стоит не ровно, как везде, а раздвинута чем-то крупным. За стеной колосьев просматривалось нечто темное… косматое… Пробирала жуть: казалось, там сидит во ржи медведь… или что похуже. Кто-то из тех, кто вышел из-под земли, из могильных холмиков, разбуженный и призванный голошением. И хотя Ута знала – что, и кто там, и зачем, – детский страх перед неведомым не отпускал и сейчас. Вот сейчас Навь оторвется от земли и явит себя…
Когда внезапно рожь шевельнулась, не одна Ута вздрогнула – содрогнулась вся толпа, полетел испуганный крик.
– Вон она! – вразнобой закричали десятки голосов.
– Видите ее? – крикнул князь Судимер, повернувшись к толпе.
– Видим! Видим! – ответила ему сотня голосов.
– Так гоните бабу!
– Побежала, побежала!
Старшие женщины устремились вперед и окружили угол поля, где что-то шевелилось. В вытаращенных глазах отражался ужас встречи с Навью и восторг от сознания важности предстоящего дела. Такова Навь: страшно встать с обителью смерти лицом к лицу, но лишь оттуда выходит обновленная жизнь.
Княгиня стала жать быстрее, ловко хватая в горсть пучки ржаных колосьев и ударяя по ним серпом. Делая шаг за шагом, она близилась к западному углу.
Разноголосые крики вылились во всеобщий вопль. Из колосьев поднялась старуха – в темной одежде, в накидке мехом наружу, в красном платке и в берестяной личине с клювом. Дети завизжали не шутя; кто-то пустился бежать, кто-то спрятался за мать, иные припали к земле. Толпящиеся у кромки поля вопили изо всех сил, будто выстраивая из крика непреодолимую для беглянки стену.
– Пожиналка! Баба-Пожиналка! Бежит, бежит!
– Хватай ее! А то уйдет!
– У! У! Беги, Баба, беги!
Старуха эта не могла бы убежать от толпы народа – для этого она была слишком стара. Но в детстве Ута слыхала рассказы, что иной раз Пожиналка оказывалась такой ловкой, что ее приходилось гонять по всему полю, прежде чем выйдет загнать в последний ряд и там «зарезать». Однако и эта баба не сдавалась легко; приплясывая, она качалась туда-сюда, делая вид, что вот-вот проскочит между шарахавшимися от нее женщинами и даст деру в лес – только и видели. А этого никак нельзя было допустить – с ней убежал бы и «спор», вся питающая жизнь сила собранного урожая.
Княгиня делала последние шаги к западному углу; Баба перестала метаться и замерла.
– Режь ее! Режь! – орали со всех сторон.
Льдиса взмахнула серпом над головой старухи; на разрумянившемся лице, в светлых глазах княгини был такой ужас, как будто ей предстояло совершить настоящее убийство. Она проделывала этот обряд не первый год, но у нее каждый раз дрожали руки: и от напряжения поспешной работы, и от сознания важности действа. Зарежь она Бабу неправильно, и в жите не будет «спора», все труды на нивах окажутся напрасны! Один ее удар мог защитить благополучие всего рода плесковчией – или погубить. Глядя на нее, Ута подумала: велите Льдисе ударить серпом по горлу старухи, под самый край личины – она сделает это, прольет горячую кровь на корни последних колосьев… Как это и делали в незапамятной древности, ежегодно отдавая Матери-Сырой-Земле самую близкую к ней старую мать в возмещение понесенных трудов.
Но Льдиса лишь взмахнула серпом по воздуху, а Баба упала – головой под последний пучок колосьев. Возбужденный крик толпы перешел в ликующий – добыча настигнута, жертва принесена! Княгиня остановилась над телом, опустив серп и тяжело дыша. Женщины встали в круг.
– Зарезали, зарезали! – кричали у поля. – Конец Бабе!
Ута, Предслава и еще несколько большух подошли к Льдисе с красными лентами и синими цветами в руках. Прочие запели, двигаясь по кругу – мелко переступали ногами вбок, притопывая и прихлопывая.
- Баба ты, баба!
- Выйди за нашего деда!
- Наш Дед богатый!
- Борода лопатой!
- Три овина хлеба!
- Хрен по колено!
Княгиня отдала Уте серп – та приняла его в рушник, не прикасаясь рукой, – и стала заплетать колосья последнего пучка в косу. Ей подавали ленты, цветы, так что косы вышла толстая, яркая, желто-красно-синяя. Отдавшая все силы и погибшая как старуха, земля снова становилась невестой, ожидающей посева. Ута вздохнула тайком: земля старше всех смертных женщин, но быстрее всех становится вновь молодой. Она проходит путь от ждущей девы до мертвой старухи за неполный год, а дочерям ее остается лишь вечно стремиться вслед, без надежды догнать.
Баба лежала неподвижно, притворяясь мертвой. Закончив плести, Льдиса опять взяла из рушника серп и отрезала колосья с верхушки косы. Это и был «спор», выросший над жертвенной кровью Бабы, святыня, которую надлежало бережно хранить до нового сева, до весны.
Княгиня перевязала «спор» красной тканой лентой, наклонилась и положила его на грудь Бабы.
– Умерла! Умерла! – кричали женщины, уже охрипшие.
Лежащую Бабу стали забрасывать травой, соломой, даже землей – хоронить. Другие женщины тем временем метали сжатые колосья в копны, освобождая место на «божьем поле».
Но вот главное было сделано. Раскрыли корзины и короба, расстелили скатерти на земле. Принялись выкладывать угощение – хлеб, пироги, жареных кур, кашу, кисель, яйца. От каждого небольшую часть подносили Бабе и клали возле нее, приговаривая:
– Угощайся, Баба! Мы тебя покормили, и ты нас кормить не забывай!
Женщины сели на копны, мужчины – на землю, и все принялись угощаться сами. Княгиня разливала брагу и пиво, каждый большак, получив чашу, кланялся, поднимал чашу к небу в стороне святилища, приглашал Перуна разделить питье и отливал немного наземь, потом опять кланялся и пил сам.
Стоял гомон, смех. Заиграли рожки, начались пляски. Матери родов притопывали, выплясывали на ниве, покормленной и уваженной в благодарность за тяжкий труд – рождение хлеба для рода людского.
Баба лежала не шевелясь, будто и правда умерла. Правая рука ее покоилась на груди, оберегая нечто ценное, но под наваленной соломой этого никто не видел.
* * *
Первый день все оставалось по-прежнему – Малуша не чувствовала ничего особенного. Искала себе занятия по хозяйству, но толочь просо или молоть зерно боялась – как бы тряска и усилия не подтолкнули дитя наружу, пока никого рядом нет. Иногда низ живота потягивало, но было совсем непохоже на то, чего она ожидала. Сама себе она казалась сосудом, полным до краев – качнись, и выплеснется. Или мешком, набитым сверх всякой возможности – только тронь, и лопнут швы, и потечет спелое зерно…
Заснула она почти спокойно, только ворочалась, как обычно, выискивая поудобнее положение для живота и не находя. А проснулась в темноте от ощущения, что лежит в луже. Сорочка ниже пояса и настилальник были мокрыми. Кое-как Малуша встала, на ощупь нашла другую сорочку, прикрыла шкурой мокрое пятно на постели и опять легла. Это был еще один грозный признак, что дело близится к разрешению. Через сутки она или получит на руки младенца – или будет лежать здесь мертвой.
Когда к утру начались первые, еще слабые схватки, Малуша едва не утратила мужества. Пока было не больно, но говорят, поначалу всегда так. Вот потом такое начнется, говорят, что захочешь умереть поскорее. А она одна…
Рассвело, лес стоял тихий: птицы давно отпели. Туман рассеялся, высохла роса на паутине меж стеблями травы, солнечный свет заливал поляну перед избушкой, как стоячая золотая вода. Малуша смотрела наружу через открытую дверь – так ей было спокойнее. Но ощущение беспредельности лесной пустоты подавляло ее. Что если они вернутся – Бура-баба и Князь-Медведь – а она лежит здесь мертвая… как горько, как обидно! Малуша рукавом вытерла слезы жалости к себе. Она умрет в полном одиночестве и даже не сможет ни с кем проститься! Даже с этой странной лесной семьей, что ее приютила! А уж кровная родня и знать ничего не будет… Им и невдомек, что не вернется их Малфа из леса дремучего, никогда, никогда!
Пока между схватками оставались долгие промежутки, Малуша вставала и расхаживала по избенке – от двери к дальней стене, потом обратно. Если она лежала, ей казалось, что ее затягивает бездна; на ходу было легче, она ощущала себя живой. Ей предстояло пройти долгий путь, чтобы вынести свое чадо из бездны в белый свет, и она совершала этот путь ногами – так ей было спокойнее.
Когда схватки стали сильнее, а промежутки сократились, Малуша уже не покидала лежанки. Вот если бы здесь была мать! Малуша закрывала глаза и воображала рядом Предславу: как будто та склоняется над ней, держит за руку… Мать хорошо знает, что и как – она рожала восемь раз…
Схватки усиливались, но одновременно сознание затуманивалось. Малуша жила как будто сразу в двух мирах: в одном она лежала на волчьей шкуре, всеми покинутая в глухом лесу, а в другой ее окружали какие-то три женщины, и она знала, что это Ута, Предслава и Обещана, ее подруга-бужанка, хотя они все три никак не могли сюда попасть. Но и сама она была не здесь, в избушке, а в какой-то палате вроде тех, о которых так много рассказывали Эльга, и Ута, и Святана, и мать, и другие женщины, ездившие с княгиней в Царьград. Малуше мерещились стены из красного марамора, золотые столпы, узорные полы – так ясно, будто она их видела своими глазами, хотя знала только по рассказам. Или это она видит свою кровь? Потом все заволакивала глухая тьма…
Новая хватка опоясывала болью, и Малуша, очнувшись, обнаруживала, что спала! Как она могла заснуть в такой час? И сколько времени прошло? Этого она совсем не понимала.
В открытую дверь по-прежнему струился дневной свет, значит, день еще не прошел. Но Малуша не удивилась бы, скажи ей кто, что уже не первый день она лежит здесь…
Лежит? Вынырнув из очередного провала, Малуша обнаружила, что стоит на коленях на постели, упираясь в стену, и шумно, натужно дышит открытым ртом. Так было гораздо легче, чем лежать.
– Ох, матушка… – задыхаясь, звала Малуша, страстно желая, чтоб ее мать оказалась рядом.
Предслава перенесла все это восемь раз, не умерла и вполне здорова. Малуша помнила, как рождались пятеро ее младших братьев и сестер, детей матери от Алдана – быстро, Предславу до бани не всегда успевали довести! Но то младшие… А первые родины – дело долгое, все так говорят.
У Предславиной бабки, Сванхейд, было одиннадцать детей. Она жива до сих пор, хотя от детей ее в живых почти никого не осталось. Только Тородд и Льдиса, нынешняя плесковская княгиня… Вскрикивая, Малуша зачем-то принялась вспоминать: Альвхильд умерла в Хольмгарде, девушкой, не дождавшись свадьбы – ее собирались выдать за Олега, Малушиного будущего деда. Ингвар погиб… Хакон умер в Смолянске… Мальфрид, ее бабка, умерла у ляхов… Эти люди, почти ей не знакомые, обступали лежанку, их полуразмытые лица лезли на глаза, и Малуше хотелось просить: уйдите, не мешайте, мне и без вас худо… Не тесните, дайте дышать!
Но Сванхейд все живет и живет… И она, Малуша, будет жить… По женской ветви она из очень прочной породы… У нее тоже будет потом одиннадцать детей… главное, справиться с этим, первым.
Сама Сванхейд откуда-то взялась рядом с ней, положила руку на плечо. Малуша воспрянула духом: именно этого она и хотела. Чтобы рядом была какая-то опытная женщина, знающая, как все должно идти, способная помочь. Она никогда не видела своей прославленной прабабки, но сейчас ничуть не удивилась, что та каким-то чудом перенеслась из далекого Хольмгарда в эту глушь.
– Ну вот, хорошо-то как идет! – донесся до нее голос Сванхейд, как наяву. – Хорошо ты встала, молодец. Ну, давай, тужься!
– Я вот чуял, что без нас все начнется… – раздался где-то поодаль мужской голос. – Как ты, бедная моя?
– Не трожь ее. Поди на солнышке посиди! А ты вдыхай поглубже и тужься, животом тужься! Чтобы сила низом шла. И дыши, а не кричи! Чем больше кричишь, тем больнее.
Малуша безотчетно послушалась, начала усиленно дышать… Очнулась. И вдруг увидела то, что было на самом деле: возле нее стояла Бура-баба, без личины, в красном платке, а у двери застыл Князь-Медведь, тоже с открытым лицом.
– Вы… воротились? – выдохнула Малуша, еще не веря, что хотя бы эти двое – не из ее бреда.
– Воротились! – Бура-баба ласково потрепала ее по плечу и отерла ей потный лоб. – В самую пору! А то на пустое место мертвецы сбежались было – учуяли кровь живую. Ступай, Медвежка, воды принести да там на печке погрей, скоро будем гостя обмывать!
От ее бодрого, уверенного голоса Малуше стало веселее: Бура-баба знает, что и как будет. Уже скоро, думала она, дыша и тужась «низом». Гостя обмывать… это она про дитя… гостя с той стороны… из колодца небесного, из бездны преисподней… Сбежались… мертвецы сбежались, она сказала. Толпа мертвых родичей собралась, провожая еще одного на этот, на белый свет. Выпроваживая… Ну, подтолкните! Чего встали?
– Толкай… те! – в досаде вскрикнула Малуша.
– Вот что я тебе добыла! – Бура-баба взяла ее руку, разжала стиснутый кулак и вложила в ладонь нечто жесткое, длинное, колючее. – Это «спор»! Самый «спор» и есть! Принесла тебе колосок. Держись за него.
Перевязанный красным пучок «спора» с «божьего поля» вместе с последним снопом отнесли в святилище, чтобы он там хранил силу для будущего урожая. Никто не заметил, что Бура-баба сунула к себе за пазуху один колосок, самый толстый. Ей требовалось немного «спора» на подмогу тому колоску ее рода, которому только пришла пора проклюнуться на свет.
– Держи его – он тебе силу придаст, а младенцу крепость. Ну, давай! Мать-Сыра-Земля в помощь!
Малуша изо всех сил сжала колос в ладони и глухо закричала. Она сейчас умрет, она больше не может… и повалилась назад, на шкуру. Между ног ее остался лежать какой-то мокрый трепещущий комок. Она не разу поняла, что это такое, но ощутила облегчение – как будто та мать-земля давила на нее всем весом, а теперь сошла.
– Вот и родился у медведицы медвежонок! – весело воскликнула Бура-баба и наклонилась, чтобы перевязать и обрезать пуповину.
Малуша лежала на спине, закрыв глаза и тяжело дыша. Она испытывала несказанное облегчение и ничего больше не желала в целом свете – даже стола царьградского. Вот теперь она стала зрелой женщиной, точно знающей, что к чему – где настоящее горе, где истинное счастье.
До нее доносился плеск воды, приговор Буры-бабы:
– Как не ведает сей гость ни своего имени ни прозванья, не ведает ни отца ни матери, ни роду ни племени, и ни страсти и ни боязни, в голове ни ума ни разума, в ногах ни скорого ни тихого хождения, так бы не ведали его ни хвори ни болезни, ни сглазы, узоры, прикосы и порчи, ни беды ни печали…
– Кто? Кто там? – нетерпеливо шептала Малуша, будто при звуке шагов долгожданного гостя.
– Шишечка! – бросила Бура-баба, окончив заговор. – Я так и ждала.
– Дай мне глянуть! – Малуша приподнялась, убирая волосы с потного лица.
Хотела сама проверить, как будто Бура-баба могла ошибиться сослепу, мальчика держит на руках или девочку. Охватило жгучее любопытство, захотелось поскорее взять его, рассмотреть…
Верно ли он жив?
Бура-баба подошла, неся на руках что-то шевелящееся. Доносился слабый крик. Младенец лежал на обрывке старой рубахи Князя-Медведя – полагается в отцовскую завернуть, а другого отца у дитяти нет. Малуша торопливо схватила его. Младенец уже был обмыт и перепоясан красной шерстяной ниткой – первый оберег, привязка к свету белому. Темные мокрые волосики, закрытые глазки-щелочки, красный вопящий ротик… Мордастый какой! Она приложила его к груди, и мальчик живо принялся сосать, как будто ему уже рассказали, что нужно делать на этом новом для него свете.
– Бойкое дитя, сразу видать, – Бура-баба остановилась перед лежанкой и сложила руки. – Своего не упустит. Как тебе сынок?
Малуша засмеялась в ответ. Она жадно разглядывала деловитое и недовольное личико, пытаясь отыскать в нем сходство со Святославом. Ничего такого она не видела – какой-то толстый лягушонок, а не княжий сын, – но это ее не огорчило. Мысль о Святославе сейчас не причинила прежней боли, да и показалась куда менее важной, чем прежде. Весь мир сдвинулся, у него появилась новая ось, новый бел-горюч-камень, начало и основа всего. Новый, самый важный князь лежал у ее груди и усердно сосал. Потом выпустил грудь, привалился к ней и заснул.
Малуша осторожно переменила положение, подложив дитя к себе под бок. Когда-то она, глупая девка, хотела сидеть на беломраморном княжеском троне. Но даже если бы это удалось, едва ли она тогда чувствовала бы себя владычицей мира с той же полнотой, что и сейчас.
В иных семьях дети что цыплята – сколько народилось, сколько умерло, и родичи не помнят. Но здесь, в огромном дремучем лесу, этот единственный ребенок был что новорожденное солнце в глухом зимнем небе. То самое солнце, о котором она столько думала в темные дни Карачуна. Целый век миновал с тех пор – и народился новый.
– Как называть будем? – спросила Бура-баба, поднося ей теплое питье, пахнущее «гусиной травой».
Малуша осторожно просунула свободную руку под изголовье и нашла там ржаной колосок.
– Спор, – она улыбнулась, вспомнив, как подбодрил ее этот дар. – Или Колосок.
– Ну, пусть будет Колосок или Споринок, – засмеялась Бура-баба. – Вся сила нив плесковских ему досталась. Пусть будет плодовит, как колос золотой, богат, как земля, щедр, как солнце красное. Жить ему сто лет, родить двенадцать сыновей, двенадцать дочерей! Самый высоким побегом вырастет от дерева того, что предрекала я бабке его Ельге.
– Самым высоким… – прошептала Малуша, как зачарованная. – Да будет крепко слово твое.
Малуша склонилась и прижалась щекой к теплой головке младенца. За растворенной дверью вечерело, но ей казалось, что сияющий золотом день теперь будет стоять вечно.
* * *
Еще три дня Бура-баба оставалась в медвежьем логове с Малушей, а хозяин в это время жил в избе старухи и вместо нее сторожил ворота Нави. Малуша чувствовала себя неплохо, но Бура-баба запретила ей вставать до истечения трех дней. Она подносила Малуше дитя, чтобы покормила, а потом мыла, пеленала и укачивала его сама. И Малуша дремала, слушая, как Бура-баба поет над ее ребенком:
- Она гнула люльку – с дуба кору,
- Пеленки рвала – с клена листья,
- Свивальник драла – с липы лыко.
- Повесила люльку на белу березу,
- Стала прибаюкивать:
- «Ты баю, дубовик, ты баю, кленовичок,
- Ты баю, липовичок, ты баю, березовичок»…
Малуше виделись деревья, склоняющие зеленые пышноволосые головы над люлькой ее чада; заклинающая песнь навевала покой и веру, что хоть у сына ее нет человеческого рода, нет отцовской рубахи, чтобы завернуть, за ним стоят могучие силы самой земли, и они не выдадут.
- «Нет, моя мати, не дуб мне родитель,
- Не клен мне батюшка, не береза мне матушка.
- Есть у меня отец – удалой молодец».
Когда-нибудь она расскажет ему о том удалом молодце – удалее всех на свете, – что был его отцом. Но сейчас пусть баюкают его дуб и береза, клен и липа.
- «Дай Велес дитяти камнем лежати!» –
- «А тебе бы, мати, горою стояти!» –
– пела Бура-баба, наделяя их обоих крепостью и мощью всего самого крепкого, что есть в белом свете.
- Дай Велес дитяти щукой в море плыти! –
- А тебе, мати, берегом лежати! –
- Дай Перун дитяти соколом летати! –
- А тебе бы, мати, березой стояти! –
- Дай Перун дитяти конем владети! –
- А тебе бы, мати, в терему сидети,
- В терему сидети, на меня глядети…
И Малуша засыпала, ясно видя, как сидит в золотом терему и смотрит на ловкого, красивог о всадника за оконцем – это он, ее сын, витязь и всадник, ясный сокол…
* * *
На четвертый день Бура-баба, показав, как пеленать и обмывать младенца, отправилась к себе, а для Малуши началась новая жизнь: кормить, качать…
Белья ей хватало: сперва выручили те холстины с весенних русалочьих берез, а потом, дней через десять после родов, Князь-Медведь однажды явился, нагруженный двумя большими коробами. В одном были пеленки, готовые сорочки для Малуши и дитяти, беличьи одеяльца, чулки, рушники. Во втором коробу, поменьше, были три куриные тушки, яйца, сыр, коровье масло, кусок свинины и пироги из пшеничной муки. «К Буре-бабе принесли, – пояснил он. – Для тебя гостинец». Малуша спросила, кто принес, но Князь-Медведь только повел рукой: не знаю, не спрашивал.
Малуша сама спросила, когда через несколько дней пошла проведать Буру-бабу.
– Две жены приходили, – ответила та. – Кланялись тебе и передали.
– Это моя мать была? – волнуясь, спросила Малуша. – И Ута?
У нее даже слезы выступи. Не раз она уже подумала, как хорошо было бы показать дитя своей матери, Алдану, Уте, Кетилю и прочим. И даже князю Судимеру с его княгиней, если соизволят явиться в Варягино. Ведь Малушино дитя – родня и им тоже. Княгине Льдисе – даже довольно близкая. И вот родичи вспомнили о ней сами!
Откуда же они узнали, что она уже родила, что все благополучно, что она и чадо живы? Должно быть, присылали кого-то еще раньше?
Но Бура-баба не стала отвечать, только недовольно жевала беззубыми челюстями.
– Скоро в Навь как в гости на блины ходить начнут! – буркнула она погодя.
Малуша поняла ее недовольство: грань Нави, которую надлежало пересекать надлежащим образом и по важному поводу, с трепетом и страхом, оказалась проницаема для простых родственных гостинцев новоявленной матери.
– Еще бы каши горшок принесли, – добавила Бура-баба.
– Но если бы я умерла, родичи ведь ходили бы на могилу с гостинцами, – робко ответила Малуша. – Вот и они… чего тут худого?
Но сама знала, что кривит душой. Предслава и Ута, если это были они, принесли ей все это не потому, что она умерла. А как раз потому, что для них она оставалась живой и они о ней тревожились. От этой мысли щемило сердце. Значит, не забыли, не оторвали и отбросили ее, как гнилой побег…
А Бура-баба почему-то этим и была недовольна…
Теперь Малуша всякий день ходила на ручей стирать пеленки, взяв с собой дитя. Пока она работала, Колосок спал рядом на мху. Тут же она присаживалась его покормить. Но чем дальше холодало, тем труднее становилось управляться с этими делами. Быстро миновало последнее тепло осени, лес пожелтел и стал облетать. Снова начали топить печь в избе – прощай, летний вольный воздух, здравствуй, дымная горесть!
Однажды, переделав все дела и затопив печь, Малуша уже на закате вышла вместе с чадом посидеть снаружи, чтобы не глотать дым. Качая дитя, она поджидала Князя-Медведя, как вдруг из чащи послышался стон.
От неожиданности Малуша вздрогнула и подскочила: кровь заледенела в жилах. Кто здесь? Откуда взялся? Проведя в лесу более полугода, она привыкла, что близ ее жилья никого нет – только Князь-Медведь да Бура-баба.
Солнце садилось, за деревьями сгущался вечерний лесной мрак. Веяло влагой, будто сама земля выдыхает устало, а из ее приоткрытого рта вылетают серые тени – навьи. Осень – время дедов. Но это в городцах и весях для дедов накрывают стол и кладут ложки по числу умерших, а здесь, в лесу, их никто не кормит. И бродят они меж стволов, ищут сами себе поживы…
Стон повторился – протяжный, гулкий, полный муки. Он шел откуда-то из-за деревьев, но за бурыми стволами толстых елей Малуша не могла разглядеть, кто там.
«Да это не человек!» – сообразила она. Это дух какой-то беспокойный мается или леший никак уснуть не может. А она без всякой защиты… и дитя…
Вскочив, Малуша белкой прыгнула в избу, захлопнула дверь и накинула засов. Здесь было довольно дымно, но лучше сесть пониже и потерпеть дымовую завесь над головой, чем попасть в зубы голодной нечисти!
Положив дитя на лежанку, Малуша приблизилась к оконцу. Из леса донесся гулкий тяжкий вздох, вылетевший из чьей-то огромной груди.
Ну точно, леший! Малуша схватилась за оберег – щепки громового дерева, что Бура-баба дала ей прошлой весной; она с тех пор так их и носила, снимая только в бане. От испуга и потрясения у нее даже рот приоткрылся. В жилах до сих пор ощущался холод.
К чему эта нечисть явилась? За ней? За чадом? Чуют, упыри, сладкую княжескую кровь!
Малуша огляделась, взяла из-под лавки топор и положила под закрытой дверью, лезвием наружу. Теперь не войдет, не посмеет. Застыла, прислушиваясь.
Опять стон – нечеловеческим голосом, утробным, полным неосмысленного страдания. Так стонут неупокоенные мертвецы, погибшие дурной смертью, потерявшие тропу меж Явью и Навью, не в силах ни жить, ни умереть по-настоящему.
Дитя завозилось, захныкало. В ужасе Малуша бросилась к нему: сейчас упырь услышит! Схватила чадо, прижала к груди. Младенец захныкал громче, вскрикнул, готовясь заплакать. За неполных два месяца он подрос и уже не напоминал толстого лягушонка – мальчик стал очень приятный на вид, и Малуше казалось, что в голубых его глазенках она видит сходство с соколиными очами Святослава.
Чтобы успокоить дитя поскорее, она дала ему грудь. Мальчик затих, принявшись за дело, только еще хмурил лобик. Малуша оглянулась на оконце. Руки, державшие дитя, дрожали. Оно же не войдет сюда… то, что там стонет?
Стон и шумное дыхание раздались уже совсем близко. Малуша скривилась, кусая губы и подавляя желание заплакать. Наклонилась над ребенком, ожидая, что вот-вот в оконце заглянет какая-нибудь жуткая морда… вроде харь, которые надевают на Карачун, только еще хуже. Но оконце не закрыть – печь топится, от дыма задохнешься. Может, хотя бы дым отгонит упыря?
Малуша бросила сердитый взгляд на оконце. Какой Встрешник ее занес в эту глушь, где упыря среди бела дня встретить легче, чем живого человека? После родов, когда на нее свалились заботы о младенце, жизнь ее стала совсем нелегкой. К работе она и раньше была приучена, но полоскать белье в холодной речной воде ей у княгини все же не доводилось. Теперь постоянно приходилось разрываться между горшками в печи, дитем, стиркой, жерновами. Ночью она держала дитя при себе, уложив под бок, чтобы своим плачем не мешало спать Князю-Медведю и можно было кормить, не вставая, если проснется и закричит. Сама спала вполглаза, чтобы не придавить ненароком чадо – это называется «заспать дитя». Сколько таких чад было «заспано» матерями, смертельно уставшими на сенокосе или на жатве!
Дома в Киеве, еще пока мать не уехала, Малуша часто нянчила сводных братьев и сестер. Особенно двух младших, которые родились, когда ей уже было девять-десять лет. Но не ночами – для этого имелись няньки-челядинки, да и днем можно было позвать на помощь брата Добрыню. Теперь же позвать было некого. Ни братьев, ни челяди у нее здесь нет. Иной раз Малуша засыпала, сидя с ребенком на руках, пока он сосал; вздрогнув, приходила в себя, в ужасе хватала дитя покрепче. Уронишь – головой ударится, на всю жизнь дурным останется.
Наконец стоны за оконцем стихли. Но Малуша так и не решилась больше выйти наружу и не отперла дверь, пока Князь-Медведь, удивившись, почему не открывается, не налег плечом. Думал, перекосило, заклинило. Он так редко встречался с запертыми дверями, что постучать в собственное жилье ему просто в голову не пришло.
– Да это лось был, – хмыкнул он, когда Малуша рассказала ему, что случилось. – Гон у них. Ходят, вздыхают… Но ты верно сделала, что в избу ушла. А то мог бы и броситься. Они дурные сейчас…
Еще дней десять-двенадцать, пока Князь-Медведь не заверил, что гон окончился, Малуша боялась выходить в лес. Отправлялась только в полдень, когда солнечные лучи хотя бы делали лес не таким страшным, хоть уже и не грели. Князь-Медведь уверял ее, что лоси стонут только на закате и на рассвете, а днем молчат, но утешало это ее мало – а вдруг тайком подкрадется? Завидит ее, на коленях у ручья, примет за лосиху… а как поймет, что ошибся, как наподдаст рогами… Дитя она с собой не брала, оставляла в избе, подперев дверь снаружи. И бежала бегом обратно, заледеневшими руками прижимая к себе лукошко с тяжелым мокрым бельем. А что если зверь какой забрался и унес дитя? Ее обливало ужасом от этой мысли, она так и видела: волк, лисица, рысь… Увидев издали закрытую дверь с поленом на прежнем месте, она облегченно вздыхала, но лишь когда, подойдя ближе, слышала из дома возмущенный голодный плач, с сердца падал камень.
Чуть не половина детей умирает, не дожив и до трех лет, поэтому дитя подстригают впервые в три года, как прошедшее первую проверку на принадлежность к миру живых. У каждой старой избы под порогом истлевают кости младенцев. Случись что с Колоском – и ей придется вырыть маленькую могилку вот здесь, у входа в логово. И опустить в холодную землю маленькое тельце… холодное, как сама земля… чтобы стало частью земли… Может быть, там уже лежат «медвежьи чада» прежних поколений, съеденные лесом. Но не ее. Чего бы ей это ни стоило – своего она убережет.
* * *
Когда Колоску шел третий месяц, повалил снег. Утром, растопив печь и открыв дверь – дрова уж очень принялись дымить, видно, отсырели от дождей, – Малуша увидела с порога белые крупинки, густо сыпавшие на зеленые лапы елей и на рыжую хвою на земле. Как будто Макошь решила варить похлебку из грубой муки да опрокинула туес. Запах свежего, первого в году снега щекотал ноздри, бодрил, возбуждал. Так всегда поначалу: кажется, что приход зимы несет нечто радостное, обещает веселье Карачуна, уют долгих посиделок, манит надеждой на какое-то особенное, еще не бывалое счастье… И только потом вспоминаешь: зима – это замерзшие руки и мокрые ноги, шмыгающий нос, тяжелые кожухи, колючие платки из толстой шерсти, неуклюжие поршни с соломой, вечная дымная горесть, тьма, тьма и тьма, одевающая утро, вечер и большую часть дня. Хвори от холода, дыма и недоедания, а для кого-то и смерть…
Малуша вздохнула, услышала сама себя и поразилась: точно так вздыхали Векоша, и Травка, и Лиска, другие челядинки княгининого двора, утомленные вечной работой и не видящие впереди никакого просвета до самого Ирия. Чем она теперь лучше них? От возни с печью и закопченными горшками руки у нее давно почернели, а от стирки в холодном ручье кожа краснела и трескалась, не делаясь особо чище. Мысли день ото дня ходили по кругу: встать, растопить, налить, поставить, покормить, перепеленать, уложить, растолочь, размолоть, подать, убрать, помыть… У Эльги даже челядинки жили полегче – они могли по очереди оставлять своих чад друг другу. Теперь она сама не лучше Нивки и Багули, которых бранила за неряшество. Ни одного человека не видела уже много месяцев, а кажется, что много лет. Малуша прикинула: не считая Буры-бабы и Князя-Медведя, последними виденными ею людьми были Велерад и Улеб, приведшие ее к Навьей строже. Через три месяца с небольшим тому сравняется год!
Да неужели ей теперь всегда так жить, с острой тревогой подумала Малуша. Выросшая на оживленных киевских дворах, где каждый день мелькали люди и все время появлялись новости, она начала тяготиться этим одиночеством, едва оно стало привычным. Князь-Медведь не обижал ее, давал ей все, о чем она просила, и не ворчал, что детский плач мешает спать. Но и говорить им было почти не о чем – если ничего не случается и никого не видишь, о чем говорить? Он пытался ее развлечь, рассказывая разные лесные байки или что повидал на прошлом Карачуне в Плескове, но, как ни хотелось Малуше послушать про мир живых людей, она слишком уставала за день и клевала носом, сидя у печи с чадом на руках. На груди через сорочку проступали влажные пятна молока…
А зима наступала уверенным грозным шагом. Выросшей гораздо южнее Малуше было страшно видеть, как быстро холодает, как все тяжелее наваливается на мир тьма. Однажды, слушая вой метели над кровлей, она подумала: понятно, почему Эльга в свое время решилась даже на убийство волхва-хранителя и побег с чужими людьми, лишь бы не застрять здесь… А ей ведь еще не приходилось самой пеленки стирать! Малуша снова начала жалеть о том, что она не княгиня, но теперь уже не из честолюбия, а только от усталости. Больше она не хотела белокаменного троноса с узорами из порфира, а хотела только возможности спокойно проспать всю ночь. А проснувшись, лежать под теплым одеялом, ожидая, пока кто-нибудь другой растопит печь, поставит кашу и принесет ей младенца в сухой и чистой пеленке…
Когда наступил месяц студен, снега навалило столько, что Князю-Медведю приходилось отправляться в лес на лыжах, а перед этим протаптывать Малуше тропу к ручью, иначе она просто не дойдет. Но и так она чувствовала усталость, едва добравшись до берега. Ручей замерз до дна, стирать она теперь ходила на озеро, где стояла баня и имелись мостки: Князь-Медведь делал там прорубь.
Но и вернувшись в избушку, отдохнуть как следует не удавалось. Колосок, поначалу довольно тихий, стал беспокойным: больше плакал и меньше спал. Малуше казалось, что он бледнеет и худеет, как будто голодает. Было похоже, что ему не хватает молока: оно уже не мочило сорочку на груди, а сами груди стали не такими полными.
Осознав это в первый раз, Малуша содрогнулась от ужаса. Когда у матери нет молока, чадо кормят козьим, а то дают пережеванный хлеб. Но откуда ей здесь взять козу? И не мал ли Колосок, чтобы есть хлеб – ему едва три месяца! Да и хлеб у них имеется не всегда, а только если из весей принесут. Пока, до середины зимы, хлеб носили щедро, но после Полузимницы эти подношения иссякнут. Она и Князь-Медведь могут есть рыбу и дичину, но чадо? Разве к медведице в берлогу пробраться и ей, сонной, еще одного «медвежонка» подложить… Да и то рано – лесная мать еще не родила своих мохнатых чад.
В тот же день Малуша побежала к Буре-бабе. Та велела пить настой листьев крапивы; хорошо, что сего зелья, помогающего от разных недугов, у старухи имелся хороший запас.
Поначалу помогло, но через несколько дней молоко снова начало иссякать.
Этот день Малуша снова провела одна. Перед этим три дня шел густой снег, даже с метелью, и Князь-Медведь никуда не уходил. Но сегодня снег перестал, и он отправился на лов: поискать тетеревиных стай и подстеречь, когда птицы устроятся в снегу на ночлег.
Протоптать ей тропу до озера он не успел, но Малуша не огорчилась. Сегодня она чувствовала себя совсем обессиленной и вовсе не хотела заниматься стиркой. У нее оставалось еще две чистых пеленки, и если подложить побольше сухого долгунца… к тому же недокормленный Колосок мочил пеленки меньше. Можно и завтра сходить…
Но убаюкать ей его никак не удавалось. Давно перевалило за полдень, опять пошел снег, а она все ходила по тесной избушке от печи к двери и обратно, укачивая дитя и то напевая, то пытаясь с ним разговаривать. Печь и дверь здесь были не как у людей – вход к южной стороне, печь к северной, – а наоборот, как положено на том свете, где все перевернуто. Поначалу это сбивало Малушу с толку – было так же странно, как если бы кто-то поменял местами ее правую и левую руку. Но потом она и к этому привыкла. Казалось, конца этому не будет – усталости, тьме снаружи, тесноте… будто она живет в подземелье… как посеянное озимое зерно… А до весны, когда можно будет прорасти на свет и вольный воздух, оставалось так далеко!
– Харальд Боезуб владел всеми землями на свете… – бормотала она, стараясь подбодрить саму себя перечислением знаменитых предков – своих и чада. – У него были сыновья, Эйстейн Жестокий и Ингвар Великодушный. Когда Харальд погиб, Ингвар отправился на восток и поселился в Ладоге. Здесь у него была дочь Ингебьёрг…
Малуша часто путалась, замолкала, позабыв, у какого конунга был какой сын. Лишь добравшись до ближайших поколений, почувствовала себя более уверенно.
– У Хакона был сын Олав, он родился в Хольмгарде, а словены зовут его Холм-град. У Олава было много детей – десять или двенадцать. Трое его старших сыновей умерли один за другим, и его наследником остался Ингвар. У Ингвара был единственный сын – Святослав…
Малуша остановилась посреди избы. Ох, если бы все эти знатные мужи увидели сейчас ее, свою незадачливую правнучку – в замаранной сорочке и кривской поневе, бродящей по темной тесной избенке, пропахшую печным дымом, с красными шершавыми руками, с нечесаными второй день косами, ничем даже не покрытыми… Трудно было бы заставить их признать ее за мать прямого наследника стольких конунгов датчан и свеев, стольких князей словен, полян, морован и древлян!
В дверь постучали.
Малуша подпрыгнула, очнулась и содрогнулась всем телом. Потревоженный Колосок, было задремавший, опять заплакал. За неполный год Малуша ни разу не слышала стука в дверь: Князь-Медведь заходил к себе в логово не стучась, а чужих здесь не бывало и быть не могло.
Кто же это? Бура-баба?
Стук повторился. Звучал он сдержанно, не так чтобы робко, но ненавязчиво, будто стоявший снаружи боялся потревожить жителей. Так не стучат свои, а только чужие, не знающие, кто ждет внутри.
Нет, это не Бура-баба, холодея, поняла Малуша. Та просто вошла бы да и все, даже если решила бы одолевать старыми ногами засыпанную тропку через ельник… Да нет, где ей? Она до новой травы сюда не придет.
Но тогда кто? Вспомнились стоны и утробные вздохи в осеннем лесу, когда она дрожмя дрожала, думая, что рядом бродит упырь. Это оказался томимый любовной тоской лось… но не лось же к ней стучится!
Стучат ли в двери упыри? Нет, они не ходят зимой… или ходят? Еще не Карачун, им рано…
Опять раздался стук, и теперь в нем слышалось нетерпение. Этот простой звук от соприкосновения чего-то твердого – к примеру, кулака, – с дубовой доской двери пронзил Малушу с головы до ног, хотя в прежней своей жизни она слышала его по десять раз на дню и кидалась отворять без малейшего страха или смущения.
Да йотуна мать! Малуша вдруг разозлилась на саму себя – жалкую, грязную и полную глупым чащобным страхом. В кого она здесь превратилась, наследница стольких князей – в лесовуху замшелую? Еловой корой обросла, и света, и людей боится!
А если там и нелюдь – плевать.
Быстро положив дитя на лежанку, Малуша шагнула к двери и толкнула ее.
Дверь отворилась, внутрь пролился бледный дневной свет. Опять шел снег – довольно густо, небо было ровного серого цвета. Однако света хватило, чтобы Малуша с первого взгляда на пришельца поняла – лоси и нелюди здесь ни при чем. Они так не одеваются и сулицу в руках не носят.
Она взглянула ему в лицо, встретила взгляд голубых глаз…
По жилам будто плеснуло холодным огнем, в очах потемнело.
Закутанный в плащ, с надвинутым почти до носа худом поверх шапки, смаргивая густой снег с ресниц, на нее смотрел Святослав.
Часть вторая
– Дроттнинг, – на каком бы языке Бер ни говорил со своей бабушкой Сванхейд, он называл ее старинным северным титулом – королева, – а ты помнишь Эльга Вещего?
Вместо ответа Сванхейд сначала рассмеялась. Вопрос любимого внука показался ей так забавен, что она хохотала, пока не начала кашлять.
– Нет, – проговорила она, когда Бер принес ей кружку с водой. – Ты бы еще спросил, помню ли я Харальда Боезуба. Если бы я жила, как он, лет сто пятьдесят, то могла бы и помнить Эльга Сладкоречивого. Но мне всего семьдесят.
– А разве Эльг жил так давно – сто пятьдесят лет назад? – Бер удивился. – Мне казалось, ты можешь помнить.
– Не сто пятьдесят, но он проходил через эти края около восьмидесяти лет назад. Меня тогда еще на свете не было. Когда я сюда приехала, он уже был в Киеве. А вот Альвхильд его хорошо помнила. Часто мне о нем рассказывала.
Альвхильд была ее свекровь, предыдущая королева Хольмгарда. Сванхейд нередко пускалась в воспоминания о тех временах, когда она, семнадцатилетняя внучка Бьёрна конунга из Уппсалы, только приехала сюда, чтобы выйти замуж за Олава, сына Хакона и Альвхильд. В то время Хольмгард был поменьше, чем сейчас, но уже господствовал над всей округой, собирал дань с множества родов словенских и чудских. Воспоминания тех давних лет были живы и свежи, и Сванхейд любила о них говорить; Беру иногда казалось, что она рассматривает их в своей памяти с таким любопытством, будто Источник Мимира показывает ей жизнь совсем другой женщины.
Уж конечно, между той Сванхейд и этой общего осталось немного. Но и в семьдесят лет госпожа Хольмгарда ничуть не выжила из ума и прекрасно управляла своим обширным хозяйством. Правда, в последние годы ее плохо слушались ноги, и поэтому Бер, единственный сын ее второго сына Тородда, жил с ней и служил ей ногами и глазами в тех местах, куда ей было трудно добраться самой.
Вторым ее сыном Тородд только назывался. На самом деле, кроме Ингвара, перед ним у госпожи Сванхейд было еще три сына: два носили имя Хакон, один – Бьёрн, но все они умирали так рано, что к рождению следующего родовое имя успевало освободиться. Удержался на свете только третий его носитель, но еще двое мальчиков, родившихся после него, тоже умерли, не дожив и до семи лет. Звали их Энунд и Эйрик.
Сейчас уже мало кто, наверное, помнил об этих младенцах, кроме самой Сванхейд. А Бер иногда думал: не умри они – что за люди бы из них вышли? Стань наследником деда, Олава, не четвертый по счету сын, Ингвар, а один из тех первых Хаконов или Бьёрн – может быть, вся их родовая сага сложилась бы по-другому? Даже если старшего сына и забрали бы, как Ингвара, в далекий Кенугард еще совсем маленьким, здесь, на севере, осталось бы шестеро его братьев. И они не позволили бы отнять у них наследство дедов.
– Я согласилась на это, потому что не хотела вражды между моими сыновьями, – объясняла внуку Сванхейд. – И ради объединения всего Восточного Пути в одних руках. Это куда выгоднее, чем когда он состоит из множества мелких наделов.
– В одних руках что-то полезное иметь выгодно, когда эти руки – твои собственные, – проворчал однажды Бер. – Ты думала присоединить Кенугард к Хольмгарду, а вышло наоборот!
– Ты думаешь, что я ограбила тебя и всех твоих братьев, да? – проницательно заметила Сванхейд, глядя на него своими голубыми глазами, и сейчас похожими на кусочки небесного льда.
Скуластая, со светлыми бровями и ресницами, Сванхейд и в молодые годы не была красавицей, а высокий рост и статность, которыми она тогда славилась, давно ушли в прошлое. Однако густая сетка морщин даже придала внушительности ее взгляду; острый ум и твердый нрав остались при ней, о них и время обломало зубы. Даже если она жалела о том давнем решении, то никак этого не показывала.
Бер помолчал. Именно так он и думал. Лет двадцать назад Сванхейд решилась оставить наследство покойного мужа за старшим из выживших сыновей – Ингваром, который к тому времени стал киевским князем. С того дня он сделался господином как Северной Руси, так и Южной, и впервые власть над ними оказалась в одних руках. Может, это и было хорошо для торговли, но не для его младших братьев, Тородда и Хакона. Хакон-третий умер пять лет назад, но у него остались двое сыновей. Они еще дети, старшему года два-три дожидаться вручения первого меча. Но лет через семь они поймут, как обидно происходить из королевской семьи и остаться без наследства.
Беру было уже девятнадцать лет, и он это понял довольно давно. Пока Тородд, его отец, от имени старшего брата правил Приильменьем, а дядя Хакон – Смолянской землей, перемена в их положении была почти незаметна. Но потом дядя Хакон умер, а его вдова вышла замуж за одного человека из Киева, который занял место покойного и стал собрать дань со смолян. Так распорядился Святослав, сын Ингвара, киевский князь, единственный ныне конунг в роду. И не потому, что Беру тогда было всего шестнадцать и он не дорос до должности посадника. Причина была иной. Когда умер Хакон, Святослав поклялся, что в его державе больше не будет других конунгов, кроме него, и начал оттеснять родичей от сборов и управления.
Около года назад Святослав вдруг приказал, чтобы его дядя Тородд отправлялся в Смолянск, а Вестим, тамошний посадник, ехал в Хольмгард на его место. Это его решение вызвало в старинном гнезде над Волховом немалое волнение: впервые за полтораста лет в этих краях оказался главным не кто-то из рода Ингвара Великодушного, младшего сына Харальда Боезуба. Конечно, Сванхейд новый посадник из ее дома не выгнал, а обосновался на другом берегу реки. Там уже лет тридцать постепенно росло поселение, которое сперва Ингвар, а потом Святослав собирались сделать новой северной столицей. Пока там не было укреплений, а лишь десятка два разбросанных дворов, каждый за своим тыном. Называли их просто Новые Дворы. А Хольмгард, утратив свое давнее господство, сделался просто усадьбой князевой бабки.
Из уважения к Сванхейд Святослав отдал ей десятую часть собираемых на севере даней – десятую часть того, что еще при жизни ее мужа принадлежало Хольмгарду целиком! А Тородд уехал в Смолянск. Эти перемены его не радовали, но он смирился: не для того он всю жизнь поддерживал сначала брата, а потом его сына, чтобы теперь с ним поссориться.
– Был бы я на месте отца, я бы ему напомнил, – как-то вырвалось у Бера, когда они со Сванхейд говорили о Святославе. – Когда те древляне убили его отца, удачной местью он обязан помощи родичей: и твоей, и моего отца, и дяди Хакона. Я бы не стерпел, если бы меня, разделившего с ним священную обязанность мести, он выгнал из родного дома и послал невесть куда собирать ему дань, будто простого хирдмана!
Сванхейд наблюдала за внуком почти с восхищением: его лицо выражало решимость, в глазах пылала готовность к борьбе. Парень сам не знает, насколько похож на своего прадеда, Бьёрна из Уппсалы. Она была не из тех, кто кудахчет над своими потомками, тем более когда они вырастают во взрослых мужчин, и лишь опасалась, что эта отвага пропадет зря.
– Это в тебе сказывается кровь моих родичей, – одобрительно сказала Сванхейд. – Моего деда Бьёрна, да и дяди Энунда. Он тоже очень честолюбив и всегда был недоволен тем, что родился младшим сыном и ему не достанется править в Уппсале. Он не раз принимался… за всякие затеи, чтобы вытеснить моего отца с его места, так что пришлось отцу выгнать его в море. Он воевал с Инглингами в Ютландии и там погиб.
– Я не собираюсь затевать никаких затей против Святослава, – обиделся Бер. – Чтобы куда-то его вытеснить. Зато я бы сказал, у Святослава именно такие наклонности.
– Не совсем, мой дорогой, – Сванхейд потрепала его по плечу. – Он ведь еще не выгнал тебя в море.
– Это потому что я почти не попадался ему на глаза. Вот его брату Улебу, как мы слышали, сильно с ним не повезло! Я бы на месте Улеба уж точно ушел в море и стал грабить Святославовы корабли!
– Тогда нам пришлось бы сражаться с ним.
Теперь Улеб, лишенный невесты, оскорбленный и изгнанный из родных краев, жил в Плескове, на родине своей матери. Порой Бер думал: может, не ждать, пока с ним случится нечто подобное, а самому снарядить корабли? Мысль была заманчивая. В Хольмгард каждый год приезжали люди из Северных Стран, рассказывали, сколько знатных людей покрывает себя славой на морях… Иные, конечно, погибают, но никому ведь не жить вечно. Зато более удачливые становятся основателями нового королевского рода. А он сидит здесь, как невеста…
– Подожди, пока я умру, – сказала Сванхейд, когда Бер однажды намекнул ей на это свое желание. – Ты самый толковый из моих внуков, без тебя я не справлюсь. Сейчас у тебя ничего нет, Святославу нечего у тебя отнимать. А вот когда меня положат в короб от саней[11], тебе достанется кое-что… на паруса. То, что составляет мое личное имущество и на что мой бойкий киевский внучок не сможет по закону наложить лапу.
Бер вовсе не желал смерти своей бабки, хотя понимал: с такой старой женщиной это может случиться когда угодно.
И что с ним тогда будет? Никто не разбил сыновей и внуков Олава в сражении, но владений у них больше нет. Самое лучшее, если Святослав позволит ему остаться в Хольмгарде и вести здесь хозяйство. Может быть, потребует службы, участия в его походах. Бер не боялся войны – наоборот, жаждал обрести собственную славу. Но ему претила мысль служить и повиноваться тому, что совершенно равен ему родом и ни в чем не превосходит.
Бабка оставит ему средства, чтобы собрать и снарядить дружину. И лучшее, что он сможет сделать после ее смерти – добыть себе владения, где он сам сможет быть конунгом, как его дед и прадед. Которые никто не посмеет у него отнять. Ведь мир велик. Если смотреть на восток, то никто, кроме Одина, не знает, где он кончается. Между Хольмгардом и Шелковыми странами уж верно найдется и для него кусок земли.
– Туда уходили многие отважные мужи, – говорила Сванхейд, если Бер делился с ней этими мыслями. – На моей памяти тоже. Многие добирались до сарацинов. Но мало кто возвращался живым и с добычей. А чтобы кто-то нашел там для себя королевство, я и вовсе не слыхала.
– Но Эльг Вещий ведь смог! И я слышал, были другие и до него.
– Этот человек обладал особенной удачей. Она превышала удачу всех – тех, кто был до него, и тех, кто пришел после него.
– Даже нашу? Ингвар в приданое за своей женой получил киевский стол, и вот что вышло – киевский род Эльга лишил нас власти и почета!
– Но это наш род!
– Кто об этом помнит? Только ты да я! Наследники Эльга киевского правят всеми землями отсюда и до греков, а мы… наследники без наследства!
– Святослав – мой родной внук, такой же, как ты. Я верю: спустя века люди будут знать, что род его вышел отсюда, из Хольмгарда.
Бер помолчал.
– Хотел бы я все же знать… – промолвил он чуть погодя. – В чем был источник Олеговой удачи? И всю ли ее унаследовал один Святослав?
* * *
Прошли пиры начала зимы – их отмечали в Хольмгарде по старинному северному обычаю, приглашая всех окрестных старейшин, – и потянулось самое скучное время. В былые года, хорошо памятные Сванхейд, в это время вожди Хольмгарда готовили дружину к походу в дань. Муж ее, Олав, отправлялся по берегам Ильменя и на восток по реке Мсте, а брат его Ветурлиди – на запад, по Луге. Луга еще оставалась за наследниками Ветурлиди, но дань, ранее принадлежавшую Хольмгарду, теперь собирал для князя Святослава посадник Вестим, живший за Волховом, в Новых Дворах. Когда Вестим сменил Тородда, Бер первые две зимы ездил вместе с посадником. Присутствие внука госпожи Сванхейд подтверждало данникам, что право сбора передано по закону, и к тому же, зная, сколько чего собрано, Бер сам будет знать размер причитающейся Хольмгарду десятой части.
Он подумывал поехать и в эту зиму, чтобы не скучать без дела, но выступать предстояло не раньше окончания Карачуна, а сейчас даже Волхов еще не замерз. Однажды, едва улегся первый, тонкий снеговой покров, на Волхове показались шедшие из озера три больших лодки. Хирдманы позвали Бера посмотреть, и он вышел на внутренний причал – тот, который находился внутри дугообразного вала, под защитой укреплений. Он же был самым старым, первоначальным. Второй причал, внешний, находился южнее, перед посадом, между южной оконечностью вала и протокой.
Лодки миновали внешний причал, направляясь к внутреннему, а значит, гости явились к самой госпоже Сванхейд: внутри вала располагался только господский двор со всеми его многочисленными постройками для дружины, челяди, ремеслеников и товаров. Бер поначалу решил, что пожаловал боярин Видята, живший в Будогоще на другом берегу Ильменя. Однако, когда лодьи причалили, стало ясно, что он ошибся.
– Дядя Судимер! – Заметив в передней лодье зрелого мужчину с русой бородой, Бер выразительно развел руки, выражая сразу и удивление, и радость. – Свен, беги скорее к госпоже, скажи, что к нам пожаловал ее любимый зять! Будь цел, дядя Судимер! Мы и не ждали такой радости в это скучное время!
– И ты будь цел, любезный мой! – Судимер плесковский обнял родного племянника своей жены. – Рад, что ты скучаешь! Я к тому и приехал, чтобы тебе развеяться помочь.
– Вот как? – Бер весело глянул на него, подняв брови.
– Ну а что же? Когда у молодца жены нет, скучно без дела-то сидеть целую зиму!
Но говорить о деле на причале было бы неприлично, и Бер повел родича в городец. На самом деле он не так уж и удивился: Судимер с самой своей женитьбы весьма почитал могущественную тещу и не раз во время осеннего своего объезда заезжал в Хольмгард, чтобы повидать ее и передать поклоны от младшей дочери.
Каждую осень после дожиночных пиров плесковский князь Судимер отправлялся по земле своей в гощение. Будто солнце, обходящее мир земной по кругу, он приносил жертвы в родовых святилищах, благословлял караваем нового хлеба новобрачные пары, и в каждой волости приезд князя означал череду свадеб. Чем дальше князь с дружиной продвигался на восток по Черехе, тем чаще на родовых жальниках, среди вытянутых в длину плесковских погребальных насыпей, попадались округлые словенские могилы. В этих местах родовые предания со времен прадедов помнили о столкновениях со словенами, шедшими на запад; дальше Шелони им пройти не удалось, и там, где Шелонь сильнее всего изгибается к западу, пролегала граница между двумя племенами.
До Карачуна Судимер обычно объезжал владения плесковичей близ Великой и Черехи, а после Карачуна, когда окрепнет лед – оба берега Чудского озера, тоже заселенные его племенем. Вдоль западного берега озера на несколько дней пути жила давно уже покоренная чудь – потомки древних насельников этого края, которых потеснили будущие плесковичи и частично с ними смешались с тех про, как явились сюда лет триста назад. Но дальше на северо-запад начинались угодья уже не «своей» чуди, не подвластной Плескову, и на рубежах редкий год обходился без столкновений.
– Что ни год мне люди близ Кульи-реки жалуются, – рассказывал Судимер, сидя за столом в гриднице у Сванхейд. – И Будовид, и другие мужи нарочитые. То борти чудь обчистит, то сети вынет, то зверя из чужих ловушек возьмут, то сено скосят. То ловы деят в наших лесах. Без этого ни один год не обходится. А летом на Купалии налетели, девок с игрищ похватали, умчали. Две веси тогда сожгли…
Пока гости отдыхали с дороги, Сванхейд оповестила нужных людей, и теперь за поперечным «большим» столом сидел Святославов посадник Вестим с женой, Соколиной Свенельдовной, Сигват сын Ветурлиди – племянник покойного Олава, старый жрец из Перыни Ведогость, старейшины Призор и Богомысл из Словенска и еще кое-кто из их родни. Стол назывался «большим», поскольку его возглавляла сама хозяйка, но на деле был не так уж велик. Когда, несколько раз в год, Сванхейд устраивала пиры для знати всей округи, столы ставили с двух сторон во всю длину гридницы, чтобы усадить сотню человек и больше. Такие пиры были в обычае с давних времен, когда Хольмгард правил округой и эти пиры давались со славу богов и дедов. Теперь же старая гридница дремала в полутьме. Обычно по вечерам здесь сидела только челядь: женщины шили и пряли, мужчины занимались своей мелкой ручной работой.
Сегодня Сванхейд выглядела довольной. Благодаря знатному гостю за ее столом вновь зазвучали разговоры о важных делах – войне и мире, данях и пирах.
– А ваши люди чудских девок ни-ни – даже не взглянут? – улыбнулся Вестим.
Посадник был средних лет – около тридцати, и не сказать чтобы хорош собой: островатые черты лица, пушистая бородка, темная под пухлой нижней губой и рыжеватая на щеках. Рыжеватые волосы на темени уже поредели и были прикрыты греческой шапочкой из красной парчи с золотной тесьмой – он почти никогда без нее показывался, ни зимой, ни летом. Однако приветливое выражение лица и прищуренные от улыбки глаза цвета недозрелого ореха придавали ему располагающий вид. Сам он происходил из весьма знатного рода, а вырос в Киеве, в ближайшем кругу княжеской семьи, поэтому человек был ученый вежеству и сведущий. Женитьба на Соколине – у обоих это был второй брак – изрядно прибавила ему веса, породнив с самым влиятельным киевским семейством.
Поживший перед этим в земле Смолянской, Вестим слышал немало таких рассказов. Да и в здешних краях хватало стычек за борти, угодья, скот и девок – и между словенами и чудью, и у словен между собой.
– Ну, кому невесты не хватит или на вено скотов нет[12]… – Судимер слегка развел руками, – это как водится. Но чтобы две веси спалить – это уже через край, боги не потерпят. Очень меня просили лучшие мужи пойти нынче зимой на чудь походом. Не хотите ли с нами снарядиться? – Он взглянул на Вестима, на Бера, на Сигвата, и на словенского боярина Призора. – Мне – дань с тех краев, кои примучим, а вам полон, добычу и славу.
– У меня свое полюдье… – начал Вестим.
– А я, может, и схожу, – оживился Сигват. – Моя дань лужская от меня не уйдет.
– Ты что скажешь? – Судимер взглянул на Бера. – Стыдно молодцу дома в безделии сидеть, когда можно славы добыть!
– Это верно, – Бер кивнул и вопросительно взгляну на бабку. – Но я ведь не князь и даже не посадник – я смогу дружину снарядить, только если будет на то воля госпожи Сванхейд.
– Ну а отчего же ей тебя не отпустить? Не станешь же ты, госпожа, такого здорового удальца среди баб на павечерницах держать, когда ему ратное дело предлагают. С богатой добычей вернется, невесту себе раздобудет!
Бер криво усмехнулся. С женитьбой он не спешил. Его дед женился на внучке конунга свеев; его отец женился на деве из рода Вещего Олега и плесковских князей – сестре киевской княгини Эльги. В честь этого родства он и получил имя – Берислав, по своей матери, Бериславе. Но хоть род его был не хуже, чем у предков, положение с дедовых времен переменилось к худшему. Девушки из достойных его родов едва ли пошли бы за наследника без наследства, а взять низкородную внуку Олава не позволяла гордость.
– А вы, словене, что скажете? – Судимер обернулся к Призору.
Тот сейчас был старейшиной Словенска – обширного поселения на другом берегу Волхова. Предания говорили, что именно там поселился древний князь Словен, пришедший на эти берега со всем родом своим лет пятьсот назад (иные говорили, что и тысячу). Старшинство их доказывалось тем, что роду из Словенска принадлежало старейшее и наиболее почитаемое в Приильменье святилище – Перынь, стоявшее от него чуть ближе к озеру. Прямые потомки Словена веками носили княжеское звание, но лишились его с появлением в Хольмгарде варягов. Однако глава их по давнему обычаю ходил в гощение, каждую осень навещая расселившихся потомков своего старинного корня. Владыки Хольмгарда в этом ему не мешали: это было дело семейное. Сами они собирали дань, и со Словенска больше, чем с прочих: кто выше родом, тот больше платит. Из Словенска не раз брали жен для младших сыновей хольмгардских конунгов, и Бер мог бы поступить так же. Если бы не мешала ему насмешка в глазах Призора, когда тот смотрел на него и Сванхейд: теперь и они, люди из Хольмгарда, сели в ту же лужу, сами лишились почета и власти, которые когда-то давно отняли у прежних владык.
– Да где нам воевать-то ныне? – отмахнулся Призор. – Куда без князя воевать – срамиться только. Был по старине у нас князь – хаживали и мы на рать, и не без добычи ворочались. Потому, вон, и Помостье нашим князьям дань платило, и Полужье. Все не без нас. А коли нет князя, какая ж рать?
– Так а я тебе кто? – обиделся Судимер. – Я сам в поход пойду. Будете при князе.
– Ты плесковичам князь, а не нам. Твои боги нам не защита, не опора. У кого своего князя нет – то не род, а так, безделица. Какая в нем сила, коли с богами говорить некому? Как бы, того гляди, самим не пришлось кому дань давать…
– Госпожа Свандра принесет для вас жертвы. Ты же не откажешься, госпожа?
– Для ратного дела нужен мужчина. Прав боярин – когда у земли князя нет, ратной удачи не будет.
– У словен есть князь, госпожа, – напомнил хозяйке Вестим. – Святослав киевский. Твой родной внук, сын твоего старшего сына Ингвара.
– Что-то мы не видали его давненько, – проворчал Богомысл. – Уж сколько, брате, лет десять? Не кажет к нам глаз, позабыл совсем. Хоть бы за данью разок пришел. В гощение бы сходил. Мы бы уж его приняли не хуже людей, и за стол бы усадили, и почивать положили. Да видно, там в Киев пироги вкуснее, перины мягче – гнушается нами князь.
Вестим засмеялся, хотя смешно ему было только отчасти.
– Ты и прав, и не прав, боярин. Давно вы Святослава не видали, не знаете, каков он. Не заманишь его пирогами сладкими да перинами пуховыми. На всем свете только одно для него сладко – слава ратная. Ради нее он готов на земле спать и кониной на углях питаться.
– Так что же мешкает? – Призор махнул рукой в сторону Судимера. – Вот, на войну зовут. Пришел бы с дружиной, помог бы родичу.
– Да где ему эти свары с чудью разбирать – чужую борть вынесли, чужие сети выбрали! Разве по нем такое дело? Медведь мух не ловит. Его отец на Царьград ходил, а сам он на хазар идти думает. Вот где добыча будет! Вот где слава!
– Но если ему вовсе не нужна эта земля, зачем он держит чужое достояние и оскорбляет пренебрежением достойных людей? – воскликнул Сигват. – Если он не может править, пусть откажется. Он не единственный здесь мужчина своего рода! Мой отец был братом его деда, Олава, – у меня даже есть преимущество перед ним, ведь у меня дед владел этим краем, а у него…
– Тоже дед! – прервала его Сванхейд. – Прекрати эти речи, Сигват. Люди подумают, что ты ищешь ссоры с твоим племянником и покушаешься на его владения. А из этого может выйти немало бед для нас всех.
– Его владения! Почему эти владения – его? – Сигват не мог сразу уняться. – Мой отец до самой смерти владел Варяжском и собирал дань с Луги! Так было решено его родным братом, Олавом конунгом!
– Так ты и владеешь Варяжском и собираешь дань с Луги. Никто не трогает твоих владений.
– Я принадлежу к тому же роду – к потомкам Харальда Боезуба и Ингвара Великодушного! И мать моя, и жена взяты у лучших родов в этом краю! И если люди предпочтут видеть своим князем того, кто живет среди них и готов делать для них все, что положено, то никто не скажет, что они выбрали недостойного!
– Пока тебя еще никто не выбрал, Ветролидович! – осадил его Вестим. – И не выберет, пока я здесь. Не забывай – я нахожусь здесь как раз для того, чтобы никто не забывал о князе Святославе, единственном законном владыке этих мест, городцов и весей. Спроси у госпожи Свандры, она тебе напомнит.
Сигват промолчал, но бровие го хмурились, а губы дрожали, будто продолжая спор. В больших, немного навыкате глазах сверкало негодование. Двадцать лет назад решив оставить наследство за одним Ингваром, Сванхейд стремилась предотвратить раздоры между своими сыновьями. Но прошли годы, и затаившееся пламя вновь давало о себе знать то одной вспышкой, то другой. Уже не раз Сванхейд, пережившая всех своих сыновей, кроме одного Тородда, думала: не придется ли ей увидеть, как пламя борьбы за власть опалит следующее поколение – ее внуков?
– Да, я так решила! – твердо напомнила Сванхейд и подалась вперед, сухими морщинистыми руками сжимая подлокотники своего высокого сидения. – Я так решила, чтобы не допустить раздор в моем роду. И пока я жива, никто не смеет раздувать это пламя. Здешний владыка – мой киевский внук Святослав. И пока меня не уложили в короб от саней, никто другой не получит здесь власти помимо его воли. Об этом нечего спорить.
– Истовое слово ты молвила, госпожа! – ответил ей Вестим, выразительно отвернувшись от негодующего Сигвата. – А воля Святослава нам уже известна. В год своей женитьбы на княгине Прияславе он дал клятву, что в его землях больше никогда не появится никакого другого князя. Это было то самое лето, когда в Полоцк от Варяжского моря находники прорвались и Рагнвальд там князем сел.
– Я помню, с ним еще был мой племянник Эйрик, сын моего брата Бьёрна, – кивнула Сванхейд. – Но он взял добычу и ушел обратно в Свеаланд.
– С Рагнвальдом Святослав примирился, но сказал, что этот будет последним, кого он потерпит близ своих владений. Много веков человечьих роды варяжские приходили и обретали земли и власть над словенами и кривичами, но больше этого не будет. Закончен тот век.
Сванхейд кивнула и обратилась к Судимеру:
– Вот что я хотела узнать у тебя: почему ты не рассказываешь ничего о той девушке, которую привезли к вам прошлой зимой? Она ведь мне тоже не чужая – это внучка моей старшей дочери, Мальфрид. Ее тоже назвали Мальфрид. Что с ней? Как она живет? Эльга сказала, что хочет выдать ее замуж. Кого ей выбрали в мужья?
Все были рады поговорить о другом, пока беседа не вылилась в ссору. Однако этот довольно простой вопрос привел Судимера в затруднение.
– Я… не могу тебе сказать, госпожа… – Вид у него был довольно рассеянный. – Эта девушка…
– Что с ней? – Сванхейд нахмурилась и наклонилась вперед. – Она жива?
– Думаю, что да… – Выражение лица и неуверенный голос Судимера почти опровергали смысл его слов. – Я не слышал, чтобы она умерла…
– В чем дело? – Сванхейд удивилась не на шутку. – Ты не знаешь, куда подевалась родственница твоей жены? Вы что, не видитесь с Кетилем, Утой и прочими, кто живет от вас в половине дня пути? Эльга заверила меня, что оставит юную Мальфрид своей сестре и ее собственной матери, а они все живут у брода! Она ведь отвезла девушку туда?
– Ну да, к сестре отвезла, – подтвердил Судимер, явно не зная, как быть. Но потом решился. – Госпожа, там… дело тайное с этой девушкой. Из Варягина она той зимой еще пропала, и даже баяли, будто пошла в лес да и сгинула…
Ахнули Сванхейд и Соколина, жена Вестима; Бер вытаращил глаза, и даже Сигват, позабыв о своем возмущении, устремил на Судимера удивленный взгляд.
– Как это – в лес пошла и сгинула? – Сванхейд в возмущении вцепилась в подлокотники. – Кто ее пустил? Как вы позволили? Это ж не холопка, не псина приблудная! Это внучка моей Мальфрид! Как вы могли… как вы посмели ее сгубить? О чем думала ее мать?
Задыхаясь, она откинулась на спинке сидения; лицо ее побледнело и вдруг приняло такое мертвенное выражение, что оборвалось сердце у каждого, кто ее видел. Всякий ясно увидел, как близка к могиле эта женщина – и какая огромная сила духа в ней скрыта. А то и другое вместе – опасная связь.
– Госпожа, выпей! – Бер подошел к ней с кружкой воды. – Успокойся. По-моему, он не хочет сказать, что девушка умерла.
– Не хочу! – поспешно подтвердил Судимер. – Это они говорят так, ну… обычай такой…
– Какой еще обычай? – тихим от слабости, но уверенным голосом переспросила Сванхейд.
Она отпила воды, рука ее с кружкой дрожала.
– Ну, эти дела лесные… – Судимер не хотел говорить о сокровенных обычаях своего рода при стольких чужих людях. – Она сама-то жива, а только такая молвь идет, будто умерла… В свете белом ее нет, в Нави она, ну вот, стало быть, как бы умерла… А сама живая.
Сванхейд глубоко вдохнула. Она ничего не поняла, кроме того, что Судимер не хочет открыть ей правду.
– Довольно! – Она сделала знак Беру, чтобы помог встать, и кивнула служанке, ирландке средних лет. – Простите меня, я старая женщина. Я не в силах… Прилягу. А ты, – она взглянула на Бера, державшего ее под локоть, – оставайся и посиди с родичем. Ита меня отведет.
Вестим с женой, Сигват, словене тоже встали и стали кланяться, прося прощения, что утомили госпожу долгими разговорами. Остался только Судимер, которого вместе с дружиной разместили в гостевом доме на хозяйском дворе. Взрослым мужчинам однако спать было еще рано, и остаток вечера гостю предстояло коротать вдвоем с Бером.
Сванхейд не требовалось больше ничего говорить своему внуку: тот и сам понимал, чего она хочет.
* * *
К старости госпожа Сванхейд стала маяться бессонницей. Каждый раз она просыпалась еще почти ночью, в тиши спящего дома, и долго лежала, дожидаясь, пока за стеной спального чулана послышится шум движения, означающий, что в мире живых начинается новый день. Раздастся голос ключницы, пришедшей будить служанок. Одних Покора отправит доить коров, других – разводить огонь в поварне, варить кашу, молоть зерно, чистить и готовить рыбу утреннего улова. Когда-то Сванхейд сама вставала вместе со служанками и наблюдала, как они делают свою работу. Но теперь ей это было не по силам, и она лежала, дожидаясь, пока Ита принесет ей подогретого молока с медом, или разведенного вина, или травяного отвара. Жаль, что в доме нет молодой хозяйки. Когда-то здесь жил Тородд с женой Бериславой, и та выполняла прежние обязанности Сванхейд. Но Берислава умерла много лет назад, еще до того как Тородд отсюда уехал. Временами Сванхейд брала к себе каких-нибудь молодых родственниц, но через пару лет все они выходили замуж и она опять оставалась без помощниц. Теперь при ней только Бер. И впрямь, что ли, поторопить его с женитьбой? Пусть бы ходила здесь молодая госпожа, носила ключи на цепочках под наплечными застежками, как сама Сванхейд пятьдесят лет назад… Убедиться, что если не Гарды, держава ее, а хотя бы дом, Хольмгард, отдан в надежные руки и род ее здесь будет продолжен.
И как раз об одной юной деве из своего потомства старая госпожа думала вчера перед сном.
Принимая у Иты расписную чашку греческой работы, Сванхейд велела поскорее прислать к ней внука. Бер, не в пример бабке, по утрам любил спать подолгу и теперь явился, протирая глаза. Гребень явно еще не касался его полудлинных светлых волос, неряшливыми кольцами лежащих на высоком лбу.
– И правда, хоть бы за какой невестой тебя на эстов послать, – проворчала Сванхейд, с сомнением его оглядывая. – Чтобы подавала тебе утром чистую рубашку, умывала и причесывала.
– Извини, госпожа, если мой вид оскорбляет твой взор, – Бер подавил зевок. – Но я счел, что если я замешкаюсь, это огорчит тебя сильнее. Если прикажешь, я пойду умоюсь и поймаю кого-нибудь, чтобы меня причесали…
– Сиди! – с шутливым гневом буркнула Сванхейд. В молодости она не была так снисходительна к мужчинам – даже к своим сыновьям, но в повадках Бера ее лишь забавляло то, что в других сердило. – А не то я отправлюсь в Хель, так и не узнав, чего хотела.
– Сага эта такова, – Бер привычно уселся на ларь с плоской крышкой, где у его могучей бабки, как он с детства был уверен, хранились все сокровища Фафнира, отданные ей на сохранение самим Сигурдом Убийцей Дракона. – В лесах близ Плескова живет колдун, говорят, он оборотень, и его называют Князь-Медведь. Он хранит душу плесковского рода и воплощает всех их умерших предков. На люди он показывается лишь несколько раз в году, особенно на йоль, когда во всех домах угощают умерших. Но всегда в личине, его лица не видит никто и никогда. А кто, говорят, случайно увидит, тот умрет еще до начала следующего дня. Поэтому ему стараются не смотреть даже в морду… ну, в личину, чтобы случайно не встретить его смертоносный взгляд…
– Пф! – Сванхейд насмешливо фыркнула. – А в тебе, дружище, пропадает прекрасный сказитель! Мне даже почти стало страшно! Прибереги эту сагу, расскажешь людям на йоле!
– Это я пересказываю то, что сумел вчера выудить у Судимера. Дальше будет еще любопытнее. К этому колдуну-медведю посылают перед замужеством самых знатных дев, чтобы он наделил их способностью рожать могучих сыновей. Каждый следующий Князь-Медведь рождается от одной из этих дев. А нынешний – сын боярыни Вояны из Будгоща.
– Вот как? – отозвалась Сванхейд, слушавшая с большим любопытством. – Этого я не знала.
– Перед замужеством она три дня прожила в логове у этого переодетого медведя, а потом ее жених пошел в лес и отбил ее в поединке. Она родила сына, уже будучи замужем, но тот ребенок все равно считался принадлежащим медведю. Когда ему было года три, старый Князь-Медведь, его священный отец, был убит. И это как-то связано с Эльгой киевской – случилось в то же лето, когда она убежала из дома, чтобы в Киеве выйти замуж за дядю Ингвара. Но об этом Судимер не хотел говорить. А нынешний Князь-Медведь с тех пор живет в лесу. И эту новую девушку, Мальфрид, родичи отправили к нему.
– Но зачем? – изумилась Сванхейд. – Она ведь… ах да! Эльга же сказала, что они собирались выдать ее замуж.
– Странный способ, я бы сказал. Что до меня, я бы не хотел взять в жены деву, которая перед этим была женой какого-то грязного колдуна, пусть и всего три дня. Я бы, честно говоря, постарался убить его еще до того, как он к ней прикоснется.
– Если я верно знаю, именно так рассуждал сын Свенельда. Поэтому старый Князь-Медведь погиб в то самое лето, когда Эльга бежала в Киев.
– Да? – оживился Бер. – Мстислав Свенельдич убил колдуна?
– Я так понимаю, что да. Но у них вышло много семейных неприятностей из-за этого, и все они не любят об этом говорить. Так что с нашей юной Мальфрид, Судимер сказал еще что-нибудь?
– У них в роду принято, чтобы девы ходили в лес к самой старой колдунье гадать о судьбе. Мальфрид ушла туда вскоре после того, как приехала, и назад не вернулась. Родичи уверены, что она живет в чаще, у колдунов. То есть Судимер сказал, что так ему сказали женщины. Он сам не ручается.
– Это все?
– Я так понял, больше Судимер ничего не знает.
– Тогда иди умывайся. Я подумаю…
Итоги своих размышлений Сванхейд долго в тайне не держала.
– Мне не дает покоя судьба той девушки, моей правнучки, Мальфрид, – сказала она, когда Судимер и Бер уже сидели в гриднице за столом и налегали на кашу и горячие лепешки с маслом. – Ее мать выдали замуж за князя древлян, и когда Ингвар разбил его, она с детьми оказалась в плену. Мой сын не мог причинить вреда дочери своей родной сестры, но все же ее дети – наследники древлянских князей. И если уж девушку повезли в такую даль, за два месяца пути, да еще зимой, это значит, что Эльга и Святослав сочли ее опасной для себя. Ты уверен, – Сванхейд пристально взглянула на Судимера, который замер, слушая ее речь, даже не донес кусок лепешки до рта, – что ее послали в лес не для того, чтобы погубить?
– Не слышал я о таких замыслах, – твердо ответил Судимер. – И если бы слышал, то не позволил. Пусть они, киевские, у себя там что хотят делают, но в своей земле я владыка и напрасных убийств не допущу. К тому же она и мне родня. Да какой вред от девки! – Он положил лепешку обратно на греческое блюдо, расписанное птицами. – Что она может худого сделать? Отдать ее замуж, ряд положить, что дети материнскому роду не наследуют, да и все дела. А губить зачем? Я ее видел один раз – хорошая была девка, коса – во! – Он показал три сомкнутых пальца.
– Я бы посоветовала тебе поскорее выяснить ее судьбу. Ведь если она погибла по вине своей плесковской родни, это было злое дело и боги его не оставят без отмщения, – строго предостерегла Сванхейд. – А собираться в военный поход, зная, что боги тобой недовольны – это очень неразумно. Можно расстаться с головой. Ты понимаешь меня?
– М-м… да! – озадаченно подтвердил Судимер, но голос его опять-таки резко противоречил смыслу ответа.
– Я хочу, чтобы ты понял как следует. Тебе не стоит собираться в поход, пока ты не убедишься, что эта девушка жива и здорова. И уж верно, я не пущу в такой поход моего внука.
Бер вскинул брови: до сих пор он не думал, что судьба потерявшейся Мальфрид-правнучки его как-то затрагивает.
– Неужели… – начал он, прикидывая, как бы повежливее возразить и все же отстоять свое право повоевать с чудью на Чудском озере.
– И ты, и я… и ты, – Сванхейд строго взглянула на Судимера, – состоим в родстве с этой девушкой. – И если от нашего рода пришло к ней зло, то все мы будем за это в ответе. Хорошо, что я хотя бы сейчас узнала об этом, и то, боюсь, не слишком ли много времени потеряно! Если она живет в лесу уже почти год…
– Год к весне будет, – несмело возразил Судимер.
– И трех четвертей года довольно, чтобы с молодой женщиной случились разные несчастья. Особенно если она отослана в дремучий лес и отдана во власть каких-то колдунов!
– Но что же тут поделать! – воскликнул расстроенный Судимер. – Бура-баба так велела! Ее и отослали!
– Ну а теперь я велю, чтобы за ней пошли и вернули!
– Да как же туда идти?
– А в чем препятствие? Это очень далеко?
– Не то чтобы далеко… а тропы туда ведут тайные…
– Я не сомневаюсь, ты отлично знаешь эти тропы, – убедительно сказала Сванхейд. – Ведь ты князь. Ты сам первый жрец для своих людей, и не может быть в твоей земле священных тайн, недоступных тебе.
Повисла тишина. По лицу Судимера было видно, как борются в нем противоречивые чувства. Сванхейд была права, но ему не хотелось вмешиваться в дела Буры-бабы и Князя-Медведя. Как и все плесковские дети, он вырос в благоговейном страхе перед этими двумя ведунами, чьи имена живут тысячи лет, а лица всегда скрыты под личинами. Этот страх не прошел и тогда, когда он подрос и узнал, что эти двое – его кровные родичи, начавшие жизнь, как и всякий простой человек. Но теперь в них были чуры, а это делало их уже совсем иными существами.
– А давайте я за ней схожу, – предложил Бер, понятия не имевший о Буре-бабе. – Если это не очень далеко от Плескова… Я успею найти ее и вернуться еще до того, как нам придет пора выступать на чудь. Даже, если ты хочешь, дроттнинг, я привезу ее к тебе, чтобы ты убедилась, что она жива.
– Туда нельзя кому попало ходить, – нахмурился Судимер. – Там Навь – место тайное.
– Но погоди, – Бера все сильнее захватывала эта мысль. – Ты сам мне рассказывал, что когда боярыня Видятина, еще в невестах, у того медведя жила, он пошел за ней и с медведем бился за нее.
– Так то жених! Обычай такой! Кто отбил, тот и женись. Ты что же – жениться думаешь? – Судимер недоверчиво засмеялся.
– Я… – Бер возвел глаза к потолочным балкам. – Ее бабка Мальфрид – родная сестра моего отца. У нас пятое колено родства. Взять ее в жены я не могу, зато я еще могу считаться ее братом. То есть дядей. А родич по матери уж верно имеет право пойти и узнать, не съел ли медведь бедную девушку! – с воодушевлением добавил он, чувствуя, что напал на верный путь. – Это признают все колдуны чудской страны, или они не отличат свою пятку от задницы, клянусь Отцом Колдовства[13]!
– Вот и хорошо, – Сванхейд благосклонно кивнула. – А когда ты привезешь ее сюда ко мне и я буду знать, что ей не причинено вреда, мы и подумаем, какую дружину сможем собрать для похода на чудь.
* * *
Вечер начинался как обычно, как всякий из одинаковых зимних вечеров, и не было никаких предвестий к тому, что он переменит всю жизнь Олегова рода. Как начало темнеть, Ута отвела Свеню, своего младшего, в избу к Предславе, а сами они вдвоем отправились на павечерницу к Гостёне – Кетилевой жене, своей невестке. На беседу к Гостёне собирались бабы из трех-четырех весей. Молодухи с девками сидели отдельно, у Еленицы в Выбутах. Улеб, старший сын Уты, пошел туда. По годам ему давным-давно пора было ходить с женатыми молодцами, и Ута все надеялась, что он здесь себе кого-нибудь высмотрит.
Когда со двора пришли сказать, что явился некий отрок и просит позволения войти, бабы загомонили, принялись хохотать.
– Ой, девки, – выросшие вместе женщины до последнего зуба друг друга называют по привычке девками, – а вот нам и жаних!
– Орешков-то принес хоть?
– Давно не заглядывали, я уж было соскучилася!
– Перепутал, скажи, заблудился! Невест ему здесь нет!
– Через реку пусть дует!
– Орешки пусть оставит!
– Не, пусть заходит! Может, и приглянется кто!
– Ты, что ли, клюка старая?
– Я не я, а вон Баюновна у нас чем не невеста? Четыре зуба еще осталось!
– Да я того жаниха на один зуб положу, другим прихлопну!
Однако упрямый гость «дуть через реку» отказывался: он хотел видеть не кого-нибудь, а Уту!
Та испугалась: не стряслось ли чего дома? Свеня с Предславиными чадами оставлен, Улеб в Выбуты пошел – не сцепился ли там с кем? Всю жизнь Ута за кого-нибудь тревожилась, всегда на руках был целый выводок. Никак она не могла привыкнуть, что прошла жизнь, разлетелись дети из гнезда, только и заботы теперь, что долги нитки водить.
Когда гость вошел, все притихли: было любопытно. Одет он был по-варяжски и видно, что не здешний. А Ута при виде него почему-то сразу вспомнила второго своего сына, Велерада. Даже сердце оборвалось. Ростом, станом, повадкой гость сразу кого-то ей напомнил, еще пока она не могла разглядеть лица.
Парень у двери сбросил на спину худ, стянул шапку, без робости поклонился бабьему собранию. Заблестели при лучинах полудлинные светлые волосы – роскошные кольца золотые, любая девка позавидует. Ута невольно прижала руку ко рту: она могла бы поклясться, что знает его почти так же хорошо, как родных сыновей, только имени не ведает! Да что же за морок такой!
– Будьте живы, матери почтенные, – громко объявил пришелец по-славянски, и голос его тоже Уте что-то напомнил. – Да пошлет вам Макошь здоровья, чад умножения, хозяйства прибавления!
– И ты будь здоров! – улыбаясь такой бойкости, сказала Гостёна. – Чей сын, откуда к нам? С чем пожаловал?
– Родом я с Волхова-реки, из Холм-города, Тородда и Бериславы сын, Свандры и Улеба внук, Домолюбы и Вальгарда тоже внук, Судогостя и Годонеги правнук. Звать меня Берислав.
Тут все бабы завопили: это же плесковских князей отпрыск, варягинского воеводы племянник! Ута, Гостёна и Предслава вскочили разом. Сын Беряши! Их родич, сестрич! Все три наперегонки устремились к нему, будто к ним жар-птица влетела. Теперь Ута поняла, кого он ей напомнил: ростом и станом – своего отца, Тородда, а лицом, пожалуй, племянника, Эльгиного Святослава. Лоб, глаза, брови, скулы – почти тот же Святослав, только нос другой: не вздернутый, а наоборот, кончик немного загнут книзу, будто клюв.
Другой бы отрок смутился, но только не этот. Он знал, что здешняя родня ему обрадуется, и оттого заранее сам был рад. Ута даже заплакала, когда его обнимала, будто ее сын родной вернулся. Незнакомый сын давно умершей сестры был чуть ли не лучше своего – будто поклон от Беряши с того света.
С Беряшей, Эльгиной младшей родной сестрой, Ута в последний раз виделась двадцать пять лет назад, когда сама еще невестой уезжала в Киев. Бериславе тогда едва исполнилось двенадцать, а через два или три года ее увезли в Хольмгард, чтобы выдать за Тородда. Всю жизнь она прожила на Волхове, пока Ута была в Киеве, и до самой ее смерти им так и не пришлось больше свидеться. Уте она запомнилась юной девой в новой жесткой поневе, и теперь не верилось, что этот молодец, старше Беряши годами – ее сын.
Гостёна не могла уйти, но Ута с Предславой простились с беседой и повели сестрича в Вальгардову избу. Ута с самого своего приезда жила там: от семьи ее стрыя Вальгарда в Варягине давным-давно никого не осталось, изба стояла пустая и служила для гостей. А теперь, когда Свенельдич увез в Киев двоих детей, Ута осталась там втроем с Улебом и Свеней. Самым старшим и самым младшим из всего выводка, только их ей судьба и оставила.
Топить баню было уже поздно – стемнело давно, однако женщинам забот хватило: десять человек разместить, накормить. Любопытно было, по какому случаю сестрич вдруг к ним заявился. Ута подумала, не померла ли старуха Сванхейд, но бодрый, оживленный вид гостя не обещал горестных вестей.
Не желая утомлять племянника, Ута собиралась подождать с расспросами до завтра. Но когда Берислав и пятеро его отроков – остальных забрала Предслава, – сидел за Вальгардовым большим столом и ел кашу с солониной, не удержалась. Начала спрашивать: о Сванхейд, о Соколине и ее детях, о том, что слышно от его отца и сестер.
– А ты к нам не по невест ли приехал? – пошутил Улеб: новый брат ему тоже понравился, как всякий доброжелательный человек.
– Не по невест, но вроде того, – загадочно ответил Бер и отложил ложку. – Госпожа Сванхейд, бабка моя, – объявил он, повернувшись к Уте, – приказала, чтобы я привез к ней девушку по имени Мальфрид, нашу родственницу. Нам правду сказали, что ее держит в плену в дальней чаще ужасный колдун-оборотень?
* * *
Судимер перед расставанием немало тревожился, это было видно.
– В Будгоще не говори никому, куда ты собрался, – просил он Бера еще перед отъездом из Хольмгарда. – Хоть это и не их дело ныне, но все же помнят, что прежнего Князя-Медведя за девку убили, а он все-таки им сын…
– Я никому не собираюсь ничего говорить, – утешил его Бер. – Когда имеешь дело с колдунами, то чем меньше болтовни, тем надежнее. Я еще успею прославиться, когда вернусь с победой, девой и головой дракона… то есть медве… словом, чудовища.
– Какой головой! – испугался Судимер. – Я же тебе толковал – нельзя его трогать!
– Я пошутил! Я его не трону. Если только он не попытается меня убить.
Судимеру было рано возвращаться в Плесков: ему требовалось завершить кольцо, обойдя еще пять-шесть волостей между Шелонью и Чудским озером. А Беру, чтобы успеть обернуться туда и обратно, предстояло ехать прямо сейчас. Время для путешествия наступало самое неудачное: летом его можно было бы совершить по воде, зимой еще легче – на санях по льду. Но сейчас сочли за счастье, что успели пересечь Ильмень в лодьях. В Будгоще наняли лошадей.
У Бера было с собой десять отроков – ради чести и возможных дорожных превратностей. Несмотря на самую унылую и неприятную пору года, в путь он пустился охотно: юность радуется любой перемене, особенно сулящей приключения и славу. В Плескове он никогда еще не был и не знал никого из тамошней родни, хотя о многих был наслышан. Приятно будет повидать новые места, познакомиться с родичами. К тому же шла пора павечерниц, и немало места в мыслях Бера занимали еще незнакомые плесковские девы, с которыми он не состоял в родстве. А осенний ветер, холод, бьющий в лицо влажный снег девятнадцатилетнему парню в хорошей одежде и на хорошем коне были нипочем.
Судимер был несколько мрачен, опасаясь за последствия той застольной беседы. Он не мог скрывать от Сванхейд известия о ее родной правнучке, но тревожился, что не на добро все это дело с Малушей выплыло наружу. Шепотом проклинал «всех этих баб», сам толком не зная, кого имеет в виду. Оставалось надеяться на благоразумие Бера, который, хоть и имел склонность к лишней прямоте, все же был наделен должной осмотрительностью.
Уже на Шелони путников застала настоящая зима: часто шел снег и уже не таял, земля смерзлась, река покрылась снеговой кашей, густевшей с каждым днем и обещавшей скорый ледостав. Прибрежной тропой они добрались до междуречья Узы и Черехи. Летом здесь был волок, и здесь пути дяди и племянника расходились: Бер отсюда должен был ехать к Плескову прямой дорогой, а Судимер – окольной.
– Ты поезжай в Варягино и там Уте все обскажи, – напутствовал князь племянника. – Она тебя на ум наставит.
– Я знаю, любезный мой вуюшко! – отвечал Бер. – Сперва идут к первой ведьме и у нее спрашивают дорогу к ее старшей сестре. Или я сказок мало слушал? Знаю, как быть.
– Уж больно прытка ваша порода варяжская, да немало из этого выходило беды! – вздыхал Судимер. – Сказок он слушал… Свенельдич тоже вот… знал, у кого дорогу спросить. Да по сей день из того леса не выберется!
Бер приподнял брови и только просвистел в ответ. О Мстиславе Свенельдиче он был наслышан, но сам его не знал и по обычаю молодых полагал, что его поколение будет половчее прежних.
Летом или по прочному санному пути заблудиться было бы негде: Череха впадает в Великую, а Великая ведет прямо к Варягино. Но сейчас приходилось ехать берегом и в каждом жилом месте просить отрока в проводники: без помощи местных Бер не нашел бы занесенные тропки. Из-за снегопадов продвигались шагом, бывало, что за день проделывали едва половину обычного перехода, а то и меньше. Нередко приходилось пережидать до утра в какой-нибудь веси из двух-трех избушек, потому что довести до следующей засветло хозяева не брались.
Только на пятый день, уже почти в темноте, впереди над застывшей рекой показалось селение, по описанию то самое, которое они и искали. Бер вгляделся: скалящихся черепов с огоньками в глазницах на кольях тына вроде не висело.
– Оно, что ли? – прищурился Свен, немолодой десятский. – Варягино?
– Должно быть оно, – кивнул Бер. – Здесь живет младшая ведьма, которая укажет мне путь к старшей – в самую чащу…
* * *
В тихой, полутемной Вальгардовой избе как будто ударила молния. Сын Беряши улыбался и не знал, как поразили Уту его слова.
Никто не знал, как долго Малуше положено оставаться у медведя. Ута надеялась, что Бура-баба сама отошлет ее, как придет время. Но что если та рассудит оставить ее в лесу навсегда? Хоть Эльга и считала, что так будет лучше всего, Ута не могла с этим смириться. Предслава часто плакала, когда на нее находила тоска, жаловалась, что ее дочери судьба сгинуть в лесу. А может, уже и сгинула, откуда знать? О том, чтобы кого-то за Малушей послать, родичи даже не думали. Но боги подумали за них, и вот он появился – витязь из преданий, готовый идти по следам плененной девы. Не знающий, кто такой Князь-Медведь, не боящийся темной чащи… Чем больше Ута смотрела на сына Беряши – его голубые глаза под русыми бровями, светлые кольца волос на высоком, во всю их породу, лбу, его улыбку, разом приветливую и дерзкую от несокрушимой веры в свои силы, – тем прочнее овладевало ею убеждение, что именно так и должен выглядеть посланец богов. Не ждать же, что у него взабыль будут руки по локоть в золоте, а ноги по колено в серебре.
– Ты – сестра моей матери, кто же меня, молодого, на ум наставит, если не ты? – наседал Бер. – Укажи мне дорогу, где ее там искать, в этой чаще? Есть же у тебя волки серые, – он задорно взглянул на Улеба, – кто дорогу знает, пусть меня проведут. Проведешь, а, брате? Не поверю, чтобы вы тропинок к своему оборотню не знали.
– Но зачем она тебе? – наконец выговорила Ута. – За девой к медведю ходит жених, а ты ей не жених – она тебе сестра…
И подумала: Святославу Малуша тоже сестра, в том же самом пятом колене…
А знает ли Бер, почему Малушу отослали в лес к медведю? Что-то в его открытом взгляде говорило ей: нет. Ему не сказали. Эльга скрыла позорную тайну от Сванхейд, а Судимер не решился выдать даже то, что дева ушла уже «непраздной».
– Она мне племянница, – вежливо поправил Бер. – Так пожелала дроттнинг Сванхейд.
Было ясно, что для Хольмгарда желание Сванхейд – закон, оно не нуждается в оправданиях.
– Госпоже Сванхейд дороги все ее потомки, – Бер все же стал объяснять. – У нее было одиннадцать детей, как ты, возможно, знаешь. Но лишь шестерым из них посчастливилось сделаться взрослыми людьми, и то Альвхильд, самая старшая моя тетка, умерла еще невестой. Сванхейд пережила почти всех, сейчас живы лишь мой отец и Альдис, здешняя княгиня. Моя бабка желает знать, что все ее потомки, кто живет на свете, благополучны. Она была рада узнать, что внучка ее дочери Мальфрид, носящая то же имя, приехала в Плесков и должна выйти замуж недалеко от наших краев. И вдруг оказалось, что вместо замужества девушка отослана в лес к медведю! Судимер сказал, что в здешних краях такой обычай для знатных дев…
– Это правда, – Ута кивнула в ответ на его вопросительный, пристальный взгляд, но с таким неловким чувством, будто лжет. – Даже Эльга… твоя киевская вуйка, тоже была…
– Но даже если и так, то девушка уже пробыла у медведя достаточное время.
– Это не нам судить. Там все решает Бура-баба…
– Если дело только в обрядах, то можно предоставить решать знающим людям, – согласно кивнул Бер. – Но видишь ли, госпожа Сванхейд сомневается…
– В чем? – пришлось Уте спросить, с таким чувством, будто ее сейчас уличат в чем-то нехорошем.
– Ей известно, что отцом девушки был один мятежный князь из славян, с которых киевские князья собирают дань. Ведь поэтому ее увезли выдавать замуж так далеко? Для родственницы киевской княгини можно было найти хорошего жениха и поближе, ведь так?
– Так, – опять поневоле подтвердила Ута.
Сестрич держался все так же вежливо и дружелюбно, но мнилось, будто он ласково подталкивает ее в какую-то ловушку. Ута стягивала на груди края серого толстого платка, защищаясь от чего-то.
– Все дело в ее отце? – Бер пристально заглянул ей в глаза.
– Он мертв! – сказала Ута, будто это облегчало дело.
– Тем хуже, – Бер сочувственно поднял брови. – Это означает, что его сторонники теперь обратят свои надежды на эту девушку. Знаешь сагу о деве по имени Гудрид, дочери короля Альва, внучке Сиггейра, которая осталась единственной наследницей своего рода? Она объявила, что не выйдет замуж и будет воздерживаться от связей с мужчинами, пока не найдет человека, равного ей родом, но во всей стране такого не было. Она жила в доме, который охраняли двенадцать могучих воинов, чтобы кто-нибудь не пробрался к ней и не осквернил род конунгов, идущих от сына Одина. И однажды туда явился один человек по имени Хальвдан, сын Бьёркара и Дроты, дочери конунга норвежцев Рагнвальда. Двенадцать воинов куда-то отлучились, и он сумел пройти к знатной деве. Хальвдан стал склонять ее к любви, уверяя, что если она не последует велениям Фрейи и не изберет мужа, то все владения ее скоро придут в упадок. Она все равно поначалу его отвергла: дескать, род его недостаточно хорош для ее ложа, а к тому же у него была рана на лице, которая никак не заживала… Впрочем, это длинная сага, – спохватился сказитель, хотя Улеб уже придвинулся ближе и в глазах его отражалось явное желание узнать, что там дальше было с тем дерзким искателем. – Я ее доскажу до конца, если хочешь, в другой раз, когда нам будет нечем занять вечер. Я так понимаю, что с юной Мальфрид происходит то же самое. Многие отважные мужи, желающие занять место ее отца, станут добиваться ее руки, и девушку отправили подальше от всех, кто знал, кто она такая. Верно?




















