Читать онлайн Норд, норд и немного вест (сборник) бесплатно
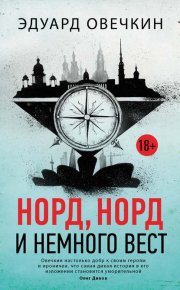
© Э. Овечкин, 2018
© ООО «Издательство АСТ», 2018
* * *
Норд, норд и немного вест
Моему другу, Вячеславу Тихонову, посвящается.
Часть I
И как будто мало было того, что и так уже хоть плачь, заморосил дождь.
* * *
– Капюшон, Егорка, – тронула его за плечо мама.
Да что уже мог бы исправить капюшон? Парада было абсолютно не видно за плотной, серой стеной толпы и только редкие звуки долетали с проспекта, да люди периодически вспыхивали аплодисментами и криками «Ура!». И от этого становилось ещё грустнее: если люди кричат «ура», значит им весело – так же? А ты стоишь и пялишься им в спины. Егорка терпел, терпел, но чем больше терпел, тем меньше видел в этом хоть какой-то смысл. Парад и по телевизору можно было бы посмотреть – пусть и чёрно-белому, но в сухости и тепле.
– Мам, – не выдержал Егорка, – мне не видно ничего.
А ещё он замёрз, и кто-то наступил ему на ногу, но это можно было бы и пережить, если бы вот не то, что не видно.
– Егорка, ну что мне сделать? Поздно мы с тобой пришли, малыш. Сами виноваты. Может, домой пойдём?
– Я не хочу домой, – шмыгнул носом Егорка, – я хочу парад посмотреть.
И выставил вперёд красный шарик на палочке с подвязанным у основания жёлтым цветком из гофрированной бумаги – цветок они сделали прошлым вечером сами и, пока делали, получили столько удовольствия от предвкушения праздника, что теперь ну никак невозможно было сдаться и уйти просто так. Люди, которые стояли впереди, периодически оглядывались на Егорку, но уступить ему своё место в первых рядах так никто и не собрался – хоть бери и обижайся на их чёрную чёрствость. Цветок медленно намокал и тускнел. А может и правда – домой?
– Разрешите? – пробасил кто-то сзади и сильные руки подхватили Егорку, понесли вверх.
– Ой, – сказала где-то внизу мама.
А Егорка и сказать ничего не успел, как уже сидел на плечах высоко-высоко и говорить было некогда: вот он парад, – весь, как на ладони.
– Ура! – закричал Егор и замахал шариком.
– Ура-а-а! – радостно поддержали его серые люди, которые были теперь не так впереди, как снизу, и Егор их немедленно простил, хотя и обидеться-то ещё толком не успел. Да и не такими уж серыми они казались отсюда – вон на той даме шикарный зелёный берет, а у усатого дядечки пальто и вовсе жёлтое. Да серого-то почти и не видно, когда смотришь сверху. В людях не видно.
Серая от собственной унылости погода, обычная для Ленинграда почти в любое время года, тоже обрадовавшись тому, что Егорка перестал страдать, выключила дождь и чуть-чуть показала солнышко. На минутку, правда, – вековые традиции из-за маленького мальчика никто отменять не станет.
С плеч незнакомца видно было далеко и во все стороны – Невский был вымыт, украшен и выглядел торжественным сам по себе: разноцветные транспаранты (в основном красные), шары и прочие изыски советского праздника скорее вовсе и не украшали его, а выглядели посторонними и какими-то даже детскими среди монументальных домов, колонн и мостов. А народищу-то стояло и ходило вдоль него – мама дорогая! Где они бывают, эти люди, в обычные, будние дни, куда прячутся? Егорка был слишком маленьким, чтоб понимать, любит он этот город или нет, – дети в его возрасте умеют только любить, а понимать учатся много позднее. Но то, что он видел вокруг себя сейчас, его точно радовало.
– Мама! Как здорово! Ты себе не представляешь!
– Ты ничего не забыл сказать, Егор? – мама улыбалась, и это было слышно даже в строгой интонации её голоса.
– А, да! Дяденька, спасибо! – и Егорка глянул вниз.
Лица мужчины он не рассмотрел, но понял, что тот был моряк – в чёрной шинели, черных брюках, чёрных ботинках и чёрной шапке с обшитым кожей верхом. Ярко-белый шарф – вот и всё разнообразие в цветовой гамме костюма. А ещё он был высок – мама едва доставала ему до плеча.
– Смотри на здоровье! Для чего же проводить парады, если их не видят дети? Без детей любой парад – пустая трата времени, вот что я тебе скажу, малыш!
– Я не малыш! Мне скоро десять лет!
– Правда? – мужчина пошевелил плечами, взвешивая возраст Егорки, – а сейчас сколько?
– Пять!
– О, ну да, какой же ты малыш. Как звать-то тебя? Я Слава.
– Егорка.
– Ну будем знакомы, Егорка.
И Слава протянул вверх правую ладонь, Егорка солидно, не торопясь, пожал её, хотя делал это первый раз в жизни: мамины подруги, обычные их гости, так не здоровались, а всё норовили целоваться, а Егорка этого не любил, – от них всегда душно пахло духами и приходилось потом оттирать губную помаду со щёк.
– Вячеслав, – протянул мужчина руку маме.
– Мария, – мама замешкалась, стягивая перчатку, и подала руку, – очень приятно. Спасибо вам, но может, право слово, не стоит… Вам, может быть, тяжело?
Рукопожатие её было коротким, но не безвольным, а твёрдым – Слава удивился, но оценил.
– Знакомиться с людьми на улице? Нелегко, да, это вы верно подметили! Ну я заставляю себя, – борюсь со скромностью!
– Нет, я про Егорку… на плечах его держать…
– Мария, я же военный моряк, волк, можно сказать, просоленных жидких степей и на плечах своих держу щит и отчасти даже меч нашей Родины. А сейчас в отпуске. И знаете – не по себе даже как-то с пустыми плечами. Глупо и бессмысленно так ходить. А тут – Егорка. Спасибо ему, – выручил меня от невыносимого безделья.
Мама засмеялась. Не в голос, как с подругами на кухне и когда Егорка всё собирался спросить: мама, ну зачем ты так смеёшься, даже мне понятно, что тебе не смешно, а тихонечко и зачем-то отвернувшись (Егорку ещё не успели научить, что люди иногда стесняются). А дальше он отвернулся и не слышал о чём говорят взрослые, – слышал, что они говорят, но вот о чём, в памяти не отложилось. Он кричал «ура» вместе со всеми, вместе со всеми махал своим шариком и любовался на ровные строи и красивые знамёна, плескавшиеся в сыром ленинградском воздухе.
* * *
Когда колоны прошли и сняли оцепление, толпа с тротуаров медленно потянулась по Невскому в сторону Дворцовой.
– Пойдём? – спросил Слава, – или вы торопитесь?
– Нет, – обрадовался Егорка, – мы абсолютно свободны!
– Егорка, ты же замёрз уже.
– Ну нет, мама, совсем нет.
– Да? А почему тогда нос синий? – придержав за плечо Славу, который уже было пошёл, мама встала на цыпочки и вытерла Егорке нос платочком.
– Просто посинел! – отрезал Егорка, застеснявшись, что ему на людях мама вытирает нос. – Ну пошлите уже, а то пропустим что-нибудь!
Именно с того момента Слава (если бы кто его потом спросил), пожалуй, и влюбился в Машу, первый раз уловив её запах, – легкий, едва уловимый, чуть горьковатый и с нотками цитрусов. Если бы тот же кто-то спросил у Славы про то, какой на Маше был шарф и был ли он вообще, какие были перчатки или, например, сапоги, то вряд ли он вспомнил бы. Или вспомнил, но подумав, а вот запах этот не забывал уже никогда.
Идти в толпе было весело, но пропускать уже оказалось нечего – транспаранты свернули и люди просто ходили туда-сюда, видимо, ожидая, что кто-то устроит им праздник и они в нём с готовностью поучаствуют. Некоторые устраивали праздник сами себе и даже прямо на Невском, разливая из рукавов и заметно веселея после того, как выпьют.
– Мария, а вы ведь тоже замёрзли, может зайдём и по чаю? Я угощаю.
– Егорка, как ты, насчёт чая?
– С пышками?
– Егор, ты меня удивляешь даже, разве я осмелился бы предложить озябшей даме чай без пышек?
Егорка прыснул – ему показалось смешно, что его маму называют дамой. В его понимании дамой называть следовало только строгих женщин в очках и с наброшенным на плечи платком, и непременно дежурящих на каком-нибудь посту: в музеях на стульчиках в уголках, например, вот точно сидят дамы. А мама его бывала строгой редко, очков не носила вовсе и улыбалась при любом подходящем случае. Ну какая из неё дама?
В пышечной на Желябова народу было страсть как много – очередь, загибаясь, тянулась из дверей на улицу ещё метров на десять.
– Подождём? – уточнил Слава. – Или дальше куда двинем?
– Вот нечего вам делать, – обернулась к ним бабушка, человека за три спереди от них, – вы же с ребёнком! Идите так, мы же не в Москве, знаете, душиться тут!
– А если остальная очередь против? – засомневался Слава.
– А если остальная очередь будет против, – бабушка сняла очки и оглядела улыбающихся людей, – то скажите им, что вы от Виолетты Аристарховны, и дело с концом!
– Да проходите, проходите, – немедленно согласилась очередь.
– Мы не знаем, кто такая Виолетта Аристарховна, – заметил мужчина откуда-то спереди, – но звучит это довольно серьёзно!
Взрослые взяли себе кофе с молоком и Егорке – чаю. С тарелочками дымящихся пышек уселись у окна, сняли верхнюю одежду и помахали Виолетте Аристарховне. Та, оторвав взгляд от какой-то потрёпанной книжонки, выставила вверх большой палец.
Чай обжигал, и Егорка, помня о том, что на людях прихлёбывать нельзя (а желательно этого не делать вообще, но так уж и быть, говорила мама, потерпим лет до шести), долго и сосредоточенно дул в чашку перед тем, как отпить первый раз. Взрослые смотрели на него с умилением (к чему Егорка уже привык и не обращал внимания) и жевали пышки молча. Да и как-то не по себе было бы растягивать удовольствие разговорами, когда вон очередь за окном стоит и, хотя никто на них не смотрит, но, наверняка же, в душе осуждают за медлительность и слабое человеколюбие: хоть за окном и Ленинград, но не до такой же степени.
– Предлагаю на брудершафт, пока есть чем и перейти на «ты», – протянул Слава маме свой почти пустой стакан кофе.
– Хм, – ответила мама, – не больно то вы высокого мнения о ленинградских женщинах, раз думаете, что они с первыми встречными незнакомцами на брудершафты выпивают в пышечных.
– Мама, – поднял руку с пышкой Егорка, потом дожевал и продолжил, – ну какой же он незнакомец? Он же Слава-моряк, который показал мне парад!
– Действительно! – с готовностью поддержал Слава. – Какой же я, после того, что у нас с вами было, незнакомец?
– Вечно вы, мужчины, заодно, ты посмотри! – мама шутливо погрозила Егорке пальцем. – Давайте тогда без брудершафтов, а то неудобно – люди смотрят.
– Маша? – как бы попробовал её имя Слава.
– Слава! – утвердила договор Маша.
После пышечной на улице стало намного уютнее и Егорка захотел ещё погулять.
– А никто не будет волноваться, что вас долго нет?
– Нет, – махнул Егорка, – мы одни живём вдвоём, и только мама у нас дома и волнуется!
– Эх, – сдвинул шапку на затылок Слава, – а ведь была мысль в ресторан вас завести, но, думаю, а вдруг – муж есть и будет некрасиво?
– Нет у нас мужа, – ответил Егорка, а Маша покраснела и засмущалась.
– Ну обязательно, что ли, муж? А, может, у меня жених есть?
– Странно… – хмыкнул Слава.
– Что странно?
– Что мы уж больше часа, как знакомы, а ты до сих пор говоришь «есть» вместо «был», когда дело жениха касается.
Маша даже остановилась:
– Ничего себе, моряки-то прыткие какие!
– Решительные, Маша, – Слава взял Машу под локоток и они пошли дальше, – это называется – решительные!
Жили Маша с Егоркой в коммуналке возле площади Восстания, и гулять решено было в ту сторону: Маше нужно было ещё закончить домашние дела и вовремя лечь спать – завтра же на работу.
– А я в отпуске, – сообщил Слава, – у друга тут живу. Наслаждаюсь культурной столицей. А где ты работаешь, Маша? Давай я тебя завтра встречу после работы? А Егорка днём где? В садике?
– В садике, да, я после работы его забираю.
– Ну вот – видишь, как всё ловко складывается: тебя встречу, Егорку заберём и сходим куда-нибудь. Ненадолго. А потом, на выходных – можно будет и надолго.
– Я не знаю даже… Мне в магазин ещё нужно будет сходить… хотя бы.
– Так давай я схожу! Я же в отпуске! И встречу тебя прямо с продуктами, чем значительно сэкономлю время!
– Я – за, – сказал Егорка.
– А вас, молодой человек, никто и не спрашивал! Слава, я не знаю даже, как-то всё странно выходит… быстро… мне же надо подумать.
– Да что тут думать, Маша? Я же не замуж тебя зову, а просто погулять! Диктуй список, что надо в магазине купить. А завтра на работе и подумаешь. Проблемы надо решать по мере их поступления. Правильно? Правильно!
И Слава незаметно подмигнул Егорке. Егорка мигать одним глазом ещё не умел и поэтому подмигнул в ответ обоими.
Почти стемнело, и Невский стал ещё красивее: всего временного, цветного и трепещущего на ветру видно не было, а жёлтый свет от окон и фонарей прижимал тени к стенам, отчего они становились чёрными и загадочными, вместо серых и обыденных. Да, и в серых была история, но, вы же меня понимаете— чёрный совсем не то, что серый. И обелиск на площади Восстания, если смотреть издалека, казалось, будто парит над тёмной площадью. Или если и не парит, то вот-вот собирается взлететь.
Слава проводил их до двора, – обычного ленинградского стакана, изнутри которого казалось, что обрамляющие его дома тянутся до самого неба и окон в них столько, что в одном таком дворе расселить можно чуть не маленький городок. Все пожали друг другу руки, поблагодарили за приятную компанию и, условившись встретиться завтра, разошлись.
* * *
Слава не сразу ушёл. Подождав, пока Маша с Егоркой скроются в парадной, он долго стоял в арке и смотрел на окна, но зажигались и гасли они так бессистемно и лихорадочно, что не было ни малейшей возможности угадать, какие же из них – те самые. Поздоровавшись с прошедшей мимо него пожилой парой с собачкой на поводке, он достал из кармана пачку сигарет, закурил и ещё посмотрел на окна, но уже не угадывая, а что-то себе представляя. И видно было, что то, что он представлял, ему нравилось, а иначе – зачем бы он улыбался?
И когда шёл до метро, продолжал улыбаться и кивал прохожим, которые улыбались ему навстречу. И потом, передумав, пошёл дальше, до следующей станции метро, на которой они условились встретиться завтра и постоял там, глядя на поток людей, поднимающихся по эскалатору, всё ещё улыбаясь. Домой ехать решительно не хотелось, как и стоять здесь дальше, и Слава пошёл гулять. Гулял долго, но никуда не заходил и поехал домой уже сильно поздно, изрядно устав и даже немного замёрзнув, но от этого приятно устав и не мучаясь долгими ожиданиями завтрашнего дня.
* * *
Маша, придя домой, забегалась по хозяйству, а потом, читая Егорке сказку на ночь, чуть не уснула раньше, чем он сам. С утра, за привычными делами, которые можно было делать и не до конца проснувшись, Маша вспомнила про Славу и воспоминание это ей было приятно, а потом как-то затерялось в трудовом дне бухгалтерского отдела и затерялось до того, что Маша даже ойкнула (тихо – никто и не слышал), когда увидела Славу, стоящего с сумкой и букетом на выходе с эскалатора станции «Маяковская».
Слава заметил Машу позднее, и ей было приятно наблюдать пару секунд, как он выискивает глазами в толпе её и даже… волнуется, что ли?
– Маша!
– Слава! Ты что, волнуешься?
– Волнуется море, Маша, а я чуть не умер тут от страха уже, что ты меня обманула!
– Просто на работе задержали. Ну ты же знаешь в каком доме мы живём, – караулил бы там, тоже мне. Всему вас учить приходится.
– Ну здравствуйте, караулить! А гордость? А самолюбие и это, как его там, – независимость?
– Не пошёл бы?
– Между нами?
– Ага.
– Никому ни слова?
– Ни единого даже звука.
– Пошёл бы, да. Но, когда думал об этом, то стыдно как-то становилось, понимаешь? Ну, мало ли, ты настолько интеллигентна… Нет, нет, погоди, я не в том смысле. А вот, кстати, цветы. Тебе. И вот. Ты не смогла отказать мне просто, а я такой чурбан и намёков даже не понимаю. С другой стороны… ну это, в общем, не важно. Решил, что буду в сторонке так стоять – случайно вроде как тут оказался. И… вот. Куда мы сейчас? Может такси возьмём? Нет, я абсолютно не расточителен, что ты, просто хочу впечатление произвести.
– А в сумке— то у тебя что, Слава? Вон наш троллейбус – побежали!
В троллейбусе было тесно и шумно. Слава наклонился и говорил Маше на ухо:
– Продукты, что ты вчера диктовала, и Егорке там кое-что.
Маша держалась за его руку, – до поручней было не достать.
– Слава, ну ты правда в магазин сходил? Я шутила же, когда список диктовала. Эх, знала бы, надо было икры заказать!
– А что такого? Мне делать всё равно нечего – я же в отпуске. А икра у меня есть тут. Две банки – я с собой привёз, я же с Севера, а у нас там икры этой, знаешь – в каждом ларьке Союзпечати на сдачу дают!
– Да ладно.
– Да-а-а. Купишь газету «Правда» или там «На страже Заполярья», а тебе говорят: ну где мы вам сдачу с пяти рублей возьмём? Вот, икры возьмите на четыре восемьдесят. Две банки.
– Врёшь ведь?
– Я? Отнюдь, сударыня!
– Нам выходить на следующей, давайте к выходу, сударь, пробираться. Вот врунишка-то, а!
– Мне же следует тебя опасаться, да, Слава?
– Опасаться? – Слава остановился и посмотрел в небо. Поморщил лоб. – Слушай, скорее нет, чем да. Ты можешь, конечно, но вряд ли тебе это поможет. Видишь, какой я честный? А здесь красиво летом, да?
Они шли вдоль аллеи из озябших деревьев, которым нечем было укрыть свои голые ветки и кутаться приходилось в сырой туман – ни осень не кончится никак, ни зима не начнётся: самое противное время года. И голые ветки, и голые заборы, и желтый двухэтажный дом с аптекой на первом этаже по другой стороне и люди, которые спешили не потому, что опаздывали, а потому что быстрее хотели уйти с улицы – да, наверняка, летом здесь было красиво.
– Мама! – выбежал из группы Егорка. – О! И Слава пришёл!
И Егорка сразу стал солиднее и протянул руку для приветствия Славе, оглянувшись в сторону группы – видят ли, а уже потом повис у мамы на шее.
– Вот, Егорка, смотри что мы тебе принесли, – Слава достал из сумки коробку, – Луноход-1!
– Ого! – Егорка подпрыгнул на месте. – Ничего себе! А открыть можно? О, он с пультом! Ого! Ничего себе! А можно я в группе покажу? Я сейчас, я быстро, я на секундочку!
– Слава, – тихонько сказала Маша, когда Егорка убежал, – это же дорого, наверное?
– Не помню, – отмахнулся Слава, – зато смотри сколько радости.
Егорку из группы пришлось звать и даже включать строгость после «ну-у ма-а-ам, ну ещё минуточку» – дети уже начали строить трамплин из кубиков для лунохода.
Из-за этого же лунохода решили никуда не идти, а пойти просто домой ужинать и пить чай. Маша и сама устала и идти никуда не хотелось, а тут как раз и Егорка категорически запросился домой, топая между ними в обнимку с коробкой.
По лестнице шли гуськом: впереди топал Егорка («Я сам покажу, где мы живём!»), потом шла Маша и смущалась, не видит ли Слава стоптанные каблуки на её сапогах, а Слава замыкал и смотрел совсем не на сапоги.
* * *
Жили Маша с Егоркой в крохотной коммуналке всего из трёх комнат – узкий коридор, справа ванная, а слева в ряд до кухни три комнаты. Самая ближняя к кухне – их. Маша помогла раздеться Егорке, Слава помог раздеться Маше, и, когда уже раздевался сам, Егорка гонял по коридору луноход.
– Так, так, – открылась первая дверь, в аккурат против вешалки, – нарушаем покой жильцов транспортными средствами?
Выглянувший из двери мужчина был стар, помят, одет в застиранную и заношенную тельняшку без рукавов, ситцевые трусы синего цвета, бос и пах не то, чтобы плохо, но явно спиртным.
– Дядя Петя! А у меня луноход!
– Ого, – сказал дядя Петя, уставившись на Славу, – военные в городе! Тащ адмирал, какими судьбами в нашу гавань? На постой или так – абордажная операция?
– Петрович! – вроде как строго, но подозрительно ласково прикрикнула Маша.
– Я капитан-лейтенант, – поправил Петровича Слава, – в гости зашёл.
– Надо же, – подбоченился Петрович, – экий гусь, а всего лишь капитан-лейтенант!
– Петрович! – и Маша пнула дверь ногой, не сильно, но настойчиво. – А ну-ка прекрати мне!
– Тоже мне, командирша нашлась! – фыркнул Петрович, но дверь закрыл.
– Он хороший, правда, – шепнула Маша на ухо Славе, – ты не обижайся. Он выпивает, но порядочный и помогает нам всё время. Одинокий – скучно ему, вот он и цепляется к тебе, ты не обижайся, ладно?
Славе было так приятно от этого шёпота в ухо и от того, что он чувствовал движение Машиных губ так близко, что, пожалуй, Петрович стал ему даже несколько приятен.
– А я и не думал, – Слава тоже зашептал Маше на ухо, – тоже мне, обидчик нашёлся!
– Ну вот и хорошо! Так, руки мыть и в комнату – мне на кухне не мешать!
Интересно, отчего она покраснела, подумал Слава, неужели…
Комнатушка была и вовсе крохотной: справа от двери стоял шкаф до потолка, потом диван, напротив и наискосок от него, ближе к окну – стол с зеркалом, за столом упиралась в подоконник тумбочка с радиолой, над тумбочкой висела книжная полка, а напротив и от дивана до стены – уголок Егорки, судя по игрушкам, вроде как сложенным в кучки различного объёма.
– Поможешь мне, Слава?
– О чём речь, Егорка! А что делать будем?
– Испытывать луноход! Бери вон те книжки, бери-бери, те мама разрешает, а я вот тут кубиков… наберу и пойдём препятствия строить!
Луноход справлялся отлично – ездил по горам из книг, двигал кубики и маневрировал по лабиринтам из пирамидок и солдатиков. Из кухни скоро вкусно запахло котлетами и Слава, ползая по полу начал мысленно уговаривать живот не бурчать и не выдавать его сегодняшнее меню – кофе на завтрак и кофе с сигаретой на обед.
– Мужчины, – крикнула Маша с кухни, – пять минут до ужина! Наводим порядок и снова моем руки!
– А строго тут у вас, да? – спросил Слава у Егорки.
Егорка пожал плечами – строгой мама не была, а к порядку он давно уже привык и не находил в этом ничего особенного. Мама никогда не говорила ему, что ей тяжело с ним одной, но вот подруги её любили по-вставлять эти посылы в свои воспитательные беседы с ним. Пока мама не слышала.
– Петрович, – крикнула Маша, когда все уселись за стол, – иди покормлю! Что ты там бурчишь, я не слышу?
Скрипнула дверь.
– Говорю, корсара своего корми, я сыт!
– Петрович! Иди, говорю, по-хорошему! Только штаны надень!
– Марья! А может, мне ещё и руки помыть скажешь, а? Нос, может, мне посморкаешь, а то я же, что, знаю разве порядки какие…
Егорка хихикал, Маша закатывала глаза, а Слава думал: взять ему три котлеты или ограничиться двумя и доесть с хлебом, чтоб не показаться обжорой. Есть-то хотелось. Хорошо ещё, что без Петровича не начинали и было время подумать.
Петрович мало того, что помыл руки, так ещё пригладил волосы во что-то типа причёски и облился одеколоном. Тельняшка была торжественно заправлена в тренировочные брюки (все в заплатках, как звёздное небо).
«Куда он сядет?» – подумал Слава.
– Да у вас тут и сесть негде, – оглядел крохотную кухоньку Петрович, – на вот, положи мне, я у себя поем. Зря только штаны надевал. Куда ты мне столько пюре валишь? Я столько за неделю не съем, мы же алкоголики, знаешь, едим как воробушки. О, каклеты! Широко живёте в наше непростое время!
– Так это Слава фарша вон сколько накупил!
– Ясно. Клинья фаршем решил подбивать!
– Иди, Петрович. Принесёшь тарелку потом – помою.
– Без тебя я тарелку не помою, можно подумать! Может, и штаны ещё мне заштопаешь вон, а то в люди выйти совестно?
– А то тебе их добрая фея до того штопала, а не я!
– Сварливая ты баба, Машка, как есть мегера. Смотри, флибустьер, согнёт тебя в бараний рог!
– Петрович!
– Я уж семьдесят лет скоро, как Петрович. Ладно пошёл, а то остынет. Приятного вам аппетита, товарищи господа!
– Такой языкастый он, да? – спросил Слава, когда за Петровичем хлопнула дверь.
– Не то слово! Это я ещё отучила его выражаться при Егорке! Он хороший, правда, жена у него умерла года три назад, вот он, с того времени совсем и сдал. А так он, знаешь, воевал тут где-то, у него наград всяких – пиджака под ними не видно. Потом метро строил. Обе комнаты остальные – их с женой, та, что посередине, так и стоит закрытая. Пусти, говорю ему, жильцов, деньги хоть будут, что там твоя пенсия? Не хочет. Егорка – локти! А так он и с Егоркой сидит, когда надо, и телевизор мы у него смотрим, и помогает, что тут починить или порядок навести. Пьет только много, но домой никого не водит. Жалко его, а не слушается – кол на голове теши. Егорка, не жди – котлета сама себя не съест. Слава – ещё подложить?
– Ой нет, Маша, так вкусно, что съел бы и ещё, но боюсь лопнуть! Спасибо. Ты сама-то и не ела почти ничего!
– Да я устала что-то, да и напробовалась, пока готовила. Я чаем потом с пряниками. Посуду в ванную, будьте добры.
– А чего в ванную? Вон же умывальник у вас.
– Слушай, течёт внизу там, как Ниагара, Петрович говорит, что не барское это дело – умывальники чинить, и вообще он электрик, а сантехника никак дозваться не можем.
– Ну-ка я посмотрю. Я инженер же, как ни крути! Фонарик есть?
Поковырявшись под раковиной минут пять, открыв и снова закрыв воду, Слава вынес вердикт:
– Десять минут работы, но прокладки нужны. Я бы завтра мог сделать. Какие у нас планы на эту замечательную субботу?
– Кино! – поднял руку Егорка.
– Музей! – подняла руку Маша.
– Мама, – не согласился Егорка, – я маленький, меня слушаться надо!
– А я – женщина, как ни крути, но мне уступать нужно!
– Ну это не честно!
– А что вы кипятитесь-то оба? С утра зайду – починю кран, потом в кино, а оттуда уж в музей, что за проблемы-то?
– Ну… как-то, может, неудобно…
– Маша, а как мне было неудобно с тобой вчера знакомиться, ты бы знала! Теперь твоя очередь, потерпи уж.
– Хорошо! – вскочил Егорка, – Мама, а спать не пора ещё? А когда будет пора? А это скоро? Ну тогда я с луноходом играть!
Слава помог Маше помыть посуду, они поговорили о том о сём, и он чувствовал, что пора уже идти, хотя страх как не хотелось. Но (и он этому даже удивился) и ничего более того, чтоб смотреть, говорить и слушать он более и не хотел. Нет, ну как, хотел, но не прямо уж чтобы невтерпёж. Так уютно было и спокойно, что уже и хорошо. «Уместно ли поцеловать её в щёку на прощание? – думал Слава, раскланиваясь до завтрашнего дня. – Нет, наверное, совсем рано ещё, надо подождать пока придёт время, но, чёрт, оно же ни разу ко мне не приходило, оно же только уходит. А, руку! Можно же просто поцеловать руку. И надо спросить, что это у неё за духи, но не сейчас, а потом, как-нибудь невзначай…»
* * *
Уйти сразу Слава опять не смог, хотя из парадной вышел решительно, что вполне логично – раньше усну (думал Слава) раньше наступит завтра, а ни о чём другом думать уже и не хотелось. Но в арке опять закурил: теперь-то он точно знал, где их окно, и вот оно горит полным светом, а вот, позже, когда сигарета давно уже закончилась – в полсилы. Маша, видимо, выключила свет и зажгла настольную лампу. Читает? Просто сидит и думает о чём-то? А может, обо мне? Ну не спит же точно. А что она читает, если читает? Уместно ли будет предложить ей своего Ко-нецкого или Ремарка? А если не читает, а думает, то о чём? Я не слишком тороплю события? Да нет же – я их вообще не тороплю, хотя несколько дней до конца отпуска можно было бы и поторопить, а то что потом? Зря не попробовал поцеловать – ну что такого в этом безвинном поцелуе в щёчку? Ничего, вот поэтому, видимо, и хорошо, что не полез, а то было бы… Так, стоп, я влюблён? Определённо. Как это произошло так быстро и почему? И что теперь с этим делать? Да, ладно, можно выкурить ещё одну сигарету и сойтись на мысли, что утро вечера мудренее, но мудрости как раз и не хочется, а чего хочется? Обнять, прижаться и целовать – определённо да. Везти с собой на Север? Из Ленинграда? Поедет ли? Нет, поднимет, наверняка, на смех, и как это, два дня знакомы всего, что за ребячество?
И полусвет погас в окне: всё – легла спать и стоять тут нечего. Слава бросил сигарету и ушёл. Уходя, не обернулся. А если бы обернулся, то увидел бы, что Маша, отодвинув занавеску, выглядывает и видит его, уходящего. И увидев это, он не сутулился бы, а, расправив плечи, шёл бы, как настоящий морской офицер, но – он и так настоящий морской офицер. Подумаешь – плечи, как будто это что-то изменило бы в дальнейшем развитии событий. А, может, и изменило бы – кто сейчас разберёт?
* * *
Маша уснула не сразу и, скорее всего, из-за того, что, выглянув в окно (она и сама не понимала зачем – ну не думала же она, что он там стоит), увидела Славу. И увидев, удивилась, но не только удивилась, а ещё и обрадовалась, хотя сама точно и не поняла чему. Слава ей определённо понравился, но никакого огня в груди и слабости в ногах (как было в первый раз, с отцом Егорки) она не чувствовала, а что чувствовала и понять пока не могла. Да нет, наверное, могла, но не примеряла всё это на себя – вся её жизнь сейчас (и давно уже) была сосредоточена на Егорке, на том, что и её вина была в том, что с отцом его у них не сложилось и он давно уже не давал о себе знать, а Егорку это не то, что всегда, но мучило, и она это видела и старалась, старалась, старалась за двоих, а на себя времени и сил уже не оставалось. Правильно это? Ну нет, но порассуждать с подругами об этом она ещё могла, но делать так не хотела, хотя всем говорила, что хочет, но не может— нет сил. На самом деле, силы были, а вот желаний— нет. Она была довольно красива, хотя это мало волновало её, как и всех красивых людей в принципе. Знаки внимания, ухаживания и попытки сблизиться с ней, скорее, раздражали её – больше всего своей банальностью, неумелостью и неказистостью. А тут – Слава. И ведь не делал ничего особенного – просто вошёл в их жизнь так, как будто тут и есть его место. Не спрашивал (хотя вид-то делал), не ходил окружными путями и не робел, а просто взял и встал вот тут вот, рядом. Откуда он? Кто он? Что дальше? Чёрт, а ведь уже за полночь, а завтра рано вставать – Егорка в садик вставал когда как, а на выходных – как будильник: семь ноль-ноль и вот он, тормошит уже и желает доброго утра. А как уснуть-то? А почему не уснуть-то? Что это так волнует? Да нет, не могла же я влюбиться вот так вот, с ходу и даже хоть бы и в морского офицера. Не могла и всё тут…
– Мама! Мама-а-а! Ну сколько мы будем спать? Ну когда вставать уже?
«Если не открывать глаза, то, может, даст поспать ещё минуток десять…»
– Мама, ну я же вижу, что у тебя глаз дёргается, ну ты не спишь же уже! День уже, вставай! И я есть хочу!
«И козырь под конец выложил» – Маша вздохнула и открыла глаза.
По оттенку серого за окном было видно, что никакой ещё не день, а самое что ни на есть раннее утро. Солнце-то во двор не заглядывало к ним почти никогда и только по цвету маленького клочка неба в верхнем левом углу окна (если смотреть лёжа в постели) можно было научиться определять время суток и погоду.
– Я к дяде Пете уже ходил, но у него только кильки в томате! – Егорка улыбался, рад был, что разбудил маму. – Да и Слава же скоро придёт!
Часы на стене показывали семь двадцать.
– Да не скоро ещё, на девять же договаривались.
Пришёл Слава ровно без одной минуты девять. Пахло от него морозом.
– Там зима началась? – понюхал рукав его шинели Егорка.
– Ну почти, немного подмораживает и ветер холодный, а вот снега нет.
– Ты пахнешь, как Дед Мороз. Я думаю, что дед Мороз вот так должен пахнуть.
– Ты меня раскрыл, Егорка! Я – он и есть! Но, пока нет Нового года, притворяюсь моряком!
– Смешно, у тебя даже бороды нет, какой из тебя Дед Мороз?
– Безбородый, значит!
– Завтракать будешь? – Маша взяла у Славы шапку и перчатки.
– Нет, давай кран сначала, а потом уже посмотрим, что по времени будет выходить.
На кухне Слава снял тужурку и на секунду задумался.
– Я что-то не подумал с собой переодеться взять. А полуголым как-то неудобно.
Маша посмотрела на выглаженную кремовую рубашку и подумала, что полуголым было бы и неплохо, но вслух говорить этого не стала, хотя почувствовала, что немного краснеет.
– Петрович! – крикнула она в коридор, – а дай Славе майку какую почище, будь так любезен!
– А может на него комнату свою сразу переписать, чо так издалека начинать-то? – Петрович пришаркал на кухню, но майку принёс: когда-то ярко-синюю и с эмблемой олимпиады восьмидесятого года, а теперь застиранную почти до белизны.
– Да он нам кран чинить будет на кухне, что ты бубнишь опять!
– Кран на кухне? Ну ты погляди, каков жук! Всё, Машка, считай хана тебе, знаю я эти приёмчики!
– Петрович!
– Петровичай, не петровичай, а пропала ты девка, как пить дать! Потом, посмотришь, в кино тебя поведёт, да в ресторацию какую, а потом уже и целоваться полезет и всё, считай, как муха в паутине ты – сколько не рыпайся, а свободы больше не видать!
Слава прыснул смехом из-под раковины.
– О! – Петрович поднял палец вверх, – Петрович прав! Слушайся Петровича!
Маша села на табуретку и подумала: а какого, собственно, чёрта?
– А на кой она мне, та свобода? Может, и надоела уже хуже горькой редьки.
– Дык я разве же против? Я же о том, что приличные ведь люди ходили, а тут этот… гусар. Погубит тебя, Машка, попомнишь мои слова!
– Так, так, так! А вот с этого места поподробнее, я попросил бы, – Слава выглянул из-под раковины, – что за люди, насколько приличные и в каком количестве?
– Да, – поддержала его Маша, – мне тоже было бы ужасно интересно это послушать!
– Ой, вот набросились на больного старика! Ну приврал немного, для яркости, чего смотрите, как сычи на болото?
– Да ты, Петрович, врёшь как сивый мерин!
– Я пью как сивый мерин, а вру иногда, чтоб жизнь вам малиной не казалась. И вообще, Машка, иди вон с Егором «Утреннюю почту» смотреть, мы тут без твоих женских чар с краном справимся.
– Славон, – заглянул Петрович под раковину, когда Маша, хлопнув его полотенцем по спине, вышла, – пи-сят грамм будешь?
– Петрович, ну ты что! Мне же ещё гражданских в кино вести и в музей!
– Тогда я сам, если ты не против.
– А открой-ка кран мне заодно. Нет, подкапывает ещё – закрывай взад!
– Ты, Славон, на меня не обижайся, – Петрович чем-то позвякивал, а потом булькал и крякал наверху, – я против тебя лично ничего не имею. Парень ты, вроде как, ничего. И Машке мужик нужен, это и сове понятно, но вот после того своего, отца Егорова, как она убивалась тут, ты себе не представляешь. Как тень ходила, потом выкарабкалась кое-как, недавно вот совсем, а тот, как разошлись – ни слуху тебе, ни духу, ни алиментов. Козёл, короче. Ты, Славон, не козёл же? Ну я вижу, что не козёл, но Машку ты не обижай мне. Я, Славон тут-то тебе не опасен, но если что, то на том свете найду тебя, и спуску не дам, и черти тебя не спасут. Я в морской пехоте всю войну от сих до сих! Сорок пять минут в заливе плавал в декабре, как с катера смыло, все думали сдохну, а я вон тебе – живее некоторых живых. А так ты решительнее с ней, она баба хорошая, но малахольная мальца, так что ты, со всем пролетарским напором, – раз её и на матрас!
– О чём вы тут? – вернулась Маша, – Эй, вы что, пьёте, что ли?
– Я – нет! – крикнул из-под раковины Слава.
– А я у тебя разрешения забыл спросить! Понял, Славон, как надо-то?
– Да понял, понял! Открывай кран!
Слава вылез наружу.
– Всё стало лучше, чем было! Пользуйтесь, на здоровье!
– Ну я пошёл тогда, раз мужская сила тут теперь за ненадобностью. – Петрович вышел.
– Так о чём вы тут, если не секрет? – спросила Маша, подавая Славе полотенце.
– Да какие секреты? Учил меня Петрович как охмурить тебе половчее.
– А оно тебе надо?
– Маша, ну очевидно же, что надо.
– Ладно. Ну и как? Научил?
– Ага, теперь точно не уйдёшь из этих лапищ, Мария!
– Это мы ещё посмотрим. Вячеслав, а ты, прости меня, но понимаешь же, что у меня ребёнок?
– Да ладно? А где ты его прятала всё это время?
– Да ну тебя!
– Маша, собирайтесь – у нас сеанс через час.
– А билеты возьмём?
– Я взял уже, Маша, ну что за приличные люди до этого за тобой ухаживали, я не понимаю? И где ты взяла их в культурной столице?
– Котлеты в холодильнике, поешь, пока мы собираемся. Ухажёр.
* * *
На улице и правда подморозило. Снега не было, но ощущение было такое, что он вот-вот пойдёт – им почти что пахло в воздухе. И высушенный морозом город был не мокрый, что уже хорошо, и ветер, дувший с залива (это им сказал Слава) был холодным и свежим – люди кутались от него в шарфы и натягивали шапки поглубже, побыстрее стараясь заскочить на станцию метро или в магазин.
День прошёл замечательно, и было непонятно, как он мог так быстро кончиться. Сначала в кино, на мультфильмах, а потом в музее всем троим было весело и уютно, Слава много шутил, Маша много смеялась, а в музее Слава так и вовсе поразил её своими знаниями о художниках и обстоятельствах сюжетов картин. Вечером, в кафе, все с аппетитом ели (до этого перекусывали на ходу пирожками) и Егорке взяли вот такенное мороженое. Там же, в кафе, Маша со Славой заметно погрустнели, но когда Егорка спрашивал их, чего они такие кислые, сказать ничего не могли, а только отнекивались и натянуто улыбались, и Егорка удивлялся, но потом уже, когда вырос и вспоминал эти дни, понимал, что они уже тогда жутко не хотели расставаться, что удивительно – ведь пару дней всего, как знакомы.
– Зайдёшь? – спросила Маша, когда Слава провожал их домой.
– Хотелось бы, да. Чаю, например, попить.
– Мы же только что в кафе пили, – удивился Егорка, – и что вы находите в этом чае такого?
Почти стемнело, уже зажглись фонари. Снег, которого ждали весь день, наконец, начал робко сыпать с неба и украшать город торжественным белым.
Егорка милостиво разрешил Славе читать ему сказки, пока мама готовит чай и сама готовится к этому самому чаю. Чего там готовиться, Егорка не знал да и не думал об этом, но Слава ему уже определённо нравился, и он сам бы готов был попросить и попробовать как это – засыпать под голос не мамин, а другого человека, статус которого был ему не понятен. Но что хорошо в детстве, так это то, что слово «статус» вовсе неизвестно, а решение принимается на другом уровне, не таком расчётливом, но более честном – приятен тебе человек или нет.
Уснул Егорка быстро, и они потом закрыли на кухне дверь, чтоб не мешать ему спать разговорами, и говорили, наконец, долго и ни о чём, но настолько естественно, что Слава, как-то невзначай оказался рядом, а не напротив и даже осмелился касаться Машиной руки и строить какие-то планы вслух. Он рассказывал ей, где живёт и как у них там вообще всё устроено, – практически без цивилизации, но, зато с особыми, крепкими отношениями между людьми, с безграничным доверием и таким уровнем взаимопомощи, о котором здесь, в больших городах давно уже позабыли и не то, что позабыли, а даже и мечтать уже не умели. Маша, неожиданно для себя, живо втянулась в этот разговор и даже примеряла ситуацию на себя и Егорку, хотя зачем она это делала, было решительно непонятно – ну не звал же её Слава с собой. Или уже звал? Вот поди тут разберись, а, если и позвал бы, вот прямо сейчас, касаясь её колена своим, как бы случайно, что она ответила бы? Согласилась бы или нет? Как принять решение в такой ситуации? Как будто хуже уже быть всё равно не может или, а вдруг станет так хорошо, что и не снилось? Здесь всё-таки, жизнь как-то да наладилась, есть работа, есть привычный уклад и нет, не перспективы, конечно, а какое-то понимание того, что будет дальше: не очень надолго, но на несколько лет вперёд так точно. Могло бы быть лучше? Да уж точно, но. Могло же ведь быть и хуже, а вот не стало. Стабильность – штука затягивающая, особенно если тебе уже совсем не двадцать лет и ребёнок. А ещё это его колено и ладонь, периодически трогающая её руку – отчего вот это так волнует?
– Извините, – нарочито вежливо прервал их Петрович, заходя на кухню, – что мешаю вам ебаться, но мне нужно снотворное, а то никак не уснуть.
– Петрович! – Маша от возмущения даже бросила в него чайной ложечкой. – Ну как не стыдно?
– Мне-то? – искренне удивился Петрович. – А никак вообще.
– Мы тут чай пьём и разговариваем, а не то, что ты себе думаешь! – вступил Слава.
– Да? Ну и дураки. Эх, да я бы на вашем месте всю мебель тут уже переломал! Ничего вы, молодёжь, в жизни не смыслите! Пока вы тут чаи распиваете – жизнь-то, как сквозняк, мимо вас пролетает, очнётесь потом, а поздно, да назад не вернуть! Машка, где мерзавчик-то мой? Опять спрятала?
– В той вон тумбочке стоит. Не трогала я его.
– Славон, – Петрович наклонился к Славе и вроде как зашептал, – я ключ от средней комнаты на косяк сверху положил. Если что, там и диван имеется, и одеяло, или как там у вас сейчас это происходит? Мы-то и на газетах могли, а вы сейчас что – изнежены цивилизацией, хрен вас поймёшь. Только это, Славон, сильно там не пыхтите, я человек пожилой и даже после мерзавчика сплю чутко!
Маша густо краснела и прятала глаза. Слава тоже краснел, но что делать-то: он же тут мужик, ему и выкручиваться.
– Петрович, ты иди, мы тут разберёмся, ладно?
– Ладно, – Петрович вышел, закрыл за собой дверь, но снова открыл, – пожалуйста, если что!
Дальше разговор уже не клеился: как будто на кухню завели слона и, хотя разговоры шли совсем не о нём, но не замечать его было уже невозможно. И прервали их на разговоре о богатстве тех краёв, где Слава служил, грибами и ягодами, и продолжили было они говорить о них же, но Слава думал, что, ну, может, и попробовать, ну а вдруг и это же очевидно, что он не просто так, на раз, а с серьёзными намерениями, ну, а если не выйдет, то тогда всё – кранты и полный провал, и лучше да, прямо сейчас уйти, потом уже как будет, так и будет, в любом случае, разовое удовольствие – это не то, чего ему сейчас хотелось больше всего. Хотелось, да, но спугнуть было страшнее. А Маша так и вовсе запаниковала, хотя вида и не показывала: вот что ей делать, если он начнёт вот это вот самое? Только бы не начал!
А Слава и не начал. Скомкав разговор до, вроде как, логичного завершения, посмотрел на часы и засобирался. Хотя так хорошо, что и не уходил бы, но пора уже и честь знать. Спасибо тебе, Слава, подумала Маша, и сразу как-то отлегло, хотя вот эти вот его руки и коленка, и как он смотрел – нет, не устояла бы, а потом корила бы себя и жалела. Ну неизвестно, конечно, но – наверняка.
Одевшись и немного помявшись у двери, Слава спросил:
– Ну так я приду завтра?
– Странный вопрос, а как ты собираешься ухаживать за мной не приходя?
– Об этом, пока, лучше не думать! Будет время, подумаем и об этом.
Слава аккуратно, будто драгоценную вазу, взял Машу за плечи и поцеловал в щёку, а потом, сразу же в шею и вдохнул её запах.
И вот что мне делать, – подумала Маша, – ну почему не в губы? Вот как мне ему ответить? И, не придумав ничего лучше, провела ему ладошкой по груди, а потом долго ещё стояла в прихожей и думала, а как надо было: так, как она сделала или по-другому, так, как хотелось?
Маша убралась на кухне, долго умывалась и, ложась в постель, выглянула в окно, ничего, собственно, в нём не ожидая увидеть. Но Слава стоял в арке и, заметив её, помахал рукой. Как-то по-детски, но, с другой стороны, а что ему ещё было делать – и Маша послала в ответ воздушный поцелуй, тут же задёрнув шторы и потом, лёжа в кровати, всё думала: стоит он ещё или ушёл и как бы посмотреть так, чтоб он не заметил. И почему он ушёл? И зачем я ему поцелуй послала, а не позвала назад? Глупо всё выходит или не глупо? На этом она и уснула.
* * *
Остальные дни до конца отпуска пролетели, как книжные страницы, сдуваемые ветром: первая ещё видна, а остальных не угадать сколько: то ли две, то ли восемь. В воскресенье сначала решили было никуда не идти и играли в лото, но потом Маша спохватилась и выгнала Славу с Егоркой из дома для того, чтобы сделать уборку и постирать. Они погуляли там и сям, похлюпали первым жидким снегом под ногами, зашли в магазин и через пару часов вернулись домой. Маша уже полоскала бельё.
– Мы есть хотим, – с порога заявил Егорка.
– Ты оставь бельё, я потом выжму, – добавил Слава. Неспешно поужинали и Егорка убежал к Петровичу посмотреть телевизор, пока взрослые будут возиться с бельём – делать ему там нечего, а наблюдать за всем этим не больно то и интересно. Слава работал со знанием дела – отжимал быстро, ловко перекидывая на предплечье отжатые части простыней и штор. Заметив, что Маша за ним наблюдает, подмигнул:
– А ещё я и на машинке вышивать умею!
– Вот уж не думала, что ты и в стирке спец.
– А как ты думала, я живу? Приходящая прачка мне бельё стирает? Сам, всё сам – и не хотел, да научился!
– А я как-то и не подумала, как ты живёшь… А как ты живёшь, Слава?
– Нормально живу. В общежитии офицерского состава – я же холостяк, и квартиры мне не положено. Весело, в общем.
Слава неожиданно выпрямился и опустил руки. С по-луотжатой наволочки на пол потекла тонкая струйка воды.
– Теперь-то не весело будет, Маша. Что-то сейчас вот только дошло.
И он посмотрел на неё, и она подумала, что нужно его как-то подбодрить, что ли, поддержать, но как – не понимала и, мало того, что не понимала, но неожиданно и сама почувствовала укол тоски, которой ещё не было и быть не могло, но которая напомнила, – здесь, мол, я, всё нормально Маша, просто жду и слёзы, которых ещё не было тоже, но вот они точно зарождались сейчас где-то внутри.
– А я ведь влюбилась, Слава… – сказала Маша и испугавшись, что сказала это вслух, ойкнула и сделала шаг назад.
Слава застыл и даже открыл рот, а потом взял Машу за руку, притянул к себе, бросил мокрую наволочку на пол и, обняв, поцеловал. Халат на спине сразу намок от его руки. Ну и ладно, думала Маша, зато можно будет потом сказать, что дрожала я именно от этого и наволочка упала прямо на ноги и, боже, у меня полные тапки воды! Кому сказать? Но Маша боялась упустить эту мысль и держалась за неё, чтоб совсем не поплыть, а целовался он хорошо….Ну было хорошо и наверняка же от этого.
Губы её были мягкими и тёплыми, и Слава целовал их и целовал – сначала осторожно, а потом, когда она начала отвечать ему, увлёкся и даже, сразу не поняв, один раз её слегка укусил.
– А ты чего тогда застыл в ванной? – спросила Маша ночью, лёжа в средней комнате на Славиной груди.
– Когда?
– Ну… когда я сказала это…
– Что это?
– Что люблю тебя.
– Слушай, растерялся. Так неудобно стало, я же мужик, вроде как, первый должен сказать и планировал, да, а тут… так неожиданно… А потом как-то повода не было, ну знаешь, вот мы целуемся и так не хочется останавливаться и словами всё это пугать, а потом затмение какое-то, и уже ужинаем сидим, и как вот – ты говоришь, Слава, передай соль, а я говорю, держи Маша, я тебя люблю? И, кроме того, время-то упущено, надо же как-то всё это построить так, чтобы торжественно, что ли, или, не знаю, запомнилось потом тебе, понимаешь?
– Понимаю. А ты любишь меня?
– Да.
– Ну скажи просто так, а потом, как случай подвернётся, скажешь торжественно.
– Я люблю тебя, Маша.
– Жаль, что тебе надо уезжать, Слава. Я так не хочу.
– Я писать тебе буду, и ты мне пиши, а потом я прилечу к Новому году на пару дней, договорюсь там и потом опять будем писать, у меня выход в море после будет, месяца на три – вот тут ты должна будешь перетерпеть, а потом снова отпуск, мы поженимся, и вы со мной поедете. Поедете же?
– Погодите, Вячеслав, – Маша привстала на локте и посмотрела на него сверху вниз, – так вы меня сейчас замуж позвали? В такой вот мало торжественной обстановке? Без коленей и цветов?
– На колени-то я могу встать, – Слава дёрнулся было, но Маша его не пустила, – с цветами-то вот, конечно, загвоздка. Пойдёшь за меня замуж? А цветы я потом донесу, ты не беспокойся…
– Да, именно о цветах я больше всего и беспокоюсь. Как вы проницательны, Вячеслав, просто спасу от вас нет!
– Так пойдёшь?
Маша вздохнула и легла обратно.
– Не знаю, я девушка порядочная, должна же подумать.
– Логично.
Помолчали пару минут. На стене тикали часы, и где-то вдалеке были слышны гудки машин. Оба смотрели в окно, которое было чернее стен и их отражения, призрачные и с размытыми контурами, лежали там и смотрели на них в ответ.
– Ну как, подумала?
– Подумала.
– И каким будет твой положительный ответ?
– Положительным.
– В смысле, да?
– А это для тебя положительный ответ?
– Да.
– Точно?
– Точнее не бывает. А что за вопросы?
– Слава, ну мало ли, может, ты из приличия предлагаешь, знаешь, а сам не дышишь, и отказа моего ждёшь, и думаешь: хоть бы, хоть бы сказала «нет».
– Повезло тебе, Маша, что я обижаться не умею.
Везучая ты.
– А так бы что?
– Обиделся бы. Что.
– И замуж бы не стал больше звать?
– Стал бы. Но обиженно.
– Я как-то без боя сдаюсь, вроде бы? Нет? Я не должна поломаться как-то или что там ещё принято в таких случаях?
– Не-е-ет, что ты. Это – пережитки прошлого.
– Ну тогда я согласна. А мы сможем? Я в том смысле… Как ты думаешь, у нас получится?
– Конечно, Маша, получится. Ты в надёжных руках и никуда из них не денешься!
– Убери руку с моей задницы.
– В смысле?
– В смысле щекотно, я сейчас смеяться начну и Петровича разбудим.
– Ага, – сказал Петрович из-за стенки, – именно смехом-то вы меня и разбудите!
Ушёл Слава под утро, к открытию метро, когда Маша засобиралась к Егорке – им не хотелось явно показывать, что Слава ночевал тут. Правда далеко он не ушёл и через час вернулся (для Егорки просто пришёл), чтоб проводить их в садик и на работу. Остальные дни были ли, не были, но промелькнули, как один миг, и в первый раз они расстались надолго.
* * *
– …и вот я думаю: раз на «Лебедином озере» она явно засыпает, хоть спички в глаза ей вставь, а то перед людьми неудобно, а если и не спит, то с таким видом сидит, ну только что семечки не щёлкает, – то опера, очевидно, не вариант. А свожу-ка я её на спектакль. Смотрю, значит, афиши и – опа, в Малом драматическом дают «Пиковую даму»! Ха, думаю, ну Пушкин, ну сукин ты сын, – опять приходишь на помощь жаждущим женских ласк особям, типа нас с тобой! Беру билеты – идём. Там я монокль ей, программку, все дела, в антракте – буфет, эклеры, ей – шампанского, себе – «араратика». Вот он, горжусь собой, каков я прынц прямо, – женщине перед спариванием культурный уровень поднимаю, предварительно ласкаю её балетом и классикой, а не тупо по ресторанам! И вот. Дело за середину, смотрю: как-то нервничает она, елозит по креслу. Что, шепчу, мон амур, вас так тревожит, смею ли я спросить? А она мне: больно уж за Германна волнуюсь, повезёт ли ему? В смысле, говорю, как это? Я, понимаешь, что думаю за тонкие материи такие, как это … ну… не может же она не знать вот этой вот истории? Ну кто не знает, чем там всё закончилось? Ну серьёзно? Белого медведя на полюсе спроси – и тот ответит, чем всё кончится! А она, говорит, да как же вам не интересно, чем там всё кончится! Экий вы, добавляет, бесчувственный человек! И тут я, Слава, понимаю, что вот и сиськи у неё с мою голову размером каждая, и вот бёдра там, и глаза с вот такими ресницами, и ланиты, и коса до жопы, и чем там они ещё нас привлекают, а всё тает в моих глазах и какой-то дымкой отчаяния покрывается! Ну вот как её это… того? А? А поговорить потом? Или что, бежать сразу после спаривания? Аллё, Славик, да ты слушаешь ли меня?
Недавно проехали Свирь, и за окном мелькала уже Карелия. Поезд шёл быстро и чем дальше уходил от Ленинграда, тем больше снега было за окном. Деревьев уже не было так жалко – они стояли не голые, унылые и застывшие от холода, беспомощные и никому не нужные, а, как степенные матроны, укутавшиеся в толстые снежные шали, просто отдыхали до весны. В купе они были вдвоём и млели от жары, глядя на царство зимы и не видя, а только чувствуя холод. И чем было ещё заниматься, как не рассказывать? Но Слава сидел напротив Миши, смотрел в окно на мелькающие километры, и чем дальше, тем больше тух.
– Чайку, молодые люди? – в купе заглянула проводница. – Или, может, покрепче чего?
Вагон ехал полупустой, и проводница откровенно скучала. Не сказать, что пожилая, но в годах и, видимо, давно в проводницах. Может (кто её знает), на что-то и рассчитывала, но Слава с Мишей – точно нет. Особенно Слава.
– Спасибо, мадам, вы так любезны, что хочется попросить у вас книгу для отзывов и похвалить вас в ней, непременно стихами!
– Ой, ну вас! Вам лишь бы смущать бедную женщину! Так нести чай или как?
– А несите! Гулять так гулять! Только вот эти вот стаканчики заберите сразу, благодарю! Слава, так что – слушаешь?
– Слушаю, Миша, слушаю. Но не сказать, что вот прямо слышу, – Слава хмыкнул, вроде как засмеяться хотел, да не вышло.
– А вот провожала тебя с ребёнком – это Маша твоя и есть?
– Нет, это её двоюродная тётя из Саранска приехала, чтоб меня проводить! Миша, ну честное слово!
– Да ты не возбуждайся, друг, я же так, для перевода разговора в нужное тебе русло. Связки леплю. Слушай, ну красивая, да. Плакала прямо, я видел, когда отъезжали. Любовь прямо у вас?
– Жениться буду, Миша.
– Жениться? Жениться – дело хорошее. А что? А чего бы и не жениться! Род надо же продолжать? Надо! Опять же в гнезде твоём уют кто тебе наведёт, если не жена? Опять я? Свидетелем-то меня хоть возьмёшь?
– Да какая разница? Если хочешь…
– Та-а-ак. Так, так, так, – Миша подсел к Славе и обнял его за плечи, – друг, не кисни! Я вот вижу прямо, как ты на глазах меньше становишься, дышишь… дышишь даже не так. Тоска?
– Тоска, Мишка, она самая. Как пережить это? Напьёмся?
– Можем и напиться, но я, брат, вот что тебе скажу – потом ещё хуже будет. Тоска – дело тонкое, и подход к ней нужен соответствующий, аккуратный. Слушай сюда, дядя Миша тебя сейчас научит. Тоска, Слава, так просто не отступит, чем ты её не заливай. Вот тут вот (и Миша похлопал Славу по груди) жить теперь будет, так что выход у тебя один – привыкай. Вот здесь вот она у тебя рану сделает, на душе, прямо и в неё влезет и вот, когда влезет, сильно грызть перестанет и начнёт так только – зудеть, раздражать будет, но привыкнешь. Потом уж можно и напиваться, а до тех пор – терпи.
– Тяжело, Миша, непривычно даже. И не первый раз влюбился ведь, а вот тяжело так ни разу и не было.
– Ну чем тебе помочь, друг?
– Ничем мне, друг, уже не помочь. Эх, когда вот, думал я раньше, любовь придёт, вот это вот «чего же боле», а тут пришло и, Миша, хоть волком вой!
– А ты и повой, чего – Карелия же: где выть-то, как не тут? Смотри вон, смотри – два часа едем и лес один непролазный, а тут, на тебе, два домика стоят! Как они живут-то в них, Слава, ты думал когда-нибудь? У них что, хлеб на деревьях растёт и зубы никогда не болят? И ты думаешь, что они никогда не воют? Да ладно ещё тут, – тут хоть пахнет ещё цивилизацией, а у нас? А у нас-то как они живут и, главное, зачем? А ты говоришь – любовь! Да на фоне такой вечной безнадёги – что твоя любовь, как не комариный писк!
– Ваш чай, молодые люди!
– Быстро вы!
– Стараемся! Сервис же!
– Это был сарказм, женщина! Когда у нас там Петрозаводск, не подскажете?
На вокзале в Петрозаводске Слава с Мишей побежали в буфет – еды с собой Мишина мама вручила полчемодана, но курицы и варёных яиц не хотелось, а хотелось чего-то для души, пива, что ли, или мороженого – поэтому решили сбегать и посмотреть что там к чему.
– Не бузят? – спросила у проводницы её коллега по соседнему, плацкартному, вагону, очевидно любуясь двумя статными офицерами.
– Что ты! Только чай дуют и умные беседы ведут! Даже не пристают.
– А к кому им приставать-то?
– Ой, да иди ты!
– Да что ты, обиделась, что ли?
– Да больно важная ты шишка, чтоб на тебя ещё и обижаться!
– Ну так обиделась?
– Да.
– Ну прости, подруга, с языка сорвалось, уж больно ты важная стоишь, как хозяйка с Медной горы, а не проводница. Захотелось тебя к нам, простым смертным обратно вернуть.
– Привет королевишнам! – мимо прошёл путейный рабочий с молотком. Рабочий был чёрный, как трубочист, дымил «беломориной» в углу рта, шёл вразвалочку, как матрос, и одновременно шаркал ногами, будто шёл на лыжах.
– Хоть кто-то королевишнами ещё называет, да, подруга? Да не дуйся ты, прям обиделась она!
– Да не дуюсь. Так, накатило. Что, хлопнем, как отъедем в царство вечной мерзлоты?
– А то! Кто мы такие, чтоб традиции нарушать. У меня два армянина едут, всё на коньяк зовут, так я с ними и приду. О, глянь, твои офицерики обратно бегут, с мороженым. Детский сад, честное слово.
– Слушай, а у вас было хоть? – Миша доел мороженое первым.
– Что было?
– Ну… ты понимаешь… это самое…
– Это самое – что?
– Ну вот это вот, то самое то!
– Миша, я тут слёзы лью про свою любовь, а ты всё об одном!
– Да как об одном-то? Я же и про любовь спросил и про свадьбу. Это так, ну просто…
– Миша, ну вот всё у тебя к одному сводится! У нас всё не так, как у тебя, понимаешь?
– Нет. Слушай, ну у тебя же нет никого ближе меня. До тошноты вот ты же мне близок, и живём мы вместе, и на лодке, и в общаге, в баню там ходим, из одной кастрюли едим, я для тебя что хошь вот – про всех своих рассказываю…
– Она не такая, Миша!
– А какая? Поперёк у неё? Или ты не проверял? Ну так и скажи, я же что – я же ничего, я вот тоже, знаешь, может, Машу себе такую ищу и каждая из моих может ей оказаться. Мы как сапёры с тобой – неизвестно на каком шаге подорвёмся, просто я более везучий… Ну или ты. Тут сразу и не поймёшь!
– Да ну тебя.
– Дурак, ещё ты забыл добавить.
– Я этого не говорил.
– Ну так было?
– Отстань.
– Не было, значит. Понятно.
– Что тебе понятно, Миша? Такой ты знаток, по «было – не было» определяешь, можно подумать. Эксперт.
– Да если бы, Слава, если бы. Может просто завидую тебе – не думал об этом?
* * *
Первой от Славы пришла телеграмма.
– Пляши, Машка! – встретил их с Егоркой вечером Петрович.
– А можно я? – спросил Егорка.
– Можно и ты, а можете и вместе!
– Петрович, отдай.
– Ты меня глазами этими коровьими не бери – и не такие я видал. Давай, давай!
Петрович помахал телеграммой, и Маша ловко выхватила её из его рук.
– Так, значит, вы со стариками, да?
Он что-то ещё говорил, но Маша не слушала – сняв шапку, села на подставку для обуви и раскрыла листок.
«Письмо выслал тчк пока дойдёт зпт решил телеграммой тчк доехал хорошо зпт люблю зпт скучаю вскл»
Егорка сидел на полу и стягивал бурки. Пальтишко, шапка, шарф и рукавички уже валялись на полу: раздевался Егорка уже сам, но до вешалки не доставал.
– Что там, мама?
– Слава пишет, что доехал хорошо.
– А почему он нам пишет? Мы за него волнуемся?
– Ну… мы же познакомились с ним и… ну… подружились…
– Он папкой моим будет?
– …
– Ну я не против. Он мне понравился.
– И мне, – добавил Петрович, – я тоже за.
– Чтоб он был твоим папкой? – удивился Егорка, – Мама, ну что ты, плачешь, что ли?
А Маша, всплакнув немного на вокзале (думала, что никто не видит), с тех пор держалась. Даже ночью, когда никто не видит и, вроде как, можно было бы (и хотелось), но вот чего реветь? Ну не на войну же проводила, правильно? Расстались, подумаешь. Не навсегда же. Вот если бы навсегда, то тогда можно было бы, а так реветь – только беду кликать. И привыкла уже, настроилась, а тут словно голос его услышала и не удержалась.
– Всё хорошо, Егорка, – она обняла сына и уткнулась носом ему в шею, – всё хорошо, я так просто, устала, сейчас пройдёт.
– Одно слово – бабы! – резюмировал Петрович и принялся развешивать Егоркины вещи.
Первое письмо пришло вскоре за телеграммой. И, когда Маша распечатывала конверт, из него на пол выскользнуло фото. Егорка подхватил его и рассматривал, пока мама читала. На переднем плане были двое мужчин – Слава и ещё один, незнакомый, оба в белых рубашках с погонами (шестнадцать – сосчитал Егорка все звёздочки) стояли, обнявшись, и улыбались в камеру, а сзади, за ними кто-то дурачился и показывал язык, но был он не в фокусе и видно его было плохо.
– А кто это со Славой? – спросил Егорка маму,
Мама глянула мельком (ещё читала письмо):
– Он пишет, что это его друг Миша. Они вместе служат и живут в одной комнате в общежитии – он у него и гостил, когда с нами познакомился. Ты смотри, а они похожи, да?
Они и правда, можно было подумать, что братья: оба высокие, худощавые, с тёмными волосами, блестящими глазами да ещё и одинаковая форма – почти и не различить, если не знать одного из них поближе.
В письме Слава писал, что ужасно скучает и как жаль, что у них нет телефона (на следующий день Маша уговорила Петровича, как ветерана, подать заявку на установку, и заявку приняли, но установили нескоро), так хочется голос её услышать, и кажется, что от этого стало бы легче, а ещё он собрал им посылку из своих запасов и на днях вышлет, и уже ждёт письма от Маши, а его всё нет и нет, но он понимает и не торопит, ясно же, что дела, заботы и жизнь вообще, и надо же отдыхать Маше, но, всё-таки, если она напишет, то будет просто замечательно, а ещё, если это возможно и удобно, может, у неё фото есть, а то он видел, что есть, и хотел было украсть, но потом стало неудобно, а просто попросить забыл, вернее, вспомнил, но было уже поздно. И ещё, конечно, он писал про любовь и про то, как всё-таки ему повезло, что они встретились.
Ну вот чудной, подумала Маша, как бы я тебе написала, если я и адреса твоего не знаю? И села писать ответ. Первое письмо показалось ей скучным, и она его порвала. Во втором, перечитывая, нашла три грамматических ошибки, и одну удалось исправить незаметно, а две другие превратились в помарки, и пришлось всё переписывать, потом, пока переписывала, пришла в голову ещё одна мысль и в итоге ответ её, который она планировала отправить назавтра, растянулся на три дня. Как раз пришла посылка от Славы.
Распечатывали все вместе: Маша, Егорка и Петрович, у которого был гвоздодёр, а потом он и остался – не чужой же.
В посылке были: игрушка для Егорки (набор революционных матросов), стопка шоколадок, несколько банок икры, вяленая вобла (если сами не едите, то отдайте Петровичу, а, если едите, то поделитесь – инструктировала записка, вложенная в посылку), сгущёнка, ещё какие-то консервы и пакет конфет.
– Всё ясно, – сказал Петрович, – подводник он у тебя.
– Откуда тебе это ясно?
– Ну сама на набор посмотри: или подводник, или на складе где приворовывает. Но рожа у него приличная, на крысу не похож. Значит, – подводник. Я тебе говорю.
* * *
– Маша твоя? – Миша заглянул сверху вниз на фото, – дай погляжу.
Слава сидел на кровати и читал письмо. Они только что пришли со службы, и Слава только разулся, снял шинель и расстегнул китель, и уселся читать— ждать больше не было сил. Миша же переоделся, сходил умыться и поставил греться суп на плиту.
– Да она вообще красавица у тебя! – Миша рассматривал фото – Как тебе так подвезло-то? И эти (Миша показал грудь) такие ого!
– Миша! Фу! Дай сюда фото! Одно у тебя на уме, пошляк!
– Вот уж совсем и не одно, но и это – в том числе! А чего сразу пошляк-то, ну ты вот и внимания не обратил на это ни разу, да?
– Ну при чём тут это?
– А что тут причём? Характер у неё золотой? А ты его знаешь, характер тот? Сам-то втрескался за красоту, в том числе, и за сиськи, а пошляк – так Миша! Ну вы подумайте, какие мы все нежные тут, а? Суп-то будешь? Наливать на тебя?
– Наливай, но лучше не на меня, а в тарелку. Что там у нас гороховый брикет опять?
– А ты другого свари, раз тебе брикеты мои не нравятся! Я в него картошки даже накрошил – не суп, а наслаждение!
Ели сначала молча.
– Слушай, а пацан вот с ней – это сын её?
– Ну а кто? Понятное дело, что сын.
– И как ты к этому относишься?
– К чему «к этому», Миша?
– Ну что ребёнок у неё чужой?
– Что значит «чужой»?
– Ну то и значит, Слава, что не твой.
– Подожди, я вот сейчас плохо тебя понимаю, а как я могу к нему относиться?
– Слава, ты не заводись, я тебе сейчас объясню давай: ты можешь на него не обращать внимания, терпеть или, например, попробовать полюбить. Ты же сейчас по уши, это понятно. Но это же ребёнок, а не котёнок, ты же понимаешь, что он навсегда?
– Нет, блядь, Миша, я в детдом его сдать планирую!
– Но на вопрос-то ты мой не ответил, не думал об этом – признайся?
Слава отложил ложку:
– Не думал, да, но и думать не собирался. Он же её ребёнок – так? Так. А значит, если я её люблю, то и ребёнка её люблю, что тут думать? Да и парень он мировой – вот увидишь, вы с ним подружитесь!
– Да мы-то подружимся, в этом я и не сомневаюсь. Я про тебя спрашивал, но теперь спокоен, вижу, что психуешь, значит неравнодушен.
Миша отодвинул тарелку и встал.
– Тарелки тебе мыть! Во-первых, я грел, а во-вторых, морской закон – кто последний, тот и папа!
– Э, а доедать кто будет?
– Дедушка Ленин в обществе чистых тарелок, а я – сыт!
Миша взял с полки книгу и повалился на кровать.
– Тем более, что ты вот с Машей теперь, тебе и посуду мыть в радость, а мне продолжать страдать от одиночества и ждать свою королевну неизвестно сколько! Пожалел бы меня… Друг ещё называется!
* * *
Дальше дни замелькали, как деревья в окне скорого поезда: к концу декабря готовились сдавать последнюю задачу и в феврале идти в автономку, и поэтому дни хоть отличались один от другого, но были так загружены рутиной, что, оглянувшись назад, было их и не различить. В следующий раз Слава с Машей встретились на Новый год.
* * *
Слава прилетел тридцать первого в обед и гордо сообщил, что вырвался на целых три дня и обратно полетит аж третьего с утра.
– На два с половиной выходит! – машинально поправила его Маша.
Она отпросилась с работы, не было сил ждать до вечера.
Шли от метро домой, и Маша обнимала его с одной стороны, а Егорка топал, держась за ручку чемодана, с другой.
– И то хорошо! Мишка выручил – отстоит за меня вахту второго, а то и вовсе на день только получилось бы! Надо, кстати, к маме его съездить, он тут подарки ей передал. А давайте сегодня и съездим?
– Да ты отдохнул бы сначала, поел, в душ сходил.
– В душ можно, да и поесть тоже. А отдыхать от чего мне? Я же педали в самолёте не крутил.
– А в самолёте есть педали? – удивился Егорка.
– А как же. Специальные такие, чтоб люди, которые хотят, могли из самолёта уставшими выходить!
– Шутишь? – не поверил Егорка.
– Шучу, Егорка! А ты Деду Морозу письмо писал?
– Писал.
– Сам прямо?
– Ну нет, мама помогала.
– И что попросил у него?
(Слава уже знал, конечно, но вида не показывал).
– Игру такую с машинкой, которая сама едет, а ты настоящим рулём управляешь!
– Ого! Надо же, до чего прогресс дошёл – и такое бывает?! Вёл ты себя хорошо, маму слушался… Думаю, Дед Мороз тебе пойдёт навстречу!
– Думаешь?
– Практически уверен!
(Слава выслал Маше деньги неделю назад: игра уже была куплена и спрятана).
Слава наскоро сбегал в душ (пока Маша варила яйца для оливье), потом они провели ревизию продуктов, сопоставили их наличие с меню и оказалось, что в наличии есть всё. Не откладывая на вечер, нарезали оливье и, не заправляя, чтоб салат не засопливел, убрали в холодильник. После усадили Петровича резать бутерброды, мазать их маслом и укрывать икрой (смотри, сказала Маша, чтоб красиво было, а то Дед Мороз подарка не принесёт) и отправились втроём к Мишиной маме.
Вилена Тимофеевна жила в Петроградском районе, в доме с чистой парадной, широкими лестничными пролётами в квартире из четырёх комнат, в одной из которых даже был камин. Приходу гостей она обрадовалась ужасно, свёрток с подарками от сына отложила, даже не взглянув, что в нём, и усадила всех пить чай, непременно с её булочками, она вот как знала, что они зайдут и булочки будут готовы буквально через пять минут.
В такой квартире (больше похожей на музей, если смотреть на неё детскими глазами) Егорка был впервые и ему было бы ужасно любопытно походить по комнатам и посмотреть повнимательнее. Наверняка же в этих бесконечных книжных полках от пола до потолка, загадочных шкафчиках, полочках с фарфоровыми статуэтками и в том вот массивном столе с зелёной лампой на нём, – столько всего интересного, что не пересмотришь за всю свою жизнь. От этого он ёрзал на стуле, невнимательно слушал взрослых и всё решал проблему – можно ли ему отправиться всё смотреть? А разрешения спросить стеснялся.
– Егорка, – наконец (как подумал, но не сказал вслух, за что себя потом похвалил Егорка) опомнилась Вилена Тимофеевна, – тебе, наверное, скучно с нами, да? Ты походи тут, посмотри, тут много всего интересного, не стесняйся – трогать и брать можно всё! Желательно, конечно, не бить и не рвать, но это ничего страшного, если случайно выйдет.
Егорка посмотрел на маму, та одобрительно кивнула и дальше, до их ухода, он не принимал участия в скучной взрослой беседе, а устроил себе настоящее приключение.
Мишина мама была очевидно рада гостям и скрывать этого даже не пыталась. Подробно расспросив, как там Миша, и посетовав на то, что никак она не доживёт, видимо, до того момента, когда он осчастливит её внуками и хоть какой-нибудь уже своей женой (да что вы, парировала она Машино робкое замечание, да какая там строгость с моей стороны, хоть бы уже и козу в дом привёл, я и то была бы рада, а уж если настоящую женщину!), искренне поздравляла Славу с Машей, что какие они молодцы и вот она прямо уверенна, что всё у них будет замечательно. И наказала непременно часто бывать у неё в гостях, вот пусть прямо Маша с Егоркой и сама заходит, пока эти оболтусы неизвестно чем там занимаются, вот прямо запросто берёт и заходит. Договорились, Маша? Нет, вот прямо запросто берите и заходите! Раньше у нас гостей знаете сколько тут бывало, пока Мишин папа был жив? О, тут такие вечера закатывали, что вы! Мишин папа был профессором, и известным в определённых кругах, но, только между нами, так и остался деревенским простачком, как и я, впрочем, и нам замечания даже делали, вы не поверите, но мы так любили, когда людей много в доме и помогать любили всем, и как счастливы от этого были! Боже, я как вспомню!
А потом как раз подоспели булочки, и они пили ароматный чай с сухофруктами (Мишин папа в Средней Азии одно время работал, так до сих пор оттуда шлют посылки и шлют) и маковыми булочками прямо из духовки. Спохватились, где Егорка и побежали его искать. А он, разложив на полу старинные карты, водил по ним деревянные кораблики и булочку принесли ему прямо сюда – прерывать своё занятие он отказался хоть ради булочек, хоть ради изюма и кураги.
– Ничего, ничего, я вам с собой дам! Ещё давайте по кружечке, а потом уже пойдёте, я понимаю, что вы торопитесь, ну чуть-чуть ещё, хорошо?
– А у вас один ребёнок? – спросила Маша.
Слава тихонько ткнул её ногой под столом, но не успел.
– Нет, Машенька, старший сын у нас ещё был, Константин, погиб в Афганистане, папа жив ещё был. Как он против был, чтоб Миша в военное училище шёл, вы бы знали! Только на морское и согласился, потому что точно на войну не попадёт. А потом оказалось, что Миша в подводники попал и, может, кто его знает, лучше бы на войну, но папа тогда уже умер и мне одной горевать пришлось. Смирилась как-то, что делать-то? Да, впрочем, давайте не будем об этом, праздник же, да. Мишеньке от меня сможете передать тут кое-что? Вот и славно.
Домой шли со свёртками сухофруктов и передачкой для Миши.
– А она милая у него, да?
– Что ты – золотая женщина вообще.
– Дорогушей меня называла, надо же, меня так последний раз называли… Да никогда не называли, а слово приятное. Хоть и старомодное, но уютное, видимо, смотря кто говорит. Мне понравилось. А у вас что там, опасно, скажи-ка мне, друг мой милый?
– Да прямо там! Нормально у нас, сердце материнское просто, ну ты же понимаешь?
– Не знаю, Слава, не знаю, но как-то тревожно мне стало. Это зря я, да, скажи?
– Ну конечно, Маша, мы же не на войне, в конце концов. Обычные задачи выполняем, всё осторожно и под контролем у нас. Я тебя уверяю, что тебе абсолютно не за что переживать!
– Смотри. Не обмани!
– Я? Миледи, да как возможно даже подумать такое в мою сторону?
Егорка опять засмеялся – никто кроме Славы, пусть и в шутку, не называл его маму такими титулами, хотя мама его, и он был в этом уверен, была такой замечательной, что заслуживала всех титулов, которые только бывают на белом свете. Интересно, подумал он, такой Новый год замечательный и вот, если бы Дед Мороз подарил ему ту игру, то, пожалуй, это был бы лучший Новый год в его жизни.
И жизнь-то у него вся была впереди, а сейчас только маленький отрезочек её он прошёл, но дети не смотрят в будущее и от именно этого, очевидно же, умеют быть счастливыми в настоящем.
* * *
Праздник прошёл хорошо и весело, но до обидного быстро.
Вернувшись от Мишиной мамы, они некоторое время кружились в предновогодней суете: заправляли салаты, нарезали колбасу, варили картошку, снимали жирную плёнку с холодца, красиво выкладывали на стол мандарины и конфеты. Уже в самом конце вспомнили про бутерброды с икрой. Петрович долго и торжественно разворачивал пергаментную бумагу, в которую завернул блюдо с ними, чтоб не заветрились.
– Могло быть и хуже! – констатировала Маша, глядя на ровные строи относительно ровных кусков булки.
– А кому не нравится, тот пусть не ест! – парировал Петрович. – Я уж как-нибудь заставлю себя перешагнуть чувством голода через чувство прекрасного!
– Как вы вообще можете её есть? Она же противная! Мама, а можно мне мандарин?
За стол сели сильно заранее. Петрович и Слава принесли телевизор на кухню и решили, что праздничного концерта вполне достаточно для начала праздника, тем более, что Егорка уже начинал поклёвывать носом и тереть глазки. От ёлки, небольшой, но нарядной и всё равно праздничной и телевизора на табуретке у окна, на кухне совсем закончилось место, и за столом сидели локоть к локтю, дружно, как сказал Слава, а перемены блюд расставили так, чтоб за ними не нужно было вставать, а достаточно было просто протянуть руку. И от этой дружной тесноты, от запахов ёлки и мандаринов, от того, что все смеются и даже Петрович не так много хмурится, Слава объявил, что вот такого вот Нового года у него никогда в жизни и не было и что теперь-то он понимает, отчего все так радуются этому празднику.
– Ты мандарин, что ли, не ел никогда или ёлок не нюхал?
– Петрович, ну он же детдомовский, ну я же тебе говорила!
– А что им, в детдомах мандарины не выдавали?
– Петрович!
– Нет, Маша, погоди, я его понял! Петрович, ты прав! Именно от того, что я встречаю праздник с вами, он для меня такой особенный! Я же вас люблю всех и даже тебя, старый ты пень!
– Престарелый, я попросил бы! До старого мне ещё лет пяток коптить, давайте уже наливать начнём, а? А то вон Егорка скоро все мандарины прикончит и новогодней закуски не останется. Славон, а что ты себе лимонад этот льёшь? Ну я и говорю, что лимонад, от того, что его шампанским назвали, он же достойным напитком не стал!
– Петрович, я без водки сегодня.
– Больной, что ли?
– Нет…
– А что тогда? Да что ты на Машку глазами показываешь? Она тебе не разрешает уже со старшим товарищем водки выпить? Вот, ты подумай, бабская натура – и замуж ещё не вышла, а уже командует!
– Да нет, Петрович, я не хочу. Завтра давай по чуть-чуть, а сегодня… ну мы не виделись давно… понимаешь?
– А-а-а, – Петрович подмигнул Маше, – дошло-о-о-о…
– Только попробуй вслух сказать, – Маша погрозила ему кулаком.
– При дитёнке-то? Ты, мать, чёрную несправедливость свою всю на меня не выливай-то! Оставь и для будущих поколений! Да что ты налил-то мне, Славон, – в глаза капать? Краёв не видишь?
Егорка уснул прямо за столом, Слава отнёс его в комнату, и они с Машей раздели его и уложили в кровать. Вскоре засобирался и Петрович, прихватив с собой недопитую бутылку и, ладно уж, оставив Славе и Маше телевизор, хотя они сказали, что он им категорически не нужен, но Петрович счёл это за неуместное стеснение и проявления интеллигентности в неподходящей обстановке. Переубеждать не стали.
Первым делом, оставшись вдвоём, уложили под ёлкой подарки Егорке и Петровичу (Слава привёз ему две тельняшки – летнюю простую и зимнюю с начёсом). Потом убирались и освобождали проход к ёлке. Немного попрепиравшись, кому первому уходить в ванную, решили, так уж и быть, положить подарки друг другу одновременно и взяли друг с друга слово, что до утра смотреть не станут. А потом захотелось выпить чаю. Даже не чаю, чай был просто поводом, хотелось им позже лечь спать и встречу их, такую короткую, растянуть на подольше – наедине так и не были же за весь день ни разу.
Оказалось, что Слава уже всё распланировал и даже договорился там, у себя на службе, что ему начнут подыскивать квартиру в ближайшее время потому, что вот они сходят в автономку, потом у них отпуск почти до августа и он уже приедет с семьёй и куда их ему селить, правильно? Все согласились и пообещали к августу квартиру добыть, так что всё уже почти готово. Маша слушала и удивлялась тому, что она-то об этом ещё и подумать толком не успела вот таких вот деталей, ну и ладно, и хорошо даже, на то он и мужчина – так же? Она слушала и слушала, иногда вставляла какие-то реплики невпопад, а сама всё смотрела на его губы и думала, ну когда же он её уже поцелует, смотрела на его руки и ждала, когда же он её уже обнимет… А потом… ну будет же что-то потом, куда оно денется? В итоге не выдержала и села Славе на колени, а Слава, оказалось, тоже долго уже ждал, но опять не мог решиться – сказалась разлука.
– Слушай, а как это отпуск у тебя по август? – вспомнила она уже потом, лёжа в средней комнате и далеко за полночь и говорить можно было не стесняясь. Судя по храпу из-за стены, сегодня Петровича они не разбудили, хотя шума наделали больше и даже подломили ножку у стола, но ничего страшного, смеясь, шептал ей Слава, я завтра починю, да конечно, ничего страшного, думала она, целуя его, да пусть хоть пол рухнет и окажутся они у соседей.
– Ну примерно по август, я точно не знаю ещё.
– Ты же говорил, что весной приедешь в отпуск?
– Весной и приеду.
– А что это за отпуска у вас такие?
– Обычные отпуска – месяц в санатории и два потом сам отпуск, но с санатория можно соскочить, так что три месяца и выходит.
– Три месяца?
– Ну да.
– Ничего себе, обычные отпуска! Да вы там вообще, как я погляжу, на шее у трудового народа неплохо устроились – икру вон с шоколадом трескаете, да по три месяца в отпуска ходите!
– Спрашиваешь! И это ты ещё наших продовольственных пайков не видела!
– Ну хорошо, а за что такие барские поблажки?
– Слушай, ну много за что. Лодка подводная, атомная. Север, опять же. Полярная ночь, полярный день, да хватает всякого. Зимой, знаешь, как холодно бывает, что ты! Медведи белые в подъезды заходят лапы на радиаторах погреть, а как ветра задуют, так женщины и дети вообще из домов не выходят!
– Ну так и мы же не на юге живём!
– Ну уж и не на Севере.
– А где?
– На северо-западе же.
– А вы вот прямо на самом Севере?
– Северо-северо-западе. Так точнее. Норд, норд и немного вест, если по-морскому.
– То есть, просто у вас на одно слово «север» в названии больше?
– Ещё полярный круг, не забывай!
– Про медведей соврал-то, да?
– Нет, как можно! Просто чуть-чуть приукрасил. Страшно тебе уже туда ехать? Передумала уже, сознавайся?
– Нет, Вячеслав, не стоит даже раздувать в себе слабый огонёк этой надежды. Мне с тобой не страшно – вези, куда хочешь, раз уж так вот вышло. Я по-прежнему согласна!
– Поцелуешь меня?
– Опять? Вячеслав, пожалейте бедную девушку! У неё утром ребёнок проснётся.
– Ну ещё разик, а ребёнка я возьму на себя, пока бедная девушка будет отсыпаться!
Когда Слава уже крепко спал (сопит, как ребёнок, подумала Маша), она стояла у окна и смотрела в свой маленький узенький дворик. Она любила смотреть на него новогодними ночами – заваленный снегом и расцвеченный огнями гирлянд из окон и просто жёлтыми прямоугольниками света, он никогда в другое время не выглядел таким сказочным. Смотришь на него, и кажется, что вот-вот во двор войдёт трубочист в чёрном цилиндре и с мотком на плече, будет непременно курить и обязательно трубку. Или вбежит дама в вечернем наряде: пышных юбках, собольем пальто и в шляпке, подвязанной лентами – она будет спешить домой с какого-нибудь бала и быстро забежит в парадную, даже не обратив внимания на восхищённого ей трубочиста. Хотя вряд ли дамы света жили в таких домах, но это же сказка, так почему бы и не помечтать, что, может быть, именно она и была бы той дамой. Хотя жизнь на сказку похожа мало, даже на страшную. Нет в жизни той лёгкости, с которой даже самые ужасные вещи случаются в сказках.
* * *
Утром они, естественно, проспали, и Егорка вскочил первым. Даже не заметив, что мамы нет рядом, а, может, и заметив, да не придав этому значения, не одевшись и не умывшись, он побежал к ёлке.
– Ура-а-а-а!!! – именно этот его громкий крик из кухни их и разбудил.
– Блин, Слава, – зашептала Маша, – что делать-то будем?
– Не паниковать, – прошептал в ответ Слава, – будем действовать по обстановке!
– Дядя Петя, дядя Петя, – кричал Егорка в соседней комнате, – смотри, что мне Дед Мороз подарил! Там и тебе он что-то принёс, я видел!
– Егорий, – строго и нарочито громко пробасил Петрович, – а стучаться тебя не учили к посторонним людям?
– Учили, но ты же не посторонний, да и сам говорил, чтоб я, как к себе, сюда ходил!
Петрович громко закашлял – артист из него был аховый, следует заметить.
Маша осторожно выглянула – Егорка стоял в дверях комнаты Петровича и проскочить незаметно не удалось бы.
– Ты это, Егорка, заходи, сейчас же мультики крутят, наверняка, садись вот— смотри и машину свою води.
– А где моя мама? Ты маму мою не видел?
– Ну где, ну в туалет пошла или умываться, дай ты человеку в туалет хоть спокойно сходить.
Маша показала Славе два выставленных вверх больших пальца и шмыгнула в ванную.
– Ну нет, – не сдавался Егорка, – я маму найду сначала!
– Мама, – стучал он через пару секунд в ванную, – ты там?
– Да, Егорка, тут!
– А что ты там делаешь?
– Егорка, ну что делают люди в туалете?
– Писаешь?
– Егорка, неприлично так говорить!
– А почему? Тут же свои все!
– Привет, малыш, – Маша вышла, присела на колено и крепко обняла сына.
– Доброе утро, мама! А угадай, что мне Дед Мороз принёс!
– Даже и не знаю, сынок, что же?
– Сейчас, ну выпусти меня уже, я у дяди Пети в комнате оставил… О, доброе утро, Слава! Ты тоже уже выспался?
– Здесь никто не выспался, кроме тебя, – буркнул Петрович, вынося игрушку из комнаты.
– Смотри, Слава! Смотри, мама!
– Ух ты! – удивились они. – Вот это повезло тебе!
– Маша, а ты поспи ещё ляг, если хочешь. Мы тут с Егоркой разберёмся, да, Егорка?
– Как всё-таки хорошо мне, что я могу и без разрешения лечь поспать! – и Петрович двинулся было обратно к себе.
– Погоди, а мультики! Ты же сам говорил! – и Егорка, отодвинув Петровича, потащил игру в его комнату.
– Вот оно как, значит, за всех тут Петровичу страдать, да?
– Петрович, да что за жизнь без страданий? – Слава приобнял Петровича. – Пошли кофе варить!
– Без страданий нормальная жизнь, Славон, такая обычная, знаешь, нормальная жизнь, слыхал про такую?
– Люди говорили, да, что бывает и такая!
– На меня тоже варите, я умоюсь сейчас и приду…
– Погодь-ка, дай старику сначала коня своего привязать, а то опять в раковину на кухне придётся!
– Петрович, фу!
Все по очереди умылись и, пока пили кофе, сварили кашу Егорке, отнесли есть прямо в комнату к Петровичу. Обычно Маша есть в комнате не разрешала, но праздник же и мультики, опять же, не каждый день показывают. Уже после сообразили, что забыли про свои подарки.
– Ну давай, Петрович, – ты первый!
– Чего это?
– Старикам и детям преференции!
Петрович долго возился с бечёвкой, на своём свёртке, в итоге плюнул и разрезал её ножом, развернул тельняшки:
– Офигеть! Славон, ну ты угодил старику, а! Ну ты посмотри, шельмец какой, – раз и в дамки сразу прошёл! Теперь-то и я за тебя замуж готов!
– Ну уж нет! – засмеялась Маша. – Я первая в очереди на замуж за Славу!
– А как же насчёт преференций старикам, что вы давеча упоминали?
И всем было весело и хорошо, и это утро первого января вспоминали долго потом, когда уже жизни их переменились так, что предположить они вот тогда не могли. Но жизнь не больно-то и спрашивает, когда ей меняться и в какую сторону. Рассыпает обстоятельства, подсовывает случаи и, когда надо, придерживает время, а когда надо – пускает его вскачь, организует встречи и разлуки, случайности подмешивает. А вот спрашивать – забывает.
* * *
До ухода в автономку Слава успел прислать четыре письма и одну посылку. Маша успела ответить только на два. Её, что удивительно, но даже немного начала раздражать необходимость писать, хотелось уже просто ждать Славу дома и готовить ему обед. В последнем Слава писал, что отвечать уже не имеет смысла, он всё равно получить его не успеет и оно вернётся назад.
Первый месяц (февраль) было тоскливо, впрочем, так же, как и на улице и, если бы не Егорка, то Маша вовсе потерялась бы в своих мыслях и том мире, который неожиданно переменился вокруг и стал каким-то тревожным и совсем неласковым, но её. Второй (не принёс весну, как ни надеялись, а, наоборот, заснежил) прошёл быстрее, видимо, сказалась привычка, и в конце его Маша уже могла смеяться (или хотя бы притворяться, что смеётся) и соглашалась хоть иногда бывать в компаниях. Соглашалась, в основном из-за сына – не сидеть же ему всё время дома? Третий оказался самым плохим: Маша считала дни до его конца и не образно, а фактически, не выпуская из рук или с глаз календарей. Сам апрель выдался неласковым: снег то сходил, то возвращался, не успев сойти до конца, и под свежими сугробами жили ледяные корки, а под ними стояла вода, и ноги, как ни старайся, всё время мокли. Задули ветра, совсем февральские, будто не нарезвились тут в феврале и решили заглянуть ещё разок. Маша даже решилась съездить с Егоркой к Мишиной маме, и оказалось, что вместе ждать несколько легче и зря они не сделали этого сразу, с самого начала. Вилена Тимофеевна была внимательна к Маше, радовалась Егорке и корила их за то, что так долго собирались. Они стали бывать у неё чаще – Егорке нравилось обилие интересных вещей, а Маше спокойствие, уверенность и приветливость Мишиной мамы. Они вместе лепили пельмени, стряпали всякую сдобу (Маша заодно и научилась) и много делились друг с другом своими чувствами, переживаниями и ожиданиями от подступающего будущего.
А потом начался четвёртый, май. И уже все ждали лета, но только началась весна и опять голые чёрные деревья и опять холодно и дует, но снега уже не осталось, а грязь после зимы дворники вымести всю не успели. Маша знала, когда он начался, этот май, едва не до минуты, и оказалось, что третий был ещё так себе – не самым плохим. Первые два-три дня даже было весело, на душе отлегло, хотя формальных поводов не было, но сказано же было – три месяца, значит три месяца. А с пятого дня Маша начала волноваться и чувствовать смутную, но настойчивую тревогу, хотя Вилена Тимофеевна её успокаивала и довольно логично объясняла, что даже и скорые поезда опаздывают, а тут подводная лодка! Мало ли там что – задержали или ещё что. И бывало такое не раз, это Маша ждёт первый раз, а она вот пятую автономку уже переживает и ничего вот, привыкла уже. А если что-то случилось бы, то непременно уже сообщили бы об этом (а вы уверены? абсолютно уверена!), уж матерям-то точно. На следующие пару дней Машу ещё хватило, а потом у неё порвались колготки и всё – нервы кончились. Ну вот почему так, когда человек и так весь на нервах и ходит, работает и спит, нося внутри сильно закрученную пружину, у него рвутся прямо посреди рабочего дня эти чёртовы колготки?! И не то, что стрелка поползла, а прямо от бедра и в ботинок.
Успокаивали Машу всем отделом, и даже начальник сам сбегал в медпункт и принёс стакан с накапанным в него корвалолом и долго выяснял, что случилось, кто виноват и кого он должен немедленно покарать, для восстановления вселенской справедливости. Маша говорить не могла – плакать сначала было неудобно, но потом, когда полилось ручьями, стало уже всё равно и как-то легче, что ли. Сотрудницы объяснили начальнику, что Машин жених, офицер-подводник, должен был вернуться из плавания (или как там у них, Маша, они же не плавают, вроде как? Ходьбы?) уже неделю назад, а вот нет, как нет и ни весточки, ни слуху, ни духу. Ни привета, соответственно, ни ответа. Начальник посетовал на то, что при таком богатом выборе вокруг молодых людей порядочных, спокойных и домашних профессий, красивые девушки выбирают себе зачем-то этих непонятных бесшабашных моряков – ни кола, ни двора которые, и какие там у них перспективы? А ещё и гибнут, как мухи и поди ищи его в том солёном море, куда там венок положить… Ну чем вот, Маша, тебе начальник отдела кадров не подошёл, ведь имел на тебя виды, я знаю или вот специалист по гражданской обороне – крайне положительный человек…
Начальника вытолкали из бухгалтерии взашей, Маше сбегали ещё за корвалолом и, когда она немного успокоилась, велели идти домой, но колготки, конечно, надо бы снять – в таких по городу ходить совсем неприлично. Маша не понимала, что ей делать дома, но и сидеть на работе не могла. Поэтому ушла, чтоб просто идти куда-то, не сидеть на месте. Пришла, естественно, в детский сад и, забрав Егорку прямо с тихого часа, решила ехать к Вилене Тимофеевне. Ну и плевать, даже если и надоела ей, но кто сейчас может её лучше понять?
Если даже и надоела (Вилена Тимофеевна категорически это отвергла и даже сказала, что в былые времена могла бы обидеться на Машу за такое предположение), то всё равно Мишина мама этого не покажет и, может, станет легче. Домой сейчас точно ехать нельзя – там в ванной стоит Славина зубная щётка, в шкафу висит один из его галстуков, из починенного им крана течёт вода, а в среднюю комнату хоть и не входи – там и кровать, и стол, и стул, и подоконник… там столько сладких воспоминаний, что хоть бери их ложкой и добавляй в чай вместо мёда или совсем бери и растекайся от безнадёги прямо на её пороге. Петрович, надо отдать ему должное, ведёт себя прилично и, если в первые месяцы подзуживал её, то сейчас ходит молча, проявляет заботу и чуть не ухаживает. Но это не то, что ей сейчас нужно. Совсем не то.
Вилена Тимофеевна усадила Машу в столовой, налила им с Егоркой куриного супа, – нет, никаких возражений, обоим есть и нечего тут. А потом, когда Егорка убежал в комнаты играть, достала из буфета коньяк и разлила по бокалам. Ой, Маша, можно подумать, я тут прямо его люблю, но надо, надо – давай, потихоньку, вот тебе шоколад и пастила (из Узбекистана прислали), настоящая, закусывай. Ну, будем! Ты, думаешь, Маша, я бесчувственная такая, ты вот плачешь, мечешься, и места себе найти не можешь, а я тут супы варю, да коньяки распиваю? Нет, ну не думаешь, конечно, ты сейчас, понятно, вообще думать не можешь, но, если бы могла, то так и думала бы. Да? Ну подумай. Ну вот, видишь. А знаешь почему, Маша? А потому, что ко всему привыкаешь – и ждать привыкаешь, и горевать, и виду не показывать. Вот сын мой Миша и жених твой Слава – представь, в каком они сейчас положении? Мы вот по землице ходим, воздух у нас, люди вокруг и запах весны. А им там каково, представь? А они ведь тоже скучают, ну Мишка мой, не знаю, так-то, как ты точно не убивается, а вот Славу своего представь? А его кто пожалеет? А ещё ему сидеть и сопли вытирать некогда – он же на подводной лодке, Маша, он же за себя и за других людей в ответе. Тут нюни сильно не распустишь. А что, мы с тобой, чем хуже? Наоборот, Маша, мы – лучше, мы сильнее должны быть и показывать им, что сильнее, чтоб спокойнее им было. Давай ещё подолью, слушай, я же в свекрови твои не собираюсь, чего меня стесняться, да и свекровь свою будущую не стесняйся – тоже мне шишка нашлась, свекровь! Как мышь под веником пусть у тебя сидит за то, что ты о сыне её заботиться будешь, а ты будешь, я же вижу. Да знаю я, что Слава сирота, так, рассуждаю, ты на старуху пьяную не смотри. Пей давай. И ночевать у меня оставайтесь, нечего вам переться по слякоти этой, – вон хоромы какие, оставайтесь и всё тут!
А за окнами правда зарядил дождь, почти ливень, и чёрный вечер и пузырящиеся водой дороги не звали к себе совсем: Маша с Егоркой остались, чему Егорка очень обрадовался и спросил, а можно ли, тогда уж, раз такой праздник, растопить камин и посмотреть на огонь.
– Да, – задумчиво ответила Вилена Тимофеевна, – а ведь он когда-то работал…
– Егорка, – вступилась Маша, – может это неудобно, так наглеть в гостях!
– Ничего-ничего! Как говорит мой Миша, неудобно спать на потолке, а наглеть в гостях – это вполне естественно! Ну не в пустыне же мы, в конце концов! Вызовем пожарных, если что пойдёт не так!
Дрова (не много, но достаточно для эстетических целей) нашлись в кладовке, для чего пришлось выпотрошить её всю, до дна и, пока Вилена Тимофеевна вспоминала, как там и что работает в этом камине, Егорка старательно помогал маме складывать вещи обратно. Сначала что-то пошло не так и комната начала наполняться сизым дымом, и Мишина мама сообразила, что надо же было сначала газету поджечь и тягу проверить, но чего уж теперь. Егорку выгнали в самую дальнюю комнату (чтоб не затоптали пожарные), открыли там ему форточку и усадили рассматривать картинки в справочнике по ядерной физике реакторов (эта комната была Мишиной). Но потом то ли от того, что дымоход прочистился, то ли от манипуляций с задвижками, всё заработало как надо – огонь весело трещал в топке, а дым со свистом улетал в трубу. Женщины подтащили к камину два огромных кресла, вызволили Егорку из плена ядерной физики и, наварив какао, уселись у камина.
– Нет, это не дело! – сразу же встрепенулась Вилена Тимофеевна, – вас надо переодеть по-домашнему!
И убежала искать подходящие вещи. Пока переодевались, – Маша в старый, но почти новый («Я пополнела после первых родов и почти не носила его») халат Мишиной мамы, а Егорка в тельняшку Миши, – пока смеялись друг над другом и рассаживались обратно (Маша и Вилена Тимофеевна на кресла, а Егорка на толстую шкуру «наверное медведя» у камина), какао совсем остыл, но дела до этого не было никому: в тёмной квартире так уютно плясали отсветы языков пламени и так успокаивающе трещали дрова, что было и так хорошо. Долго сидели молча и думали каждый о своём, только Егорка, периодически прерывал молчание вопросами: «Мама, а почему дрова трещат?»; «Мама, а почему дым уходит вверх?»; «Мама, а в камине можно готовить еду?»; «Мама, а раньше так и готовили еду?»; «Правда? А торты они как жарили?» и только когда дрова уже почти догорели и стал слышен дождь за окном, Вилена Тимофеевна наклонилась к Маше и тихонько сказала:
– Видишь, Маша, и с этим можно жить. И с этим можно смеяться. Не отчаивайся – всё как-то разрешается, и это тоже разрешится. Жизнь-то продолжается, будь она неладна!
* * *
В автономку уходили в полной темноте. Сильно морозило, и вода дымила густым белым паром. Командир висел на мостике и следил за клубами этого пара, лизавшими борт, – узкость проходил старпом. Белое, густое облако, укрывшее воду, жило своей жизнью, и лодка, как виделось командиру, была в этом симбиозе воды и тумана лишним, инородным организмом, суть которого сводилась к одному – нарушать равновесие. А люди так и вообще были здесь инопланетянами. Вот интересно, думал командир, если опустить руку в этот туман, утянет там тебя вниз кто или нет? Или просто руку откусит? Но вслух сказал:
– А лисички взяли спички, к морю синему пошли…
– Что, тащ командир? – старпом проходил узкость самостоятельно в первый раз и несколько волновался.
– Хорошо идёшь, говорю! – командир пускать в свои мечты не хотел никого, в мечтах ему уютнее было одному. – Давай, главное, не волнуйся!
Не волновался почти никто. Наоборот, даже были рады, что береговая суета на время отступила и теперь можно было просто… нет, не отдыхать, но делать то, что тебе нравится, к чему ты привык и от чего устаёшь много меньше, чем от бесконечных проверок, быта и всего остального, что обычные люди называют жизнью. Жизнь экипажа не вошла ещё в привычное и ожидаемое русло долгого похода, и те, кто шёл впервые, ещё куда-то пытались бежать, что-то делать и не могли сидеть на месте от ожидания чего-то такого, чего ни у кого больше не бывает и этим потом можно будет гордиться и рассказывать детям и внукам. А Слава грустил.
Автономка, особенно если она не первая, протекает всегда одинаково (за исключением незначительных нюансов) и времени погрустить предоставляет с избытком. Сутки твои расписаны фактически по минутам, но в голову к тебе всё равно никто не заглядывает и грусти себе на здоровье, когда хочешь: хочешь на обеде, хочешь на вахте. Или вместо сна. А если сильно хочешь, то во время занятий и уходом за матчастью тоже не возбраняется. И Слава грустил, хотя ему было легче, чем Маше. И вовсе не оттого, что был он мужчиной, а потому что обстановка вокруг него не менялась никак вообще: одни и те же люди, одни и те же слова, одна и та же погода, одни и те же маршруты, одни и те же действия. Только давление и меняется. И то: от сих до сих и примерно в одно и то же время суток. То есть ждать тебе абсолютно нечего и никакой случай не нарисует тебе Машу вот за тем вот углом или вот в этом вот месте. Чуда Славе было ждать неоткуда. Болели бы зубы, так и то было бы веселей. Да хоть бы уж и авария какая – всё было бы живее, но ничего необычного не случилось, за исключением пары банальных пожаров. Но пожары Слава видел и участвовал в их ликвидации не раз, и теперь, с улыбкой уже вспоминал свой первый, когда он лейтенантом, зная свои действия наизусть, растерялся от того, как всё быстро заволокло дымом, и стоял, хлопал глазами, пока не получил оплеуху от начхима «Включись в ПДА, шляпа!» и потом, от оплеухи этой ожил, очнулся и отработал всё без сучка и задоринки. А начхим потом извинялся: ну ты, мол, это, зла не держи, сам понимаешь, на каждого доброго слова не напасёшься, а оплеух – пожалуйста, бездонная бочка.
К концу третьего месяца Слава перестал спать, что тоже, в общем, не удивительно. И совсем раскис от мечтаний о скорой встрече и будущей, непременно счастливой, долгой и полной приятностей жизни. Но на раскисшего Славу внимания никто не обращал – мало кто не раскисает сидя девяносто суток в железной бочке под водой. Виду-то не показывают, бодрятся, но – раскисают.
Когда задержали возвращение в базу, вот тогда и стало уже почти что невмоготу. Тут же был составлен план: вот тогда приходим, вот срываюсь и лечу (Миша опять тянет вахту за себя и за друга, но Миша даже за услугу это не считал: надо, значит надо), вот он Ленинград, а вот они – поцелуи, тут же лечу назад, но уже легче, потому что до отпуска будет рукой подать, а потом и вот она, – мечта и прямо в руках. На сколько задержали – никто не знал. Подумали где-то в верхах: раз лодка всё равно чухает домой через полигоны боевой подготовки, то отчего бы ей заодно не пообеспечивать задач какому-нибудь крейсеру или эсминцу – ну девяносто дней в море, ну девяносто пять, ну не умрут же они там, правильно? А тут вон как ловко всё выйдет по планам, а ловкий план, это как козырный туз – бьёт любую карту в колоде. Правда, в колодах тех бывают и джокеры, но авося с небосем никто не отменял – не было таких директив в военно-морском флоте, да и по сей день нет. И в этот раз они сработали: проболтавшись лишнюю неделю, лодка вернулась в базу и Слава тут же умчался в аэропорт.
– Миша, слушай, выручи, брат, тут дело такое…
– Слава, да лети уже, к чему слова, взгляды вот эти мокрые и вздохи, друг я тебе или труба на бане? Не надо объяснений, – не порти ими наших высоких отношений!
Миша был хорошим другом. Хотя «хороший друг» – это оксюморон, но больших эмоций на Мишу Слава выделить не мог, не сейчас, – чувства и мысли его быстрее самолёта летели в Ленинград.
* * *
После визита к Вилене Тимофеевне, Маше несколько полегчало и тоска её, острая и яркая, перешла в хроническую стадию, когда рук ещё высоко не поднять, но и истерики уже не случаются. Идя в детский сад за Егоркой, она даже почти радовалась тому, что погода явно налаживается, и бывает солнышко, и почки на деревьях, до того просто набухшие, дружно распускаются, и пахнет в воздухе свежей листвой и теплом, которого ещё нет по-настоящему, но вот запах уже есть.
– Угадай кто, – закрывая ей глаза ладонями, Слава говорил неестественно высоко, но Маша его узнала сразу же, даже до того, как успела испугаться, что кто-то хватает её сзади.
– Агния Барто! – и Маша ткнула Славу локтем, от чего тот даже ойкнул, не ожидая такой реакции.
Маша обернулась и строго спросила:
– Почему не дал телеграмму?
– Мы вчера пришли только, Маша! Что меня, что телеграмму получила бы ты только сегодня, так я подумал, что лучше уж меня!
– Подумал он…
Больше на строгости или ещё что Машу не хватило: она крепко обняла Славу, повиснув у него на шее, и зашептала: «Ну дурак же, ну какой дурак!». А потом они целовались и над ними смеялись дети, которые гуляли во дворе детского сада и дразнили их «тили-тили тестом, женихом и невестой». И они так вот стояли бы неизвестно сколько, если бы Егорка не прибежал к забору и не спросил, собираются ли они забирать своего ребёнка, или бросят тут умирать от старости, а себе заведут нового.
Домой Егорка ехал у Славы на шее, а Маша шла под руку, крепко прижавшись, и думалось ей, что счастливее, чем сейчас, быть уже нельзя и, возможно, и стоило пострадать эти несколько месяцев, которые казались ей теперь не такими уж и долгими и невыносимыми, чтоб вот сейчас идти вот так вот рядом и непонятно отчего не растаять совсем в радужную лужицу покоя и умиротворённости.
Дома встречал Петрович (которому Слава заранее занёс вещи) в новой тельняшке, которую он не надевал с самого Нового года, а берёг для особого случая.
– Вещи разложены, командир, – доложил он, – ужин на плите, осталось только разогреть!
– Вольно! Благодарю за службу! – рассмеялся Слава, а за ним и Егорка.
И тут измученные нервы окончательно расслабились и оставили Машу в покое, от чего она погрузилась в какой-то туман и смотрела на всё, что происходит как со стороны, вроде как и не принимая участия. Вернее, участие принимая, но никак совсем не реагируя. Как в тумане они что-то делали, чем-то ужинали и как-то играли с Егоркой, как в тумане потом, когда Егорка уже спал, целовались на кухне и оба, не сговариваясь, хотели оттянуть тот момент, когда окажутся в постели, обоим хотелось подольше понежиться в предвкушении и насладиться ожиданием, хотя пальцы и так уже дрожали и дышать было тяжело и казалось бы, – ну чего тут ещё ждать?
– Как это ты завтра улетаешь? – первый раз вынырнула из своего тумана Маша уже сильно под утро.
– Я же не в отпуске ещё, Маша, нам надо в море сходить денька на три, покатать нового командующего, потом лодку сдать и потом уже – отпуск. Но это не долго уже, скоро совсем.
– Ты когда-нибудь будешь моим?
– Я и так твой.
– Нет, так, чтобы совсем. Чтоб не ждать вовсе, не переживать и точно знать, что ты сегодня придёшь домой и мы будем, не знаю, спорить кому мыть посуду и я смогу отругать тебя за то, что ты не вынес мусор, а не трястись тут, как осиновый лист, от страха, что никогда тебя больше не увижу?
– Когда-нибудь, Маша, когда-нибудь. Я же не всю жизнь на флоте служить буду – старость же у нас впереди, не забывай! Тогда-то, эх, развернёшься!
– Чёрт бы побрал этот твой флот! Отчего ты не пошёл в бухгалтеры?
– От скуки чтоб не умереть, Маша. И оттого ещё, что не все юноши, когда растут, мечтают стать бухгалтерами, а вот о море почти все мечтают. Но только самые смелые, такие, как я, не боятся за мечтами своими идти.
– Каков смельчак, вы посмотрите! – на Машу накатывала грусть, но виду она показывать не хотела и старательно её отгоняла.
– Маша. Ты бы видела, сколько я тогда на параде, когда мы познакомились, топтался вокруг вас! Я даже уходил один раз, – всё никак не мог решиться заговорить, а потом пробивался к вам обратно сквозь толпу и паниковал, что потерял окончательно. Вся спина мокрая была, все заготовки в голове перебирал, ну, знаешь, как обычно, когда мужчины знакомятся. Миша же у нас специалист, вот уж кто на дам, как на амбразуру, он-то, на моём месте ни страха, ни сомнений не испытывал бы!
– Ловелас он у вас?
– Слушай, да нет. Просто женщин любит и ищет свою, да вот найти никак не может.
– А ты?
– А что я?
– Долго искал?
– Всю жизнь, так получается! А какая теперь разница? В общем, главное же, что нашёл!
– А ты в этом уверен, Слава?
– Что начинается сейчас?
– Сомнения, Слава. Я же женщина, и не одна, мне свойственно сомневаться.
– Уверен, Маша. А ты?
– Я-то давно да.
– Ну и хорошо же?
– Лучше не бывает, – вздохнула Маша и уткнулась носом в Славину шею, вдыхая его тепло и наслаждаясь последними минутами этой встречи. На миг ей пришло в голову, что вот сейчас ей нужно непременно запомнить его запах. И если потом она сможет воспроизводить в своей памяти, то всё у них будет хорошо.
В ту ночь они так и не уснули: было так хорошо, что просто проспать это время казалось преступлением, за которым потом последует и наказание, а зачем оно им? Наказание бывает и без преступления, но кто об этом думает то того, как оно случается? Под утро Маша перешла к Егорке (ну когда-то же он должен понять, что мы спим вместе, но сейчас не рановато ли?), а Слава сел у них в комнате под лампой с зелёным колпаком тихонько почитать книгу.
Потом утро и тот кусочек дня, который был отведён Славе, промелькнули, как один вдох. Вот Маша лежит рядом в Егоркой и делает вид, что спит, смотрит на Славу и думает: сделать ли ему замечание, что он сутулится, когда сидит, или пусть он думает, что она спит и расслабится? А вот они все провожают его в прихожей (Слава был категорически против того, чтоб они ехали в аэропорт) и Слава всё не может уйти, а Маша всё не может отпустить его, а Петрович с Егоркой смеются над ними, что они как дети и каждый из них для другого как любимая игрушка, с которой невозможно расстаться. Сказал это Петрович, и ему смешно, что он давно уже это всё пережил и знает, что кончается всё, и это тоже кончится, – исключений не бывает, а они, глупые, думают, что вот именно для них и сделают исключения те силы, которые вращают Вселенную. А Егорке смешно оттого, что он представляет то свою маму, то Славу, которого не понятно пора ли уже называть папой, в виде игрушек.
Проводив Славу, Маша сначала немножечко поплакала, а потом они с Егоркой съездили к Вилене Тимофеевне рассказать, что всё в порядке, они вернулись и все живы-здоровы, а телеграмму Миша не шлёт потому, что отпустил слетать в Ленинград Славу и опять несёт вахту за себя и за друга. Сейчас они ещё раз сходят в море, совсем не надолго, и потом сразу приедут в отпуск: от санатория оба как-то там отвертелись.
– Не знаю, как твой, а мой явно опять наплёл, что мама у него больная и надо срочно к ней лететь. А как прилетит, так опять маму ту видеть будет только урывками, бегая за всеми подряд ленинградскими юбками. А я тебе говорила, что всё будет хорошо? – вслух сказала Мишина мама, но было видно, что и у неё отлегло. Егорке, может и нет, а Маша точно заметила это облегчение, которое сама испытала – вот буквально вчера.
* * *
Уже и в те края заглянула весна. Пока ещё не пришла, но один свой глаз уже выставила: солнце, до того не показывавшееся из-за горизонта, висело теперь в небе почти круглые сутки и, не сняв ещё зимней одежды, люди уже надели солнцезащитные очки – отражаясь от белого снега, уже начавшего покрываться корочкой льда, солнце слепило нещадно. Сугробы медленно и неохотно начинали таять, становиться приземистыми и не такими пышными, и на вершинах сопок кое-где уже торчали на свободе острые каменные пики и мрачно-зелёные проплешины земли.
На выход в море передавали очень неблагоприятный прогноз погоды. Но для чего военные моряки вообще и подводники в частности принимают те прогнозы – абсолютно не понятно. Будто, знаете, объявили дождь и крейсер в море не вышел, смешно же? Корабли у нас делают крепкие, а уж людей-то и подавно: никакому ветру и не снилось.
Вернуться из моря планировали до девятого мая – нового командующего покатать было нужно, но не до такой же степени, чтоб пропускать праздник, причём, что морякам, что самому командующему. Командир был явно недоволен этим неожиданно образовавшимся выходом в море и даже пробовал протестовать, но его успокоили. Мол, чего там, выйдете на пару-тройку деньков, макнётесь и обратно в базу – новый командующий за медалью и с гордым званием уже настоящего подводника, а вы – в отпуск. Вы же только из автономки, поймите, у вас всё отработано. И матчасть проверена, и люди обучены. Ну кому нам ещё доверить нашего нового адмирала? Так что, если хотите, то мы сделаем вид, что вас спрашиваем и трепетно ожидаем вашего согласия. А так-то всё решено и выход завтра в семнадцать ноль-ноль по большой воде. Вот вам новая посуда, кстати, адмирал-то не местный, а с другого флота, не ударять же в грязь лицом, правильно? Вернёте потом, как придёте, тут всё под счёт.




















