Читать онлайн Динка. Динка прощается с детством (сборник) бесплатно
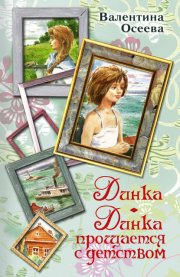
© В. А. Осеева, наследники, 2016
© ООО «Издательство АСТ», 2016
* * *
Динка
Посвящаю эту книгу матери и сестре Анжеле
Часть I
Глава 1
Неизвестный человек
Ночью раздался негромкий стук в калитку. В маленькой даче было тихо и темно. Стук повторился громче, настойчивей.
Марина подняла голову с подушки, прислушалась, потом вскочила и, протянув в темноте руки, добралась до постели сестры.
– Катя! Проснись! Кто-то стучит…
– Кто стучит?
Младшая сестра мгновенно открыла глаза и потянулась за спичками.
– Подожди! Не зажигай! Слушай…
Мимо террасы прошлепали чьи-то осторожные шаги, заскрипели ступеньки.
– Это я… Лина, – послышался тихий шепот за дверью.
Катя сняла крючок. В комнату протиснулась кухарка Лина. Заспанное лицо ее было встревожено.
– Стучит ктой-то… Открывать али нет?
– Калитка на замке. Вот ключ. Постарайся задержать. Если обыск, скажи, что пойдешь за ключом, – быстро зашептала Катя, накидывая халат.
Лина понятливо кивнула головой.
– Подождите… Надо позвать Никича, – торопливо сказала Марина, – я сейчас пойду…
– Никича нет, он в городе, – остановила ее Катя.
– Вчерась еще укатил, – прошептала Лина.
– Ах да! – вспомнила Марина.
Все трое смолкли. В тишине было слышно, как кто-то пробует открыть калитку.
– Подождите волноваться. Может, это просто воры? – глядя в темноту широко раскрытыми глазами, сказала Катя.
Лина поспешно приперла табуреткой дверь.
– Коли воры, так запастись бы чем, попужать их…
У калитки снова раздался нетерпеливый громкий стук.
– Воры не стучат… Лина, иди задержи, – шепнула Марина.
Лина широко перекрестилась и вышла. Катя присела на корточки около печки и встряхнула коробок спичек…
– Марина, где Сашино письмо? Давай скорей!.. Ах, какая ты неосторожная!
– У меня только одно… единственное… И в нем ничего такого нет, – доставая из-под подушки письмо и пряча его на груди, взволнованно сказала Марина. – Тут нет никаких адресов… Подождем Лину!
– Глупости… Все равно это надо сделать… В прошлый раз тебя спрашивали, переписываешься ли ты с мужем! Зачем же так рисковать… Давай скорей…
Марина молча протянула ей конверт… В печке вспыхнул огонек и осветил склоненные головы сестер, смешивая темные пряди Катиных кудрей и светлые косы Марины.
– Это письмо мне и детям… – с глубокой грустью прошептала старшая сестра.
Катя схватила ее за руку:
– Тише… Идет кто-то…
Ступеньки снова заскрипели.
– Не пужайтесь. Это дворник с городской хватеры. Самое кличет, – сообщила Лина.
– Меня? А что ему нужно? Это Герасим? Так зови его сюда!
– Звала. Не идет. Чтоб и знатья, говорит, не было, что я приезжал.
– Странно… Что могло случиться? Ну, я иду, Катя. Не разбудите детей, потише.
Марина накинула платок и вышла. Катя сунула ей в руку ключ. Большая черная тень неподвижно стояла под забором.
– Герасим! – тихонько окликнула Марина. – Вы один?
– Один, один. Не извольте сомневаться, – так же тихо ответил дворник. – Мне только слово сказать.
– Так пойдемте в кухню. Там никого нет.
Марина открыла калитку.
Герасим оглянулся и боком пролез на дорожку.
– Не опоздать бы мне на пароход. Один только ночной идет… Да дело-то в двух словах… может, нестоящее, а упредить надо.
– Пойдемте, пойдемте.
Стараясь не скрипеть гравием на дорожке, Марина пошла вперед, Герасим покорно следовал за ней.
В летней кухне царил мягкий полумрак. Перед иконой Богородицы теплилась лампадка, у стены белела неубранная постель. Под окном стоял чисто выскобленный стол, на плите поблескивали сложенные горкой кастрюли.
Марина подвинула Герасиму табуретку:
– Садитесь…
– Так вот, может, нестоящее дело… – повторил Герасим, застеснявшись. – Может, я зря вас потревожил, конечно…
– Ничего, ничего… Рассказывайте, – попросила Марина, присаживаясь на Линину постель.
Герасим осторожно подвинул к ней табуретку; в сумраке забелел ворот его рубашки, блеснули глаза.
– Вчерась человек какой-то к хозяину приходил… Спрашивал, куда госпожа Арсеньева с детьми выехала. А хозяин меня позвал. Ты, говорит, помогал им, вещи носил: куда они выехали? А я гляжу – человек незнакомый, ну и не стал признаваться. Не знаю, говорю, куда выехали, я только до извозчика провожал. А вы, говорю, кто им будете? А я, грит, ихний знакомый. И сует мне гривенник. Нет, говорю, не знаю. А сам гляжу: человек чужой, – шепотом рассказывает Герасим.
– А какой он на вид? И что еще спрашивал?
– Одет ничего, чисто. Под барина вроде. Так, молодой, неказистенький человечишка. Спрашивал еще: бывает ли кто на городской квартире? Живет ли здесь кто? Нет, говорю, никто не бывает и никто не живет. Заперли да уехали… А хозяин и говорит: госпожа, говорит, Арсеньева в газете служит, можете, говорит, туда зайти, я адрес дам. А он стоит, мнется и адреса не спрашивает. Ну, постоял и пошел. А хозяин мне и говорит: «Беда с неблагонадежными квартирантами – и выгонять их жалко, и неприятности от полиции наживешь».
Марина провела рукой по волосам:
– Значит, так и ушел он?
– Ушел… А я думаю себе: неспроста это, надо бы упредить на всякий случай… Тут недалеко, съезжу. Да в темноте-то проблуждал маленько. Перевозил я вещи днем, а тут ночью пришлось искать… Ну, я пойду.
– Куда вы?! Опять заблудитесь. Переночуйте у нас, а рассветет – и поедете! – уговаривала Марина.
– Нет, уж я пойду. В крайности пересижу около пристани. Теперь такие дела творятся, что не приведи бог! В девятьсот седьмом году почитай полны тюрьмы насовали и теперь все еще опасаются чего-то… – Голова Герасима с сильным запахом лампадного масла приблизилась к Марине. – Сказывали, весной побег из тюрьмы готовился… Политические, что ли, своих выручать хотели, только один среди них иудой затесался. Вот он в самый момент возьми да и выдай всю компанию… Ну и хватают сейчас охапками кто прав, кто виноват…
– Это в городе? На нашей улице? – спросила Марина.
– Не… на нашей улице тихо. Жители все почтенные, комнат не сдают… Это вон на окраинах, где общежития али комнатушки какие сдаются. Рабочий люд ютится да студенты по большей части. У нас без подозрения. Но, между прочим, дворников тоже проверяют в полиции… Я пойду, – заторопился Герасим. – Счастливо оставаться. Простите за беспокойство.
Марина крепко пожала ему руку.
– Герасим, у вас же денег нет, вы потратились на проезд. Я сейчас вам принесу, – заторопилась она.
– Ну чего там… Я вами не обижен. Бывайте здоровы!
Герасим ушел. Марина закрыла калитку и пошла в дом. Катя и Лина нетерпеливо ждали ее, тревожась и недоумевая.
Марина передала свой разговор с Герасимом. Сидя втроем в темной комнате, они озабоченно припоминали всех, кто мог их разыскивать.
– Если знакомый, то завтра явится в редакцию. Только какой же знакомый пойдет расспрашивать хозяина? – пожала плечами Катя.
– Может, это меня мой Силантий разыскивает? – предположила Лина.
Силантий, брат Лины, служил в солдатах, и вот уже несколько лет она все ждала его в отпуск.
– Силантий в солдатском. Это кто-то другой, – вздохнула Марина.
– Ну что сейчас гадать! Утро вечера мудренее. Ложитесь-ка лучше спать, – зевая, сказала Лина и, осторожно прикрыв за собой дверь, ушла.
Сестры не спали долго. Увидев в окно светлеющий сад, Катя всполошилась:
– Ложись скорей спать, Мара! Тебе осталось два часа каких-нибудь поспать… Ложись…
– Сейчас… Только посмотрю, не проснулись ли дети, – сказала Марина, приоткрывая дверь в соседнюю комнату.
– К Алине не ходи, разбудишь, – предупредила Катя.
Младшие дети крепко спали, разметавшись во сне. Восьмилетняя Динка сладко причмокивала, кольца жестких волос закрывали ей лоб, лезли на щеки… Одеяло ее сползло на пол, крепкие загорелые ноги и руки темнели на простыне… Мышка была старше на полтора года, но она выглядела хрупкой по сравнению с крепышом Динкой. Мышка спала так тихо, что худенькое личико ее с прозрачными веками казалось неживым.
Мать наклонилась над ней, поймала чуть слышное дыхание. Потом подняла Динкино одеяло, повесила его на спинку кровати, повернула Динку на бок, отвела от ее лица волосы и вышла. К старшей девочке она не зашла. Алина спала в отдельной маленькой комнате. Мать постояла у ее двери, послушала и, успокоившись, вернулась к себе.
Катя сидела на полу у печки и обрезала ножницами обгоревшие края уцелевшего клочка письма. Руки ее были в золе, лоб и нос испачканы сажей.
– На́ тебе… – сказала она с неожиданной кроткой улыбкой и протянула сестре обрезанный краешек бумаги.
Губы Марины дрогнули, она поднесла к окну бумажку и прочла единственные уцелевшие слова: «…родная моя…».
– Ну, ложись теперь, – примиряюще сказала Катя.
Марина разделась и легла, отвернувшись лицом к стене.
Глава 2
Дорогое письмо
Катя завела будильник, не раздеваясь, бросилась на свою постель и мгновенно заснула. Марина не спала. Она не думала о сообщении Герасима. Мало ли кто мог спрашивать их адрес… Возможно, какой-нибудь знакомый проездом был в Самаре и хотел повидаться… Может быть, на службе лежит для нее записка… Все это пустяки. Марине было жаль письма, которое сожгла Катя. Письма от Арсеньева приходили редко. Зная, что полиция тщательно разыскивает его следы, письма свои к жене Арсеньев передавал только через верных людей. В этих редких длинных посланиях он подробно расспрашивал о детях, о ней, Марине, рассказывал о своей жизни, о встречах с новыми и старыми товарищами. Читая эти письма, Марина радовалась, что муж по-прежнему полон энергии и в среде новых товарищей не чувствует себя одиноким. Последнее письмо пришло весной. В теплых, грустных строчках его чувствовалась глубокая душевная тоска по семье. Марина так часто читала и перечитывала это письмо, что помнила наизусть каждое слово, она никогда не решилась бы уничтожить его, если бы не Катя… «…Дети растут и забывают отца, – горько жаловался жене Арсеньев. – А мне так часто видятся они все трое… И кажется, что я снова на элеваторе, что вот сейчас я приду домой…»
Марина закрывает глаза, и ей представляется элеватор, где ее муж служит инспектором. Большой казенный дом… Засыпанный зерном двор… Высокое крыльцо… Марина слышит знакомые шаги… В передней хлопает дверь, и Саша в пыльной кожаной тужурке заглядывает в комнату.
«А где мои три чижика?» – громко спрашивает он, сбрасывая тужурку и шумно плескаясь у рукомойника.
Алина бросается в детскую, выводит из уголка тихонькую Мышку, тащит упирающуюся Динку:
«Вот они, папа!»
«А где тот чижик, который называется Орало-мучеником?» – шумит отец.
Динка тогда была еще совсем маленькая и только училась ходить. Падая, она поднимала такой рев, что сбегался весь дом. Отец называл ее Орало-мучеником.
«…Я не могу простить себе, что сердился на Динку. Помнишь, как она являлась ко мне в кабинет?..» – пишет в этом письме Арсеньев.
Марине снова представляется элеватор… Она видит большую холодную гостиную и в конце ее дверь в кабинет… Динку интересовал отцовский кабинет… Добравшись до закрытой двери, она начинала стучать в нее обоими кулачками. Отец не мог ее увести и беспомощно кричал:
«Марочка! Мара! Возьми ее!»
Марина прибегала из кухни или из детской. Большой широкоплечий мужчина с сердитым и расстроенным лицом стоял перед ребенком, не умея с ним справиться.
«Она опять пришла. Я же занят», – серьезно объяснил он. «Ну-ну!» – кричала на него Динка, порываясь в кабинет. И лицо у нее было такое же сердитое, как у отца.
«Ну подумай! Не хочет уходить! Я ее просил, просил!..»
«Конечно, Саша был очень занят, – серьезно думает Марина. – Ведь тогда уже шел девятьсот четвертый год… В доме печатались прокламации, секретные брошюры… Нужно было помочь Косте в типографии, распределить и разослать хранившуюся в доме нелегальную литературу… А вечерами Саша выступал на рабочих собраниях… И в кабинете у него постоянно собирались рабочие… Конечно, Динка мешала… Но иногда он сам звал ее…» Марина вспоминает, как, заслышав маленькие шажки, отец открывал дверь. Динка останавливалась на пороге и, склонив голову набок, спрашивала:
«Папа?»
Отец присаживался на корточки, гладил стриженую головенку.
«Я, папа, папа…» – Динка прятала за спину руки и важно удалялась.
«Опять приходила?» – удивлялась Марина.
«Ничего. Она ненадолго. Больше для проверки», – смеялся отец.
Короткая летняя ночь идет к концу. В комнате уже почти светло. Марина с упреком смотрит на спящую сестру. Зачем Катя сожгла это письмо? Конечно, когда-нибудь его все равно надо было сжечь, Марина сама обещала сделать это при первой тревоге. Но зачем она сделала это сегодня?.. Катя просто напугана обысками…
В 1907 году, после отъезда Арсеньева, полиция долго не оставляла в покое его семью. Только последние два года уже не было обысков, и дело Арсеньева как будто заглохло. Марина снова вспоминает письмо мужа. «…Я часто думаю об Алине. Ты пишешь, что она чувствует себя почти взрослой и не терпит никаких возражений… А помнишь, какая это была спокойная, послушная девочка? Как она старалась помочь нам в самое горячее время… Ведь в девятьсот пятом году ей было уже семь лет… Она многое понимала…»
Перед глазами Марины встает шумный элеваторский дом… В кабинете мужа бурно обсуждаются события, открыто собираются товарищи, между ними приезжие из Москвы, из Питера… В угловой комнате, где раньше была воскресная школа, наспех сдвинуты скамейки, там останавливаются приезжие, многие из них скрываются от полиции… Марина достает им паспорта, деньги, налаживает связи с нужными людьми… Дом Арсеньевых уже хорошо известен полиции, но царское правительство растерянно… Всюду проходят рабочие забастовки, на улицах громко звучат запрещенные песни…
«Полиция парализована! Около дома ни одного сыщика!» – возбужденно говорит Саша, возвращаясь с митинга.
В эти дни дети целиком предоставлены Кате, но Алина не хочет сидеть в детской. Ее тоненькая фигурка то и дело мелькает между взрослыми.
«Алина, что ты тут делаешь?»
«Я помогаю папе».
«Алина! – кричит отец. – Убери у меня на столе! Открой форточки в кабинете! Мы скоро придем! Алина, где моя шапка?»
Алина находит шапку, прибирает на отцовском столе, открывает форточки, наливает в графин воду…
«…Детство Алины кончилось на элеваторе, – с грустью пишет отец. – Но все-таки оно было, коротенькое счастливое детство, кусочек его достался и Мышке, а вот Динка совсем не знает отца… Да и я не могу теперь узнать моей выросшей дочки… «Здравствуй, папа! – пишет она в коротенькой записке. – Не слушай никого про меня. Я хорошая девочка, и я исправлюсь к твоему приезду…»
Будильник неожиданно и резко звонит. Катя вскакивает и машет руками:
– Закрой его, закрой!.. Ты давно встала?
– Не знаю, – говорит Марина. – Эта ночь была такая короткая…
Катя смотрит на бледное лицо и синие тени под глазами сестры.
– Ты не спала? Ты думала о том человеке? – быстро спрашивает она.
– О каком? – искренне удивляется Марина. – О том, что спрашивал наш адрес? Нет, я не думала о нем… Сегодня узнаю в редакции… Может, приходил кто-нибудь из знакомых…
– Но ведь надо быть дураком… – резко говорит Катя и, взглянув на часы, быстро перебивает себя: – Одевайся! Уже половина седьмого. Опоздаешь!
Глава 3
Тетка и племянница
Марина уезжает рано. Катя, раздраженная ночным происшествием, нервничает. Сдвинув у переносья темные брови, она мрачно смотрит на мир своими изумрудно-зелеными русалочьими глазами и мысленно клянет того «неизвестного человека», который спрашивал у хозяина их адрес, ругает себя и сестру за ночную панику, сердится на Марину за то, что она не спала и теперь, наверное, еле-еле сидит на службе, сердится на Мышку за то, что она плохо ест, а больше всего на Динку, которая, как нарочно, с самого утра шумно носится по саду и устраивает всякие шалости. А сейчас она уже вертится около стола, чтобы схватить горбушку хлеба и поскорей исчезнуть из дома…
Обычно Катя бывает рада, когда Динка убегает гулять, но сегодня она хочет наказать ее за утренние проделки.
– Не тронь хлеб. Скоро будет завтрак, – сурово говорит она и прячет тарелку с хлебом в буфет.
Динка убегает в комнату и, присаживаясь на пол, сбрасывает с ног сандалии: она всегда ходит босиком, считая, что всякая обувь тянет ее книзу.
– Ты никуда не пойдешь, – строго говорит Катя, входя в комнату и закрывая за собой дверь.
Динка вскидывает на нее удивленные глаза:
– Почему не пойду?
– Потому что ты слишком много безобразничала сегодня! И вообще, что это за беготня такая? Не успели мы приехать, как ты обегала всю Барбашину Поляну! Тебя видели на Учительских дачах, везде! – с возмущением заканчивает тетка.
Кате двадцать два года. Она вместе со старшей сестрой воспитывает ее девочек. Она очень редко делает замечания Мышке, потому что Мышка уступчивая и послушная девочка; Катя почти никогда не вступает в спор с Алиной, потому что Алина очень обижается; зато с младшей, упрямой и своевольной Динкой, ей приходится постоянно пререкаться из-за всякого пустяка. Из-за Динки у Кати часто возникают споры с сестрой.
«Боюсь, Катя, что ты придираешься к ней по мелочам», – недовольно замечает Марина.
«Ну конечно! – сердится Катя. – Ты уезжаешь на службу и не видишь, что вытворяет эта девчонка! Тебе все кажется мелочью, а попробуй-ка посиди тут целый день со всеми тремя – тогда узнаешь!»
«Да я и так все знаю, но по тому, что ты мне рассказываешь, я часто вижу, что, наряду с каким-нибудь серьезным проступком, ты придираешься к мелочам… Ну зачем это, Катя? Не дергай ее по пустякам, лучше строго спрашивай за какой-нибудь серьезный проступок».
«Ах, оставь, пожалуйста! Это очень легко говорить. Как это – строго спрашивать? Что я могу с ней сделать? Ведь она даже не выслушивает до конца, когда я говорю с ней. Нет уж, спрашивай сама! Мне надоели эти вечные пререкания! Хорошо еще, что она целый день бегает где-то…»
«Где же она бегает?»
«По каким-нибудь дачам, по просекам… Почем я знаю, где она бегает! Не могу же я бросить все и бежать за ней! Ты просто бог знает чего требуешь от меня, Марина!»
Марина с тревогой смотрит на сестру, брови ее хмуро сдвигаются, у губ появляется глубокая морщинка.
«Конечно, я понимаю, что тебе легче, когда она уходит из дома. Но мало ли, что может случиться? Ведь были же случаи, когда она приходила с разбитым носом…» – глубоко вздыхая, говорит она.
«Подумаешь – с разбитым носом! Как будто она не может и дома разбить свой нос!»
«Конечно, может… Она сказала тогда, что зацепилась за пенек и упала… – задумчиво говорит мать. – А может, она и подралась с кем-нибудь?»
«Не беспокойся, пожалуйста! Она себя в обиду не даст, это не Мышка. И правды от нее не узнаешь, потому что она врет на каждом шагу. Тебе скажет одно, мне – другое, а Лине – третье».
«Но что же вынуждает ее врать?»
«Ах, скажите пожалуйста, «вынуждает»! Ты просто всеми силами стараешься ее выгородить. А кто ее вынуждает сочинять целые истории, выдавая их за правду?»
«Ну, это не вранье, а фантазия… Дети часто любят что-нибудь сочинять…»
Катя безнадежно машет рукой. Она всегда торопится закончить спор, когда видит, что щеки сестры начинают розоветь от волнения. «К чему еще заводить эти споры? – думает с досадой Катя. – Надо самой найти хоть какое-нибудь наказание для девчонки!»
Сегодня она решила оставить Динку без прогулки и, глядя в упрямые глаза племянницы, решительно повторила:
– Ты никуда не пойдешь, потому что не умеешь себя вести! И гулять, как приличные дети, ты тоже не умеешь! Тебя видели на берегу, на пристани, на пятой просеке…
Динка молчит, но щеки ее краснеют и глаза делаются злыми.
– Везде, везде тебя видели! – с негодованием восклицает тетка.
– А почему меня нельзя видеть? – сердито спрашивает Динка.
– Не притворяйся, пожалуйста! Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю! Одним словом, я запрещаю тебе выходить за калитку, поняла?
Катя берет с полки книгу и уходит на террасу. Спор окончен. Динка остается одна. Теперь уже некому кричать, доказывать, не на кого смотреть исподлобья колючими злыми глазами. И уйти тоже нельзя.
Если она уйдет, Катя скажет маме, что Динка надерзила ей, не послушалась и ушла. И еще всякие сегодняшние провинности расскажет Катя, а мама приедет усталая, она не успеет даже снять свою шляпку, как на нее обрушится целая куча неприятностей. Если же послушаться и никуда не уйти, то Катя хоть и расскажет про нее маме, но тогда только про утренние проделки, и вообще она будет говорить совсем другим голосом.
Динка стоит посреди комнаты и не знает, на что решиться.
Мышка осторожно просовывает в дверь свою голову. Прямые белые волосы ее рассыпаются по плечам, серые глазки смотрят озабоченно. У Мышки нежный, тоненький голосок и подвижный носик, которым она очень хорошо чует всякие неприятности. Она входит бочком и старается не скрипеть дверью, потому что Катя запретила ей утешать сестренку.
«Пусть посидит одна и подумает о себе, – сказала Катя и, жалея Мышку, добавила: – Не беспокойся, она не плачет, а злится!»
Но Мышка все-таки пошла. Когда сестренка злится, она делается такая красная, всех отталкивает, всех ненавидит, а сама такая несчастная…
– Динка… – шепотом окликает Мышка. – Пойдем играть?
– Не хочу! – топает ногой Динка. – Я хочу гулять!
– Мы пойдем и гулять. И купаться пойдем с Катей, только после завтрака. А сейчас мы можем поиграть во что-нибудь, или я расскажу тебе сказку про принцессу Лабам, – заглядывая сестренке в глаза, предлагает Мышка.
– Не нужна мне никакая Лабам!.. Я все равно уйду! Пусть жалуется! Пусти меня!
Динка отталкивает сестру и бежит на террасу. Там, умерив шаг, она проходит мимо Кати, спускается по ступенькам в сад, идет по усыпанной песком дорожке и останавливается у калитки. Решимость снова покидает ее. Катя молчит, она больше не скажет ей ни слова, она оставит всякие объяснения до мамы…
Динка вспоминает мамино лицо, грустные вопросительные глаза… Когда мама волнуется, у нее всегда начинает биться на виске синяя жилка.
«Нет, не пойду. Буду весь день стоять тут», – решает Динка и, прижавшись лбом к зеленым дощечкам, смотрит на дорогу.
На дороге лежит мягкая теплая пыль, так приятно шлепать по ней босыми ногами. Еще приятно бегать по густой и низкой траве, она стелется по земле, как пушистое одеяло, а на просеках стоят черные пни; там плохо бегать, но зато можно увидеть зеленых ящериц. Они такие хорошенькие и быстрые. Только их нельзя ловить – они очень пугаются и бросают свои хвостики. Это, наверное, очень больно и неудобно: кто привык жить с хвостом, тому тяжело его бросать… И куда они убегают без хвостов? Может быть, к Волге? В воде лучше всего заживают всякие царапины. Окунешься в воду – и все пройдет!
Динка тоскливо смотрит на кусты, на деревья, на убегающую вбок тропинку… Солнце поднялось уже высоко. Хорошо сейчас на Волге! Спустишься с обрыва на берег – там песок и камни. Когда солнце сильно печет, камни делаются такие горячие, что по ним можно только прыгать с одного на другой – и скорей к воде. А черные ужи ничего не боятся, они просто валяются на горячем песке, им хочется хорошенько согреться на солнышке. И купаться они любят… Только очень медленно везутся по песку. Динка часто помогает им добраться до воды. Тяжелющие они, неудобные какие-то… Но зато добрые, совсем не кусаются.
«Уйти бы», – думает Динка, но не уходит. С террасы слышится голос Кати:
– Дина, иди завтракать!
На столе звенят чашки, тарелки. Но Динка не смотрит туда и не отвечает. Ей ничего не надо, ей только бы уйти…
На террасе слышен негромкий разговор. Завтрак кончается. Солнце начинает припекать сильнее, а Динка все стоит, не желая возвращаться и не решаясь уйти.
Она стоит так долго, что всем в доме делается не по себе.
В летней кухне возится Лина. Она шлепает на доску тесто и, налегая на него сильными руками, взглядывает в окно.
«Стоит… битый час стоит», – сокрушенно вздыхая, думает она.
Круглое лицо ее с ямочками на щеках омрачается. Ночной приезд дворника, о котором она боязливо думает все утро, вылетает из ее головы. Сочувствие к Динке все сильней охватывает жалостливое сердце Лины.
«Ножки-то небось подгибаются… И головочку солнышко печет, – расстроенно думает она, все чаще взглядывая в окно. – Катя не мать, у ней душа не болит».
Но Лина не хочет поддаваться жалости. Хотя она и вынянчила Динку на своих руках, а тоже понимает, что девчонка растет сорвиголова.
«Утресь Алиночке досадила и с теткой горланила. Да еще у Мышки все сливки вылакала. Беда с ей! – Вспоминая о сливках, Лина не может удержаться от улыбки, и симпатии ее снова перекидываются на сторону Динки. – Тоже ведь дите… Сливочек-то хочется попробовать… Много она понимает, кто больной, кто здоровый…»
Лина в сердцах налегает на тесто. Мучная пыль оседает на ее пушистых бровях, сердце окончательно растравляется жалостью. И, взглянув еще раз в окно, она бежит отыскивать Катю. Катя сидит на ступеньке террасы с двумя старшими племянницами и громко, как-то чересчур громко и весело, читает им «Приключения Тома Сойера». Но девочки слушают невнимательно – их беспокоит младшая сестра.
– Катя, можно я позову Динку? – прерывая чтение, спрашивает Мышка.
– Не надо. Постоит, постоит и придет сама. – Катя хочет выдержать характер.
– Но Динка не придет сама, – огорченно вздыхает Мышка.
– Конечно, сама она не придет, – подтверждает и Алина. – Пусть Мышка позовет ее, Катя!
– Я пойду, Катя, ладно? – вскакивает Мышка.
– Ну хорошо. Пойди и скажи этой противной девчонке, что я читаю вам «Тома Сойера». Пусть идет слушать, – смягчается Катя.
Мышка бежит к калитке и, замедлив шаги, тихонько приближается к сестре:
– Диночка! Пойдем домой! Катя будет читать нам «Тома Сойера».
– Пусть она подавится своим «Томом Сойером»! – грубо отвечает Динка.
Мышка растерянно отступает, моргает короткими ресницами.
– Ой… Как тебе не стыдно так говорить! Если Катя подавится «Томом Сойером»…
– Уйди! – сердито прерывает ее Динка и снова утыкается лицом в калитку. – Не хочу я ни с кем говорить! Я скоро умру…
– Как?.. Почему ты умрешь? – заикаясь от волнения, спрашивает Мышка.
– Потому что у меня сердце лопнет от злости! Смотри, я уже сделалась больной.
Динка поворачивает к сестре свое лицо. Она действительно чувствует, что умирает. Горькая обида и жалость к себе отражаются в ее глазах, нижняя губа тихо опускается, щеки вытягиваются. Мышка бросается к ней, обхватывает ее обеими руками, тоненький голосок ее дрожит от огорчения:
– А мама?.. Что скажет мама?..
Динка глубоко вздыхает, губы ее шевелятся, слова застревают в горле:
– Мама скажет: а где же моя третья дочка? У меня было три, а тут только две…
Глаза Мышки наполняются слезами.
– Тут только две дочки, а у меня было три… скажет мама, – тоскливым шепотом повторяет Динка.
– Не говори так… – жалобно просит ее Мышка. – Зачем ты все это придумываешь?
– Мышка! – раздается с террасы голос Кати.
Динка мгновенно приходит в себя и хватает сестру за руку:
– Вытри глаза, а то Катя скажет, что я тебя обидела! Ты всегда подводишь меня!
– Как я тебя подвожу? Ты сама… – шмыгая носом, защищается Мышка.
– Нет, не сама! Зачем ты мне утром сливки дала попробовать? «Попробуй, попробуй, два глоточка»! – сварливо передразнивает сестру Динка.
– Так я же не знала, что ты всю чашку выпьешь, – морщась, оправдывается Мышка.
– «Не знала»! Ты никогда ничего не знаешь, а у меня во рту такой вкус, что если мне попадет что-нибудь, так я уже все целиком проглатываю!
– Мышка! – настойчиво зовет Катя.
– Иду! – откликается Мышка и тянет сестру за руку. – Пойдем, ну пойдем же!
– Нет! – вырывает свою руку Динка.
Мышка возвращается одна.
– Динка не идет, Катя.
– Ну и пусть стоит до приезда мамы! – с досадой отвечает тетка.
Чтение «Тома Сойера» прекращается. Алина берет книгу и уходит к себе в комнату.
– Я сейчас дочитаю три страницы и сама позову Динку, – говорит она, уходя.
– Катя! – запыхавшись, говорит Лина и, вытирая фартуком перепачканное мукой лицо, присаживается на нижнюю ступеньку. – Это что же ты, Катерина, делаешь, а? Поставила девчонку у калитки, и стоит она у тебя как пугало огородное битых два часа! Никакие нервы не выдержат, право слово! – сердито выговаривает она Кате.
– Да не ставила я ее! Она из упрямства стоит, да еще хочет показать всем, какая она несчастная!
– Да уж чего тут показывать! Постой-ка два часа безо всяких делов да на своих ногах! Ой, да как же это ты надумала, Катя!
– Да ничего я не надумала! Я только запретила ей идти гулять! – окончательно сердится Катя.
– «Запретила»… Гляди-ко! Так она тебя и послушает! Ишь стоит перемогается. Головочкой своей измысляет чтой-то. Ножкой об ножку постукивает… – приподымаясь на верхнюю ступеньку и глядя на сиротливую фигурку у калитки, говорит Лина. – Пойдет, беспременно пойдет! – с уверенностью добавляет она и, присаживаясь около Кати, шумно вздыхает: – Ох, и что ж это за разнесчастный день нынче! Не успел петух пропеть, как все напасти на нас свалились… Тот стучит, а тот и вовсе, как покойник, в калитку лезет…
– Что такое? – удивленно спрашивает Катя и поспешно отсылает Мышку: – Пойди займись чем-нибудь.
Мышка неохотно идет в комнату.
– Что ты говоришь, Лина? Я не понимаю…
– А что тут понимать?.. Не первый раз… – Лина придвигается ближе и, понизив голос, рассказывает: – Никич-то наш… опять костюм пропил! Еще поперед Герасима заявился… Уж я против ночи не стала говорить вам…
– Откуда же он заявился?
– Известно откуда. Може, и впрямь в городе был, только похоже, что где-нибудь тут, на пристани. И весь, весь до ниточки расторговался… Да не поздно пришел, чуть-чуть так темнело еще. Вы на террасе чай пили, а Динка по саду бегала…
– Но Динка ничего не сказала, – удивленно прошептала Катя.
– Да разве Динка скажет? Она и ко мне-то ластилась, чтобы я молчала… Ну, я вчера-то смолчала, а нынче уж невмоготу…
– Действительно, несчастье какое-то! – расстроенно говорит Катя.
– Кругом несчастье… что на даче, что в городе, везде нам клин! – горестно подтверждает Лина и еще ближе придвигается к Кате. – Ведь вот я все думаю… Кто же это к хозяину-то наведывался? Уж не сыщик ли какой? Так он у меня в глазах и стоит, так и стоит…
– Глупости! – нетерпеливо обрывает ее Катя. – Вот Марина приедет и скажет. Может, кто-нибудь к ней на службу заходил…
– Катя! Ушла! Ушла! – радостно кричит Мышка, выбегая из комнаты. – Я в окно смотрела! Ушла! Убежала Динка гулять!
– Ну, вот те и все! – подымаясь, говорит Лина. – Улетела птичка в далеки края!
Глава 4
Макака
Важно и неторопливо течет Волга. Большая река такая тихая и ласковая сегодня, что, кажется, можно лечь на ее теплую воду, положить голову на волну и закрыть глаза. Волга будет плыть да плыть вместе с тобой мимо обрывистых берегов, мимо пристаней, мимо кудрявых лесистых гор, далеко-далеко… Повернет направо, повернет налево. Куда плывешь, Волга? А куда тебе, девочка, нужно? Неведомо куда нужно Динке…
Она сидит на обрыве, свесив вниз ноги. Под обрывом каменистый берег, у берега плещется желтенькая волжская водичка… А подальше вода глубокая, темная, но это не везде, есть такие места посредине реки, где из-под воды вдруг выходит остров-коса… Ударит над Волгой гроза, блеснет молния и усеет косу чертовыми пальцами. Надо эти пальцы собрать и зарыть на Лысой горе. А самой притаиться и ждать. Как наступит полночь, прилетит черт за своими пальцами. Вот тогда проси у него один глаз. Разозлится черт, не будет давать свой глаз, а ты пальцы ему не давай. Загудит-забушует Волга, брызнет с неба молния, пора черту свои пальцы на косу бросать, а пальцев-то у него нет! И отдаст он тебе свой огненный глаз, вденешь ты его в колечко и носи всегда при себе. Как захочет кто тебя обидеть, поверни колечко, мигни на обидчика чертовым глазом, и пропал тот человек, как не был…
Плывут по Волге баржи, перегоняют их пароходы, около пристани стоит пароход «Надежда». Это дальний пароход, он всегда долго стоит, нагружается. По сходням бегают грузчики с тяжелыми ящиками. Иногда ящик больше человека, а лежит у человека на спине! Тяжело это. А вон идет пароход «Гоголь». Динка вскакивает и машет ему, как старому знакомому. Это мамин пароход. Он каждый день возит маму с Барбашиной Поляны в Самару. Мама ездит туда на службу. Динка тоже ездила на этом «Гоголе» с мамой. Она все бегала по палубе, а потом спустилась в трюм. И в машинное отделение тоже зашла. Там железная решетка, а внизу машина и треск такой, что Динка даже не слышала, как ее выгоняли оттуда, пока один матрос не взял ее за руку и не вывел к лесенке, а там она уже сама полезла наверх и нашла маму. На этом пароходе они с мамой пили чай из волжской воды. Если набросать в Волгу много сахару, такой же чай получится.
Динка сидит на обрыве и мечтает. Вот бежит маленький пароходик. Такой маленький, а тащит на буксире две огромные баржи, груженные тесом. Не хочется пароходику тащить эти баржи. В самом деле, кому это интересно? Бежит, бежит бедный пароходик и все рассказывает, как ему тяжело, как надоело. И сердится он: «Чук-чук-тра-та-та! Чук-чук-чук-тра-та-та… Оторвусь-убегу! Оторвусь-убегу!» А вон еще одна баржа стоит около берега, прямо против Динки. Она давно уже стоит, никуда не плывет. Посредине палубы у нее маленький домик, а около домика ходит какой-то мальчик. Вот он сел на канат и ест горбушку хлеба. Динке тоже хочется есть, она отрывается от своих мыслей и вспоминает о доме. Ничего даже не поела она там сегодня. Только успела выпить сливки у Мышки, как начались всякие неприятности сначала из-за сливок, потом из-за Алины, а потом из-за вчерашних и позавчерашних проделок. Так что поесть уже ничего не пришлось.
А солнце так печет в спину между лопатками, что хочется нырнуть на самое дно Волги и сидеть там, не вылезая. Но перед Динкой еще целый день! До приезда мамы можно двадцать раз искупаться. Динка не боится воды – на ней волшебный лифчик. С виду это самый обыкновенный лифчик, который застегивается сзади на пуговицы, но зато изнутри лифчик подшит пробковым поясом. Это сделала мама, когда учила Динку плавать. Она сама надела на Динку пробковый лифчик и при этом сказала: «Не бойся ничего, помни, что на тебе волшебный лифчик и что в нем ты никогда не утонешь».
Динка перестала бояться и быстро научилась плавать. Она плавала и на боку, и на спине, и собакой, и лягушкой, и саженками, а иногда, чтобы проверить волшебную силу лифчика, она заплывала подальше от берега и пробовала там нырять, но лифчик всегда выносил ее на поверхность. Динку тянет купаться, но не всем еще насладилась она на обрыве, можно еще влезть на широкий пень и сказать оттуда какое-нибудь стихотворение. Слова летят далеко-далеко над Волгой.
Динка влезает на пень и, выставив вперед босую ногу, декламирует свое любимое стихотворение:
- Был суров король дон Педро,
- Трепетал его народ,
- А придворные дрожали, –
- Только усом поведет…
И вот этот суровый король дон Педро скачет на охоту вместе со своими вельможами, и ему говорят, что:
- Чудо-мальчик где-то здесь
- Живет в горах,
- Купидон в широкой шляпе,
- С козьим мехом на плечах…
Суровый король велит позвать к нему необыкновенного мальчика и задает ему три вопроса:
- «Сколько капель в синем море,
- Сосчитай-ка да скажи!»
Динка изображает попеременно то сурового короля дона Педро, то чудесного пастушка. Король у нее представлен с сильно выпяченной нижней губой и вытаращенными глазами, для чудо-мальчика Динка изо всех сил укорачивает нижнюю губу, голову откидывает назад и чуть-чуть щурит глаза:
- «Я сочту, – ответил мальчик, –
- Счет не долог, не тяжел.
- Но пока считать я буду,
- Прикажи, чтоб дождь не шел!»
На берегу раздаются мальчишеские голоса:
– Не пускай, не пускай его, Трошка! Он хочет улизнуть в воду!
Динка мгновенно забывает короля дона Педро и подскакивает к краю обрыва. На берегу двое мальчишек преследуют ужа. Уж ползет к воде, а они забрасывают его песком и мелкими камушками.
– Эй, вы! Не бейте его! – свешиваясь с обрыва, кричит Динка. – Не бейте, чертовские дураки!
Тонкий длинноногий мальчишка поднимает голову и подпрыгивает в восторге:
– Макака! Трошка, смотри! Макака! – указывая пальцем на Динку, кричит он своему товарищу.
– Макака! Макака! – подхватывает неуклюжий Трошка и тоже гогочет от удовольствия.
– Вы сами макаки! – бесится Динка.
Этих мальчишек она хорошо знает. Тонконогий Минька – сын кассира на пристани. У Миньки плоское лицо с приплюснутым носом и заячья губа. Другой, неуклюжий, приземистый мальчик, – сын булочницы.
У Трошки сытое румяное лицо, ленивая походка и крепкие кулаки. Это Динкины враги. Они всегда дразнят ее, а один раз так избили, что она пришла домой с распухшим носом и не знала, что сказать. Динка долго помнит обиды и часто перед сном мечтает проснуться утром с отросшими за ночь богатырскими кулаками и побить сразу обоих мальчишек. Но это только мечта, а на самом деле Динка боится своих обидчиков и избегает встречи с ними.
– Вот мы тебе покажем дураков! Только сунься на берег! – угрожают мальчишки.
– Дураки, дураки, у вас руки коротки! – надрывается Динка, чувствуя себя в безопасности.
– А мы сейчас этого ужа до смерти забьем!.. Трошка, бери камень побольше! – издевается Минька.
– Не смейте! – кричит Динка.
Трошка, ухмыляясь, поднимает увесистый камень:
– По чем его бить, Минька: по голове али по хвосту?
У Динки темнеет в глазах.
– Не бей, Трошка, не бей! – отчаянно кричит она и, хватаясь за корни деревьев, торчащие из откоса, стремительно спускается вниз.
Ноги привычно нащупывают опору, руки ловко и быстро цепляются за сухие мохнатые корни, на берег сыплются комки глины и сухой песок. Динка не боится спускаться с крутого откоса, она уже давно освоила этот кратчайший путь, а сейчас страх за ужа и ярость удесятеряют ее ловкость.
– Эй, Макака, Макака! – в восторге прыгают мальчишки. – Африканская шимпанзе!
В конце спуска больше нет корней. Динка камушком падает на песок и секунду лежит неподвижно.
– Трошка, гляди! Убилась! – трусливо кричит Минька, отбегая в сторону.
Трошка лениво направляется к Динке:
– Эй, ты! Чего лежишь?
Динка вскакивает на ноги и, пользуясь их замешательством, мчится к ужу. Черное длинное тело ужа, как тяжелый канат, тащится за ней по песку. Уж вертит головой и выскальзывает из рук.
– Иди в воду! Иди в воду! – отчаянно подгоняет его Динка.
– Не трожь! – грозно орет Трошка, подбегая к берегу. С другой стороны мчится к воде тонконогий Минька.
– Дай ей по башке! Дай ей! – истошно орет он, размахивая руками. – Отыми ужа! Отыми, Трошка!
Но Динка уже стоит по щиколотку в воде.
– Уплыл!.. – злорадно кричит она, отступая от берега.
Минька хватает горсть мокрого песку и швыряет ей в голову. Трошка, шлепая по воде, пытается достать ее кулаком, но Динка увертывается и отбегает еще дальше. Вдогонку ей летят мелкие камни и песок, они рассыпаются вокруг, как большой дождь… Но дно уже ускользает из-под ног Динки, и, оглянувшись на берег, девочка бросается вплавь. Мокрое платье, как пузырь, лепится к ней и стесняет ее движения, но волшебный лифчик легко держит ее на поверхности. Буйная веселость охватывает Динку; вытащив из воды руку, она показывает мальчишкам кулак. Мальчик с баржи тоже грозится кулаком и что-то кричит не то ей, не то Миньке и Трошке. Но Динке не страшно. «Пусть хоть все трое догоняют – я все равно уплыву!» – веселится она.
– Эй, ты, повертай назад! Мы тебя не тронем! – стоя по колени в воде, кричит ей Трошка.
– Плыви назад! Не тронем! – машет рукой Минька.
– Плыви назад! – как эхо, доносится с баржи.
Берег уходит все дальше и дальше… «Может, и правда вернуться?» – думает Динка. Но гребет и гребет, не чувствуя страха.
– Утопнешь, дура! – изо всех сил орет Трошка.
Но Динка снова показывает ему кулак.
С пристани доносится гудок парохода… Куда он идет? Если мимо, то от него побегут большие волны. Динка пугается и поворачивает назад. На берегу останавливаются люди. Минька и Трошка что-то объясняют им, показывая на девочку.
– Пароход! Пароход! – кричит мальчик с баржи.
Посредине реки с длинным протяжным гудком проплывает пароход. Динка торопится. «Сейчас будут волны… Сейчас будут волны…» – зажмуриваясь, думает она. С берега ей машут руками и что-то кричат. Динка гребет изо всех сил. Первая большая волна поднимает ее вверх и, опрокинув навзничь, бросает вниз. Динка заглатывает воду, теряет из виду берег, но в памяти ее звучат слова мамы: «Не бойся ничего, на тебе волшебный лифчик…» Динка поворачивается, вскидывает голову и снова видит берег… Теперь он кажется ближе, она выплевывает изо рта воду, жадно хватает воздух.
С баржи, подняв вверх руки и сложив вместе обе ладони, бросается в воду мальчик. Наклонив вниз голову, он плывет крупными саженками наперерез Динке… Динка видит его уже почти рядом…
«Топить будет», – с ужасом думает она и шарахается в сторону.
– Не бойся, не бойся! – кричит ей незнакомый чужой голос. Новая волна тащит Динку вниз и накрывает с головой. Чья-то рука больно вцепляется в волосы и сильным рывком поднимает захлебнувшуюся девочку над водой… На один короткий миг Динка видит бледное мокрое лицо мальчика с баржи. Она хочет ударить его, вырваться, закричать, но вода залепила ей рот и нос, ей нечем дышать… Лицо мальчика то исчезает, то снова появляется рядом. Синие губы его шевелятся:
– Не бойся… Не бойся…
Громадная пенистая волна накрывает их обоих.
– Лодку! Эй, лодку! – кричат на берегу.
Из-за баржи выплывает рыбацкий челнок. Седой старик молча налегает на весла. Белобрысый паренек нетерпеливо вертится на корме…
– Не видать что-то, Митрич. Греби скореича… Эй, эй! – поравнявшись с баржей, кричит он. – Эй, хозяин!
Из домика на барже выходит бородатый человек в плисовой поддевке и высоких сапогах.
– Ленька твой тонет, слышь, хозяин! – приподнявшись в лодке и указывая на реку, кричит парнишка.
Хозяин подходит к самому краю баржи и, приложив к уху ладонь, спрашивает:
– Чево гукаешь?
– Ленька тонет! – уже издалека кричит ему парень, сбрасывая рубашку.
Хозяин глядит по направлению лодки и смачно плюет за борт.
– Ах ты, гнида паршивая… – бормочет он, торопясь на берег.
А в темной воде, то появляясь, то исчезая, барахтаются двое детей: мальчик – постарше, девочка – помладше.
Глава 5
Утопленница
Изо рта Динки льется вода, из груди вырывается громкий плач.
– Ну, оживела теперь! – весело говорит белобрысый паренек.
– Чья такая? – сочувственно спрашивает простоволосая женщина.
– Да, видать, с дачи. Мало ли их тут понаехало, – отвечает ей товарка.
– Да… река, она шутить не любит, – глядя на девочку, глубокомысленно бросает седой рыбак.
– И ведь скажи, куда заплыла-то! Чего ее занесло? – удивляются собравшиеся на берегу.
– А я тута недалечко белье полоскала. Слышу, ребята шумят: девчонка топнет! Батюшки, думаю, не моя ли? И, как была, подхватилась, бегу, ног не чую! Ведь вот тоже цельный день в воде торчит, хоть говори, хоть не говори… Ну, думаю, убью, на месте убью, коль моя! – тараторит какая-то женщина. – Ведь мне за ней приглядывать некогда… Я внаймах живу! – Она глубоко вздыхает и, взглянув на Динку, машет рукой: – Слава богу, не моя!
Девочка сидит на песке в мокром платье, с волос ее стекает вода, в ушах стоит шум. Она разбита, уничтожена, побеждена самым позорным образом, ее тащили за волосы, топили, как щенка. Она боится поднять голову, открыть глаза. Голоса взрослых долетают до нее откуда-то издалека, она не слушает и не понимает, о чем они говорят.
– Вот ты баешь: не моя – и слава богу! А что твоя, что чужая – все едино живая душа. Ведь это когда б не мальчонка, дак поминай как звали… – рассуждает рыбак.
– Он ее, дяденька, еще с баржи приметил да как сиганет в воду! – захлебываясь, объясняет подросток.
– Верно, верно, когда б не он, пропала бы… – подтверждают вокруг.
– Ишь сочувственный какой. Сам-то небось напужался до смерти… Инда трясет его, бедняжечку, – раздаются жалостливые голоса женщин.
– Обыкновенное дело, тоже воды хлебнул немало… А между прочим, мы с Митричем тащим их, а он вцепился ей в гриву и не пускает… Пусти, кричу, Лень! А он держит. То ли рука у него онемела, то ли боялся, что упустим ее, – усмехаясь, рассказывает белобрысый парнишка.
Ленька, стоя поодаль, ежится от озноба. Длинные холщовые штаны липнут к его ногам, лицо покрыто мелкой рябью, глаза смотрят испуганно… К кучке людей торопливо идет хозяин баржи…
– И ведь вот как чудно на белом свете, – степенно рассуждает Митрич. У него мягкие курчавые волосы с сильной проседью и такая же курчавая с проседью борода, а глаза светлые, лучистые. Такие глаза со светинкой называются «божий дар», и все, что бы ни говорил Митрич, они освещают своим внутренним чувством. – Чудно… – повторяет он, покачивая головой. – У бедного человека полна изба, иной и рад бы от лишнего рта ослобониться, дак вот ведь живут и в огне не горят и в воде не тонут, а у господ и няньки, и мамки, а дите углядеть не могут.
Динке холодно, она съеживается в комочек и еще ниже опускает голову. Какая-то женщина наклоняется к ней, гладит жесткой ладонью мокрые волосы и участливо спрашивает:
– Сымешь платьице-то? Пущай просохнет на камушках.
Но прикосновение чужой руки к волосам причиняет Динке сильную боль, она мотает головой и открывает глаза.
– Вставай, вставай, барышня! Накупалася, голубушка, вдосталь, другой раз не полезешь эдак-то, – ворчливо говорит прачка, отжимая подол Динкиного платья. – Ишь какая дачница купальная!
В кучке собравшихся слышится смех. Трошка и Минька, скрываясь за спинами людей, отходят подальше. Под тяжелыми сапогами хозяина баржи скрипит песок.
– Чего это тут собрались? – хмуро спрашивает он, бесцеремонно раздвигая народ и разглядывая Динку.
– Да вот утопленницу вытащили из воды. Ленька твой спасал… – поглаживая бороду, говорит Митрич.
– А и где он, Ленька-то? – оглядываясь, спрашивает хозяин баржи.
– Я тута, – тихо отзывается Ленька.
– Я те дам «тута»! – грубо передразнивает его хозяин. – Ты на барже должен быть. Пошто ушел без моего спросу?
Ленька со страхом смотрит в бородатое лицо.
– Так ведь он человека спасал, чего кричишь, Гордей Лукич? – вступается белобрысый паренек.
– Ты не пужай мальчонку зря, чего его пужать? Он не по своей воле убег! – говорит Митрич.
Хозяин молча отстраняет их, делая шаг к Леньке.
– Я ему покажу свою волю! Зачем убег, спрашиваю? – снова обращается он к мальчику.
Громкий и сердитый голос выводит Динку из оцепенения. Она широко раскрывает глаза и, подавшись вперед, с ненавистью смотрит в бледное лицо мальчика с баржи, на мокрые пряди волос, прилипшие ко лбу, на синие губы. Ведь это же он! Это он ее топил! Она бы выплыла, волшебный лифчик сам вынес бы ее на берег, и она не захлебнулась бы водой…
– Зачем убег, спрашиваю? – гремит голос хозяина. Ленька, переминаясь с ноги на ногу, слабо взмахивает рукой, указывая на Динку:
– Вон… она тонула.
– Врет! Врет! – с неожиданной яростью вскакивает Динка. – Это он топил меня! За волосы! Топил! Топил! – Голос ее прерывается громким плачем. – Я маме скажу! Я все маме скажу!
Кучка людей с изумлением расступается.
– Ого! – слышится в толпе. – Вот те фунт!
Хозяин медленно подходит к Леньке и с размаху бьет его по щеке.
– Я не топил! – вскидывая вверх руки, отчаянно кричит Ленька.
Хозяин снова подымает тяжелую ладонь… Женщины, громко охнув, сбиваются в кучку.
– Стой, стой! – хватает его за рукав белобрысый паренек. – За что бьешь? Ты людей спроси…
– Чего кулаками сучишь, ирод поганый! – придя в себя, наступает на Гордея Лукича прачка.
– Кому веру даешь? Мы все на берегу были! – кричат вокруг женщины.
– Измываешься над сиротой. Бога не боишься! – причитают они, заслоняя собой Леньку.
– Мы все видели! Дяденька, не трожь его! Это она врет, ей-богу, врет! – волнуются подростки. Митрич сурово качает головой:
– Эх, ты, Гордей… Кулачник! За святое дело разбой учиняешь.
– А мне плевать на это дело! И совет ваш здесь не нужон. Я из-за него неприятности себе иметь не желаю! – Он указывает толстым пальцем на онемевшую от испуга Динку. – Слышь, матери жалиться пойдет! А кто отвечать будет? Хозяин! Да я с него три шкуры за то спущу!.. Пошел домой, гад!
Он хватает Леньку за плечо, тяжелым пинком бросает его вперед и, не глядя на людей, молча шагает за мальчиком, по пути настигая его ударами кулака. Ленька, плача и спотыкаясь, бредет по берегу. Вдогонку ему несутся горестные причитания женщин:
– Ох, божечка, божечка! И вступиться-то некому!
– А как ты вступишься, когда его полное право над мальчонкой, – хмуро говорит Митрич.
– Гляди, гляди! Опять бьет! Да что ж это такое, люди добрые! – волнуется прачка.
– Эх ты, паскуда! – неожиданно бросает Динке белобрысый парень и, сплюнув на песок, утирает рот рукавом. – Знал бы, не вытаскивал тебя, подлюку!
Общий гнев обрушивается на девочку.
– Маленькая ты, а бессовестная! Совести в тебе нет! – сурово корит ее рыбак Митрич.
– У-у, змееныш! Задушить тебя мало, не то что спасать! – знойно шипит прачка. – Чего мальчонку под кулак подвела? Ну? Что рот раззявила? Беги, жалься мамашеньке своей!
– Что ж, господское дите. Яблоко от яблони недалеко падает. Ихняя благодарность известна… – вздыхает другая женщина. Откуда-то из-за спин трусливо выглядывают Трошка и Минька.
– Тетенька, тетенька! Это Макака! – дергая прачку за рукав, гнусавит Минька. – Она знаешь какая язва! Чуть что – и в драку лезет!
– И каменьями кидается, – добавляет Трошка. Но Динке сейчас не до них. Как затравленный зверек, она испуганно водит глазами по лицам взрослых. Среди этих недобрых лиц – испещренное морщинами лицо старого рыбака. Мягкий укоряющий взгляд его внушает доверие. Динка бросается к нему.
– Дядечка! Дядечка! – бормочет она, прижимаясь к потной рубахе Митрича и захлебываясь слезами. – Дядечка… тот мальчик топил меня или спасал?
Женщины невольно затихают. Митрич наклоняется к девочке и удивленно смотрит в ее умоляющие глаза.
– Топил или спасал? – отчаянно цепляясь за него, повторяет свой вопрос Динка.
Митрич кладет руку на ее голову.
– Спасал, дурочка… – мягко говорит он.
– А… за волосы… зачем? – всхлипывает Динка.
Лицо Митрича освещается грустной улыбкой.
– Ну как – зачем? Ведь утопший не сознает себя, цепляется. Завсегда их за волосы хватают, – объяснил он.
Динка разнимает руки и, не глядя ни на кого, идет по берегу. Ноги ее тонут в песке, спотыкаются о камни.
Громкий плач доносится до оставшихся на берегу.
– Жалеет, – с чувством говорит Митрич и, словно извиняя девочку в глазах всех присутствующих, поясняет: – Глупая еще… Ишь, спрашивает, зачем хватал за волосья…
Глава 6
Дома
Обычно Динка является домой незадолго до обеда и обязательно норовит проскользнуть через лазейку в заборе. Но сегодня она возвращается очень рано и идет прямо по дорожке. Первой ее видит Лина и бежит сказать Кате:
– Идет наша беглянка! Недолго погуляла нынче!
– Может, совесть заговорила? – предполагает тетка. Но когда девочка подходит ближе, обе они недоуменно переглядываются.
На Динке мятое непросохшее платье, волосы ее стоят дыбом, а на лице и в медленной походке выражение равнодушия и покорности.
– Батюшки! – охает Лина. – Что это она с платьем делала? Стирала его, что ли? – И шепотом добавляет: – Умаялась…
Но выбежавшая из комнаты Мышка чует недоброе.
– Катечка! Смотри, какая Динка… Не ругай ее! – горячо просит она тетку. – Не говори ей ничего сейчас.
Но Катя и не собирается ничего говорить; она тоже обеспокоена странным видом девочки.
«Заболела?» – с тревогой думает она и идет искать градусник.
«Не емши», – догадывается Лина и идет греть ей завтрак.
Мышка сбегает с крыльца.
– Иди, иди, – ласково говорит она сестренке, – тебя никто ругать не будет. Ты ведь ненадолго уходила. Что ж тут такого?
И оттого, что Динка молчит, тревога ее разрастается. Она заглядывает сестре в глаза, обнимает ее за шею. Шея у Динки холодная, мокрая, платье тоже мокрое.
– Ты была на берегу? Ты упала в воду? Но ведь платье просохнет, что ж тут такого? – испуганно бормочет Мышка, и, чувствуя потребность как-то успокоить сестру, она напоминает ей, что завтра воскресенье, что мама весь день будет дома и что к ним придут «всамделишные» гости. – Мама привезет что-нибудь вкусное, мы будем их угощать!
Динка шевелит губами и, отстраняя сестру, капризно тянет:
– Я есть хочу…
– Есть? – радуется Мышка и стремглав мчится в кухню. – Лина, Лина! Она хочет есть!
Катя стоит на террасе, держа в руках сухое платье и градусник. «Что-то случилось, – испуганно думает она, прислушиваясь к разговору Мышки с сестрой. – Почему на ней мокрое платье? Не купалась же она в платье? Ах, боже мой! И почему она молчит?»
– Я хочу есть, – вдруг говорит сестре Динка, и тревога Кати моментально рассеивается.
«Ах, подлая девчонка! Вот как напугала… Конечно, она хочет есть, только и всего. А платье мокрое потому, что лазила где попало, не разбирая…»
Катя решительно прячет в карман градусник и бросает платье на спинку стула. Лицо ее принимает холодное, непроницаемое выражение.
Динка поднимается на террасу, останавливается перед теткой и, подняв голову, молча смотрит на нее. Она ждет, что Катя встретит ее сердитым, язвительным замечанием, выговором, угрозой пожаловаться маме. Но ей все равно. Пусть жалуется, пусть ругает. Когда с человеком случается самое худшее, он уже не обращает внимания на повседневные неприятности.
Но Катя молчит, она удивлена поведением девочки, и в ее глазах снова появляется тревога.
– У тебя что-нибудь болит, Диночка? – спрашивает она, нащупывая в кармане градусник и трогая губами Динкин лоб. В голосе Кати против ее воли слышится беспокойство и сочувствие.
Динка подходит ближе и нерешительно прижимается щекой к ее плечу:
– Дай мне раньше всего поесть, Катя.
«Раньше чего? – с горечью думает тетка, тронутая лаской девочки. – Наверное, раньше выговора. Я для нее – вечный судья, какая-то старая грымза-гувернантка… И что думает Марина? Как будто мне приятно быть в этой роли и постоянно одергивать девчонку!»
– Конечно, поешь хорошенько, – мягко говорит она. – Только переодень платье. Оно же совсем мокрое. Ты ходила на берег? – спрашивает она, помогая Динке переодеться, но девочка молчит, и, чувствуя ее недоверие, Катя тихо добавляет: – Я не буду ругать тебя. Пусть мама сама поговорит с тобой сегодня.
– Несут! Несут! – кричит Мышка и, запыхавшись, вбегает на террасу. – Тебе несут еду!
Динка оживает, двигает стулом, усаживается за стол и нетерпеливо похлопывает ладонью по клеенке. На щеках ее выступает румянец, глаза блестят. Катя опять чувствует себя обманутой, сбитой с толку. «Подумать только, какая представленная девочка!.. Напустила на себя такой несчастный вид… Может, правда голод на нее так действует?»
Лина ставит на стол тарелки и с удовольствием смотрит, как девочка ест кашу, запивая ее холодным молоком, потом принимается за вчерашнюю котлетку, смачно закусывая горбушкой хлеба.
Лина очень любит, когда хорошо и вкусно едят то, что она сготовила, и, налегая на стол всем своим грузным корпусом, она тихонько спрашивает размягченным, умильным голосом:
– Еще чего дать али объешься?
Динка мотает головой и, запихивая в рот кусок хлеба, дотрагивается пальцем до недоеденной котлеты.
– Вот это съем, тогда скажу, – заговорщически шепчет она.
– Ну, доешь, доешь, – соглашается Лина и еще крепче налегает на стол. Золотисто-карие глаза ее светятся любопытством. – Ну, а где же это ты платье все измочила, а? Рыбу, что ли, ловила аль рыба тебя?
Динка вскидывает глаза и шутя замахивается на Лину ложкой.
– Не дури, не дури!.. Накидаешь мне полну голову каши… – добродушно ворчит Лина. – Ты лучше скажи, где бегала утресь? Для ча стирку-то делала? Нос у тебя цел, а платье мокрехонько… Али топил тебя кто в ем? – снова любопытничает Лина.
Динка молча отодвигает тарелку и вылезает из-за стола.
– Допивай молоко-то! – предлагает Лина.
– Не надо. Я пойду к Мышке… Мышка! Мышка! – кричит она в сад.
Мышка уже сбегала к Алине сказать, что Динка пришла и ест кашу.
– Ну, пришла так пришла! Подумаешь, какая новость! Не бегай зря и не хлопай дверью. Видишь, я выжигаю по дереву.
Алина срисовывает с открыток цветы на тоненькие дощечки, а потом выжигает их своей машинкой. Она не любит, чтобы ей мешали. Мышка хочет сказать что-то еще про младшую сестренку, но, подумав, круто поворачивается и убегает.
– Мышка! Мышка! – зовет Динка.
– Я здесь! – кричит Мышка.
– Пойдем посидим на большой скамейке, – предлагает Динка. Глаза ее слипаются от усталости.
Девочки, взявшись за руки, идут в сад. В саду под кленом – широкая скамья. Здесь самый тенистый уголок, сюда приходят секретничать Алина со своей подругой Бебой и мама с Катей. Динка усаживается на скамейку и, приткнувшись боком к сестре, наваливается на нее всей тяжестью своего крепко сбитого тела. Мышка одной рукой обнимает сестру, а другой хватается за край скамейки, чтоб не упасть.
– Говори что-нибудь или пой все время, – сонным голосом просит Динка.
Мышка еще крепче хватается за край скамейки и, выставив вперед одну ногу, упирается ею в землю.
- Спи, милая сестрица,
- Так сладко, чуть дыша… –
запевает она тоненьким голоском, сильно фальшивя и перевирая слова.
- Я охранять готова
- Твой сон хоть до утра.
Динка закрывает глаза и еще сильнее наваливается на сестру.
- Я не позволю мухе
- К тебе на грудь присесть, –
с усилием выводит Мышка, цепляясь за скамейку.
* * *
Динка спит долго. Она не слышит, как приходит Катя и, освободив изнемогающую Мышку, усаживается около скамейки с книгой, не слышит, как снова прибегает Мышка и вместе с Катей укладывает ее голову на подушку, как приходит Лина и вызывает Катю на кухню, а Мышку посылает в комнату за ножницами и нитками. Динка просыпается от громкого голоса Алины:
– Пароход «Гоголь» вышел из Самары!..
«Мама едет…» Динка вскакивает и садится на скамейке, сонно протирая глаза. Ей хочется бежать к калитке, но что-то мешает ей. Перед глазами встает длинный берег и лицо мальчика с баржи.
Девочка медленно плетется на террасу. Алина сидит за столом и поминутно смотрит на круглые папины часы. Мышка уже вертится у калитки и ждет гудка…
Глава 7
Мама
У парохода, который привозит маму, совершенно особенный гудок: он такой звонкий и протяжный, что его слышно даже на Учительских дачах. Мышка уверяет, что этот пароход не гудит, а поет, выговаривая одно слово: «Ма-а-м… Ма-а-м…»
Мама уезжает и приезжает каждый день, и каждый день к ее приезду Алина кладет на стол большие круглые часы и торжественно объявляет:
– Пароход «Гоголь» вышел из Самары!
Младшие дети сейчас же сбегаются на ее голос и нетерпеливо топчутся около стола. Но Алина не любит, чтоб они смотрели на часы, она смотрит сама и спустя некоторое время еще громче и еще торжественней сообщает:
– Пароход «Гоголь» подходит к пристани!
И все трое замирают в ожидании длинного радостного гудка:
«Ма-а-м… Ма-а-м… Ма-а-м…»
– Пойдемте, пойдемте! – кричит Мышка. Каждому хочется встретить маму первым, но Алина никому не позволяет быть первой.
– Будем стоять все трое у калитки, – говорит она.
Динка проскальзывает в дальний угол террасы и усаживается на перила. Сегодня в первый раз ей не хочется встречать маму. «Я не мамина дочка», – горько думает она, чувствуя, что мать никогда не простила бы ей сегодняшнего поступка. Динка вспоминает, как один раз, еще в городе, она столкнула с крыльца слюнявого Егорку. Егорка даже не ушибся, он только упал и испугался, но как тогда рассердилась на нее мама! «Ты злая девочка, я не хочу такой дочери», – сказала она, и, сколько ни плакала и ни просила Динка, мама не хотела даже разговаривать с ней.
«Мама, мама!» – кричала Динка, но лицо у мамы было холодное, чужое… Динка, захлебываясь плачем, объясняла, что толкнула Егорку за длинные слюни, которые он распустил на крыльце, но мама ничего не хотела слушать, повторяя: «Ты не моя дочка…»
В конце концов Динка пришла в такое отчаяние, что за нее вступились Катя и Алина.
«Вы не понимаете, – сказала им тогда мама. – Ведь это уже не шалость, а злой поступок».
Это случилось давно, Динка тогда была еще маленькая, а теперь она выросла и сделала еще худший поступок.
«Эх ты, паскуда!» – сказал ей на берегу белобрысый паренек.
Динка вспомнила злые, недобрые лица, гневные слова и взгляды, обращенные к ней.
«Лучше б я утонула…» – тоскливо подумала она и снова вспомнила маму. Один раз мама читала им стихи:
- Есть на свете много бедных и сирот…
У мамы был такой грустный голос, что Динка невольно вслушивалась в эти стихи и запомнила их наизусть.
- У одних могила рано мать взяла,
- У других нет в зиму теплого угла…
В этом месте Мышка заплакала, а Динка крепилась. Но под конец мама читала так, будто просила своих детей:
- Если доведется встретить вам таких,
- Вы, как братья, детки, пожалейте их…
И тогда Динка тоже заплакала… А теперь ей довелось встретить такого сироту. Ведь там, на берегу, она узнала, что мальчик с баржи, Ленька, тоже сирота, но она, Динка, не пожалела его, она пожаловалась на него злому хозяину…
– Пароход «Гоголь» подходит к пристани! – торжественно объявляет Алина и оглядывается на Динку. – Пойдем! Мышка уже у калитки!
«Ма-ам… Ма-ам… Ма-а-м…» – протяжно гудит пароход.
– Пойдем! – кричит Алина и поспешно сбегает с крыльца. Терраса пустеет. Динка вытягивает шею и старается увидеть, как откроется калитка и как войдет в нее мама. Но ей ничего не видно, и она опять опускает голову. Катя тоже с нетерпением ждет сестру: ей хочется узнать, не приходил ли в редакцию вчерашний человек, но, открыв дверь на террасу, она видит Динку. «Как это Динка не побежала встречать? – удивляется Катя. – Боится все-таки матери… Ну еще бы! Все утро безобразничала, не послушалась, убежала гулять… А теперь сидит и думает, что я сейчас же начну на нее жаловаться! Но я не начну. У меня теперь будет совсем другая тактика. Пусть сама все рассказывает матери… Она и так не любит меня. С какой стати я буду вечной жалобщицей в ее глазах!» – нервничает Катя. И, взглянув еще раз на девочку, мягко напоминает:
– Я ничего не скажу. Ты сама расскажешь маме про все плохое, что делала сегодня.
– Хорошо, – безучастно отвечает Динка и вдруг быстро, словно проснувшись, спрашивает: – А что я делала, Катя?
– Как – что?! – Тетка широко раскрывает глаза…
Но из сада уже доносится голос Мышки:
– Мама приехала!
– Мама приехала! – сияя, сообщает и Алина. Они идут по дорожке втроем: мама – посредине, а по бокам – Мышка и Алина.
Динка медленно сползает с перил и тихонько повторяет за сестрами:
– Мама приехала…
Мама идет, улыбаясь, но лицо у нее усталое, под глазами – синие круги.
Встречаясь с вопросительным взглядом сестры, она слегка пожимает плечами:
– Никого не было…
– Черт знает что! – бурчит Катя и, заметив удивленный взгляд Алины, спохватывается: – У тебя ужасный вид, Марина! Где ты была сегодня?
– Как – где? На службе, конечно. Где же мне еще быть? Я даже немного раньше ушла. Ходила, покупала кое-что – ведь сегодня давали жалованье… Ой, подождите, дети! Дайте мне сесть. Я так набегалась. Унеси эти свертки, Алина…
Алина уносит в комнату мамины покупки. Марина садится в плетеное кресло и, морщась, снимает с головы круглую шляпку. На шляпке голубые незабудки, такие же голубые, как ее глаза. Алина и Мышка вертятся около кресла, они берут у мамы из рук шляпку, сумочку, зонтик.
– Ну к чему еще зонтик? Лишь бы что-то в руках таскать! – возмущается Катя.
– Да я же на целый день уезжаю. Мне жалко шляпу, – объясняет сестра.
Мышка влезает на маленькую скамеечку и, стоя за спиной матери, вынимает из ее волос шпильки.
– Ой, как хорошо! – говорит Марина и встряхивает головой. Две тяжелые светлые косы скользят по ее плечам и спускаются до пола. – Измучили меня эти косы! Сегодня так разболелась голова… – жалуется она сестре.
– Дети, отойдите от мамы! Дайте ей посидеть спокойно. Вы же слышите, что у нее болит голова, – замечает Катя. – И нужны тебе эти косы, Мара! Я бы давно остригла их под корень! – с досадой говорит она сестре.
– Ну конечно! Тебе кажется, что мне уже ничего не нужно! – обижается Марина.
– Отрезать косы? Что ты, Катя! – пугается Мышка.
– Папа никогда не позволил бы, – строго замечает Алина.
Мышка заглядывает матери в лицо:
– У тебя очень болит голова, мамочка? Я сейчас переменю тебе туфли, ладно?
Но мать не отвечает ей. Глаза ее кого-то привычно ищут и останавливаются на дальнем углу террасы. Там, прижавшись спиной к перилам, стоит ее младшая дочка. Голова девочки опущена, глаза смотрят исподлобья.
Мать забывает усталость и головную боль.
– Что случилось? – тревожно спрашивает она сестру. Вопрос этот возмущает Катю, ее возмущает также, что Динка стоит в углу, как наказанная.
– Когда ты перестанешь удивляться, Марина? Случилось то, что случается каждый день. И не думай, пожалуйста, что это я поставила ее в угол. Она сама стала к твоему приходу.
Но сестра не слушает ее и, нетерпеливо отстраняя старших детей, подзывает к себе младшую дочку.
– Иди сюда, Диночка, разве ты не хочешь поздороваться со мной? – ласково спрашивает она.
Динка подбегает к матери, судорожно обнимает ее за шею. Мать гладит жесткую копну кудрявых волос.
Катя укоризненно качает головой:
– Ах, Мара, Мара! Ты хоть бы узнала раньше, как она вела себя!
– Я и узнаю, – спокойно говорит мать. – Но раньше нам надо поздороваться!
– Конечно, надо поздороваться. Ведь Динка еще не видела маму, – беспокоится Мышка, сидя на полу с домашними туфлями матери.
– А ты не вмешивайся! – обрывает ее тетка.
Алина подходит к матери и, осуждающе глядя на нее большими серьезными глазами, строго говорит:
– Дина очень плохо вела себя, мама.
– Хорошо. Я сейчас поговорю с ней. Идите все отсюда.
– Почему же именно сейчас! Пообедай, по крайней мере, и отдохни хоть немного, – пожимает плечами Катя.
– Ты думаешь, что я могу спокойно обедать и отдыхать, не зная, в чем дело, и глядя вот на это… – говорит с упреком сестра, указывая глазами на прижавшуюся к ней Динку. – Пожалуйста, уведи детей.
Катя уводит старших девочек в комнату. Мышка идет нехотя и на пороге выскальзывает из рук тетки.
– Мамочка, Динка пришла рано сегодня! – успевает она крикнуть, прежде чем Катя закрывает за ней дверь.
Когда все голоса затихают, мать осторожно размыкает Динкины руки, обнимающие ее за шею.
– За что рассердилась на тебя Катя? – мягко, но серьезно спрашивает она.
Динка видит светлое мамино лицо. Это лицо, такое родное и близкое, заслоняет собой все чужие, враждебные лица, которые весь этот день стоят у нее перед глазами. Динка рада, что за ней есть многие мелкие провинности, о которых можно рассказать. Она спешит загородиться ими от того главного, что лежит у нее на сердце и о чем никогда не должна узнать мама.
– За что рассердилась на меня Катя? – задумчиво переспрашивает она. – За что первое, мама?
– Как – первое? – теряется мать. – Разве Катя много раз сердилась на тебя сегодня?
Динка выпячивает нижнюю губу и молча трет лоб.
– Катя сердилась много раз, – подтверждает она.
– За что же за первое? – отнимая ее руку ото лба, допытывается мать.
– Я скатывалась на больших счетах, – припоминает Динка.
– Как это?
– По доскам… Я положила на ступеньки две доски… вон там… а потом села на счеты и поехала! – почти весело рассказывает Динка.
– Ну и что же? – не понимает мать. – Катя сердилась за то, что ты взяла счеты?
– Нет… Она сердилась за Алину. Потому что Алина нервная, а счеты гремели. Они ехали и гремели, а Катя сердилась, – поясняет Динка.
– И ты не могла бросить эту забаву ради сестры?
– Я все говорила: последний раз, последний раз. А потом Катя отняла у меня счеты и назвала меня убоищем…
– Как? – переспрашивает мать.
– Убоищем. Это такое имя.
– Не имя, а прозвище для упрямых детей, – слегка затрудняясь, объясняет мать.
– Ну да! – соглашается Динка.
Мама внимательно смотрит на нее:
– А второе что ты сделала?
– А второе… это сливки. Я выпила у Мышки сливки. – Динка глубоко вздыхает и облизывает языком губы. – Я хотела немножко… Мышка сама дала… только попробовать, а я пила, пила и все выпила. – Динка безнадежно разводит руками. – Мышка кричит, а я все пью да пью!
Легкая грусть обволакивает мамино лицо. Она хочет сказать, что Мышка слабенькая, а сливки стоят дорого, но вместо этого с губ срывается неожиданное обещание:
– Я куплю тебе сливок тоже.
– Не надо! – машет рукой Динка. – Я больше не буду их пить. Пусть они провалятся сквозь землю…
– Не говори глупостей! Я хочу знать, что ты еще делала сегодня? – нетерпеливо прерывает ее мать, торопясь выяснить все преступления дочки.
– А еще… – Динка стоит в затруднении, она не помнит, что было еще дома.
Но ее выручает Катя. Она потихоньку отворяет дверь и останавливается на пороге:
– Дина, ты не забыла сказать маме, что я запретила тебе выходить за калитку, а ты все-таки ушла?
– Мама, Катя запретила мне выходить за калитку, а я все-таки ушла, – механически повторяет за теткой Динка. Лицо матери темнеет от огорчения и усталости.
– Смотри, до чего ты довела маму! Она еле дышит уже! – накидывается на девочку Катя.
– Подожди, Катя! Мы еще не договорили! – с досадой останавливает ее сестра. – Иди. Мы сейчас кончим… Диночка! – обращается она к дочке. – Я хочу, чтобы ты поняла, почему нехорошо делать все то, что ты делала сегодня. Вот счеты… Ведь это вещь, сделанная чьими-то руками. Кто-то трудился, думал, как их лучше сделать, устал этот человек, но сделал…
– А кто этот человек, мама? – быстро спрашивает Динка.
– Не все ли равно кто? Какой-нибудь рабочий… Важно, что он трудился, а ты, маленькая девчонка, схватила его труд и давай ломать по ступенькам! Хорошо это, Дина?
– Я еще не сломала, мама. Я только погнула там железки. Я выпрямлю… и отнесу дедушке Никичу.
– А потом возьмешь какую-нибудь другую вещь и опять не подумаешь о том, что она сделана чьими-то руками…
– Нет, я подумаю. Я теперь всегда буду думать, – торопится уверить Динка.
Мама грустно смотрит на нее:
– Это только одно плохое, Дина… А другое плохое, что ты не жалеешь сестру, не любишь ее.
– Я люблю, но забываю, что нельзя шуметь.
– Чтобы помнить об этом, надо жалеть. Ты же знаешь, что, если Алина расплачется, ее трудно успокоить. А потом у нее так разболится голова, что я всю ночь сижу у ее постели… Так неужели тебе какая-нибудь игрушка дороже сестры? – с болью спрашивает мать.
– Ох, нет… мамочка, нет… – с испугом бормочет Динка. Перед ней встает бледное лицо Алины с компрессом на голове. – Ох, нет, нет… – бессвязно повторяет она в ужасе от того, что могло бы случиться.
– Помни же об этом. Жалей ее, Диночка, – с тихой просьбой говорит мать.
Когда они обе успокаиваются, Динка вспоминает Катю.
– Мама… я не послушалась и ушла. Она наказала меня… Я не хочу такого наказания, я хочу другое! – взволнованно говорит Динка.
– Взрослые не спрашивают у детей, какое наказание им больше нравится. Взрослые имеют право наказывать так, как считают нужным, Дина. Катя прощает тебе многое, но если уж случилось так, что она наказала тебя, то ты не смела ослушаться, Дина. Ты могла попросить у нее прощения, это другое дело. Но ты не попросила прощения, ты просто ушла. Разве ты не наша девочка, а чужая? Чужую Катя не будет наказывать, чужая девочка может не послушаться, у нее есть своя тетя. Но ты ведь наша девочка, Дина? – строго и удивленно спрашивает мать.
– Я наша, – спешит заверить Динка, чувствуя в маминых словах скрытую угрозу потерять свою маму, тетю, свой дом… Стать чужой девочкой так страшно! – Я наша девочка. Я буду слушаться, я только, мамочка, так прошу… Если Катя согласится и ты согласишься, можно просто побить меня, сколько вы хотите, а потом пускай я хожу, гуляю… – робко предлагает она.
– Побить? – с волнением спрашивает мать. – Это же очень стыдно и страшно, когда взрослый человек бьет ребенка. Это унизительно, Дина! Разве ты можешь себе представить хоть на одну минуту, что я или Катя ударим тебя?
– Конечно, нет, мама. Вы пожалеете, но мне ведь хуже от этого. Я так люблю гулять, мне скучно дома. – Динка взмахивает рукой и жалобно добавляет: – Там такой широкий воздух, мама.
– Где там, Дина? Куда ты ходишь одна? Ведь я не позволила тебе уходить далеко от дачи. Я уже говорила с тобой об этом, и если когда-нибудь я узнаю, что ты не послушалась меня…
– Нет-нет! Я слушаюсь, мама! Я не хожу далеко, я совсем близко, я просто сяду где-нибудь и смотрю. Я сижу на обрыве и смотрю на пароходы, я не на самом краю, а далеко сижу… – поспешно уверяет Динка.
Мать чувствует вдруг безграничную усталость.
– Хорошо, я верю тебе, но ты помни, о чем я тебя просила, – тихо говорит она, проводя рукой по лбу. – А теперь иди скажи Лине, чтоб давала обедать.
Освобожденная от тяжкого объяснения, Динка мгновенно срывается с места.
Она мчится по дорожке к летней кухне, но ее окликает Катя:
– Дина, подойди сюда!
Она сидит в гамаке с книгой.
– Я не могу. Мне надо сказать Лине, чтоб давала обед! – пробует отказаться девочка.
– Она уже знает. Иди сюда! – настойчиво зовет тетка.
Динка нехотя подходит к гамаку.
– Дина, – серьезно говорит тетка, – я не сказала маме, что ты сегодня пришла в мокром платье, я не хочу ее тревожить. Мама может вообразить бог знает что… Но мне ты должна сказать правду, почему у тебя было мокрое платье.
– Оно было мокрое, потому что… – Динка вдруг вспоминает Лину. – Я его постирала, – быстро добавляет она.
– Постирала? Зачем? – пристально глядя на нее, допрашивает тетка.
– Я… не зачем, а почему… – оттягивая ответ, поправляет ее Динка.
– Дина, если ты не хочешь, чтобы я сказала маме, то говори правду! – хмурится Катя.
– Но я же говорю. Я постирала его, потому что запачкала… Я села на коровью лепешку! – неожиданно весело говорит она и тихонько фыркает.
– Дина, я не шучу с тобой. И ты, пожалуйста, не придумывай какую-то историю с коровьими лепешками… – краснея от досады, говорит Катя. – Лучше не ври, Дина!
– Катя… – тоскливо говорит Динка, присаживаясь на траву и обхватывая руками коленки. – Может, это была и не коровья лепешка, я ее плохо разглядела… Я просто чем-то испачкалась и постиралась… Там стирала одна женщина, ну и я постиралась… – наблюдая за теткой краешком глаза, фантазировала Динка. Катя шумно вздохнула.
– Вот это уже больше похоже на правду, – примиряюще сказала она. – Но как же смела ты не послушаться мамы и пойти на берег?
– Я не смела! Мама не позволяет мне купаться, но я же не купалась. Я вас слушаюсь – и тебя, и маму. Я же не чужая девочка… – с облегченным сердцем рассуждает Динка.
– Ох! – крутит головой Катя и открывает книгу. – Иди уж… И больше не устраивай никаких стирок, глупая девчонка!
– Ладно! – весело говорит Динка, торопясь исчезнуть.
– Динка, Динка! – зовет ее из кустов Мышка. – Тебе очень попало? – шепотом спрашивает Мышка и, не дожидаясь ответа, тянет сестру за руку. – Пойдем в комнату, я тебе что-то скажу!..
Девочки бегут в комнату. Мышка прикрывает дверь и таинственно сообщает:
– Мама что-то привезла. Она сегодня получила жалованье. Это, наверное, гостинцы.
– Гостинцы?! – подпрыгивает Динка. – Гостинцы! Гостинцы! – Она чмокает сестру в нос, обхватывает обеими руками ее плечи и вместе с ней скачет по комнате. Неудержимая радость ее выражается в нежных прозвищах, которыми она щедро награждает Мышку:
– Ты моя сестричка, птичка-невеличка, ты собачий хвостик, ты крольчишка-Мышка!
– Афан Делейн! Афан Делейн! – в буйном веселье кричит Мышка, поднимая вверх худенькую руку и выражая этими таинственными заклинаниями восторг своей души.
– Хватя! Хватя! – просовывая в дверь потное лицо, шипит Лина. – Обедать идите! Который раз грею…
Глава 8
За обедом
На столе дымится суповая миска, но за столом никого нет. Мышка тоже куда-то исчезла.
Динка бросается в одну комнату, в другую и, покраснев от натуги, тащит стулья.
– Обедать! Обедать! – кричит она, хлопая в ладоши.
Но никто не торопится. По дорожке медленно идут мама и Алина. Катя лениво поднимается с гамака…
Наконец все в сборе. Мышка появляется из Алининой комнаты, и по ее лицу видно, что она уже тыкалась своим любопытным носиком во все свертки. Но Динке не до нее, она раскладывает вилки и ножи, подвигает всем тарелки, тащит к себе поднос с хлебом, высматривая румяную горбушку.
Катя, усаживаясь за стол, переглядывается с сестрой.
– Ты видишь? С нее как с гуся вода! Твои душеспасительные разговоры только приводят ее в веселое настроение, – тихо говорит она.
– А тебе обязательно хочется, чтобы она плакала? Это ребенок, – так же тихо отвечает ей Марина.
– Это убоище, а не ребенок! – фыркает Катя. – Ты просто неисправима!
– Ну, значит, мы обе неисправимы! – смеется мама.
– Смейся, смейся… – с горечью шепчет ей Катя.
Но Мышка хлопает в ладоши и крутит головой:
– А-а! Шепчутся, шепчутся за столом!
– У мамы с Катей секреты от нас! – подхватывает Алина.
– У них все секреты, а обед перестоит, тогда Лину будут виноватить, – появляясь на террасе, ворчит Лина и, подмигнув тетке, сует ей на колени бутылочку, завернутую в салфетку.
– А! Вижу, вижу! – подпрыгивает Динка.
– Не предвосхищай событий! – непонятно бросает ей Катя, вылезая из-за стола. – Ну, кто первый выпьет рыбий жир? – с торжественной улыбкой вдруг провозглашает она, держа в одной руке столовую ложку, а в другой – обернутую салфеткой бутылку.
– Как – рыбий жир? Почему? – испуганно спрашивает Мышка.
– Катя, ведь сейчас лето! Никто не пьет рыбий жир летом! – откидываясь на спинку стула, протестует Алина.
– Что это ты выдумала? Откуда он у тебя? – удивляется Марина.
– Ну, напали! – хохочет Катя. – Это вовсе не я выдумала. Это аптекарь подарил Лине, чтоб она поправилась.
– Да не подарил, не подарил, насмешница этакая! Я свои деньги заплатила. Гляжу, аптекарь по дешевке отпускает, ну я и взяла детям на пользу, – объясняет Лина.
– Ну, а раз взяла, значит, надо выпить! – решительно заявляет Катя. – Не пропадать же деньгам! Всего одна бутылка… Ну, кто первый?
– Мама! – пищит Мышка и закрывает обеими руками лицо.
– Ну, Катя, не дури!.. Лина, возьми свою бутылку! – морщась, говорит Марина.
– Куда ее возьму? Вы все со своими фокусами! Только зря деньги выкидываем! Жир свежий, как янтарь, только что со льду… – недовольно ворчит Лина.
– Конечно, раз уж куплен, так надо пить! – заявляет Катя. – Я сама сейчас попробую!
– Попробуй! Попробуй! – весело подпрыгивает Динка.
– Хоть один разочек! – смеется Алина.
– Катя, не пей! Это такая гадость! – машет руками Мышка.
Катя делает большие глаза:
– Гадость? Это прелесть, а не гадость. Вот я вам сейчас покажу, как пьют рыбий жир! – Она наливает полную до краев ложку и, громко декламируя, подносит ее ко рту:
- …На помост к петле поднимался…
Лица детей полны любопытства и ожидания.
- …И в самой петле улыбался… –
с приятной улыбкой заканчивает Катя и, полузакрыв глаза, опрокидывает себе в рот полную ложку рыбьего жира.
– Браво! – хлопает Алина. Но приятная улыбка сбегает с лица тетки, ложка падает на пол.
– Лина, возьми…
Лина подхватывает бутылку, а Катя, закрывая рот платком, убегает в комнату.
– Мамочка! – вскакивает Мышка.
– Мама, ей стало плохо! – беспокоится Алина, но мама уже торопится за сестрой.
Алина поднимает указательный палец.
– Смотрите на Динку! – удивленно говорит она. Динка совсем сползла со стула, лицо ее беззвучно трясется от смеха, глаз не видно. Мышка, всплеснув руками, тыкается носом в скатерть и звонко вторит сестре.
– Дети, дети… – пробует остановить их Алина, но, не выдержав, хохочет вместе с сестрами.
– Ну, зашлись! – добродушно говорит Лина, вытаскивая из салфетки бутылку. – И чего она вам тут петрушку разводила! Что детям положено, того взрослому касаться нечего, – спокойно добавляет она, поднося ко рту Алины полную ложку: – Ты старшенькая, ты и первая! Захватывай, захватывай ложечку, милушка! Да со вкусом пей, чтобы на пользу пошло!
Девочка хочет сказать что-то, но мягкая рука Лины бесцеремонно откидывает ей голову и вливает в рот полную ложку рыбьего жира.
– Вот и славно! – говорит она, наливая вторую ложку и не обращая внимания на старшенькую, которая, давясь хлебом с солью, сердито смотрит на нее.
Мышка пьет безропотно. Ведь даже Алина выпила!
Динку упрашивать не надо, но она так трясется от смеха, что Лина никак не может улучить момент.
– Да хватит тебе! Прокиснет жир-то! – шутит она, стоя над Динкой с полной ложкой. – Хватит, говорю! Непутевая!
Динка вскакивает на стул:
– Давай сюда ложку!
– Куда… куда… расплескаешь! – кричит Лина.
Но Динка уже подносит ложку ко рту, громко декламируя:
- …И в самой петле улыбался…
На лице ее приятная Катина улыбка, глаза полузакрыты.
– Катя, Катя! – кричит Алина и, хлопая в ладоши, хохочет.
Мышка взвизгивает от удовольствия.
– Батюшки! Вылитая Катя! – всплескивает руками Лина. – Ах ты актриса! Тебе ж в балаган идтить, народ забавлять! – И, расчувствовавшись, прижимает к груди расшалившуюся любимицу. – Головочка ты моя бедовая! Был бы отец дома, снял бы поясочек ременный да поучил тебя уму-разуму! А то и заняться тобой некому. У Кати у самой еще дурь в голове сидит, мать – андел небесный, доброты неописуемой… Сиротиночки вы мои горькие… – разжалобливая себя до слез, причитает Лина.
Но взволнованный голос старшей девочки мгновенно приводит ее в себя:
– Что ты, Лина! Мы вовсе не сиротки. И папа никогда не побил бы Динку. Ты не говори так. – Губы Алины вздрагивают. – Не говори так, Лина…
Мышка с испугом смотрит на старшую сестру, Лина тоже пугается:
– Ладно, ладно! Не нервничай только, господь с тобой. Я ведь любя сказала, жалеючи… Вот кушайте суп-то. Совсем простыл небось. И куда это они обе запропали? Протошнилась – и иди, чего там еще делать-то…
С опаской поглядывая на притихших детей, Лина торопится уйти. Если старшенькая разнервничается, ей сильно попадет от «андела». Алина помнит и любит отца, она вместе с мамой читает его редкие письма, беспокоится за него и ждет. Ждет безнадежно, потому что знает, что он не может приехать, что его разыскивает полиция… Алина никогда не забывает, что, уезжая, отец просил ее помогать маме воспитывать младших сестер, считая себя взрослой, она называет их, как мама, «дети», занимается с ними, делает им замечания и нередко вмешивается в распоряжения взрослых.
Один раз Мышка тихим шепотком пыталась рассказать Динке, что когда они жили на элеваторе, а папу уже искала полиция, то по улицам ходили какие-то люди с иконами, они пели «Боже, царя храни», а потом как-то ночью напали на их дом.
«На наш дом?» – удивилась Динка.
«Ну да. Это их научила полиция, чтобы поймать папу. – Мышка зябко поводила плечами и ближе придвигалась к сестре. – Только ты никому не говори, что я тебе рассказала. Но это было так страшно… Они разбили все окна, и даже в комнате упал большой камень… Ты, наверное, спала тогда, а меня тоже завернули в одеяло. А Алина так плакала… А потом прибежали папа и все элеваторские рабочие. Нас вынесли через сад. А был такой мороз… Папа сам нес Алину, а меня Малайка».
«А меня?» – с испугом спрашивала Динка: она боялась, что вдруг ее забыли в этом страшном доме.
«Тебя тоже кто-то нес… Кажется, Лина… Мы потом сели в какие-то сани, а Алина все боялась за папу, потому что кругом наехали казаки и полиция…»
«А папа уехал с нами?»
«Конечно. И Никич… Такие большие сани, знаешь… Дядя Лека сам правил, как кучер. Лошади как дернули сразу… А нас накрыли тулупом, и мы куда-то все мчались, мчались… А потом у Алины стала болеть голова, и доктор сказал, что ей нельзя плакать. Понимаешь?»
Динка плохо понимала, от слез у нее никогда не болела голова, поэтому из рассказа Мышки она вынесла единственное убеждение, что старшая сестра неженка и что лучше с ней не связываться, потому что можно нажить себе большие неприятности.
Но сейчас она украдкой взглядывает в большие растревоженные глаза сестры; она в первый раз так внимательно всматривается в эти глаза.
– Пойдем за мамой, Динка! – испуганным голоском предлагает Мышка.
Но Динке не хочется бежать, какое-то новое чувство побеждает в ней страх. Она нерешительно сползает со стула и подходит к старшей сестре.
– Алина… – робко говорит она, протискиваясь между стульями и кладя свою лохматую голову на край стола. – Алиночка, ты моя… родненькая…
Алина порывисто прижимается губами к ее щеке и взволнованно шепчет:
– Мы не сиротки… у нас есть папа… Он вернется.
Мышка тянется к обеим сестрам, ей тоже хочется обнять Алину.
Но Алина уже справилась со своим волнением и замечает непорядок:
– Сядьте… Сядьте за стол, дети. Вон идет мама.
Мама и свежеумытая Катя, смеясь, входят в комнату. Глядя на их веселые лица, Алина начинает улыбаться. Динка и Мышка поспешно усаживаются на свои стулья.
– Ну, давайте наконец обедать! Суп уже чуть теплый, – озабоченно говорит мать, поднимая крышку супницы. – А где же дедушка Никич? – спрашивает она. – Разве он еще не приехал?
– Нет, приехал, – быстро говорит Динка. – Он еще вчера вечером приехал!
Марина удивленно смотрит на сестру.
– Наливай суп детям, – не отвечая на ее взгляд, торопит Катя.
Марина разливает суп и, положив ложку, подходит к перилам террасы.
– Лина! – кричит она. – Позови Сергея Никитича!
– Чего? – откликается Лина и, шлепая босыми ногами по ступенькам, поднимается на террасу.
– Лина, позови же Сергея Никитича! – нетерпеливо повторяет мама.
Катя делает Лине таинственные знаки.
– Да как ты его позовешь, ежели он, как Адам, прости господи, – глядя на Катю и не понимая ее знаков, тихонько ворчит Лина.
– Почему как Адам? Где он? – тревожится Марина.
Катя с досадой смотрит на Лину:
– Я же просила тебя, Лина! Ну, сказала б, что спит…
Дети сидят молча, наклонив головы над тарелками. Они уже с утра знают, что дедушка Никич снова продал свое платье, которое недавно купила ему мама.
Дедушка Никич – большой приятель Динки. За столом они сидят рядом и делят пополам хлеб. Динка выгребает из ломтя мякиш и дает дедушке, а себе берет корки. Мясо для дедушки Никича выбирает мама и всегда спрашивает: «Мягкое?»
«Хорошо», – сильно упирая на букву «о» и растягивая слова, отвечает Никич.
Марина очень любит и ценит дедушку Никича. Когда с ним случается «запойный грех», как говорит Лина, Марина никому не позволяет упрекать старика. Особенно часто ей приходится сдерживать Катю.
«Подумай! Он опять пришел пьяный! Как же ему не совестно! У тебя дети! – возмущается Катя. – Неужели же он не понимает этого?»
«Он понимает и очень мучается. Я тебя прошу ни одним словом…» – волнуется сестра.
«Да слышала, тысячу раз слышала! – машет рукой Катя. – Не беспокойся, пожалуйста. Я ничего не скажу. Но что он за человек после этого?»
«Катя! – строго говорит сестра. – Нехорошо иметь такую короткую и неблагодарную память. Мы с тобой лучше всех знаем, что он за человек».
Катя недовольно замолкает.
Но сегодня нервы у нее возбуждены волнением бессонной ночи, неизвестным человеком, который не пришел на службу к сестре и оставил после своих расспросов неприятное чувство брезгливости и тревоги, Динкой, которая досаждала ей с утра своими дурацкими выходками, и, наконец, Никичем, которому нужно весь вечер штопать и латать какие-нибудь обноски.
– Бессовестный старик! – с сердцем бросает она, вспыхивая от негодования.
– Катя! – строго останавливает ее сестра.
– Он больной, Катя, – тихонько вступается Мышка.
– Больные тоже бывают бессовестные, – не унимается Катя.
Алина сидит, вытянувшись в струнку; заплетенные в косички волосы открывают ее торчащие уши, тонкая шея кажется слишком длинной. Она поднимает на тетку глаза и, глядя ей прямо в лицо, твердо говорит:
– Он папин и наш. Никогда нельзя его ругать.
– Он такой старенький, Катя… – умоляюще шепчет Мышка. Катя молчит. Слова Алины наглухо закрывают ей рот. Но Динка беспокойно шевелит губами; защита старших сестер вдохновляет ее поделиться впечатлениями вчерашней встречи с дедушкой Никичем.
– Мамочка, – тихо говорит она, – он пришел еще вчера вечером… в одних только беленьких штанишках. Ему было так холодно, что он весь шатался, и даже нос у него был такой отмороженный, красненький с синеньким…
– Это что еще за выдумки! – перебивает ее Катя. – Прекрати сейчас же свои чувствительные истории!
– Конечно. Это ни к чему совсем, – пожимает плечами Алина. Мышка фыркает в кулачок и изо всех сил удерживается от смеха. Динка, сопя от обиды, толкает ее под столом ногой.
– Дедушка Никич заболел. Я потом схожу к нему, – говорит мама. – Мышка, скажи Лине, чтобы давала второе.
Лина входит расстроенная, с красными подушечками под глазами: ее тоже допек этот «разнесчастный день», да еще Катя упрекнула за Никича, – мол, не тогда сказала, надо было после обеда.
Марина смотрит на красные подушечки под глазами Лины и, чтобы подбодрить ее, весело напоминает:
– Сегодня суббота, завтра к нам приедет Малайка!
Малайка, общий любимец семьи Арсеньевых, много лет служил на элеваторе дворником. Он пришел на элеватор еще подростком, учился в воскресной школе Марины и, горячо привязавшись ко всей семье, был ее верным помощником и не раз выполнял поручения самого Арсеньева. В тяжелое время, когда начались повальные обыски, Малайку тоже не раз вызывали в полицию, но на все вопросы он упорно отвечал одно и то же:
«Мы татарин, по-русски не понимаем».
Когда Арсеньев вынужден был скрываться, Малайка приносил от него весточки и тайком устраивал ему свидания с Мариной. Теперь, оставшись один на элеваторе, Малайка тосковал. Он не любил нового инспектора и никогда не забывал в свободные дни навестить семью Арсеньева. Но не только «барина Мара» и выросшие на его глазах дети привлекали Малайку… Давней любовью его была Лина.
– Обязательно приедет! – лукаво улыбается Марина. – Он, наверное, уж соскучился, наш Малайка!
– Ишь нехристь, соскучился! По ком это ему скучать? – не поднимая глаз, говорит Лина, но полные губы ее невольно растягиваются в улыбку. – Может, по вас? А по мне нечего, я ему в пару не гожусь…
– Ну и не надо! Я сама за Малайку замуж выйду, он хороший. Правда, мамочка? – весело говорит Динка.
– Конечно. Каждая за него пойдет с удовольствием, – подтверждает мама.
– Удовольствие! – фыркает Лина и, уже развеселясь, спрашивает: – А вы что над кушаньями-то мудруете? Ночевать, что ли, за столом хотите? Али третьего ждете? Дак третьего нынче нет!
– Нет, есть, – говорит Марина. – На третье у нас яблоки и…
– «Сытин»! – подсказывает Мышка. Она больше всяких сладостей и игрушек любит маленькие книжечки, на которых написано: «Типография т-ва И. Д. Сытина».
– Сытин на третье! Вот так Сытин! – хохочет Динка.
– Алина, принеси свертки! – говорит мать.
Глава 9
Мамины гостинцы
Алина приносит свертки. Стол быстро освобождается. Катя вытирает голубую клеенку. Старшие сестры терпеливо ждут, пока мама разворачивает свертки, но Динка лезет с ногами на стул и топчется на нем, возвышаясь над всеми головами.
– Ну куда ты вылезла? – тянет ее за платье тетка.
Динка быстро-быстро гладит ее по волосам:
– Ничего, Катя! Пускай я буду тут! Не тащи меня!
Мама вынимает из кулька три яблока. Одно из них очень большое и румяное.
– Это детям, – говорит она.
Алина берет самое большое яблоко и смотрит на Мышку.
– Я дам это Динке, ладно?
– Конечно, – рассеянно соглашается Мышка и жадно смотрит на аккуратно завязанную стопочку книг. Динка с радостью хватает яблоко.
– Его даже есть жалко! – говорит она.
Мама разворачивает еще один сверток.
– А что ты привезла себе, мамочка? А Кате? – спрашивает Алина.
– А дедушке Никичу? А Лине? – напоминает Мышка.
Они знают, что если мама привозит какие-нибудь гостинцы, то она привозит их всем.
– Подождите… Вам яблоки и книжки… Дедушке Никичу перочинный ножик. Он вот здесь. Разверни, Алина.
Алина достает перочинный ножик.
– Покажи. Острый? – спрашивает Динка. Она трогает лезвие ножа и деловито заявляет: – Хороший. Дедушка Никич как раз потерял свой, а ему надо!
– Ну, значит, кстати, – радуется мама. – А вот Лине три гребешочка!
– Лина! Лина! – перегнувшись через перила, кричат дети. Но пока Лина доходит до крыльца, Динка уже летит к ней навстречу и тащит ее за фартук.
– Пойдем! Там такие гостинцы! Всем, всем гостинцы! – захлебываясь, говорит она.
– Пришла-приехала баловница… Все свое жалованье небось растрынькала. Ну купила б детям по яблочку, а то гляди, чего тут, – подперев рукой щеку и глядя на стол, выговаривает Лина.
Но Мышка уже снимает с нее головной платок и засовывает ей в волосы новые гребешки. Ободочки у гребешков выложены цветными камушками, и Лина очень довольна.
– И угадает же, что кому! Андел ты наш, милушка бесталанная! – целуя маму, растроганно говорит Лина и тут же выкладывает все, что ее тревожит: – Ведь вот стратила денежки-то, а в булочной у нас за две недели не плочено. Туды-сюды раздадим, а как начнут энти сыщики про нас расспрашивать да распытывать, да сгонит нас хозяин с квартеры, куда без денег пойдем?
– Что такое? – искренне удивляется Марина и смотрит на Катю.
– Да глупости! Вечные Линины страхи! – смеется Катя и, видя, что Лина собирается что-то возразить, быстро предупреждает: – Лина, не забывайте…
Но старшая девочка уже настораживается:
– О чем это она говорит! Какие сыщики? Почему нас сгонят с квартиры?
– А почему раньше сгоняли? Как узнают, что неблагонадежные, так и сгоняют. Ладно, попался хороший хозяин, ничем не антересуется, а то б живо… – начинает опять Лина и, поняв, что проговорилась, машет рукой. – Терпения нет с этой жизнию!
– Лина, поставь лучше самовар! Так чаю хочется! – говорит Марина и, проводив Лину смеющимся взглядом, шутит: – Ну, неблагонадежные, теперь остается последний, очень интересный гостинец… Это нам с Катей!
– А книжки, мамочка? – жалобно спрашивает Мышка.
– А книжки будете смотреть после. Это удовольствие на целый вечер. Потерпи немного, Мышка!
– Сейчас Кате с мамой. Ишь какая! Все ей да ей! Нехорошо, Мышка! – строго замечает и Алина.
Мышка, краснея до слез, прячется за тетку.
– А нам с Катей… – Марина, с улыбкой поглядывая на сестру, роется в сумочке. – Сейчас… сейчас…
Дети в нетерпеливом ожидании смотрят на ее пальцы, которые быстро-быстро перебирают в сумочке какие-то бумажки, встряхивают платочек, торопливо роются в боковых отделениях…
– Потеряла? – ахает Алина.
– Нет, нет… Сейчас… подождите…
– Вот носишь с собой всякую дрянь… – начинает Катя, но Марина с торжеством вытаскивает две тоненькие зеленые бумажки.
– Это билеты в театр, – говорит она, сияя. Катя всплескивает руками, глаза ее тоже сияют, и на щеках вспыхивает румянец.
– Ну подумай, Марина! Что ты только делаешь! – нежно упрекает она сестру. – С какой же это радости?
– Не с радости, а с гадости, – смеется Марина. – Сегодня так скверно было на душе, так захотелось чего-нибудь хорошего! Пошла и купила билеты. И знаешь на что? На пьесу Толстого «Живой труп».
– Неужели? – Катя хватает билеты, не в силах скрыть своей радости. – Это просто замечательно! Мне так хотелось пойти на эту вещь!
Алина и Мышка разглядывают билеты и, видя, как счастливы мать и тетка, тоже радуются.
– Идите, мамочка, идите! Я посмотрю за детьми! – говорит Алина.
– А я за Динкой посмотрю! – обещает Мышка.
– Да это еще не так скоро, – говорит мать. – Я просто заранее взяла билеты.
– Как это – билеты на труп? – налегая на стол, громко спрашивает Динка.
Но матери и тетке не до нее. Они уже советуются между собой, в чем пойти в театр и как оставить на этот вечер детей.
– Какой труп, мама?.. – капризно тянет Динка.
– Не приставай! – строго говорит Алина. – Все равно ты ничего не поймешь! Это такая пьеса. И слезь со стола сейчас же!
Мышка тянет сестру за руку.
– Пойдем, я тебе скажу. Живой труп – это не труп, – шепотом объясняет сестра, отводя Динку в сторону. – У нас есть он на чердаке, в папиных книжках.
Динка недоверчиво смотрит на сестру.
– Он живой? – так же шепотом спрашивает она.
– Да нет… Ты не понимаешь… – пытается объяснить Мышка. – Это же не настоящий труп, а живой человек… просто он такой несчастненький.
Динка почему-то вспоминает стихи: «Тятя, тятя, наши сети притащили мертвеца…»
– Его притащили на чердак? – еще тише спрашивает она.
– Кого? – таращит глаза Мышка.
– Да этого… несчастненького… живого трупа, – показывая что-то руками, допытывается Динка.
– Хи-хи-хи! – тоненько хихикает Мышка. – Хи-хи-хи! Это же книга… это пьеса… Она просто так называется, – заикаясь от смеха, говорит она.
– А чего же ты врешь тут все! – сердито толкает ее Динка.
– Хи-хи-хи! – пригнувшись к полу, заливается Мышка.
Динка больно дергает сестру за волосы:
– Вот тебе за твой труп! Дуришка-Мышка! Куриная голова!
– Ты сама куриная голова! Я с тобой больше не вожусь, – обижается Мышка.
– Дети, дети! – кричит Алина. – Не ссорьтесь! Пойдем смотреть книжки! Мышка, ты плакала?
– Я не плакала, – подходя к столу и вытирая слезы, говорит Мышка.
– Динка, что ты ей сделала?
Динка, сердито сопя, берет со стола свое яблоко.
– Где мама? – спрашивает она вместо ответа.
– Мама с Катей ушли на кухню. Не ходи туда, дай им отдохнуть от детей, – говорит Алина. – Займись чем-нибудь.
– Я буду есть яблоко, – угрюмо говорит Динка, усаживаясь на перила.
– Ну а мы будем читать! Вот книги, Мышка! – Алина поднимает со стула горку маленьких книжечек.
– Ой, как много! – с восторгом говорит Мышка и, уткнувшись в книгу, забывает обо всем на свете.
Алина тоже садится читать. На террасе становится очень тихо…
Глава 10
Угрызения совести
Динка остается одна. На коленях ее лежит яблоко, но она не ест его, а только гладит румяные бока. Везде так тихо, из кухни не доносится ни одного голоса, сестры сидят молча. В саду тоже скучно, солнце уже спряталось за калиткой, и кусты, не окрашенные в его теплый цвет, и дорожки, и листья на деревьях тускнеют… На Волге гудит пароход. Высокие пенистые волны бегут от него к берегу…
Динка ежится, подбирает ноги. Никогда больше она не заплывет так далеко. Как они швыряли ее, переворачивали, эти пароходные волны… Вода набиралась ей в рот и в нос. Ведь она же и вправду тонула, а тот мальчик… его зовут Ленька… все время кричал ей: «Не бойся, не бойся», – а сам схватил ее за волосы.
Динка трогает свою голову. Наверное, много волос выдернулось с корнем, потому что даже сейчас до головы больно дотронуться. Дурацкое это спасение – за патлы…
Динка снова вспоминает все с самого начала. «Никто ничего не знает, – думает она. – Ни Алина, ни Мышка, ни мама… Если бы мама знала, как я поступила с тем мальчиком! Если б она видела, как его бил хозяин! Шел и бил, шел и бил. А берег длинный-длинный… Мама сшила бы мешочек, положила туда хлеб и сказала бы мне: «Иди себе, девочка, куда знаешь, мне не нужна такая дочка». Динка плакала бы и кричала, а потом пошла… Пошла бы, как тот гномик на открытке, которую прислал папа. На этой открытке густой-густой лес. И в лесу идет гномик. На нем красный колпачок, в руке палочка, а за спиной узелок… Далеко-далеко, в самой чаще горит огонек. «Вот, – сказала бы мама, – иди на этот огонек, – может, там есть добрые люди, которые примут тебя».
На глаза у Динки набегают слезы.
«Эх ты, паскуда!» – сказал ей тот паренек.
Такое нехорошее слово сказал – наверное, это самое главное ругательство. И никто-никто не заступился, все смотрели такими злыми глазами, как будто хотели опять бросить ее в воду.
Динка смотрит на Мышку, на Алину. Если убежать на кухню, к маме, Алина рассердится. Если бы все говорили, шумели, бегали, Динке было бы не так страшно. А сейчас все молчат, и так страшно, так горько на сердце. Если бы пойти на баржу и сказать: «Ленька! Не сердись на меня».
Динка крепко сжимает яблоко, взгляд ее падает на его гладкие румяные бока.
«Я отдам ему яблоко. Я скажу: «Возьми, Ленечка. Зачем ты меня спасал, даже волосы все выдернул, я теперь уже никогда не забуду, как тебя бил хозяин. Лучше бы мне утонуть и не жить на свете. А может, ты хочешь ножик с перламутровой ручкой? Так у меня есть, я тебе отдам, и открытки папины отдам, и цветные карандаши. Я прямо на баржу тебе принесу, я скажу: «Возьми, Ленечка». Я никого не забоюсь. Мне так плохо, Ленечка, я теперь уже не мамина дочка. И папы у меня нет. Папа тоже не стал бы меня любить из-за тебя. И Мышка не стала бы, и Алина. У меня, Лень, и пенальчик есть, и маленький топорик, что тебе надо, то и возьми, возьми, Ленечка…»
Динка мысленно роется в своем ящике с игрушками и отбирает все самое ценное, самое дорогое ей. Жалостно и тоскливо у нее на сердце, вещь за вещью отдает она Леньке, повторяя одни и те же слова: «Возьми, Ленечка…»
Она завтра же раным-рано пойдет на баржу. Подарки утешают ее, но мама… Как это один раз сказала мама?
Еще тогда Катя обидела Лину, а потом ей стало жалко, она взяла свой новый шелковый платочек и велела Мышке отнести его Лине, а мама сказала: «За обиду не платят подарком, Лина не возьмет твой платок!»
А потом пришла сама Лина и отдала Кате ее платок. Лина очень плакала и все говорила: «Ты мне сердце растревожила, а платок посылаешь на голову…»
Так и Ленька скажет: «Наврала на меня, подвела под кулак, а теперь пришла: «Возьми, Ленечка…» Не нужны мне твои подарки: ни ножик с перламутровой ручкой, ни яблоко, ни открытки. Обида моя дороже этого стоит».
«А что же ты хочешь за свою обиду, Ленька? Если б были у меня камни самоцветные из Мышкиных сказок… и волшебный самолет, и Конек-горбунок… все отдала бы я тебе…»
«Нет, не нужен мне ковер-самолет, не нужны камни, и Конек-горбунок не нужен… Растревожила ты мне сердце обидой. Дороже этого она стоит…»
«Тогда приду я к тебе, Ленька, и буду плакать… Долго-долго буду плакать из-за тебя…»
«Что же, плачь, – говорит Ленька, – может, успокоится мое сердце от твоих слез и пройдет в нем обида. Ведь сказала же твоя мама, что за обиды не платят подарками, а вот когда плачет и раскаивается человек, то от слез его и обида уменьшается…»
Яблоко с глухим стуком падает с колен Динки.
– Дина! У тебя яблоко упало! – с раздражением говорит Алина. – Подними сейчас же!
– Не надо мне его, – тихо отвечает Динка.
Она сползает с перил и подходит к Мышке. Мышка сидит на стуле, подняв коленки и уткнувшись носом в книгу. Когда Мышка читает, то ее можно толкать, дергать за волосы, «выжимать» со стула, давить ей на ногу – она ничего не видит, кроме книги. Но Динка не может больше оставаться одна.
– Мышка, – говорит она и тянет из рук сестры книжку. – Давай поиграем, побегаем. Расскажи мне сказку, Мышенька.
– Оставь, не тронь меня, – бормочет Мышка, изо всех сил цепляясь за книгу. – Уйди, уйди…
– Мышенька, не читай, пойдем со мной, – просит Динка.
Мышка прижимает к себе книгу и смотрит на сестру далеким, отсутствующим взглядом.
– Что тебе нужно? Алина! Возьми ее от меня! Она мне мешает! – взывает Мышка к старшей сестре.
Алина вскакивает и сердито хватает Динку за руку.
– Не смей трогать Мышку! Что ты лезешь ко всем! Вот я скажу маме!
Слезы щекочут Динке горло, подступают к глазам.
– Ладно, – бормочет она, – ладно. Я могу опять утонуть, если захочу.
– Уходи и не бормочи тут! Сама не читаешь и другим не даешь. Уходи с террасы! – гонит ее Алина.
Динка не сопротивляется. Но в саду уже становится темно, и идти некуда. Динка смотрит на усыпанную камнями дорожку, на черную землю под цветами. Алина зажигает на террасе лампу с зеленым абажуром. Зеленовато-желтый свет падает на дорожку.
«Сейчас провалюсь сквозь землю, – думает Динка. – Сяду к черту на сковородку и скажу: «Зажарь меня и сожри с косточками». А черт скажет: «Ты в бога не веришь, тебя жарить нельзя».
Динка глубоко вздыхает. Неправда все это, никакого черта нет. Если бы он и был, то даже на сковородке ей нет места. Все ее прогнали, бросили. Мама с Катей сидят в кухне. Там тоже горит огонек. Наверное, они чинят белье для Никича. А Никич лежит в своей палатке и ни о чем не думает. Может, он спит? А может, проснулся, но не хочет выходить? «Пойду к Никичу», – решает Динка.
Но калитка громко хлопает, и в наступающих сумерках вырастает высокая фигура.
– Дядя Лека! – кричит Динка, мгновенно забывая все свои горести. – Дядя Лека приехал!
Глава 11
Дядя Лека
– Дядечка! Дядечка! – раздаются за спиной Динки радостные голоса сестер, но она первая влетает в широкие объятия дяди Леки, виснет у него на шее, вдыхает знакомые запахи табака и леса.
Дядя Лека служит лесничим и всегда живет в лесу. Он приезжает редко и ненадолго, но когда он приезжает, то все в доме становится праздничным. Олег Леонидович – страстный охотник. Зимой у Марины перед кроватью лежит рыжая шкура убитого им медведя, а у детей не переводятся меховые варежки и беличьи телогрейки.
– Мама! Катя! Дядя Лека приехал! – кричит Алина.
Марина и Катя бегут по дорожке.
Олег Леонидович обнимает сестер и, заглядывая им в глаза, спрашивает:
– Ну, как вы тут? Живы, здоровы?
Олег – высокий, худой, голубоглазый. На нем охотничья куртка и желтые краги. Когда он стоит рядом с сестрами, то всем сразу бросается в глаза удивительное сходство всех троих. У них одинаковые вьющиеся волосы, голубые глаза. Только у Кати волосы немного темнее и глаза зеленые, но и ее часто путают с Мариной.
– Сестреночки мои, голубочки. Никак я не мог раньше вырваться, – целуя то одну, то другую сестру, говорит Олег. – Как вам тут живется? Как бедуется?
Сестры наперерыв что-то рассказывают ему, что-то шепчут на ухо и спрашивают; он отвечает сразу обеим, и к дому они идут втроем, тесно обнявшись и улыбаясь друг другу.
А дети, подпрыгивая, бегут сзади, и даже Алина не подходит к дяде Леке, чтобы не помешать маме и Кате хорошенько поздороваться и излить свою радость.
Олег – старший и единственный брат Марины и Кати. Они рано лишились матери и, когда отец женился на другой, тяжело страдали от сурового обращения мачехи. Единственной воспитательной мерой воздействия этой злой женщины были розги. Особенно доставалось Марине, потому что Катя была еще маленькой, а Олег уже учился в городе. Приезжая на каникулы и видя жестокое отношение мачехи к сестрам, Олег пробовал жаловаться отцу, но отец был болен, редко выходил из кабинета, и мачеха умела убедить его, что мальчик не желает считаться с ней, как с матерью, и нарочно клевещет на нее отцу. Олега перестали брать на каникулы домой, он терзался, писал отцу умоляющие письма, но мачеха жгла их, не передавая.
Однажды Олег самовольно вырвался из пансиона и тайком приехал домой. Прорвавшись к отцу, он потребовал отдать ему обеих сестер или выгнать мачеху. Впервые после смерти матери отец откровенно объяснился с сыном и поверил ему. Олег получил разрешение взять Марину и поместить ее в частный пансион. Катя оставалась дома, но, когда через год отец умер, старший брат, приехав на похороны, тайком увез младшую сестру к себе. Боясь погони, он долго прятал сестру у знакомых, но мачеха и не думала разыскивать детей, не пробовала вернуть их домой и совершенно не интересовалась, на что они живут. Олег, боясь, что она потребует от него сестер, никогда не обращался к ней за помощью. В шестнадцать лет он уже окончил пансион и работал в частной конторе переписчиком, а в свободные часы бегал по урокам. Эти средства давали ему возможность платить в пансион за Марину и кое-как перебиваться с маленькой Катей.
Время шло, старшая сестра подрастала и становилась в помощь брату; оба они, нагрузившись уроками, воспитывали младшую сестру. Катя долго не могла забыть истязания мачехи, она росла угрюмым, недоверчивым ребенком, дичилась чужих людей. Нежные заботы и ласки брата и сестры постепенно изменили ее характер, но на нем навсегда остался отпечаток грусти и суровости.
Выйдя замуж, Марина взяла Катю к себе и с тех пор никогда с ней не расставалась. Олег женился, но по-прежнему заменял сестрам отца. Мачеху они больше никогда не видели, и от тяжелого детства у всех троих осталась только страстная, нежная привязанность друг к другу. Поэтому и сейчас приезд Олега был большим праздником для сестер.
«Ты такой худой, Олежка! Поживи хоть немного с нами, отдохни», – каждый раз просили Марина и Катя.
Но Олег никогда не отдыхал. Способный и деятельный, он вечно что-то изобретал и продавал свои маленькие изобретения какой-нибудь фирме, служил лесником, охотился и баловал сестер подарками. В революционной деятельности семьи Арсеньевых он не принимал прямого участия, хотя охотничий домик его в лесу был постоянным и надежным местом для укрывающихся от полиции революционеров. Там же хранилась и подпольная типография, вывезенная с элеватора.
– Вон бежит Лина! – освобождаясь от сестер, сказал Олег и пошел навстречу Лине. – Здравствуй, здравствуй, моя Лина, чернобровая дивчина! – шутливо запел он, протягивая ей руку.
– Гость ты наш неописуемый! – запричитала Лина, на ходу вытирая раскрасневшееся лицо широким рукавом. – Заявился наконец, долгожданный наш!
– Заявился! Заявился! И прямо к чаю! – шутит Олег.
– Здрасьте, Олег Леонидович! – церемонно закончила свои причитания Лина, подходя ближе и протягивая дощечкой руку. – Вот радости-то! – снова затараторила она. – А мне нынче под утро крыса приснилась! Так и сигаеть вкруг меня, так и сигаеть! Ну, думаю, обязательно гость какой-нибудь неописуемый заявится! Встала утресь и давай пироги ставить!
– Пироги? Ну и молодец ты, Лина! То-то и мне нынче приснилось, что я вокруг твоих пирогов так и сигаю, так и сигаю! – шутит Олег.
– Ишь насмешник! – хохочет Лина и, махнув рукой, бежит в кухню. – Катя, становь чашки, сейчас самовар несу!
За чаем Олег дурачится с детьми, показывает фокусы, вытаскивает из рукава то вилку, то нож. Повеселевшая Динка не сводит с него глаз; Алина обязательно хочет подловить дядю Леку и заглядывает ему в рукав; неисправимая читальщица Мышка держит на коленях недочитанную книгу и, пробегая тайком страницы, смеется из вежливости. Но она смеется невпопад, потому что, углубившись в чтение, не видит никого из окружающих.
– Мама, лежачего не бьют? – неожиданно спрашивает она, поднимая голову от книги.
За столом раздается общий хохот. Мышка сильно смущается и вместе с книгой юркает под стол. Но когда хохот утихает, из-под скатерти снова показывается ее голова с прямыми прядями белых волос.
– Лежачего не бьют? – тихо и настойчиво повторяет она свой вопрос.
– Ха-ха-ха! Как раз бьют! – бойко отвечает Динка.
– Ого! – поднимает брови Олег и с комическим недоумением смотрит на Марину.
Сестра отвечает ему легким пожатием плеч, но щеки ее розовеют. А Динка уже уносится мыслями на берег, где лежат рядышком два ее врага – Минька и Трошка.
– Еще как бьют! – с удовольствием говорит она.
– Ну, это ты врешь! – вмешивается Олег. – Кто же бьет лежачего?
– Если человек лежит, значит, он уже сдался. Он беззащитный, а кто же бьет беззащитного? – серьезно спрашивает мать.
– В общем, этот лежачий может быть и не в прямом смысле слова лежачий, но как ей объяснить? – с улыбкой поворачивается к сестре Олег.
Но Динка снисходительно улыбается и щурит глаза:
– Лежачего не бьют, ну да… Пускай встанет и сам даст по шее?
– Кто встанет? – спрашивает Катя. Динка настораживается. Она всегда настороже, когда в разговоре принимает участие Катя.
– Ну, если этот лежачий вдруг встанет и сам начнет бить? – спрашивает она.
– Динка, видно, подразумевает драку и хочет знать, как ей поступить, если враг ее уже упал и лежит, – догадывается Олег.
– Да, – хитро улыбается Динка. – Как быть, если он лежачий?
– Ну, если он упал, значит, ты оказалась сильнее. Зачем же тебе пользоваться своей силой и бить его еще? – пожимает плечами мама. – Ведь это же нечестно!
– А если он не упал, а просто спит. Вот я так иду, иду, а он спит… Он тоже лежачий? И его тоже нельзя трогать? – заинтересовывается Динка.
– Ну, это уж совсем подло, Дина! – хмурится мать. – Как ты не понимаешь таких простых вещей!
– А если человек просто упал… За ним гнались, а он бежал, бежал и упал – вот тогда разве можно его бить, мама? – взволнованно спрашивает Мышка, все еще находясь во власти прочитанной страницы.
– Есть такие негодяи, что и бьют, – серьезно отвечает Олег. Но Динка не согласна. Ей сразу представляется, как главный ее враг, Минька, вдруг вскочил и удирает от нее во все лопатки; у Миньки длинные ноги, его бы ни за что не догнать, но вот счастье: Минька споткнулся и упал!
– Ого-го! – хохочет вдруг Динка. – Лежачего не бьют? А сидячего? Упал! Ого-го! Так я бы ему крикнула: сядь, убоище, сядь!
– А ты не знаешь, кто упал! Ты не знаешь! – вдруг обрушивается на сестру Мышка.
– А я посмотрю на его харю, так сразу узнаю! – старается перекричать ее Динка.
Взрослые озадаченно смотрят друг на друга. Олег вдруг разражается громким хохотом.
– Я пропал, Марина! Я пропал! – хохоча, повторяет он. – Твое изысканное воспитание дает блестящие результаты! Ха-ха! Я погиб!
Катя, зараженная смехом брата, тоже начинает смеяться.
– Да перестань, Олег! С ней же ничего нельзя предвидеть! – оправдывается Марина, с трудом удерживаясь сама от смеха. – Динка, ты совсем не понимаешь, что болтает твой язык! Ведь мы смеемся над твоей глупостью! – говорит она дочке.
– Это плохие слова, Дина, и маме стыдно за тебя! – вступает Алина, не понимая, как могут смеяться взрослые, видя такое безобразие. – Надо говорить «лицо», а не так, как ты… – поправляет она сестру.
– У хорошего – лицо, у плохого – харя, – решительно заключает Динка.
– Правильно! – вскакивает вдруг Олег. – У хорошего – лицо, у плохого – харя! Коротко и ясно! Марочка, не сбивай ее!
– Нет, неправильно! Это грубое слово, и если она сама может его произносить, то другим противно слушать! – горячится мать.
– Она не должна даже знать таких слов! – вставляет Катя.
– Ну а если узнала? И совершенно правильно поняла их? Так чего вы от нее хотите?
Динка со снисходительной усмешкой смотрит на взрослых. Она знает и другие слова, похуже этого! Подумаешь, «харя»! Есть о чем спорить! Послушали бы, как грузчики на пристани ругаются!
Но девочке становится скучно. Она вообще не любит, когда много говорят об одном и том же. А у взрослых языки – как у ночного сторожа колотушка: тра-та-та… тра-та-та… Сами кричат и друг друга перебивают, а детям делают замечания.
– Мама! Пойдем к пианино! Мама! Давайте вылезать из-за стола!.. – капризно тянет Динка.
Марина и Катя мгновенно забывают обо всем на свете.
– Олежка, спой! Спой! – обнимая брата, просят они. Любимая вещь в доме – пианино – стоит в маленькой комнате, заменяющей в дождливые дни столовую. Алина зажигает свечи, Олег достает папку с нотами, мать придвигает к пианино свой стул. Мышка усаживается с Катей в одно кресло, Алина устраивается на подоконнике, Динка долго возит по комнате свой стул: ей обязательно надо видеть лицо дяди Леки, когда он поет. Наконец и она усаживается, обхватив руками колени.
– Ну, вы уселись? – спрашивает Олег и хлопает в ладоши. – Начали! «Песня жаворонка». Кто написал? Какой композитор? Живо! – обращается он к девочкам.
– Рахманинов! Нет, Глинка! – гадает Мышка.
– Алябьев, – говорит Алина.
– А ты, егоза, как думаешь? – спрашивает дядя Лека Динку.
– Я никак о нем не думаю.
– Нехорошо. Песни любишь, музыку любишь, а не хочешь даже знать, кто написал. Ну, начали! – Марина берет первые аккорды.
– «Между небом и землей жаворонок вьется…» – тихо и медленно начинает Олег.
Маленькая птичка кружится и кружится над землей вместе с голосом дяди Леки, с поющими клавишами под мамиными руками, она поднимается вверх и падает вниз. Из-под Динки уходит стул; вцепившись в свои коленки, она тоже поднимается и падает вместе с голосом дяди Леки, вместе с птичкой… И сердце у нее замирает, как на качелях… А жаворонок поднимается все выше, он уже поет над другой птичкой, над подруженькой своей поет этот жаворонок звонкий… Губы Динки шевелятся, лицо принимает выражение поющего Олега, жаворонок кружится уже где-то далеко-далеко…
Когда последние аккорды замирают, все молчат.
Динка тоже молчит. Перед ее глазами встают какие-то смешные штучки-закорючки на нотах. Ей хотелось бы спросить самого композитора, как это он придумал, что из таких закорючек получается песенка птички…
Но дядя Лека ставит перед мамой новые ноты, и все знают, что сейчас будет что-нибудь веселое. Веселая музыка и веселые слова не бросают Динку вверх и вниз, она принимает их как плясовые, ей хочется выделывать какие-то антраша ногами и руками, она не может удержаться и подпрыгивает на стуле в такт музыке.
Но все уже кончается, и только в тишине слышен голос Кати:
– Динка, сиди тихо!
Дядя Лека достает из папки еще одни старые, истрепанные ноты.
– Что это? – спрашивает Марина, глядя на обложку.
Когда мама поворачивается, от пламени свечей косы ее блестят, словно переплетенные золотыми ниточками. Но косы мешают ей, брат бережно поднимает их и укладывает за спинку стула. Золотые ниточки исчезают.
– Вот сейчас мы вам споем волжскую песню про Степана Разина! – объявляет дядя Лека.
Динка нетерпеливо ждет. Она знает, кто такой Стенька Разин.
Мама много рассказывала о нем. И теперь иногда, глядя с обрыва на Волгу, Динка представляет себе, как выплывают на середину реки расписные острогрудые челны. И на переднем сидит Стенька Разин. Кафтан его весь в серебре и золоте, шапка у него из алого бархата. Стоит перед ним чарка вина, и сидит рядом с ним персидская княжна. Но атаман говорит, что эта самая княжна совершенно ему не нужна, и Динка вполне согласна с атаманом Стенькой Разиным. Сейчас он будет сражаться и убивать врагов, тут такое подымется, и она будет сидеть и хныкать, а товарищи атамана рассердятся – одним словом, ни к чему ее тут держать! Пускай берет ее себе в подарок Волга-матушка! Вот какая песня есть про атамана, но дядя Лека будет петь про какой-то утес.
– «Утес Стеньки Разина», – объявляет он.
Динка настораживается и вся превращается в слух.
- Есть на Волге утес,
- Диким мохом оброс, –
запевает Олег.
Динке представляется поросший зеленым мхом утес. Высоко-высоко возвышается он над Волгой. И сидит на том утесе храбрый атаман Стенька Разин. И никто не знает, о чем он думает, знает один утес. Но если взобраться на этот утес, то
- Утес-великан все, что думал Степан,
- Все тому смельчаку перескажет.
Динка глубоко задумывается. Песня давно уже допета, а она сидит, не шевелясь и уставившись в одну точку.
Дядя Лека тихонько окликает ее, потом громко кричит, вскидывая вверх руку:
– Сарынь на кичку!
Динка вскакивает.
– Что это? – испуганно спрашивает она. – Что ты закричал?
– Ага! – смеется дядя Лека. – А важничаешь, будто все знаешь… Ну-ка, Мышка, объясни ей, что я крикнул.
Мышка охотно спрыгивает с кресла:
– Это, понимаешь… Степан Тимофеевич…
– Не хочу Тимофеевича какого-то… Говори: атаман Стенька Разин, – недовольно прерывает Динка.
– Ну, это ведь все равно… Так вот, когда увидит атаман врагов и захочет на них напасть, он сразу кричит: «Сарынь на кичку!» И все товарищи его выскакивают, а враги сильно пугаются, и никто атамана победить не может… Да, дядя Лека? – спрашивает Мышка.
– Да-то да, но что означают эти слова? Ты не знаешь?
– Это, может, такой клич просто? – интересуется Мышка.
– Нет, не просто… Сарынь – это голытьба… – начинает объяснять дядя Лека, но Динка крепко зажимает уши и отбегает к двери.
– Мне не объясняй! Я сама знаю! – кричит она оттуда.
Ей кажется, что чудесные слова потому и таят в себе волшебную силу, что они непонятны. Сам атаман Стенька Разин шел с ними в бой!
«Сарынь на кичку!» Они звучат как заклятие против врагов. Как можно их объяснить простым, скучным голосом? Они могут все потерять от этого… И, пятясь от дяди Леки, Динка еще крепче зажимает уши.
– Не объясняй! Не объясняй! Я не хочу! – кричит она с испуганным и сердитым лицом.
– Что случилось? – спрашивает мама, но Динка уже исчезает за дверью.
– Вот лентяйка! Ничего выслушать не может! – серьезно говорит сестре Олег. – Хотел им объяснить, что значит «сарынь на кичку», а она заткнула уши и убежала. Надо с этим как-нибудь бороться, Марина!
– Я тоже говорю… – вмешивается Катя.
Между взрослыми заводится спор о воспитании детей. Алина торопится высказать свое мнение наравне с мамой и Катей, Мышка, стоя в углу, тревожно прислушивается к повышенным голосам: она боится, чтобы взрослые не перессорились между собой.
Динка стоит за дверью в нерешительности. Она слышит, как дядя Лека и Катя упрекают маму в излишней мягкости, как мама, волнуясь, оправдывается и сердится.
– Катя хочет сделать из меня какого-то жандарма в юбке! – говорит мама.
«Вот дура эта Катя! – пожимая плечами, усмехается Динка. – Еще не хватало, чтобы приехал папа и застал вместо мамы какого-то жандарма в юбке!» Динке кажется это смешным, но ей жаль маму… Вон и дядя Лека нападает на нее.
– У меня действительно, может быть, мягкий характер… И потом, я никогда не забываю мачеху… – оправдывается мама.
– Но никто же и не предлагает тебе мачехины меры! – возмущается брат.
«Бедная мама! – думает Динка. – За что они нападают на нее?» Если за то, что она мама и родила такую плохую девочку, так ведь родила-то она ее совсем маленькую и еще не плохую! А теперь Динка уже сама по себе, можно было бы не приставать к маме, а ругать самое Динку. Смешно прямо! Но Динке не смешно, ей надо выручать маму. Она распахивает обе половинки двери с таким треском, как будто рвет на груди рубаху, и появляется на пороге с таким видом, как будто хочет сказать: «Нате, стреляйте! Вот я!» Но никто уже ничего не говорит и даже не обращает на нее внимания. Дядя Лека снова роется в папке и ставит перед мамой еще одни ноты.
– Сейчас мама сыграет любимую Динкой «Бурю на Волге». Под эту музыку папа часто укладывал спать своего Орало-мученика! – улыбаясь, говорит он.
Воспоминание об отце сразу отражается на лицах детей. Алина и Мышка с нежной завистью смотрят на Динку, кивают ей, указывают глазами на пианино, откуда уже слышны первые раскаты начинающейся бури…
Динка должна бы счастливо улыбаться и вспоминать о том, как папа брал ее на руки и шел с ней в детскую, оставляя открытой дверь в гостиную, где играла мама.
Но у Динки неспокойно на душе. Она не видит папы… она видит большие пенистые волны над своей головой… Волны швыряют ее то вверх, то вниз… А рядом с ней мокрое лицо мальчика… Синие губы его шевелятся. «Не бойся… не бойся…» – слышится ей сквозь бурю в песне рыбаков, которую играет мама… Динка хватается за голову и тихонько стонет. «Это он топил меня, он!» – слышит она свой голос. Бородатый человек поднимает тяжелый кулак… «Ленька! Ленечка!» Динка хочет бежать к маме, но громкий плач вырывается из ее груди.
Музыка резко обрывается. Мама и дядя Лека подбегают к девочке, пробуют разнять руки, обнимают ее, что-то говорят ей тихими ласковыми голосами. Катя взволнованным шепотом упрекает за что-то брата и сестру… А Динка громко и безутешно плачет. Она знает, что никто-никто не может ей помочь, даже мама.
Уложив плачущую Динку, мать долго сидит у постели девочки, пытаясь разгадать причину ее слез.
– Просто нужно было вовремя уложить ее спать, – говорит Катя, чувствуя себя виноватой в том, что не подумала об этом раньше.
– Может быть, я как-то неосторожно напомнил ей об отце? – предполагает Олег, тоже чувствуя себя виноватым в Динкиных слезах.
– Нет… нет… – качает головой мать, – скорее, просто музыка… Ложитесь спать, дети! Попрощайтесь с дядей Лекой и ложитесь, – говорит она.
Мышка и Алина по очереди виснут у дяди Леки на шее. Завтра они уже не увидят его: он всегда уезжает с самым ранним пароходом.
– Идите, идите уже! – торопит их Катя. Ей хочется скорее уложить детей, чтобы успеть наговориться с братом. Они всегда очень долго сидят втроем, а сегодня сестрам необходимо рассказать Олегу о ночном приезде дворника с городской квартиры и о многом другом.
– А! – грозит пальчиком Алина. – Вы будете разговаривать без меня! Вы, может быть, разные секреты будете говорить!
– Ну мало ли о чем мы должны поговорить! Иди скорей и ложись… Мышка, не разбуди Динку! – на всякий случай говорит мама, хотя разбудить Динку – это обычно совсем нелегкое дело.
Дети уходят. В комнате Марины до рассвета горит лампа. Олег слушает сестер и рассказывает им всякие новости сам. История с неизвестным человеком, который расспрашивал о том, куда уехала госпожа Арсеньева с детьми, очень не нравится ему. Он хмурит брови, задумывается. Потом вдруг, хлопнув себя ладонью по лбу, весело говорит:
– Догадался! Знаете, кто это? Один из Лининых поклонников! Вы помните, как уже один раз она всех напугала? Помните?
Глава 12
Лина
Лина поступила к Арсеньевым, когда у них только что родилась Динка. Взяли ее прямо из деревни, куда ездила Марина с детьми на летние месяцы. Родных у Лины не было, старшего брата Силантия забрили в солдаты, вести от него приходили редко. Первые дни Лина дичилась, по комнатам ходила на цыпочках и отвечала на вопросы шепотом. Чернобровая, румяная, с золотисто-карими глазами, в длинном деревенском сарафане и с толстой русой косой, Лина была настоящей русской красавицей, и знакомые Арсеньевых удивлялись:
«Где вы такую красоту выкопали?»
«Это я нашла! – с гордостью отвечала Марина. – Она не только красивая – у нее душа замечательная!»
«Барыня, миленькая…» – говорила Лина.
«Я не барыня! – обижалась Марина. – Не называй меня так, Линочка. Зови меня, как все, Марина Леонидовна».
Лина мялась, путалась, не в силах запомнить такое длинное имя, и, не называя свою хозяйку никак, в случае надобности дергала ее за подол и объяснялась с ней по-своему:
«Иди… как тебя звать-то… запамятовала я опять». Лина приучалась к работе медленно. «Сронив» на пол чашку, она сильно пугалась и начинала плакать.
«Линочка, здесь нет злых людей, не бойся же так! Никто не обидит тебя, – с огорчением говорила ей Марина. – Ну разбила и разбила! Так же и я могла разбить! Ведь не нарочно же!»
Через неделю после поступления Лины к Арсеньевым в семье случились два события: рассчиталась и уехала к сыну старенькая кухарка Агафья и заболела воспалением легких Мышка. Слабенькая Мышка болела очень тяжело, воспаление легких повторялось у нее четвертый раз. Мать и молоденькая тетка сбились с ног, отец вместе с ними просиживал ночи около постели девочки… Малайка бегал то за доктором, то в аптеку… На Лининых руках осталась заброшенная Динка и пустая холодная кухня, в которой некому было истопить плиту и сварить обед. Видя всеобщее отчаяние и слезы, Лина вдруг почувствовала себя необходимой и, никого уже не спрашивая, как и что делать, вставала чуть свет, топила плиту, наваривала по-деревенски «пишшу» на целый день, купала и укачивала Динку, носила ее к матери кормить и, находя, что малышка орет с голоду, подкармливала ее манной кашей. Когда кризис миновал и Мышка начала поправляться, голоса в доме зазвучали громче и веселее, все вспомнили о маленькой Динке, отданной всецело на руки Лине.
«Надо бы подкармливать ее кашей», – сказала мать. «Ишь когда надумалась! – засмеялась Лина. – Уж без тебя подкармливаю! Разве она так орала бы? Она бы вам ни днем ни ночью спокоя не дала!»
Так Лина сделалась хозяйкой, перестала дичиться людей и, встречая на базаре кухарок из богатых домов, скромно выспрашивала у них рецепты городских кушаний. Марину она называла теперь милушкой, а Динку считала своим выкормышем и любила ее больше остальных детей. Нового человека Арсеньевы не брали, помогал по хозяйству Малайка, которым Лина командовала как хотела. Новый человек в доме был опасен: тревоги и волнения, связанные с революционной работой Арсеньевых, трудно было бы скрыть от чужих глаз и ушей. Лина многое видела, многое слышала, многое поняла и многого не поняла. Всех жандармов она называла приставами и больше всего боялась сыщиков. Сыщики мерещились ей везде и всюду. Случай, который вспомнил Олег, был такой: однажды молодой парень, заглядевшись на красивое румяное лицо Лины, пожелал с ней познакомиться и начал частенько похаживать около дома Арсеньевых. Лина прибегала вся в слезах.
«Сыщик! Выглядывает чегой-то! Господи! Так бы и своротила ему скулы на сторону… Ведь заарестуют нас всех тута… урод неслыханный!» Это было после арестов и обысков девятьсот седьмого года.
В то время жандармское управление еще не имело сведений об отъезде Арсеньева и пыталось найти его след. Около дома Арсеньевых нередко появлялся сыщик.
«Ходит урод… ходит!» – жаловалась Лина, прибегая под вечер из булочной…
Однажды Катя решилась выйти. У ворот действительно прохаживался какой-то парень. Катя была сама еще очень молодой, но характер у нее был решительный и уже закаленный в постоянных опасностях. Она подошла вплотную к чужому человеку и строго спросила, что нужно ему около их дома. «Урод» оказался красивым парнем с кудрявой шевелюрой. Он смущенно снял картуз и молча стоял перед Катей, подавленный суровостью ее взгляда. Потом оказалось, что он мастеровой и что ему понравилась «куфарочка» из этого дома, но познакомиться с ней не решается – вот и ходит в пустой надежде около дома.
«Вы не подумайте чего-нибудь плохого…» – умоляюще повторял парень.
Подозрительная Катя, не зная, чем кончить этот разговор, придумала выход.
«Пусть придет к нам ваша мать», – сказала она.
Парень обрадовался, и на другой день чинная старушка в кашемировой шали робко кланялась у порога. Семья оказалась хорошая, рабочая.
Лина расчувствовалась, поила старушку чаем, а под конец обратилась к ней с «покорнейшей и нижайшей» просьбой, чтобы парень не ходил у ворот: «Замуж я не пойду, а время провожать зря нечего».
Всем было жаль красивого парня, но Арсеньевым Лина объяснила свой отказ тем, что раз уж померещился ей в парне сыщик, то так и будет всегда мерещиться.
«Не смогу я его личность переносить».
Парень долго писал слезные письма, получая всегда один и тот же ответ:
«Покорнейше и нижайше прошу: оставьте меня, девицу, в покое».
Напомнив сестрам этот случай, Олег весело сказал:
– Конечно, это опять какой-нибудь из Лининых поклонников, поэтому он и не пришел к тебе на службу! А что ж, Малайка по-прежнему любит нашу недоступную красавицу? – спросил он.
– Любит, бедный, – вздохнула Марина.
Олег вдруг посмотрел на Катю и начал поспешно рыться в боковом кармане.
– Ой-ой-ой! Чуть я не забыл! Хорош друг! – Он вытащил сложенный вдвое конверт. – Вот, Катя, тебе письмо от Виктора. Я подозреваю, о чем он пишет. И, несмотря на нашу дружбу, отклонить его предложение сам я не решился. Напиши ему мягко, но окончательно, не оставляя никаких надежд. Он очень хороший человек – пожалуйста, не допускай никаких резкостей. Откажи мягко, но решительно, – повторил старший брат.
Катя вспыхнула, рассердилась:
– Почему я должна отвечать? Отвечайте сами!
– Кто – сами?
– Ты и Марина! – дернув плечом, сказала Катя.
– Но он же не нам делает предложение! Я, может быть, и не отказался бы от такого богатого жениха. Директор сахарного завода! Сколько одного варенья наварить можно! – пошутил Олег и снова строго сказал: – Бери письмо и отвечай, но помни, что обижать этого человека не за что. Он и так будет очень тяжело переживать твой отказ, поэтому пиши просто, тепло, но решительно. Ты уже взрослая и сама понимаешь, что значит любовь… А Костя не приезжал? – живо спросил он сестер.
Катя еще гуще покраснела и, взяв письмо, вышла из комнаты.
– Костя приезжал несколько раз. Но ведь он все время занят… – Марина наклонилась к брату и что-то зашептала ему на ухо.
Олег покачал головой и глубоко вздохнул.
– Жаль мне нашу Катюшку, – тихо сказал он. – Много горя принесет ей эта любовь. Костя постоянно рискует своей головой… Ну, что делать… Напомни ему на всякий случай, что мой охотничий домик по-прежнему стоит в лесу. По счастью, наш граф не любит эти места, – улыбаясь, сказал Олег.
Катя спрятала письмо и, успокоившись, снова вошла в комнату. Беседа со старшим братом продолжалась до рассвета. Говорили о детях, о Саше, от которого давно нет писем. Олег жаловался на тягостную скуку в имении графа. От станции далеко, в прилегающем селе нет школы, кругом леса…
– Зато в моем распоряжении великолепные орловские рысаки, – грустно шутил Олег. – На моей обязанности следить, чтоб они не застаивались в конюшне. Ну вот я и езжу то к Виктору на сахарный завод, то за почтой на станцию… Кстати, Костя очень интересовался графскими лошадьми, так передайте же ему, что и лошади, и охотничий домик в лесу по-прежнему в моем распоряжении. Его сиятельство приезжает на охоту по первой пороше, а до тех пор я полный хозяин в имении.
Когда Олег уехал и сестры легли спать, ночная роса уже высохла на цветах, птицы громко пели и Динка открыла глаза.
Глава 13
Встреча на берегу
«Сегодня воскресенье, – думает Динка. – Мама целый день дома. Надо побежать на берег, пока все спят, и посмотреть на баржу. Если Ленька там, можно тихонько вызвать его и сказать, что я не нарочно. А если он захочет меня побить, то пускай бьет…»
Динка потихоньку сползает с кровати и смотрит на спящую Мышку. Что-то еще нужно сделать на берегу… Динка мучительно вспоминает и не может вспомнить. Что это такое было вчера вечером? Дядя Лека пел… Ой, да! «Есть на Волге утес…» Надо обязательно найти этот утес! На нем сидел и думал атаман Стенька Разин. Если Динка заберется туда, то «утес-великан все, что думал Степан, все тому смельчаку перескажет…».
Динка ищет платье, но платья нет ни у нее, ни у Мышки. В субботу Катя всегда отбирает их платья, а в воскресенье дает им чистые. Но когда Катя проснется и принесет платье, будет уже поздно идти. Динка вспоминает, что в ящике для игрушек есть ее старое, прошлогоднее платье. Мама отдала его для кукол. Один рукав они с Мышкой уже оторвали, но само платье, может, еще цело. Но чтобы пройти на террасу, надо открыть дверь в мамину комнату и пробраться мимо Кати и мамы. Динка открывает окно и, цепляясь за подоконник, спрыгивает на землю. На террасе скрипучие половицы – Динка перелезает через перила. В ящике действительно лежит старое платье с вылинявшими синими цветочками. Один рукав его вырван от плеча, другой отрезан до половины.
«Ничего, – думает Динка, натягивая на себя платье. – Можно потом оторвать и второй рукав, тогда будет одинаково. Мало ли какие люди есть на свете! У одних такие платья, у других – другие…»
Динка замечает на полу свое яблоко. Но оно почему-то уже надкусано. Когда же она его надкусила? Ведь это яблоко было для Леньки… Вот дурка так дурка! Ешь теперь сама! Динка хватает яблоко и на цыпочках спускается в сад. В саду около палатки, где живет дедушка Никич, раздается тихое покашливание. Значит, он уже встал!
Динка, пригнувшись и прячась за кустами, бежит к забору. Отодвинув доску, помеченную красным карандашом, она выскакивает на дорогу. Теперь все! Беги да беги, не оглядывайся. Все, что встретится, все, что увидится, – все твое! Где идешь, где стоишь – никому до тебя нет дела. Забежишь за деревья и спрячешься, а деревья стоят и молчат; спрячут тебя и с места не сойдут.
– Айда! Айда! – подгоняет себя Динка.
Свежее утро холодит ей спину, короткое платье не закрывает голых коленок. Но солнце уже близко, с обрыва будет видно, как оно вылезает из воды, огромное, красное… Сначала до половины вылезет, потом присядет на воду отдохнуть, а потом не успеешь и оглянуться, как оно уже поднимется на небо. Одно-одинешенько солнце, а всю землю греет, всех людей припекает и глядеть на себя не велит – не любит! Как засветит в глаза, так и ослепнешь!
Босые ноги легкие, они бегают хорошо. Вон уже и обрыв. Динка раздвигает кусты и смотрит на Волгу. Сердце у нее начинает сильно биться… Вон баржа… Только Леньки на ней не видно. Может, он в том домике, что стоит на палубе? Может, он еще спит и хозяин его спит… Что же делать теперь? Если спуститься на берег и спросить каких-нибудь дачников, где утес Стеньки Разина? По воскресеньям много приезжает дачников. Надо пойти подальше от пристани, туда, где купаются дачники, и подождать какого-нибудь дяденьку с полотенцем через плечо – такой уж наверное знает, где утес. Только бы не набежали Минька и Трошка… Она сама их найдет, когда побывает на утесе, они от нее не уйдут теперь! Дудки! Динка садится на обрыве и смотрит на солнце. Солнце уже совсем вылезло из воды, по Волге идут пароходы, тянутся плоты… «Что же это нет людей?» – беспокоится Динка и тихонько взглядывает на баржу. И там пусто… В воскресенье мама спит долго, а сегодня они с Катей провожали дядю Леку – может быть, еще дольше поспят? Не поискать ли самой этот утес? Динка идет по обрыву, держась за кусты, становится на самый край и, высунувшись, вглядывается в даль… Нет, нигде не видно большого камня, поросшего мхом…
А на берегу появляются уже дачники. Динка видит двух человек – женщину и мужчину. Мужчина в белом халате, как доктор. Он что-то рисует, глядя на обрыв. Рисует он на большом полотне, натянутом на рамку. И рамка эта с полотном стоит перед ним на трех деревянных ножках. «Художник! – догадывается Динка. – Интересно посмотреть, что он рисует». Женщина указывает ему на Волгу и что-то говорит. На ней белое платье и кружевная накидка. Когда она оборачивается к обрыву, видно ее нежно-розовое лицо, окаймленное черными локонами.
«Волосы черные, а красивая…» – удивляется Динка. Ей кажется, что красивее всех на свете ее мама, потому что у нее светлые волосы, но, оказывается, и с черными бывают красивые. Динка свешивается с обрыва. По склону, у самых корней среди зеленых пучков неудобно растущей травы, белеют нежные цветы кувшинок. Их трудно добыть, но Динке это нипочем. Она часто рвет кувшинки для мамы, но домой не приносит. Дома все знают, где растут эти цветы, и у Динки могут быть неприятности.
– Плывите к маме, – говорит она кувшинкам и пускает их на воду. Может, на середине реки они встретят мамин пароход…
С берега вдруг доносится звонкий смех. «Катись, серебряное яблочко, по серебряному блюдечку» – вот какой это смех! Злые люди так не смеются. И, уж наверное, этот художник знает, где утес Стеньки Разина. «Сейчас я дам им кувшинки и спрошу про утес», – решает Динка и, схватившись за куст, повисает над обрывом. Берег далеко, но выступающих по склону корней много, есть один даже такой толстый обломыш, что на нем можно и посидеть. Динка спускается медленно, держа во рту букетик кувшинок, руки у нее должны быть свободны. Внизу слышатся тихие голоса… Женщина в белом платье и художник, подняв головы, смотрят на девочку. Динка чувствует себя польщенной их вниманием, ей хочется похвастаться своей ловкостью. Она ускоряет движения, виснет на одной руке и, достигнув толстого корня, усаживается на нем, обрывая вокруг цветы.
– Она упадет, она упадет… – тревожно повторяет женщина, следя глазами за Динкой.
– Не упадет! – весело отвечает художник. – Она лазает, как обезьянка.
Динке не нравится слово «обезьянка», и настроение ее портится. Обезьянка – это опять та же Макака. Стоит перед ними «показываться» после этого! Зажимая в руке цветы, она быстро спускается и прыгает на песок. Половина рваного рукава свисает с ее плеча, сбоку на платье – дырка, прожженная утюгом, нечесаные волосы закрывают лоб и лезут на щеки. Она стоит в нерешительности, не зная, как назвать человека в белом халате, чтобы спросить у него про утес.
«Скажите, пожалуйста, художник…» Или: «Скажите, пожалуйста, господин…»
Динка хочет быть вежливой.
– Скажите, пожалуйста… – тихонько спрашивает она.
Но художник дергает за руку свою подругу.
– Смотри! Смотри, какая прелесть! – неожиданно говорит он, указывая на девочку. – Вот он, сюжет!
Динка вспыхивает ярким румянцем, глаза ее густо синеют от удовольствия. Никто еще никогда не говорил, что она прелесть. От восторга и благодарности она не знает, что делать. Отдать им цветы? Сказать спасибо?
– Что тебе нужно, девочка? – ласково спрашивает женщина.
Динка протягивает ей зажатые в руке цветы:
– Вот кувшинки… возьмите… – Она скашивает глаза на белый халат и, боясь обидеть этого человека, робко добавляет: – Поделитесь с ним.
– Спасибо! Я поделюсь! – смеется женщина и, порывшись в кармане, достает серебряную монетку. – Вот возьми… купи себе конфетку.
– Нет, – говорит Динка, отступая и пряча назад руки. – Нет! – Румянец сбегает с ее щек, глаза смотрят испуганно. – Я только хотела спросить вас: где утес Стеньки Разина?
– Что? Что? – растерянно переспрашивает женщина, держа в руке монетку и вопросительно глядя на своего спутника. – Какой утес?
– Утес Стеньки Разина, о котором поется в песне, – твердо отвечает Динка.
– Постой, постой… Есть такой утес! Но где он, я тоже не знаю. Ты говоришь, что о нем поется в песне? – с любопытством разглядывая девочку, вмешивается художник.
– «Есть на Волге утес, диким мохом оброс…» – мечтательно говорит Динка и, вздохнув от неудачи, поворачивается, чтобы уйти.
– Подожди… Мы придем сюда завтра. Я узнаю, где этот утес, хорошо? А потом я буду рисовать тебя – вот там, на обрыве. Я художник… Ты знаешь, что такое художник? – быстро и ласково говорит человек в белом халате.
– Я знаю… – Динка бросает беглый взгляд на полотно. «Но ведь он сказал, что я лазаю, как обезьянка. Может, он и нарисует какую-нибудь обезьянку». – Вы нарисуете меня красивой? – с беспокойством спрашивает она.
– Красивой? – Художник оглядывается на свою подругу, но та прячет лицо в кувшинки. – Послушай, тебе не нужно быть красивой. Я нарисую тебя такой, какая ты есть, – серьезно говорит художник и берет Динку за руку. – Ты будешь вон там, на обрыве, срывать цветы, а я буду тебя рисовать. Придешь?
Динка вспоминает, что завтра с утра мама уже уедет.
– Приду! – весело говорит она и, взмахнув рукой, указывает на обрыв. – Я буду там виснуть хоть целый день!
– Ой, боже мой! – смеется женщина.
– Нет, виснуть не надо. Приходи прямо сюда, и мы будем уже здесь, – улыбаясь, говорит художник.
Динка кивает головой и снова поворачивается, чтобы уйти.
– Но ведь мы можем уехать завтра! – беспокоится женщина. – Предупреди ее, что мы можем уехать.
– Я никуда не уеду, я с детства не видел Волгу! – сердится художник.
Динка торопится уйти. Когда взрослые заводят между собой ссору, то попадает и детям.
– Подожди, девочка! Ты скажешь нам завтра, зачем тебе нужен утес Стеньки Разина? – снова окликает художник.
– Нет, не скажу! – отвечает Динка и бежит по берегу. Солнце уже обливает горячим теплом ее голову и плечи. Вон как далеко еще пристань! Надо посмотреть еще раз на баржу и бежать домой.
Глава 14
Шапка шарманщика
Динка подходит близко к барже, но с берега не видно, что делается на палубе. Покричать Леньке она не решается и, постояв немного, идет на пристань.
«Посмотрю, что там делается, и бегом домой», – решает она.
У пристани стоит дачный пароход. По мосткам сходят дамы с зонтиками и корзиночками, мужчины с перекинутыми через руку пальто, нарядные девочки, мальчики, пожилые тетеньки… Слышны веселые дачные голоса, шутки, удивленные возгласы, смех. Около пристани – большой воскресный базар. Торговки продают свежую и соленую рыбу, ситные хлебцы и баранки. Разносчик носит большой лоток со сладостями. Лоток этот держится на ремне, перекинутом, как петля, на шее разносчика; он, наверное, очень тяжелый, потому что сзади разносчик подкладывает под ремень заскорузлую от пота, сплюснутую, как лепешка, подушечку.
– Вот рожки, тянучки, сладкие конфеты! Вот пряники с картинками – забава для детей, радость для родителей! – выкликает он зычным голосом, прохаживаясь взад и вперед по берегу.
Дети то и дело подбегают к нему, протягивая зажатые в руке медяки. Динка заглядывается на тугие черные рожки, на маковки и перевитые бумажными ленточками длинные конфеты. Но у нее нет денег, и, сглотнув слюну, она отходит ни с чем.
А вот и два знакомых мороженщика; они стараются держаться подальше друг от друга, но всегда встречаются и, переругавшись, снова расходятся. Динка уже не раз покупала у них мороженое. Они дают его в костяных стаканчиках с костяными ложечками. Когда у человека нет ни одной копейки, то лучше не смотреть, как другие едят из таких стаканчиков.
А пароход все стоит. «Чистая» публика уже давно сошла, теперь сходят мужики, бабы с грудными детьми, торговки с корзинами, цыгане в теплых меховых шапках и цыганки с серьгами в ушах, в цветных шалях и широченных юбках. Сходят татары в тюбетейках и длинных халатах. Татары держат в степи кобылиц и продают дачникам жидкий острый кумыс – в жару он такой холодный и приятный. А татары почти все похожи на Малайку, и лица у них черные, потому что они живут в степи.
Динка протискивается к самым сходням, ей хочется пробраться на пароход, публика уже сошла. Но теперь по сходням бегут грузчики.
– Посторонись! Посторонись! – кричат они. На спинах у них прикреплены дощечки, чтобы тяжелые ящики, которые они тащат, не сползали вниз. – Посторонись! Посторонись!..
Лица у грузчиков черные, потные, ноги худые, с синими жилами, рубахи рваные, истлевшие от грязи и пота. Динка очень жалеет грузчиков.
На пристани есть чайная, она называется почему-то «Букет»; там стоят столики и половые в фартуках разносят чай в круглых пузатых чайниках. Грузчики нарезают большими ломтями хлеб и, толпясь около стойки, пьют, закусывая сухой воблой и хлебом. Один раз Динка пролезла в этот «Букет» за грузчиками: ей очень хотелось знать, что они едят и почему они такие худые. В чайной стоял настоящий дым коромыслом, пахло табаком, грузчики колотили о столики сухую воблу и ругались нехорошими словами. Динка тоже купила себе воблу и хотела поколотить ее об один столик, но там сидели два грузчика, и старший из них сердито закричал на нее:
– Куда лезешь? Что, тебя дома не кормят, что ли?
Динка бросила воблу и убежала; ей только хотелось посидеть в «Букете» так же, как эти люди.
Динка отходит от пристани и замешивается в толпу. Черноглазая цыганка держит руку молодой женщины и водит пальцем по ее ладони. У женщины за спиной плачет ребенок, на локте висит тяжелая корзина, платок съехал с ее головы, но она внимательно слушает, что говорит ей цыганка.
– Через счастливую судьбу свою разбогатеешь, через черную женщину получишь хлопоты и слезы…
Лицо у женщины становится изумленным, словно ее вдруг осеняет какая-то мысль.
– Верно, верно, – кивает она головой, – через соседку и слезы… и хлопоты…
Динка отходит. Ее привлекают тягостные скрипучие звуки шарманки. Это бедный старичок-шарманщик. У него очень плохая, старая шарманка. С нее свисает какая-то рыжая бахрома и темная рваная тряпка. А наверху стоит ящичек с двумя отделениями. В этих отделениях – свернутые в трубочку бумажки. Люди покупают их на счастье. Счастье стоит копейку, но если бы его вытягивал клювом попугай, то люди брали бы охотнее, а так они не очень-то верят в это счастье.
У богатых шарманщиков бывает обезьянка в красной юбочке и попугай или даже крыса. Один раз, еще в городе, Динка заплатила копейку, и крыса вытащила ей свернутую в трубочку бумажку. Там было написано: «Вы найдете свое счастье в скором браке». Девочка свернула бумажку и положила обратно в ящик.
Динка пробирается сквозь толпу на звуки шарманки. Старик шарманщик стоит среди собравшихся вокруг людей и крутит железную ручку. У него всего несколько песен и одна плясовая музыка. Он играет «Разлуку», потом «По Муромской дороге стояли три сосны» и «Ах, зачем эта ночь так была хороша!». Динка знает все эти песни, но больше всего ей нравится плясовая, потому что за нее в шапку старика чаще всего бросают денежки.
Девочка пробирается поближе к старику. Сегодня воскресенье, на пристани много народу – наверное, денежки так и посыплются в шапку старика. Один раз Динка положила туда целый пятак, и с тех пор шарманщик всегда кивает ей головой. Шарманка проигрывает все свои песни и единственную плясовую; люди слушают и уходят, подходят новые, толпятся девчонки и мальчишки. Но у девчонок и мальчишек нет денег, они слушают на даровщинку. Старик кончает играть и, сняв с головы шапку, идет по кругу. Но никто не роется в карманах, никто не вынимает на ладонь медные гроши. Шарманщик кивает Динке головой и на минуту задерживается перед ней, встряхивая своей шапкой. У Динки сжимается сердце: у нее ничего нет, а в шапке так жалобно звенят две копейки…
Если бы посадить на шарманку обезьяну в красной юбочке, то люди смеялись бы и платили деньги, а если бы хоть один раз под эту шарманку спел дядя Лека, то денежки так и посыпались бы в шапку… А что, если ей, Динке, спеть? Она может почти так же, как дядя Лека, только своим голосом. Может быть, люди дадут старику больше…
Динка с волнением вглядывается в лица… А что, если все начнут кричать и гнать ее отсюда? Да еще кто-нибудь расскажет маме и Кате… Динка стоит в нерешительности, лицо ее то густо краснеет, то покрывается зябким холодом. А шарманщик вынимает из шапки две копейки и снова берется за железную ручку.
– Дедушка! – подбегая к нему, взволнованно шепчет Динка. – Играй «Ах, зачем эта ночь», играй скорее!
Шарманщик кивает ей головой и, хрипло заканчивая «Разлуку», переходит на другой мотив.
Динка прижимает руку к сильно бьющемуся сердцу.
- Ах, зачем эта ночь
- Так была хороша… –
медленно запевает она.
- Не болела бы грудь,
- Не страдала б душа…
«Не страдала б душа!» – звонко и горестно повторяет Динка, стараясь во всем походить на дядю Леку. Люди смотрят на ее рваное платье, на босые ноги и придвигаются ближе. Динка чувствует, что они жалеют ее, бедную, несчастную сиротку. Ей тоже делается жаль себя, и старого шарманщика, и того, о котором поется в песне:
- Полюбил я ее, полюбил горячо,
- А она на любовь
- Смотрит так холодно…
Слова эти Динка выводит со слезами и, теряя образ дяди Леки, представляет себя брошенной, нищей девочкой…
Круг ширится, люди проталкиваются вперед. Сердобольные женщины лезут в глубокие карманы своих юбок, торговки звенят медяками, разносчик с лотком, заглянув через головы, бросает Динке длинную, перевитую бумажными лентами конфету. Конфета падает на землю, какая-то девчонка поднимает ее и кладет на шарманку.
Динка заканчивает песню трогательно и печально:
- И никто не видал,
- Как я в церкви стоял,
- Прислонившись к стене,
- Безутешно рыдал…
Шарманка замолкает, кто-то сует в руки девочке монетку, она кладет ее в шапку старика и обходит круг.
– Дайте что-нибудь на пропитание! – бормочет она слышанные когда-то слова и добавляет от себя громким шепотом: – Пожалейте нас, люди добрые!
– Ох ты, бедняжечка… – вздыхает какая-то женщина и, отломив кусок ситного, сует ей в руки.
– Развелось сирот на белом свете, девать некуда, – глубокомысленно замечает пожилой человек и лезет в карман.
– Ох-хо-хо! – протяжно вздыхают в толпе.
Динка встряхивает шапкой – в ней слышится веселый звон. Мокрые щеки девочки разгораются румянцем.
– Спасибо! Спасибо! – кланяется она и, не в силах удержать своей радости, бежит к шарманщику. – Вот шапка! Играй, играй «Разлуку», дедушка!
Динка снова поет и снова ходит с шапкой. В шапку с веселым звоном падают копейки… Какой-то мальчик долго роется в карманах. Динка поднимает голову и прямо перед собой видит тонкое лицо, прядь волос на лбу и серые глаза. Язык ее прилипает к гортани, во рту становится сухо.
«Прости меня, Ленька», – хочет сказать она, но голоса у нее нет и сердце зашлось от испуга.
Ленька вынимает копейку и кладет ее в шапку.
– Я не трону… – говорит он без улыбки и отступает в толпу.
Динка отдает деду шапку и прячется за его спину. Старик взваливает на плечи шарманку.
– Пойдем, на дачах споешь, – говорит он довольным, ласковым голосом и, видя, что девочка не двигается с места, добавляет: – Мороженого куплю, чайку попьем, а?
Но Динка мотает головой:
– Иди один. Я потом как-нибудь… Сейчас мне нельзя.
Глава 15
Дедушка Никич
Динка тихонько крадется вдоль забора и заглядывает в сад. На террасе слышны голоса мамы, Мышки, Алины, над кухней подымается дымок. Значит, все встали. Динка ищет лазейку в конце сада. Надо пойти к дедушке Никичу, и потом, когда ее спросят, где она была, можно будет сказать, что была у Никича.
Старичок возится около брезентовой палатки. Он всегда живет в палатке и ни за что не хочет ночевать дома.
«Зачем? – отвечает он на просьбы Марины перейти в комнату. – Я встаю рано, тут у меня и верстак, и инструменты под рукой, а в комнате только мешать всем».
В палатке у Никича жесткие нары с сенником, грубо сколоченный стол и папино кожаное кресло с мягким сиденьем и высокой спинкой. На спинке и по бокам кресла – выточенные из дерева львиные головы. Мама сама перенесла это кресло в палатку и подарила его Никичу. Старик был очень доволен; вечерами, надев на нос очки, он сидит в этом кресле и, наслаждаясь покоем, читает книгу. На мягкий матрас и удобную кровать Никич ни за что не соглашается.
«Я не дачник, а рабочий человек. Нежиться не люблю. Сашино кресло – это другое дело, это память и удобство для чтения».
Раньше Никич работал в столярной мастерской. Руки у старика были ловкие, умелые в работе, и резные шкатулки его из дерева быстро раскупали. Но в последнее время Никич вдруг затосковал, запил, руки у него стали дрожать, тонкая работа не получалась. Старик ушел из мастерской и, чтобы хоть чем-нибудь помочь Марине, начал делать табуретки, скамеечки, детские стульчики. Все это продавалось за гроши, и Никич заболевал от огорчения.
«Когда-то наступает для каждого человека такое время, что он не может работать в полную силу, а вы, Никич, работали всю жизнь, – уговаривала его Марина. – Надо же и отдохнуть немножко…»
«Э-э, нет, что уж тут отдыхать! Отлежусь и на том свете!» – со вздохом отвечал старик.
Когда Марина приходила, Никич требовал, чтобы она садилась в кресло, а сам присаживался у стола на нары. Свет лампы падал на лица обоих, освещая спокойное, участливое лицо Марины и смущенное, виноватое лицо Никича.
«Уйду я от вас, Марина… У тебя дети, трудно тебе заработать, помочь я не могу, а запью – тебе расход и хлопоты…» – говорил старик.
Лицо Марины омрачалось:
«Никогда не говорите мне это, Никич! Если любите Сашу, и меня, и детей, так не говорите мне таких слов… Помощь деньгами – это самая легкая помощь, Никич. Вы нужны нам, как родной, близкий человек, только бы вы не болели».
Старик безнадежно машет рукой:
«А кому я нужен? Вот только тебе да детям! А Саша уж на что вас любил и то, бывало, скажет: «Нельзя человеку в своей семье замыкаться, жить надо широко, с народом». А я что? Зарылся, как крот, в свою нору. При Саше и Никичу дела находились. А теперь зайдет Костя, посидит, похмурится да с тем и пойдет».
«Костя говорил, что вы будете нужны ему, Никич…» – осторожно говорит Марина.
Но Никич снова машет рукой:
«Старики никому не нужны… Молодые все сами делают, а нет чтобы посоветоваться…»
Никич долго ворчит и жалуется, а Марина ласково, терпеливо успокаивает его, потом беседа их становится веселее, из брезентовой палатки доносится смех…
Марина обязательно приходит к Никичу после того, как он сильно выпьет. Она уже знает, что старик сидит и мучается угрызениями совести, что он ждет ее, чтобы излить ей душу.
«Была уже мама или не была?» – заглядывая через забор, соображает Динка. И, судя по тому, что Никич насвистывает песенку и бодро перебрасывает к верстаку какие-то дощечки, Динка убеждается, что мама была. Отодвинув помеченную красным крестиком доску в заборе, она быстро шмыгает в сад и бежит к палатке.
Динка любит поговорить с дедушкой Никичем. Никич для нее не просто взрослый человек, а старший товарищ. Во всяком случае, он скорее старый, чем взрослый, а Динка давно уже знает, что взрослые не умеют хранить детские тайны и всякое откровенничание с ними почти всегда кончается неприятностями. Во-первых, взрослые люди всего боятся. Боятся драки, боятся лазить в чужие сады, боятся всяких болезней и многого такого, что детям даже не приходит в голову. Все это было бы еще ничего, если бы они не шушукались между собой и не принимали своих мер, как они любят выражаться. Дедушка Никич не любит шушукаться, и никаких мер он никогда сам не принимает, поэтому с ним легко говорить о всяких вещах. Конечно, не о главных делах, потому что он может ими заинтересоваться и что-нибудь посоветовать маме. Недаром мама иногда говорит: «Надо посоветоваться с Никичем». Но может быть, это о чем-нибудь другом…
Динка подкрадывается к дедушке Никичу, тихонько кукарекает за палаткой и, довольная собой, усаживается на старый пень. Старик дружески кивает ей головой, продолжая свою работу.
– Ну, пришла-появилась? – спрашивает он через секунду.
– Появилась, – говорит Динка и с любопытством разглядывает на носу деда красные ниточки.
– Пришла и молчишь, – недовольно бурчит Никич, бросая на девочку быстрый взгляд. – Чего сотворила спозаранку? – спрашивает он, прилаживая дощечку на верстак.
– А ты что вчера сотворил? – фамильярно интересуется Динка. – Мама говорила – у тебя болезнь, а я знаю, что ты опять пил водку!
Никич дует в рубанок, вычищает пальцем застрявшие в нем стружки и молчит.
– Лина сказала, что ты лежишь, как Адам. Что это значит? – спрашивает Динка.
Никич бросает рубанок под верстак и присаживается на кучу досок.
– А вот… что это значит! – Он дергает ворот старого рваного пиджака и показывает Динке выглаженную, но штопаную ветхую рубашку. – Все пропил…
Динка с сочувствием смотрит на худую, щуплую фигуру Никича, на рубашку, на рваный пиджак. Ей хочется утешить старика.
– Так это ведь только вещи. А мама говорит, что из-за вещей стыдно сильно расстраиваться; надо расстраиваться, если с человеком что-нибудь случится, – серьезно говорит она.
– Твоя мама – ангел, а живем мы на земле. И всякая вещь стоит денег, а денег у нас нет. Кто их зарабатывает? Одна мама. У меня вот руки дрожат… Хотел полочки сделать с резьбой, на дачах купили бы сейчас, а вот не могу… Пальцы не слушаются. – Он кладет на колени худые руки и шевелит узловатыми, вздрагивающими пальцами.
– Подожди… может, занозы у тебя? – деловито осведомляется Динка. – В меня один раз стекло влезло, так тоже руки дрожали, пока не выдернула.
– Нет, что уж тут гадать… – вздыхает Никич. – Это все от этой пакости – от водки.
– Вот какие мы с тобой недотепы! – усмехаясь, говорит Динка. – У тебя руки дрожат, потому что ты старый, а меня двое мальчишек бьют, потому что я маленькая.
– Как это понимать – бьют? – удивляется Никич.
– Ну, просто бьют, – пожимает плечами Динка.
– А зачем ты с ними играешь? – строго допытывается старик.
– Я не играю. Они сами по себе дразнят меня и бьют.
– Тебя бьют, а ты молчишь?
– Я не молчу, я тоже бью, но я не успеваю. Они же старше, и потом, их двое. Это Трошка и Минька, знаешь?
– Откуда мне их знать? Вот пойду с тобой, так узнаю.
– Ну нет! Ты со мной не ходи! – живо протестует Динка. – Они еще хуже дразниться будут! Вот, скажут, Макака какой живой труп привела!
– Хе-хе-хе! – добродушно смеется старик. – Ну, ты и скажешь тоже! Где что услышишь, все на свой язык подхватываешь… Хе-хе-хе! Живой труп! Вот дурочка-то!
– Да что ты, дедушка Никич! Ну кто тебя испугается? И потом, я теперь и сама их побью! А знаешь почему? – Динка взмахивает рукой и кричит в самое ухо старика: – Сарынь на кичку! Вот почему! Догадался?
Никич трет ладонью ухо:
– Ничуть. Опять тебе что-то ворона на хвосте принесла, – усмехается он.
– Не ворона, а дядя Лека… А ты что же, про Стеньку Разина не знаешь? – презрительно щурится Динка.
– Нет, погоди! – лукаво грозит ей пальцем старик. – Я-то знаю. А вот ты-то знаешь ли, какие это слова: «Сарынь на кичку!»?
– Я знаю, мне все объяснили. Это просто волшебные слова. Степан Разин всегда побеждал с ними!
– Он-то побеждал, а ты-то едва ли… Хе-хе!
– Почему? – вскакивает Динка. – Я как гикну: «Сарынь на кичку!» – и у меня сразу силы прибавятся! Я тогда кулаком, кулаком! Одного, другого!
– Ну нет! Ты это брось! А то у тебя, хе-хе-хе, такая кичка получится! – вытирая мокрые от смеха глаза, говорит Никич.
– Да ты что! Это у Миньки кичка получится! – дергает его Динка.
– Хе-хе-хе! Вот попутайка! Насмеешься с тобой! Только в драку ты все же не лезь. С таким кулачишком в драке делать нечего.
– Как раз! «Нечего делать»! – выпячивая губу, передразнивает его Динка. – Да я знаешь как могу садануть? Ого! Вот выбери у себя какое-нибудь место, где не так больно. Давай я тебя ударю, тогда узнаешь! Ну, выбирай!
Динка воинственно размахивает кулаком, пальцы ее болят от натуги, ногти врезаются в ладонь.
– Скорей, а то разожму! – кричит она, подскакивая к Никичу.
– Да погоди ты… Стой, стой! – отводя от себя крепкий коричневый кулак, сопротивляется Никич. – Ишь ты, какая скорая! Выбери ей! А чего я тебе выберу, когда у меня кругом кости!
– Ага, забоялся! – торжествует Динка, разжимая кулак и почесывая ладонь. – Мне только ногти мешают, а то бы я долго не разжала…
– Да садись уж, хватит воевать-то! Устал я с тобой.
Динка снова усаживается на пенек.
– А мой папа сильный? – неожиданно спрашивает она.
– Папа твой? Ну, этот горы своротит. Он и с детства такой. – Лицо старика светлеет от дорогих воспоминаний. – Жена моя, покойница, очень его любила. Мы ведь рядышком жили. Вот так деда твоего дом, а так мой. Я в артели работал, чуть свет из дому уходил…
– А папа что? – нетерпеливо перебивает Динка.
– А папа твой как встанет, так волчком туда-сюда. И матери воды принесет, и к жене моей забежит, не надо ли чего. Она, бедняжка, уж прихварывала тогда. Так он ей и дров наколет, и печку затопит! А всего ведь десятый годок ему тогда шел, а эдакий ходкий мальчишка был! Никакой работы не боялся! Бывало, из училища забежит ко мне в мастерскую и там дело себе найдет… А вы вот белоручками растете! – ворчливо добавил дедушка Никич и, приглаживая редкие седые волосы, покосился на дачу. – Маменька все душу в вас воспитывает… жалостливыми, добрыми людьми хочет вас сделать. Головы тоже насаждают вам книжками, разговорами. Да… А вот руки-то у вас, руки мертвые, бездельные руки, никакой в них умелости нет! – с горькой досадой сказал старик и тихо, словно извиняясь перед кем-то, добавил: – Я не осуждаю, а только не потерпел бы этого Саша.
Динка испуганно и внимательно посмотрела на свои руки. В ладони ее въелась пыль, старые царапины лущились, новые – краснели узенькими полосками, ногти были обломаны…
– Про тебя я не говорю, – кивнул ей дедушка Никич. – У тебя руки обсмоленные, не боятся, видать, ничего. Ты и у меня тут дощечки постругаешь, и сабельку себе выточишь, и гвоздик забьешь. И моей работой поинтересуешься… А вот сестры твои – эти вовсе безрукие растут. Неправильно это, – вздыхает старик.
Динке делается жаль сестер.
– Алина учится хорошо, и книжки читает, и с нами занимается, а Мышка тоже книжки читает – она даже из папиных таскает.
– Ну да… Головы у них будут с начинкой, это верно. Они знают, что к чему. С любым человеком поговорить могут, и поступки у них сознательные. А ты вот как волчок между людьми вертишься: один раз хорошо сделаешь, а двадцать раз плохо. Где соврешь, где правду скажешь, с тем и спать ляжешь.
Динке становится скучно: она любит слушать, когда ее хвалят, а если беседа становится похожей на выговор, глаза у нее тускнеют, нижняя губа выпячивается вперед, и вся она становится вялой, как тряпичная кукла.
– Не говори подолгу – я делаюсь больной. Лучше про папу еще расскажи.
– Ишь ты, – косится на девочку старик. Он и сам устал от Динки, и работать ему надо, и недоволен он тем, что перебила его мысли. – А что папа? Папа – он папа. А ты вот чепуховая девчонка, ничего путного к тебе не пристает. Ну, чего вырядилась в рвань эдакую? Где была? Воскресенье нынче, люди на дачи едут, а ты мать срамишь! Никого на свете не уважаешь!.. Куда вот карточку отца подела? – обрушивается на Динку Никич.
– Ту, что ты дал? В рамочке? Она знаешь где? – Динка обхватывает шею старика и шепчет ему что-то на ухо. Никич выпрямился и огорченно разводит руками:
– Здравствуй, кум, я твой Федор! Ну, к чему такое дело? Разве ей место под камушком лежать?
– А если полицейские придут? – быстрым шепотком говорит Динка. – Помнишь, когда обыск был, мама все карточки в самовар прятала, ага?
– Ну, прятала, как память, конечно. А в полиции на твоего отца сто портретов есть. Они не этого искали. Одним словом, беги сей час и принеси мне эту карточку! Не умеешь ты обращаться с дорогими вещами!
Динка неохотно встает и исчезает за палаткой.
– Ох и беда с ней! Все придумки какие-то, – ворчит ей вслед Никич. Он часто сердится на девочку, но очень скучает, когда она долго не появляется.
Динка возвращается тихенькая. Карточку отца в дубовой рамочке она несет под мышкой и, оглянувшись, передает ее дедушке Никичу.
– Вот какая ты! Я ведь тебе только на подержание дал, – сдувая с рамочки пыль, укоряет старик.
– Так она и была у меня на подержании, – оправдывается Динка, поднимаясь на цыпочки и заглядывая в лицо отца.
На карточке – молодой, только что выпущенный из училища железнодорожник. Новенькая, с иголочки, форма ловко обтягивает его грудь, глаза глядят задорно и весело, над лбом стоячие густые волосы, под темным пушком чуть приметных усов простодушная детская улыбка.
– Это он молодой снялся. Только что кончил училище и форму получил. За твоей матерью ехал… – любовно объясняет дедушка Никич.
– Похожа я на него? – спрашивает Динка и изо всех сил таращит глаза.
Но Никич безнадежно машет рукой.
– Я исправлюсь! – поспешно говорит Динка. – К приезду папы обязательно исправлюсь!
– А когда он приедет, ты знаешь?
Девочка качает головой.
– Ну вот. И я не знаю. Значит, не обещай.
Оба замолкают.
– Знаешь, дедушка Никич, Минька и Трошка думают, что у меня совсем нет папы… Я знаю, они так и думают, – тихо говорит Динка.
На морщинистых щеках Никича проступает темный румянец.
– А я вот как пойду и накостыляю им хорошенько по шее, так тут будет и папа, и мама! – сердито кричит он. Голос его доносится до террасы, где сидят за чайным столом Катя и мать.
– Да позови же ее наконец! Она совсем заболтала Никича! – беспокоится Катя.
Обе они уже давно поглядывают на палатку старика, пытаясь отгадать, о чем так долго беседует Никич с Динкой.
– Да, надо уже позвать, – соглашается Марина и, подойдя к перилам, громко кричит: – Дина!
Девочка вскакивает:
– Иду, мама!.. Дай мне еще папу на подержание! Я ничего не сделаю! – просит она Никича.
– Иди, иди! Я сам его давно не видел. Придешь – вместе посмотрим! У матери много карточек, а у меня одна, – торгуется Никич.
– Дина! – снова раздается голос матери.
– Иду! – откликается девочка, но не уходит, а, волнуясь, пытается что-то вспомнить. – Дедушка, я что-то хотела тебя спросить… Да, вот что! Где утес Стеньки Разина? Вот про который пел дядя Лека?
– Тьфу! – теряя терпение, отплевывается старик. – Что ты мне голову крутишь! Устал я от тебя, как тысячу верст прошел. Какой еще утес тебе понадобился? Ступай, ступай отсюда!
Динка в раздумье направляется к дому. Она идет медленно, потому что еще не придумала, что сказать маме.
Где она была утром? Может быть, ей сказать, что она была на пристани и слушала, как играет шарманщик? Может, при этом можно громко вслух сказать, что в шапке старика шарманщика очень весело звенят денежки, когда их много?
И Ленька тоже дал ей копейку, она и ее бросила в шапку! «Дзинь-дзинь! – подпрыгивает Динка. – Будь что будет!»
– Мамочка, ты уже встала? – весело кричит она.
– Я не только встала, а уже позавтракала, а вот ты еще ничего не ела, – спокойно отвечает мать.
– Садись поешь, – придвигая к столу табуретку, говорит Катя. Динка мельком взглядывает на лица обеих; она не знает, что после ее ночных слез мать строго-настрого запретила ругать девочку за ее утреннюю прогулку и за рваное платье: «Я сама с ней поговорю, когда она увидит, что мы не собираемся ее ругать».
«Делай как знаешь, я больше ни во что не вмешиваюсь», – ответила Катя.
И теперь она молча пододвигает Динке молоко, мажет ей маслом хлеб и кротко спрашивает:
– Хочешь еще?
Динка хочет. Она ест быстро, весело, словно с каждым глотком сердце ее переполняется радостью жизни, и, убедившись, что никто не собирается спрашивать, где она была, она сама, с полной неожиданностью для себя и для всех, заявляет:
– А я встала раным-рано! И побежала на пристань. Там играл шарманщик. И ему дали много-много денег! Даже один бедный мальчик, совсем сирота, дал целую копейку! Как хорошо было, мама! Дзинь-дзинь – в шапке денежки! Дзинь-дзинь!
Глава 16
Гости
Дети всю неделю ждут воскресенья, им хочется подольше побыть с матерью, пойти с ней гулять, купаться, почитать вместе книжку. Мать тоже ждет воскресенья: служба и поездки в город отнимают у нее много сил и времени. Только в воскресенье она может провести весь день со своими девочками, ближе присмотреться к каждой из них, разрешить всякие недоразумения и вопросы, которые возникли за неделю, в тихой, уютной обстановке поговорить с ними об отце, почитать им книгу. Кроме того, Марина намечает себе много всяких дел. Эти дела постепенно скапливаются за неделю и откладываются на свободный день. Но в воскресенье приходят гости.
Гости бывают разные. Динка делит их попросту на «всамделишных» и «гостиных». «Всамделишные» – это те гости, которым все радуются и жалеют, когда они начинают собираться домой; а «гостиные» – это те, которые мучают хозяев ненужными разговорами и, требуя к себе усиленного внимания, не только не вносят никакой радости в дом, а словно вбирают в себя все силы хозяев и уходят довольные собой.
Сегодня самыми первыми придут гости «всамделишные». Они приходят каждое воскресенье к двенадцати часам дня. Их ведет самая старшая гостья – девятилетняя Анюта, дочка сторожа.
Знакомство с Анютой завела Динка. Как-то после обеда, когда Марина играла свой любимый вальс «Осенний сон», Динке показалось, что за калиткой мелькнуло чье-то платье… Она влезла на забор и увидела незнакомую девочку. Приподнявшись на цыпочки и заложив руки за голову, девочка тихонько кружилась в такт музыке.
«Эй! – окликнула ее Динка. – Что ты тут кружишься?»
Девочка испуганно оглянулась, потом робко подошла к забору:
«Я смерть как люблю музыку! Кто это у вас играет?»
«Это моя мама! Пойдем к нам! Как тебя зовут?»
«Анюта… Я в то воскресенье долго слушала…» – Девочка подняла большие темные глаза. Гладкие черные волосы ее были разделены ровным, как ниточка, пробором и заплетены в две тонкие косички. Коричневое платье, аккуратно заштопанное на локтях, едва покрывало голые коленки.
«Иди к калитке! – крикнула Динка и, спустившись с забора, выбежала на улицу. – Иди же, Анюта!»
Но девочка стояла все на том же месте.
«Почему ты не идешь?» – подбегая к ней, спросила Динка.
Анюта покачала головой:
«Боюсь… Вы богатые… господа…»
«Да что ты! Мы совсем не господа!» – усмехнулась Динка.
«Ну как не господа! Дачу снимаете… Бедный человек дачу не снимет», – серьезно сказала Анюта.
«Конечно, мы не бедные… Моя мама сама зарабатывает деньги. Но мы не господа, мы просто это… как его… – Динка вспомнила новенькую железнодорожную форму, в которой был снят отец. – Железнодорожники – вот кто мы! Элеваторские!»
«Кто? – переспросила Анюта и, взглянув на копну Динкиных волос, пожала плечами. – Цыгане, что ли? Не пойму я!»
«Да ну тебя! Какие еще цыгане! Идем лучше, а то мама перестанет играть! Ну, идем, не бойся!» – Динка решительно взяла Анюту за руку и потащила ее за собой.
«Вот моя мама, вот Мышка, вот Алина!.. А эту девочку зовут Анюта!» – весело кричала она, врываясь в комнату.
Марина, не переставая играть, оглянулась и приветливо кивнула головой. Мышка поспешила ободрить оробевшую гостью.
«Вот хорошо! – сказала она так, как будто только и ждала эту незнакомую девочку. – Садись со мной, Анюта!»
«Нет! – вмешалась Динка. – Анюта хочет танцевать! Она смерть как любит музыку!»
Алина, удивленно и строго рассматривающая неожиданную гостью, вдруг оживилась.
«Ты умеешь танцевать?» – спросила она.
«Да», – испуганно пролепетала Анюта.
«Так пойдем! Это вальс!» – не понимая испуга девочки и не решаясь взять ее за руку, сказала Алина.
Но Анюта вдруг расцвела улыбкой, заторопилась.
Обе девочки вышли на середину комнаты и, обнявшись, прислушивались к музыке.
«Сейчас… сейчас…» – подняв вверх тоненький палец и удерживая подругу, шептала Анюта и вдруг, словно оторвавшись от земли, увлекла за собой Алину.
Глядя друг на друга смеющимися глазами, девочки кружились так легко и плавно, что всем казалось, будто в комнату влетели две большие бабочки. Этот первый вальс положил начало дружбе Алины и Анюты. Правда, дружба эта со стороны Алины сразу стала покровительственной, и, когда обе девочки сидели в саду или шли рядом по дорожке, Анюта чем-то напоминала старательную ученицу, а Алина – строгую учительницу, и обе они были довольны друг другом.
Жизнь Анюты была нелегкой. Отец ее, хмурый, вечно занятой человек, мало обращал внимания на детей. Семья была большая. Анюта нянчила младших детей, стирала пеленки, варила обед. Подружившись с Алиной, худенькая большеглазая Анюта в своем заштопанном коричневом платьице забегала к Арсеньевым и в будни, но в воскресенье она торжественно приходила «в гости» и приводила с собой младших детей: пятилетнюю веселенькую Грушку и серьезного карапуза Васятку.
Четвертая и самая любимая гостья – это Марьяшка, девочка портнихи. Марьяшке четыре года. Она кругленькая и тяжелая, как камушек. У нее большие голубые глаза, пухлый рот и красный курносый носик. Марьяшка живет недалеко, она приходит всегда самостоятельно и, сильно картавя, спрашивает: «Кисей будет?» Она уже хорошо знает, что каждое воскресенье Лина варит для гостей сладкий кисель.
Мать Марьяшки ходит шить поденно, запирая девочку на целый день одну. Марьяшка успевает наплакаться и выспаться, пока придет мать. Ест Марьяшка, сидя на полу и черпая ложкой суп прямо из кастрюли. Мать нарочно ставит ей на пол эту кастрюлю, чтобы девочка не перевернула на себя суп. По вечерам портниха надевает на свою Марьяшку нарядное платьице, покрывает свою гладко причесанную голову воздушным шарфом и выходит за калитку. Заходящее солнце освещает грустную портнихину фигуру и прильнувшую к ней девочку.




















