Читать онлайн Жалкая жизнь журналиста Журова бесплатно
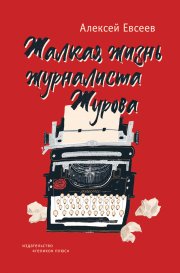
Я тебя люблю… Я тебя тоже нет.
Серж Генсбур
© Евсеев А., текст, 2024
© «Геликон Плюс», оформление, 2024
Часть l
1
Сердце вдруг остановилось, Журов мгновенно проснулся и попытался сделать вдох. Не получилось. «Все! Конец!» – ужаснулся он и заорал во весь голос и этим криком словно заново запустил заглохнувший механизм. Тяжело задышав, он прижал трясущуюся руку к сердцу, этим движением словно поддерживая его и одновременно защищая от какой-то опасности извне. Другой рукой, ладонью от себя, прикрыл глаза, закрываясь от потерявших привычные очертания фотографий и телевизора, висящих на стене спальни. Журов окончательно проснулся. «Так я и умру, – решил он. – От внезапной остановки сердца… Быстро и во сне. Такой стремительный прыжок в никуда. Ложишься вечером спать и…» – поймав себя на этой мысли, он испуганно перекрестился.
Запахнувшись в халат, Журов перешел в гостиную. Включил телевизор – да кто же это смотрит-то? – выключил. На журнальном столике третий день стояла недопитая бутылка красного вина. Испортилось? Кто мешал убрать в холодильник… Он осторожно глотнул из горлышка. Надо же, все в порядке. Журов усмехнулся – видимо, судьба вина беспокоила его больше, чем сердце. И что? Хуже ведь определенно не стало. А раз так… Он достал бокал и, смакуя каждый глоток, допил бутылку. Может, померещилось с сердцем-то?
Переместившись на диван, он с неприязнью уставился на разросшийся до гигантских размеров цветок, название которого, как ни старался, запомнить не мог – замиокулькас! На самом-то деле растение ему нравилось, и даже очень, но занимало оно весь угол, который в мечтах Журов отводил под книжные полки, обязательно открытые и под самый потолок. Мечтам этим, как он понимал, сбыться было не суждено. Варька категорически выступала против, квартиру убирала она, а книги, как известно, пыль притягивают катастрофически. Журов перевел взгляд на картины, без которых гостиная – продукт модного московского дизайнера и Варькина тихая гордость – потеряла бы свой изысканный вид. Впрочем, при всей легкости и изяществе гостиной висевшие в ней картины отличались некой депрессивностью, постоянно питающей в душе Журова неугасающий огонь ненависти к живописи вообще. «Варвара, душа моя! Ну почему или серая зима, или мрачные натюрморты! Где яркие краски, светлое небо, море, живые цветы? Давай снимем всю эту мазню к чертовой матери и развесим фотографии, где мы счастливы и смеемся! Весеннюю Барселону, Флоренцию или твой любимый Санторини!» – в той или иной интерпретации с какой-то периодичностью начинал метать икру Журов. За его страстными призывами скрывалась заурядная ревность. Варька, как ему казалось, чрезмерно культивировала присутствие бывшего мужа – автора всех работ. В кругу знакомых он почему-то считался талантливым, однако его творения продавались слабо ввиду низкого культурного уровня населения и отсутствия вкуса у его платежеспособной части.
Журов вздохнул. О том, чтобы лечь в постель, и помышлять нечего. Вот уже много лет, единожды проснувшись среди ночи, он не засыпал до самого утра. Чего только Журов не перепробовал – пил теплое молоко с медом, подолгу стоял под горячим душем, смешивал коктейль из валерьянки, пиона и корвалола, – все впустую. Умные люди советовали ему вообще по жизни перейти на снотворное – полпланеты сидит на лекарствах и принимает таблетки горстями! – но у Журова были свои резоны. Во-первых, он панически боялся привыкания, в результате которого лекарство вдруг или постепенно перестанет на него действовать – что тогда, какое средство останется для крайнего случая?! Во-вторых, от любого снотворного через неделю-другую слюна исчезала напрочь, причем настолько, что он не мог произнести и двух слов, не прополоскав пересохший рот водой, которую приходилось постоянно таскать с собой. Такое не комильфо на людях Журов себе позволить не мог.
С сожалением поставив пустую бутылку на пол, он открыл ноутбук, зашел в Фейсбук. Ничего примечательного. Привычные грязь, истерика и нетерпимость… По какому, любопытно, праву, еще недавно, казалось бы, вменяемые люди вдруг принялись разоблачать и осуждать все и всех на свете? Иначе как всеобщим помутнением эту оголтелую непримиримость и не назвать.
Шел третий час ночи. В сети была Ирка Лукьянова, ныне по норвежскому мужу Бьорген. Журов перешел на ее страницу, что делал уже неоднократно, и, словно в первый раз, с сожалением принялся рассматривать фотографии этой далеко уже не молодой женщины, как-то по-русски уставшей и рано сникшей вопреки благополучию и достатку, уже более двух десятков лет окружавшим ее в Норвегии.
– Привет! Вот не сплю, опять бессонница.
– Пьешь?
– Какое там! Так, иногда красное вино в умеренных количествах. Как ты?
– Устала от работы. Дома воюю с мужем и с дочерью. Всё воспитывают меня. Муж постоянно хочет секса. А я хочу, чтобы меня оставили в покое!
– Дочь-то что?
– Она всегда на стороне отца.
– Это ты про секс? Ха-ха!
– Мне не до шуток. Хочу танцевать с тобой и целоваться! Но никак.
– Я больше не танцую.
– Что так?
– Стал старым и скучным.
– В зеркало на себя смотришь? Если ты выглядишь как на фото с этой твоей Варварой, то не гневи Бога!
– Я живот втягиваю. А так толстый.
– Врешь, как всегда. Я тебя тогда возненавидела. А до этого любила! Страстно.
– Не знаю, что и ответить. Пойду попробую поспать. Целую!
– Целую, любовь моя несостоявшаяся.
Ирка Лукьянова, студентка второго курса скандинав-ского отделения, сидела в читалке филфака, обложившись учебниками, тщетно пытаясь зацепиться за мысль или фразу, которые позволили бы наконец начать эту чертову курсовую. А внутренний голос настойчиво нашептывал, что правильнее будет на нее плюнуть, махнуть кофе в буфете у Тамары и прошвырнуться по Невскому. А еще лучше с кем-нибудь из девчонок завалиться в «Щель» «Астории» и выпить шампанского. Ну а там кто знает… Ирка потянулась к модному пакету с ковбоем Мальборо (три рубля у спекулянтов. Так еще и не достать!), чтобы побросать в него тетради, как вдруг заметила в дверях молодого мужчину, который, похоже, выискивал кого-то в зале. Какая правильная девушка к концу второго курса не знает в лицо всех симпатичных студентов и преподавателей факультета! Этот был незнаком. «Не наш. Залетный», – подумала она и уткнулась в учебник.
– Над чем пыхтим, прелестное дитя? – залетный уселся рядом, от него пахло вином, и смотрел он на Ирку весело и нагло. Почему-то это было приятно.
– Над курсовой.
– Ну-ну, – усмехнулся он, – Курсовая твоя никуда не денется! Пойдем лучше выпьем шампанского… где бы лучше нам это сделать… Предположим, в «Щели» «Астории»! Тебя как звать-то?
Ирка вздрогнула – ну разве не сигнал свыше? Или он прочитал ее мысли?
– Ирина, – и тут же, недолго раздумывая, согласилась: – А давай! Только подожди меня пару минут у «Наркоманки».
– У кого тебя подождать?
– Не у кого, а где! «Наркоманка» – это курительная комната на «Сачкодроме».
– ?
– У нас тут все как-нибудь называется. С давних пор… «Сачкодром» – это лестничная площадка на втором этаже перед 25-й аудиторией, хотя номер аудитории тебе ничего не говорит, – она засмеялась. – Там стоят «Диваны», а еще есть «Новый свет», «Катакомбы». Вот сейчас мы с тобой в «Школе». А тебя как звать-то?
– Борис, можно Боб… или как тебе заблагорассудится – откликнусь на любое имя! Можешь звать меня – Игнатом или Жан-Полем… Ну так жду тебя, как говоришь, у «Наркоманки»?
– Угу.
Как только он вышел, Ирка немедленно достала зеркальце, но его поверхности недоставало, чтобы с достоверностью оценить степень своей сегодняшней неотразимости! Побросав тетради в пакет, она без очереди втиснулась сдать взятые учебники, причем сделала это с такой веселой беспардонностью, что никто не успел толком возбухнуть, схватила свой читательский билет и устремилась к туалету. Там у старого, всего в трещинах зеркала она придирчиво осмотрела себя. Хороша! Джинсы обтягивают длинные – слава родителям! – стройные ноги, ресницы радостно хлопают над большими серыми глазами, брови ухоженные, губы чуть припухлые, их даже не обязательно подкрашивать, нос маленький и правильный, а волосы! Копна абсолютно непослушных каштановых кудряшек – вылитая итальянка! Ирка повернулась к зеркалу боком, потом другим – ну, нет у нее к себе претензий ни в фас, ни в профиль! И побежала к «Наркоманке».
Он стоял на лестничной площадке, слегка опершись о перила, и с ласковым равнодушием рассматривал окружающих. Ирка приостановилась, чтобы приглядеться к нему: чуть выше среднего роста, слегка сутулый, худой, лицо правильное, прямые русые волосы. «Не красавец, но интересный, – резюмировала Ирка, – породистый даже какой-то. Вон как элегантно держит руку в кармане… и этот вельветовый костюм… мятый, правда, но как-то правильно и стильно мятый, очень ему к лицу».
– А теперь давай колись, кого искал в читалке?
– Тебя, – не моргнув глазом, ответил он.
Он нравился. В нем предугадывалась легкость будущего общения, от него так и веяло праздником.
– Так каким ветром тебя занесло в наши края?
– По пути из Главного здания. Из библиотеки. Диплом вот пишу. А какой тут диплом, когда с утра уже с ребятами пару пузырей раздавили… на факультете. Я на журнали-стике, – пояснил он, – Шел я шел, да и решил заглянуть к братьям-филологам…
– Скорее, к сестрам… И тут я тебе на глаза попалась!
– Не так! Я влюбился в тебя! Как только увидел! – с пылом заявил он.
«Вот же трепло», – тепло подумала Ирка.
Они вышли на улицу. На Дворцовом мосту их настиг порыв пронизывающего ветра. Борис слегка приобнял Ирку, прикрывая собой. Хотелось поцеловать его и запустить руку в его развевающиеся волосы.
Никто с точностью не может сказать, откуда появилось название «Щель». То ли потому, что место было маленьким и темным, то ли потому, что располагалось в щели между двумя гостиницами: «Асторией» и «Англетером». Некоторые причисляли это заведение к рюмочным, коих в те времена было в городе предостаточно, но более оно все-таки походило на буфет с прямым входом с улицы. От рюмочной, где в продаже всегда имелась водка с доступной закуской вроде черного хлеба с килькой, «Щель» в «Астории» отличал шикарный ассортимент – армянский коньяк, шампанское, бутерброды с икрой и с рыбой. Слово «щель», судя по всему, грело душу выпивающих ленинградцев, что дало им повод окрестить крошечный закуток рядом со знаменитой пирожковой в «Метрополе» тем же именем. Однако дальше название не пошло, так в городе и осталось всего лишь две «Щели».
Они стояли у узкой стойки вдоль стены, чуть касаясь друг друга плечами. Ирка опьянела сразу после первого бокала и дурачилась, постоянно называя его разными именами. Взгляд ее увлажнился, смеялась она чуть громче и чаще, чем требовала их болтовня. Прежде чем взять очередной бокал, Борис, надо отдать ему должное, спрашивал, не хватит ли. Ирка встряхивала своими роскошными кудряшками, будто невзначай слегка прижималась к нему бедром и, хохоча, отдавала команду: «Наливай!» Он шел за шампанским, на закуску брал конфеты «Кара-Кум».
В такси, закрыв глаза, Ирка прильнула к нему. Голова кружилась, но оторваться от него она была не в силах. Он довез ее до дома, дверь открыла мама. На пороге Ирка зачем-то опять скомандовала: «Наливай» и нетвердой походкой, хохоча, проследовала в ванную. При выходе оттуда она увидела его беседующим с мамой на кухне, помахала на прощанье ручкой: «Чао!» – и прямиком пошла к себе в комнату. «Будет моим», – прошептала она с блаженной улыбкой, проваливаясь в сон.
– Ирка, вставай! Хватит дрыхнуть. Ты же не собираешься целый день в постели валяться? Подъем!
– Мам, я не пойду в университет… сплошные лекции… ничего такого, чего нет в учебниках… – сделала Ирка слабую попытку окончательно не просыпаться и выкроить еще пару часиков.
– И думать не моги! Кому говорю, вставай! – Иркина мама Лариса Дмитриевна подошла к постели и решительно рванула на себя одеяло, потом не менее решительно выдернула подушку из-под кудрявой головы.
– Представляешь, что Маринка с утра удумала! Напялила твои сапоги, пока ты тут прохлаждаешься, и собралась топать в них в школу! Хорошо, я ее в дверях поймала. Сопрут же, говорю, в раздевалке! А главное, рано еще в 8-й класс в финских сапогах-то! А она заявляет, что ты ей разрешила. Врет ведь?
Сон как рукой сняло. Ирка подпрыгнула в постели от негодования на младшую сестру: вот ведь зараза! Глаз да глаз за ней!
– Врет, мамуля, врет! Ничего я ей не разрешала! Сама подумай, как я могу?! Свои сапоги! Ей в школу?!
– И не говори, Ириш. Что с этой оторвой делать… И в кого она такая?
Не переставая возмущаться по поводу провалившейся Маринкиной попытки покрасоваться в сапогах старшей сестры, они переместились на кухню. Ирка хмуро уселась пить чай с лимоном. Какой стыд, надо же было так вчера напиться! Башка раскалывается… Кажется, она приставала к нему. Позорище! Что он о ней подумает? Захочет ли еще раз увидеться? Будь проклято это шампанское!
Лариса Дмитриевна, выдержав необходимую паузу для перехода к главному вопросу утренней повестки, слегка погремела посудой у мойки и устроилась напротив дочери:
– Ты лучше скажи, где ты сына Журова подцепила.
– Какого Журова? – Ирка вытаращилась на мать.
– Того самого, что по Первой программе «Международную панораму» ведет!
– Чего-то я ничего не понимаю…
– Чего ты не понимаешь? Твой Борис вчерашний – сын Анатолия Журова, международного обозревателя, ведущего программы «Время»! Еще пиджаки у него всегда такие красивые… И вообще интересный мужчина. Вот же счастье какой-то женщине!
– А ты откуда знаешь? – недоверчиво спросила Ирка.
– Сам мне рассказал… Когда ты в стельку пьяная пошла дрыхнуть – у тебя совесть-то есть?! Мы еще потолкуем с тобой на эту тему, учти! Мы очень мило с ним посидели за бутылочкой коньячка… Весьма симпатичный юноша! – «Коньячок» резанул Иркин слух, она с трудом переносила из уст матери этот уменьшительно-ласкательный лексикон работников советского общепита с их «шампусиками», «полтинничками» и «соточками» (Лариса Дмитриевна несла непростое и хлопотное бремя заведующей производством центрального ресторана одной из гостиниц «Интуриста»). Делать замечание, как, порой, случалось, Ирка сегодня не стала. Ее интересовали любые подробности.
– А чего это он тебе своим отцом хвастался?
– Да не хвастался он! Я сама у него все потихоньку выпытала! Мы ж не зря тут коньячок попивали, – Ирка поморщилась, но опять сдержалась. – Живет он, доча, у своей тетки. Та – профессор и переводчица с болгарского… А что, есть чего переводить? – Ирка пожала плечами. – Потому что не захотел оставаться с отцом, когда тот после смерти матери, недолго горюя, женился на молодухе… Яичницу будешь? – Ирка отрицательно помотала головой. – Поэтому и в Ленинград поступать приехал, хотя и ежу понятно, что в столице оно, конечно, было бы перспективней… Странный он какой-то. Вроде о будущем своем думает, говорит, чувствует в себе талант… а от отца бежит, как последний дурак. Мол, я сам, все сам… Как же так? Учиться на журналистике – и чураться отца, известного на всю страну международника, который все может устроить! Все! – Лариса Дмитриевна задумчиво опустила руки. – Доча, дурой будешь, если его не охомутаешь! – произнесла она с рассеянным видом. – Глаз у меня наметан, чувствую, юноша с перспективой! – потом, изменившись в лице, отчеканила: – И не смей мне еще хоть раз в таком виде являться! Слышишь? Теперь марш в университет!
Если выход к Гостиному двору со станции метро «Невский проспект» был центром бурной деловой активности фарцовщиков и спекулянтов и именовался на городском жаргоне «Галерой», то выход на «Канал Грибоедова» скорее выглядел как место романтических встреч и безобидных посиделок на большом гранитном парапете, полукругом огибающим с внешней стороны вестибюль, от которого чуть-чуть по диагонали вправо открывался вид на Казанский собор. Наземный павильон «Канала Грибоедова» был встроен в знаменитый дом Энгельгардта (именно в этом доме Нина из лермонтовского «Маскарада» имела несчастье потерять на балу свой браслет), благодаря чему летом в тени под сводами входа на станцию было относительно прохладно, зимой же всегда значительно теплее, чем на улице. Этакий своеобразный микроклимат.
Выйдя из метро как раз в «микроклимате», Ирка без всякой на то причины задержалась вроде бы под предлогом выкурить сигарету. Не могла же она окончательно признаться, что уже который день ищет встречи с Борисом в точках стратегических подходов к университету, коими в первую очередь являлись две станции метро – «Невский проспект» и «Василеостровская». Шансов, откровенно говоря, раз-два и обчелся. Она уже успела будто невзначай послоняться по журфаку, благо именно там располагалась объединенная библиотека двух факультетов, – в конце семестра ей вдруг позарез понадобился один учебник. Заодно с безразличным видом, совершенно случайно, исключительно из праздного любопытства, буквально краешком глаза заглянула в расписание занятий пятикурсников. Расписание гласило, что у людей преддипломный отпуск. Ясно, что на журфаке ловить больше нечего.
Два-три дня с момента их знакомства Ирку не покидала уверенность, что Борис вот-вот объявится. Скорее всего, на факультете. Она прогуливала лекцию за лекцией, семинар за семинаром, выстаивала на Сачкодроме, после последней пары мчалась домой дежурить у телефона… Напрашивались неутешительные выводы: во-первых, он не придет и не позвонит, во-вторых, она умудрилась втюриться в человека, с которым всего-навсего прошлась до «Астории», ну и выпила там бокал-другой шампанского. И что с этим делать? Страдать? Забыть?
Она решила погулять по Невскому, предварительно перекусив в «Минутке»[1] Не успела она подуть на бульон и откусить пирожок, как к ее столику подкатили три фарцовщика, неубедительно и шумно изображавшие из себя иностранцев, и обратились к ней на чудовищной смеси финского и шведского: «Можно девочка все хорошо пять рублей за блок сигарет». И тому подобная тарабарщина. Свободно по-шведски Ирка еще не говорила, но без труда объяснялась, все-таки второй язык после норвежского, финский же начала изучать совсем недавно, но кое-что могла сказать… Запрокинув голову от хохота, она сначала бойко послала их на шведском, потом на менее уверенном финском. У парней сработал рефлекс: «объект для бизнеса», и один из них тут же перешел на английский, но Ирка перебила уже по-русски:
– Ребята! Я вас умоляю! Ваш финско-шведский никуда не канает! Русская я, русская! Что, прицел сбился?
Завязалась вполне дружеская беседа: нет, прицел не сбился, просто покуражились немножко. А ты откуда, сестра, так ловко шпаришь? Ах, в «Интуристе» группы водишь… Шведы и норвежцы? Послушай, есть к тебе деловое предложение. Да ты выслушай сначала, потом отказываться будешь. Ну смотри, как знаешь. Хоть телефончик оставь. А с прицелом все в порядке. Смотри!
Развернувшись лицом к огромному окну, они принялись выбирать иностранцев в толпе прохожих, аргументированно объясняя, кто откуда: только немцы носят такие добротные и неброские ботинки, только американцы так скалятся по любому поводу, такие куртки продаются в чухонских магазинах Сёппалла и тому подобное.
Кафе «Минутка», расположенное на втором этаже, обладало колоссальным стратегическим преимуществом для фарцовщиков: из соседних интуристовских гостиниц «Астория» и «Европейская» на прогулку по Невскому выходили сотни и сотни иностранцев. А ты стоишь в тепле и в полной безопасности, плечом к плечу с простыми обывателями жуешь пирожок, как с трибуны Мавзолея рассматриваешь прохожих и без суеты выбираешь объект для бизнеса.
– Ну а эта герла точно француженка! А целуется она… хрен его знает, может, даже и с рашенком, – вдруг воскликнул один из парней.
– Где? – спросила Ирка и тут же увидела смеющегося Бориса, на ходу целующего, сомнений нет, француженку, прямо вылитую Анук Эме. Ирка только что посмотрела «Мужчину и женщину» … Улыбка с ее лица не исчезла, и она не побледнела, как можно было бы ожидать, но внезапно физически ощутила в некоем внутреннем органе где-то в груди, где легкие, щемящую тоску.
– Всё, ребята, мне пора, – и она ринулась к выходу.
– Телефончик-то оставь!
– Joku toinen kerta![2]
В следующий раз Ирка встретила его через месяц на дискотеке в общаге на проспекте Добролюбова. Дискотека славилась на весь университет: ее вели мавританские арабы – обладатели умопомрачительной японской аппаратуры и многочисленных, естественно, свежих и не запиленных дисков и кассет. С блаженной улыбкой Ирка самозабвенно крутила бедрами под I Will Survive Глории Гейнор, как вдруг из-за спины появился Борис, чуть приобнял ее и, пересиливая грохот музыки, прокричал в ухо, погрузившись лицом в ее кудряшки и словно обнюхивая ее: «Привет, прелестное дитя! Потанцуем!» Затем тут же, не дожидаясь согласия, подхватил ее и, не сходя с места, только движением рук задал ритм, а когда она почувствовала, что от нее требуется, задвигался сам. У них так славно получалось, что танцующие рядом непроизвольно образовали круг, в центре которого Ирка то падала в его объятия, то кружилась во все стороны. Танцевал он как никто другой, с какой-то негритянской пластикой и легкостью. Все ранее заготовленные обидные реплики мгновенно улетучились. Ирка, будто ненароком, иногда касалась губами его щек; от него опять – бывает же такое – вкусно пахло вином. В коротких перерывах между мелодиями он не отпускал ее, держал в объятиях и вел себя так, словно никого вокруг и не было.
Внезапно прервав танец, он взял Ирку за руку и подвел к одному из ведущих дискотеки. Знаками показав, чтобы араб снял наушники, он что-то прокричал ему на ухо, показывая на Ирку. Мавританец немедленно вышел из-за стены усилителей и дек.
– Мой друг Идрис, – представил его Борис, – мы сейчас поднимемся к нему в комнату… дело есть. А чтоб ты не скучала, Идрис угостит тебя чем-нибудь вкусненьким. Правда, Идрис? – Тот с достоинством утвердительно – кивнул.
Идрис жил в комнате один – почти невероятное явление для забитого сверх меры общежития. Он бы с удовольствием снял себе квартиру в городе, несмотря на категорический запрет иностранного отдела университета, но не стоило и пытаться – Идрис принадлежал к тому типу мавританских арабов, которые по цвету кожи мало чем отличаются от негров. Бдительные граждане тут же заложат. Вот он и оплачивал однушку своему номинальному соседу – ушлому поляку, шпарившему по-русски без акцента и очень кстати обладавшему прямо-таки рязанской внешностью.
Идрис налил Ирке «Чинзано», себе и Борису коньяк.
– Ты посиди тут чуток, Ириш, попей «Чинзано». А мы пока с человеком парой слов перекинемся, – Борис наклонился к ней, быстро ткнулся то ли губами, то ли носом в щеку. Потом, приобняв араба, отошел с ним к окну. На вермут Ирка даже не взглянула. «Что я тут сижу как дура и чего-то жду? Клялась же забыть! А тут не успела встретить, как сразу повелась… Неужели все страдания по новой?»
– Все, Борис, довольно. Дальше торговаться не будем, – громко произнес Идрис, прервав Иркины раздумья. – Боюсь, Хусейн там один не справится. Так что я побежал, а ты, если хочешь, посиди тут еще с девушкой, выпей коньяк и… – сделав многозначительную паузу, он без капли стеснения пожирающим взглядом осмотрел Ирку. – И дверь за собой не забудь захлопнуть!
Не успел он выйти, как Борис полез обниматься. Об этом он там внизу договаривался, тыкая в нее пальцем?! Ну уж нет! Вот так вот, в общаге! В комнате этого мерзкого араба! Не дождется! Ирка сбросила его руки. Он засмеялся:
– Давай по глотку выпьем! На брудершафт!
Еще чего! Она отрицательно замотала головой. Ей хотелось спуститься вниз, красиво танцевать, прижавшись друг к другу. Чтоб он шептал ей, как скучал, объяснил, где пропадал столько времени и почему, почему не искал ее… Наврет, конечно. А она очень постарается ему поверить…
– Ну смотри, а я махну, – и, налив себе полный стакан коньяка, он шумно плюхнулся на кровать. Пружинный матрас противно заскрипел под ним. «Вот ведь сволочь!», – внезапно решила Ирка и выскочила в коридор, с грохотом хлопнув дверью. Она заметалась в поисках туалета, нашла только душевую, зачем-то долго мыла там руки, потом, обламывая ногти, открывала окно. Когда наконец, чуть не выбив стекла, ей удалось распахнуть разбухшие за зиму створки, она закурила. «Да пошел он! Пусть катится к своей французской сучке!» То, что его подруга француженка, сомнению не подлежало, да и фарца так решила. Глаз-то у них наметан.
Затушив сигарету о подоконник, Ирка устремилась к выходу, выскочила на лестницу и… Получилось как в амфитеатре – пролетом ниже, всего в нескольких метрах от нее, высокий крепкий парень в футболке, обтягивающей накачанные мышцы, с ленцой, даже с некоторой элегантностью наносил точные удары то в грудь, то по лицу Бориса. Отвечать тот не пытался, но и не убегал, хотя что-то подсказывало, что гоняться за ним стройный атлет счел бы ниже достоинства. Из носа Бориса текла кровь, он жалко и беспомощно улыбался и только с опозданием прикрывал лицо при каждом пропущенном ударе.
Ирка, привыкшая общаться с ровесниками на «ты», неожиданно просящим голосом чуть слышно прошептала: «Умоляю вас, не надо!» – и зарыдала. Хотя в ее характере, как раз наоборот, было без раздумий и колебаний бросаться в драку независимо от числа и силы противника. Увлеченный мордобоем парень Иркину мольбу расслышать никак не мог, а вот рыдания… Он обернулся:
– Что случилось, чего слезы льем?
– Это мой, – всхлипывала Ирка, – это мой… – и почему-то язык дальше не поворачивался.
– Этот, что ли? – он пренебрежительно кивнул в сторону Бориса, вжавшегося в угол.
– Да!.. Умоляю… не надо больше!
– Только ради тебя! – парень растянул в улыбке свое открытое симпатичное лицо героя советского черно-белого кино, бросил Борису презрительное: «Хрен с тобой, живи», засунул руки в карманы джинсов и, прыгая через ступеньку, побежал вниз по лестнице.
Борис тяжело присел, отвернувшись к стене.
«Не герой. Драться вообще не умеет. Но ведь не трус! Да-да, не трус! Не сбежал же, хотя мог… Бедный, мой бедный! Он что там, плачет?!» Ее накрыло волной жалости и нежности, она подбежала к нему, села рядом, обняла и, преодолевая сопротивление, прижала к себе.
– Прошу тебя, уйди, – пробормотал он, пряча лицо. Ирка и не думала его слушать.
– Пойдем лучше умоем тебя. Я знаю, тут где, – она потащила его к душевой (он зачем-то сопротивлялся!), где всего несколько минут назад сама приводила себя в – порядок.
Борис фыркал, наклонившись над умывальником, набирал холодную воду в ладони и надолго задерживал в них лицо. Наконец, он выпрямился – под глазом обозначился синяк, нос припух, он осторожно ощупал его – похоже, цел. Выходит, легко отделался.
– Твои рыдания сохранили мою рожу в целости…
Ирка поморщилась. Витиевато как-то.
– Ерунда, пошли отсюда.
На улице она с первой же попытки остановила частника.
– Давай отвезу. Тебе куда?
– Да рядом здесь, на Большую Пушкарскую. Можем и пешком пройтись, – зачем-то предложил он.
– Ну уж нет! А то опять тебе кто-нибудь… – она хотела сказать «фейс начистит», но спохватилась. – А то опять с кем-нибудь подерешься.
В машине она отодвинулась от него подальше и всю короткую дорогу, не отрываясь, смотрела в окно. Неужели она влюбилась в этого типа? Ведь ничего о нем не знает! Одно утешение, что не зануда и танцует – с ума сойти…
– Девушка, приехали, – обращаясь только к ней, объявил водитель. Задумка была ехать дальше, домой, но Ирка почему-то позволила вытащить себя из машины.
2
Первым делом Ирка подошла к телефону. Набрав номер, она нетерпеливо закатила глаза к небу, дождавшись наконец ответа, выпалила:
– Я не приду сегодня. Я у Журова, – и тут же положила трубку. По ее разумению, он тут же должен был подойти, обнять и… Но ничего такого не произошло. Он лишь приоткрыл дверь в комнату: «Проходи, я сейчас».
Ранее, судя по массивному письменному столу, старинному кожаному креслу и утрамбованным книгами стеллажам, это был кабинет. Такой классический образцовый профессорский кабинет с высокими потолками в лепнине, бронзовой люстрой и обязательной лампой под абажуром. Теперь же это было черт-те что, но довольно симпатично. На спинках стульев штабелями наброшена одежда, на столике, по виду антикварном, красовался проигрыватель, рядом пестрая стопка пластинок, от проигрывателя тянулись провода к несимметрично стоящим на стеллаже внушительным колонкам, у дивана на полу валялся маленький кассетник, а в изголовье стояли совсем уж неуместные здесь слаломные лыжи с торчащими из креплений яркими ботинками. Постель небрежно свернута в рулон и прикрыта шотландским пледом. На столе пылилась знаменитая, наидефицитнейшая печатная машинка «Эрика» в окружении стопок журналов и газет. Ирка подошла к столу, вроде бы равнодушно пробежала глазами по бумагам сверху, думая обнаружить в этом ворохе что-то напечатанное именно им. Ведь что-то же он пишет – диплом, статью. Вдруг стихи? Но ничего такого не увидела, а при всем своем любопытстве ворошить чужие бумаги, не говоря уж о том, чтобы заглядывать в ящики стола, она бы никогда не стала. Куда он запропастился? Ирка вышла в коридор и направилась в сторону кухни. Он сидел за столом перед бутылкой коньяка – откуда только деньги у него берутся? По его щекам текли слезы.
Зрелище не из приятных, когда мужчины плачут, особенно пьяные мужчины. Ирка брезгливо поморщилась – по-хорошему, надо валить домой, пока мосты не развели. Этот растерявшийся, буквально уничтоженный заурядной драчкой человек ничем не напоминал того ироничного галантного кавалера, каким она увидела его в первый раз, или уверенного и чувственного танцора еще совсем недавно, всего-то два часа тому назад…
– Останься, прошу тебя, – почувствовав вибрации ее сомнений, почти шепотом проговорил он и вытер лицо ладонью. – Я не плачу, ты уж поверь. Они сами чего-то текут и текут.
– Ага. А коньяк сам наливается и наливается. Чего там случилось у тебя на лестнице? За что тебе, скажи, фейс начистили?
Борис пожал плечами и криво улыбнулся:
– Этот жлоб умышленно толкнул меня плечом! Ему не понравилось, как я танцую, типа, выпендриваюсь… Ну, я и послал его…
– Из-за такой… такой ерунды?! – изумившись ничтожности причины, воскликнула Ирка. – А промолчать ты не мог, коли махаться не умеешь?
Он опять пожал плечами, глаза вновь увлажнились, рука потянулась к бутылке.
– Может, хватит, а?
Он понимающе усмехнулся, встал с места, шагнул к ней, с какой-то неожиданной робостью чуть-чуть приобнял, уткнувшись лицом ей где-то между плечом и шеей, погружаясь в волосы и шумно вдыхая. Ирка не противилась, просто стояла, опустив руки.
– У тебя волосы вкусно пахнут, – прошептал он.
И опять Ирка почувствовала к нему нежность. Куда подевалась брезгливость? Она сначала прижалась к нему, потом, чуть отстранившись, начала целовать его соленые глаза и щеки, уже заметный синяк. Он гладил ее по спине, настойчиво пытаясь поймать губами ее губы, она отворачивалась. В какой-то момент он уверенным и каким-то опытным движением умудрился через одежду расстегнуть ей лифчик, полез сначала рукой… она не стала сопротивляться. Тогда он принялся раздевать ее.
– Боренька, пойдем к тебе в комнату.
Чудес он не совершил. Но когда он проник в нее, Ирка через несколько мгновений содрогнулась в наслаждении, испытав то, чего никогда еще не получалось при всем ее рвении. Все в ней возликовало.
– Боренька, родной мой, любимый! – шептала она, гладя его по голове. Он, как и на кухне, уткнулся ей в плечо, снова принюхался. «Ты вся вкусно пахнешь», – пробормотал он с каким-то удовлетворением и вскоре заснул. «Будет-будет моим!» – думала Ирка, рассматривая хрустальные подвески на бронзовой люстре.
Ночью он разбудил ее поцелуями, от него отвратительно несло перегаром. Она отвернула лицо, он же настойчиво и весьма ловко оказался сверху, хотя получилось немножко больно. И опять, как накануне, пик блаженства наступил совсем скоро, забыв обо всем на свете, она впилась в его губы. С каким-то остервенением он продолжал свое ритмичное движение. Какое наслаждение… мамочки… как хорошо…
Ирка спала бы и спала, если бы не чувство голода. Оторвав голову от подушки, она сначала недоуменно осмотрелась, потом расплылась в довольной улыбке и сладко потянулась. Волшебно, все получилось просто волшебно! Бориса в комнате не было, Ирка натянула на себя его футболку и высунулась в коридор. На кухне тихо играла музыка, что-то французское. Он пил чай, увидев Ирку, тут же подбежал к ней, прижал к себе.
– Ты уж прости меня за вчерашнее, ладно? Я вел себя как дебил… Еще и драка эта бездарная. Простишь?
Ирка пожала плечами, чего уж тут вспоминать:
– Забудь. А кто это поет?
– Как?! Ты не знаешь? Это же Серж Генсбур. Неужели никогда не слышала? Гениальный же человек! Сын наших евреев, слинявших из России после революции, много пьющий, курящий, эпатажный, но при этом великолепный музыкант… Поразительно некрасивый… нос, огромные уши… но такой харизматичный… женщины буквально бегали за ним. Он, кстати, муж Джейн Биркин, а до нее у него был роман с Брижит Бардо. Джейн Биркин-то ты знаешь?
– Нет, не знаю. И его никогда не слышала. Сделай громче, мне нравится.
Борис озадаченно уставился на нее.
– Не знаешь Джейн Биркин? А Je t'aime… Moi non plus слышала?
– Что-что?
– Вещь, которую они поют вместе. Переводится «Я тебя люблю… Я тебя тоже нет». Представляешь, какое название! Текст, правда, незамысловатый, полно всяких любовных вздохов, стенаний, а в финале она вообще… короче, изображает оргазм. Да так убедительно, что Ватикан даже запретил песню! Ну-ка, пойдем!
Мелодия и Биркин с Генсбуром так впечатлили Ирку, что футболку пришлось снять…
Друг от друга их оторвал настойчивый звонок в дверь. Борис, чертыхаясь, пошел открывать.
– Хусейн! Ну чего ты сам приперся-то? – его раздосадованный голос отчетливо доносился из прихожей. – На тебе же за километр написано – иностранец! Ты же… темнокожий! Чего скалишься? Одно дело приходить с пустыми руками, а тут… Знаешь, как это выглядит со стороны? Отвечаю. Этакий нарядный иностранец подъезжает на такси к жилому дому, причем не просто иностранец, а иностранец, нагруженный фирменными коробками! А через несколько минут выходит с пустыми руками! И что думать бдительным соседям? Умоляю вас, мужики, посылайте кого-нибудь из русских. Тупых и проверенных.
– Борис, ты расист.
– При чем тут расизм! Я в некотором смысле даже интернационалист. Мы же бизнес делаем! Приходить ко мне опасно! Неужели не понятно? Деньги будут через пару дней. О’кей?
– О’кей. Откуда синяк? Подрался?
– Ерунда, ничего серьезного. Извини, пригласить не могу. Я не один.
– Кароль?
Борис что-то прошипел, в ответ раздался смех араба, и дверь захлопнулась. Он тут же позвонил какому-то Вите: «Все на месте… Да… Угу… Привези выпить и закусить…» – но Ирка уже не вслушивалась. Значит, француженку свою он сюда приводит… А что она хотела? Чтоб у него никого не было!? Делить его с кем-то после того, что она только-что испытала, не говоря уж о том, чтобы отдавать, Ирка не собиралась. «Сказала, будет моим, значит, будет!»
Она высунулась в коридор. Прямо у дверей стояли три большие коробки с надписью Sony.
– Так, небольшой бизнес делаем. Мелочишка на мороженое, – пояснил он. – Скоро, кстати, приедет мой большой друг и заодно возможный будущий подельник, – тут он зашелся смехом, – Витя Смирнов. Он привезет нам что-нибудь выпить и поесть. Добрейший человек и очаровательный жулик, вот увидишь. Он тебе обязательно понравится. А пока айда на кухню пить кофе!
Не заводить же с ним душеспасительные беседы о рисках спекуляций с иностранцами! Не маленький уж. Ирка согласно кивнула.
– Сейчас сварим, как любит Марго – моя тетка, – сказал он, пересыпая кофе в старую деревянную кофемолку с кривой медной ручкой. – Кофе надо молоть не спеша, исключительно в ручной кофемолке, желательно с керамическими жерновами, как в этой. Так зерна перетираются, а не дробятся и не бьются, и все эфирные масла остаются, а не сгорают, как в электрических кофемолках… Для Марго это целый ритуал. Она забавная у меня, хорошая и очень одинокая, – он поставил джезву на огонь, предварительно чуть обжарив кофе. – Марго – однолюбка, по мужу она, представь себе, княжна Лопухина… Кстати, муж ее у вас на филфаке преподавал. Литературоведение. Она выскочила за него еще студенткой. Это квартира его родителей. Точнее то, что от нее осталось… Раньше на этаже было лишь по одной квартире, а при советской власти соорудили перегородки – нарезали по три-четыре. Хорошо, что в случае с его родителями именно нарезали, а не превратили в коммуналку. Они врачами были, кому-то из главных большевиков шибко нужными, но до поры до времени… В блокаду умерли от голода. А муж Марго, мой дядя, несмотря на то что воевал и дважды был ранен, пошел в 52-м по какому-то сфабрикованному делу, попав в очередную волну репрессий на науку, и вроде срок и небольшой схлопотал, но как-то сразу сник и быстро скончался. А может, уголовники зарезали… Знаешь, что удивительно: Марго ведь, как и мой папик, отнюдь не дворянских кровей, а держит себя как княгиня. С рабоче-крестьянской властью не заигрывает, в КПСС не вступает. Чего не могу сказать о родном отце. Он у меня обозреватель Гостелерадио, – на этих словах он кинул взгляд на Ирку. Известие ее никак не впечатлило, и он с облегчением продолжил: – И ездит по всему миру, останавливается в хороших гостиницах, вкусно ест и пьет, покупает молодой жене – та еще потаскушка! – красивые тряпки и тому подобное… Короче, на каждом шагу видит, что можно жить по-человечески. И эту человеческую жизнь он иронично и убедительно мешает с дерьмом… чуть ли не каждый божий день. С экрана Первого канала, сама ж, наверное, не раз видела. Дескать, недотягивает Запад до счастливой планки простого советского человека. А простой советский человек, уткнувшись дома в телевизор, во всю эту байду самозабвенно верит… вернувшись после работы с авоськой вечно гнилой картошки из овощного магазина и банкой кильки в томате, чтобы закусить лучшую в мире водку.
– Послушай, Боря, – прервала его речь Ирка, удивленная столь резким переходом от восторгов по поводу тети к неприязни по отношению к отцу, – ведь ты журналистику, считай, закончил. И вскоре пойдешь куда-то работать. О чем же ты писать собираешься? Открой любую газету – полный мрак, сплошное соцсоревнование и козни империализма! Или писать ты не собираешься? Будешь диктором в телевизоре?
– По крайней мере, постараюсь не быть проституткой! Куда б судьба меня не завела.
– Ну-ну! – насмешливо хмыкнула Ирка, – Не зарекайся! – встретив его негодующий взгляд, она незамедлительно перевела разговор на другую тему, хотя язык чесался пройтись по его напыщенному ответу. – Ты вот сказал, у отца молодая жена. Назвал ее потаскушкой. Чего так?
– Вообще-то я не люблю об этом… – не услышав ее возражений, он продолжил: – Мама умерла от рака совсем еще молодой женщиной, едва сорок исполнилось… я еще в школе учился, в десятом классе… А отец, понять не могу почему, не прошло и полугода, как женился на молоденькой редакторше из какого-то Урюпинска или Замухосранска. Чесалось у него, что ли, подождать не мог год-другой. И привел ее к нам домой… а там еще все мамино. Как он мог?! А девке этой только того и надо – отцовская известность, деньги, машина, квартира на Тверской, домработница. Женись он позже и не на такой шлюхе, я, может, сам бы за него порадовался… Короче, порешили, что учиться я буду в Ленинграде. Хрен с ним, мне от него ничего не надо. Раньше все сам и дальше буду все сам!
– Хочешь сказать, что поступил сам, и отец твой руку не приложил, и фамилия Журов свою роль не сыграла?
– Именно это я и хочу сказать.
Ирка изумленно на него уставилась – взрослый вроде бы мужик, а несет такую ахинею. Он искренне верит в то, что говорит? И допускает, что приемная комиссия факультета журналистики может не принять сына обозревателя Гостелерадио СССР, даже если тот полуграмотный дебил?!
– Раз сам, значит сам! – с готовностью согласилась Ирка и зачем-то добавила: – Игнат!
Выдержав с невинным видом его пристальный взгляд, она подошла к раковине сполоснуть чашки. Тут и пришел Витя Смирнов. Пару минут он громко сокрушался по поводу синяка, затем голос его затих, и вдруг Витя словно вырос перед глазами. Он вручил ошеломленной Ирке букет чайных роз, после чего снял кожаный плащ, чего как бы по забывчивости не сделал в прихожей, и небрежно бросил его на спинку стула. Под кожаным плащом на тугом пузике трещал застегнутый на одну пуговицу кожаный (!) пиджак, надетый на джинсовую рубашку! Пиджак был слегка маловат, но это ничуть не смущало Витю, более того, он лучился гордостью и довольством от своего боевого прикида. Ирка не смогла скрыть улыбку. «Виктор Михайлович», – представился он и оглядел ее с ног до головы. Как лошадку. Удивительно, что не попросил повернуться… Его беспардонность не только не разозлила, но, напротив, была Ирке приятна, столько одобрения читалось в его маленьких светлых глазках и радостной улыбке пухлых губ. Он провел рукой по волосам, как бы поправляя прическу, тем самым словно призывая присутствующих обратить внимание на то, как безукоризненно уложены его не самые густые волосы. Потом доверительно сообщил, что с утра помыл голову и чуть-чуть подровнялся у Фарбера.
– Шикарно, – подтвердила Ирка, впервые слышавшая эту фамилию, но без труда заключившая, что стричься у Фарбера престижно.
– Ах, совсем забыл! – Витя выскочил в прихожую и вернулся с парой шампанского. Уверенным движением открыл бутылку, разлил по бокалам – всем идеально одинаково. Ловко, но слегка театрально. Бросалось в глаза, что он рисуется, каждый жест и поза носили печать продуманности и подготовленности, вероятно даже, являлись результатом долгих репетиций. Что совсем не раздражало: человек кайфовал от выбранного амплуа. Чем-то он походил на подростка, из кожи вон лезущего, чтобы казаться взрослее.
– Витя, а пожрать ты ничего не принес? – без намека на претензии спросил Борис.
– Лучше сходим куда-нибудь.
– Куда мне с такой рожей? Смеешься? Да и на мели я.
Витя красноречиво скосил глаза в сторону Ирки.
– При ней можно! Ира уже успела познакомиться с Идрисом… да и про Хусейна знает. Кстати, о Хусейне… Ну не придурок ли! Представляешь, весь расфуфыренный такой, сам ко мне приперся. С товаром! Вот урод!
Витя неодобрительно покачал головой. Когда Господь, ну или там аллах, хочет наказать человека, то отнимает у него разум.
– Всё на мази. Так что могу выдать аванс… Есть повод не только перекусить. А фингал можно прикрыть очками… Найдутся? – с этими словами Витя вытащил из кармана пачку четвертных и отсчитал несколько купюр.
– Ну что, в «Баку» или в «Метрополь»?
Борис посмотрел на Ирку:
– Шашлык по-карски из баранины или котлеты по-киевски?
Она безразлично пожала плечами.
– Тогда в Баку! – с энтузиазмом провозгласил Витя. – Вот только раздавим шампусик! – Ему «шампусик» Ирка простила с легким сердцем. Мужик же жулик, а жуликам даже полагается говорить на ресторанно-блатной фене – «полтинничек коньячку» и тому подобное.
На улице Витя, пропустив несколько «Жигулей», тормознул служебную «Волгу» и сразу по-хозяйски расположился на переднем сиденье. «В Баку», – коротко бросил он водителю. Тот понимающе кивнул. Всю дорогу Борис нежно сжимал Иркину руку, ее сердце ныло от восторга. В очках он был похож на Збигнева Цыбульского из «Пепла и алмаза».
При входе в ресторан Витя сунул швейцару рубль, Борис буднично буркнул: «Привет, Михалыч», и они уверенно проследовали на второй этаж. У входа несколько официантов вели неспешную беседу, никак не реагируя на вошедших. Выяснив, что сегодня не Серегина смена и что Лёнчик болеет, Витя тут же вступил в переговоры, кто возьмет их покормить. «Взял» на вид какой-то рыхлый парень с аккуратно подстриженными усиками, быстро вертящий в руках то ли золотой, то ли позолоченный «Ронсон». Витю он давно заприметил – по всем признакам полезный человек, – поэтому проявлял уместную расторопность и обслуживал по высшему классу. «Для вас сделаем», – произнес он ключевую фразу, принимая заказ. Водка, вино и боржоми образовались на столе как из скатерти самобранки, буквально закрыл глаза, открыл – и на тебе!
Вообще-то для трудящегося советского человека, не говоря уж о простом студенте, поход в ресторан был событием редким, если не сказать праздничным. Борис же чувствовал себя уверенно и непринужденно, что могло даваться только определенным опытом. Ирку эта деталь не настораживала, она светилась от радости и не могла им налюбоваться. По отношению к Вите Борис держал себя с некоторым превосходством, но не скрывал, что друга он любит и даже гордится им. Витя был в ударе и просто фонтанировал, делясь секретами своей ловкости, которые он называл жизненными принципами.
– А вот другой принцип, я называю его принципом – Эрмитажа. Ты помнишь, сколько стоит входной билет? – Зачем Ирке покупать билеты в Эрмитаж, когда она экскурсии там водит?
– И сколько?
– Взрослый стоит рубль, а вот любой льготный – детский, студенческий или военный, – он выдержал паузу, – десять копеек! И на нем ничего не написано, кроме цены. Улавливаешь?! Надо только предъявить документик, например студенческий или еще чего там… Так вот, когда я хожу в Эрмитаж с дамой, а поход в музей для меня всегда праздник, – Ирка вскинула на него глаза: «Он смеется или взаправду?» Витя вещал как ни в чем не бывало, – поэтому нарядный, в костюме и в галстуке, я подхожу к кассе под руку с дамой (окошки там маленькие и на уровне груди) и покупаю два взрослых и два детских билета на два рубля двадцать копеек. И мне, конечно же, их продают без предъявления детей, которые у меня шалуны и носятся где-то у парадной лестницы. После чего я отхожу в сторонку и через пару минут уступаю два взрослых билета любой подвернувшейся паре. Случайно оказались лишними – не выбрасывать же! А вот билетеры на входе ни студенческий, ни другой какой документ не проверяют! Это полагается делать кассирам! Мы гуляем по музею, рассуждаем об искусстве, а на сэкономленные два рубля пьем сухое вино в буфете…
– Витя, – не дослушав до конца, воскликнула Ирка, – ведь у тебя полно денег! – тут же смутилась – надо признать, беспардонное у нее вырвалось заявление, – но, упрямо тряхнув головой, продолжила: – Зачем тебе экономить два рубля, скажи? Кстати, чем ты занимаешься, ну, в смысле, где-то же ты работаешь?
– Говорю же тебе – прин-ци-пы! Дело тут совсем не в экономии, – затем, потупив взор, Витя объявил: – Я – студент.
Ирка выпучила глаза – человек выглядит на тридцатник! Борис расхохотался с довольным видом и пояснил:
– Мы познакомились, когда я поступать приехал. Тогда он переходил на второй курс. Сейчас у меня диплом, а Витя на третьем! И как ему удается… вечный студент!
Витя со вздохом скромно опустил глаза, его пухлые щеки даже зарумянились. Ну разве не приятно осознавать собственную ловкость? Потом сделал губки бантиком и рассмеялся, не открывая рта и чуть-чуть похрюкивая.
– Витя, я тебя обожаю, – заявила Ирка. Тот встал, полез целоваться. Обнимая, погладил Ирку по попе, она, смеясь, ударила его по рукам. Он их поднял – «сдаюсь-сдаюсь» – и сел на место. Борис, несомненно, получал удовольствие от разыгрываемой сцены, словно исполнители по какому-то наитию с точностью играли написанные им роли.
В этот момент в зал вошла просто ослепительная высокая блондинка. Прищурив большие светлые глаза, она смотрела по сторонам, видимо, кого-то искала. Одета она была вызывающе смело, как из другой жизни – сквозь прозрачную блузку, символически застегнутую на пару пуговиц, отчетливо виднелась высокая грудь, не сдерживаемая лифчиком. Одеться так в ресторан Ирка никогда бы не отважилась. Даже в гости к девчонкам. Да, эпоха обязательных комсомольских значков и мешковатой одежды а-ля Надежда Крупская канула в прошлое, но вот так… Она вздохнула с сомнением и все-таки с завистью.
Похоже, красавица страдала близорукостью: она нерешительно остановилась в центре зала и еще раз пробежала глазами по столам. Лицо ее Ирке показалось знакомым, но вспомнить, где могла ее видеть, не удавалось. Борис же радостно встрепенулся, махнул ей рукой и окликнул:
– Ульяна!
Красавица-дива, покачивая бедрами, сделала несколько величественных шагов в их сторону. Борис поднялся ей навстречу. Сначала на ее лице мелькнуло недоумение, затем девушка вспыхнула радостью:
– Боренька, котик, привет! В черных очках тебя и не узнать. Тебе идут, кстати. Знаешь что? – она положила руку ему на грудь и слегка похлопала. – Ты похож в них на Цыбульского. Гошку моего здесь случайно не видел?
– А должен?
– А как же! Стоило заглянуть в туалет носик припудрить, а его уже и след простыл. Подумала, может, без меня сюда поднялся. А он, наверное, меня внизу ищет. Ну и пусть ищет, раз такой дурак.
Разговор происходил в трех шагах от их столика, Ирка напряглась: на сравнение с Цыбульским она первая имела право, чего сама ему не сказала! Вот дура!
Витя зачарованно смотрел исключительно на грудь девушки. Борис уже собирался подвести ее к их столу и познакомить, как в зал влетел плотный крепыш, одетый так по-европейски неброско, но при этом все-таки фирменно, что на его фоне Витин кожаный пиджачок на джинсовую рубашку выглядел провинциально жалко. Крепыш наспех пожал руку Борису, обнял девушку и, что-то ей объясняя, повел к малому залу, отгороженному тяжелым темно-малиновым занавесом. Обернувшись, она помахала ручкой и прожурчала:
– Не пропадай, Боренька! Звони!
Крепыш тоже обернулся, недружелюбно зыркнул в их сторону и согласно кивнул, словно подтверждая приглашение.
– Боб, кто это? – теряя голос от восторга, прохрипел Витя.
– Запал, старик? – Борис весело хмыкнул. – И не мечтай! Это Ульянка, манекенщица из Дома моделей на Невском. Ее ж фотографии на обложках половины журналов мод! Красивая барышня, ничего не скажешь, и, что редкость – умна и начитанна! Не раз общались…. Она ж часто захаживает к Мише… и как ты ее там не встретил?! А Миша, – пояснил он Ирке, – наш с Витей друг, художник. У него мастерская на Загородном… А Ульянкин Гоша знаешь чем промышляет? – он выдержал паузу, прежде чем продолжить. – Гоша у нас проводник в поезде! Но не в простом каком-нибудь там плацкартном до Нижнего Тагила, а, можно сказать, в золотом. Следующем до Стокгольма! Другими словами, раз в неделю человек бывает в капстране! Очень, надо признать, состоятельный товарищ. Но Ульянку он все равно не удержит, сколько бы бабок ни вбухивал. Во-первых, по сравнению с ней он дурак, а во-вторых, она девушка не его полета…
Витя в ответ процедил, кривя губы:
– Слава партии, правительству и всему, млять, советскому народу! Только в этой стране такая женщина может достаться не кинозвезде, не чемпиону мира по-о-о-о… – Витя уставился в потолок, – ну, не знаю, да хоть по шашкам! Или партийному боссу… министру, – продолжил он с ожесточением, – а проводнику поезда, застилающему постельки и подающему чай пассажирам, даже если он и лейтенант КГБ…
– Вить, а почему лейтенант, с чего ты взял? – встрепенулась Ирка.
Задумавшись на мгновение, он со смешком ответил:
– Был бы капитаном – служил бы не проводником, а начальником поезда!
Засиживание в ресторанах в эти безликие и унылые годы брежневской эпохи считалось многими делом интересным и престижным. Неудивительно, что обед плавно перетек в ужин. Когда в зале на первом этаже заиграла музыка, Витя удивленно посмотрел на часы – как незаметно пробежало время! – и объявил, что вынужден попрощаться – есть еще неотложные дела. Рыхлый огласил приговор. Витя, как и предполагалось, оправдал все его ожидания, они долго трясли друг другу руки.
Без Вити разговор не клеился. Посидев несколько минут в молчании, они спустились вниз. Ансамбль в зале наяривал традиционный разгульный репертуар ресторанных танцев, на узком пространстве дружно дрыгали ногами сильно нетрезвые посетители. Танцевать Ирке хотелось, танцевать с Борисом хотелось очень-очень! Но не под такой же совок! Она разочарованно огляделась по сторонам, словно в поиске подмоги, и – есть же Бог на свете! – помощь подоспела в лице фирменного проводника Гоши. Он подошел к певичке, что-то прокричал ей на ухо, она согласно кивнула, и пятирублевая бумажка перекочевала ей в вырез платья. «А сейчас для Георгия и его очаровательной спутницы прозвучит эта мелодия», – объявила она и запела неожиданно сильным и красивым голосом «Римские каникулы» Матья Базар.
Крепыш Гоша – вот ведь неожиданность! – со сдержанным достоинством принялся довольно не стыдно топтаться вокруг Ульяны, та же, закинув руки вверх, томно вращала бедрами, очень точно попадая в мелодию и придавая всем движением своего красивого тела еще большую сексуальность не только танцу, но и без того чувственной песне. Борис одобрительно смотрел на них. «Ну, сейчас мы им покажем класс», – подумала Ирка и приготовилась к томным и сложным па в уверенных руках Бориса. Он же просто крепко прижал ее к себе. Со стороны вообще могло показаться, что они стоят на месте, на самом же деле он танцевал именно таким «стоячим» образом, импульсами показывая Ирке направление движения, а руками и ногами это самое движение сдерживая, не позволяя выполнить его во всей амплитуде. В результате они едва покачивались, исполняя танец скорее виртуально, причем совершенно понятным Ирке образом.
Неутомимый и неиссякаемый Гоша метал пятерку за пятеркой; до закрытия ресторана были исполнены все известные советскому человеку хиты Сан-Ремо, под «Феличиту» народ с одинаковым восторгом оттрясся три раза подряд. Какая бы мелодия ни звучала, Борис танцевал ее медленно или вообще в этой своей странной манере – импульсами. Он погружал лицо в Иркины волосы и, не переставая, касаясь губами, шептал, какая она расчудесная. Кто б в этом сомневался! Происходящее казалось сказочным сном, люди вокруг добры и красивы, Ирка любила всех…
В себя она пришла только на улице, когда Гоша, не попрощавшись и не предложив подвезти, буквально у них перед носом хлопнул дверцей своих «Жигулей», припаркованных прямо напротив входа, и рванул с места. Ульяна уже на ходу приоткрыла окошко и, не оборачиваясь, помахала им ручкой.
– Может, опять ко мне? – с надеждой предложил Борис. Черные очки он снял еще во время танцев. Глаз его почти полностью заплыл и выглядел страшно – узкая щелка, как у китайца, да еще кроваво-красного цвета!
– Ты что! Меня мамка убьет! Я ж сегодня ее даже не предупредила, – выпалила Ирка с ожесточением. Сказка осталась за дверью ресторана, а на улице пришла паника – половина же двенадцатого! Кошмар!
Они побежали на Невский ловить машину. Словно сговорившись, никто даже не притормаживал. Быстрее б на метро доехали… Наконец поймали. Борис с ходу посулил немыслимые деньги, чтоб и мысли не возникло отказаться. В машине всю дорогу целовались. Когда подъехали к дому, Ирка робко попросила проводить ее до квартиры – вдруг, как и в первый раз, он примет удар на себя, а она тихонечко проскользнет к себе…
Он изменился в лице, отвернулся и куда-то в окно произнес:
– Ты понимаешь, мое прелестное дитя… мне позарез надо домой… Диплом писать за меня никто не будет…
– Да ты только поднимешься, и всё. При тебе меня мамка убивать не станет…
– Извини, Ириш, мне еще через мосты надо успеть.
Мать, судя по всему, дежурила у двери – не успела Ирка достать ключи и попытаться без шума открыть замок, как дверь распахнулась мощным рывком: Лариса Дмитриевна встретила дочь на пороге.
– Привет, мам, – жалобно пискнула Ирка, глядя в пол, – я сейчас все тебе объясню, – она уже было осмелилась поднять глаза, как получила мощную пощечину с правой руки. Голова ее качнулась, она встретилась взглядом с Ларисой Дмитриевной и увидела, как та заносит левую руку. Что-то колыхнулось в Иркиной груди, сама того не ожидая, она легко и твердо поймала руку матери и очень спокойно, словно в результате долгих раздумий, отчеканила:
– Еще раз попробуешь меня ударить, уйду из дома и больше ты меня не увидишь.
Что-то особенное прозвучало в Иркиных словах, даже не сказать, что решимость выполнить обещание… Лариса Дмитриевна опустила руки и произнесла с сокрушенным видом:
– Моя дочь – проститутка. Уже дома не ночует.
– То, о чем ты думаешь, можно делать и по утрам, – отодвинув мать от двери, она бросила пакет с учебниками на полку у входа и тут вспомнила, что забыла Витин букет. Жаль. – Пойдем, что ли, чаю выпьем. Расскажу тебе.
3
Вышло совсем уж погано, лучше бы сказал, что разлюбил… Прикрылся работой отца, подло и малодушно. Иванка заплакала, говорить ничего не стала, видимо, все поняла про него, и убежала. Он был себе отвратителен, отца ненавидел.
Журов-старший вызвал его в Москву, срочно и безоговорочно. У себя в кабинете в Останкино он, как всегда четко и аргументированно, объяснил сыну, что если тот немедленно не прервет связь со своей болгаркой, то путь в большую журналистику ему будет закрыт навсегда. «Поедешь куда-нибудь в Выборг или в Кингисепп. В занюханную газетенку. Будешь прозябать там до конца своих дней. Пойми, не я этот порядок устанавливал, но это реалии, сын, нашей жизни и работы в этой стране… если ты, конечно, намерен чего-нибудь здесь добиться».
– Не зря же говорят, «курица – не птица, Болгария – не заграница»! Ее отец – член ЦК! Если мы поженимся, то это можно рассматривать как политический союз! Пример советского интернационализма!
– Перестань быть мальчишкой! Болгарка, полька, да хоть монголка – для Системы все равно иностранки! Ну стань ты наконец мужчиной! Игрушку у него отнимают, видите ли! Будет он мне тут всякие глупости нести о политических союзах и интернационализме!
– Ты что, не понимаешь, что мы любим друг друга?!
– Придется расстаться! Как бы это ни было больно… Ты еще слишком молод, будут в твоей жизни и другие женщины, – припечатал Журов-старший.
От беспомощности у Бориса задрожали губы.
– Отец, я не хочу быть блядью в этой блядской стране!
Журов-старший изменился в лице и буквально вылетел из своего кресла. Он обнял сына и с усилием произнес:
– Поступай, как знаешь, сын… Запретить тебе ровным счетом я ничего не могу. Но пойми, Боря, меня уже вызывали на разговор… гм… «товарищи оттуда», естественно, неофициальный, и предупредили на твой счет. Если ты женишься на этой девушке, то испортишь себе всю жизнь, и это будет твой личный выбор. Но и меня задвинут к чертовой матери. Я же идеологический работник, сам знаешь, на каком месте сижу… Что ж, буду сажать огурцы на даче.
– Значит, будешь сажать огурцы.
Несколько дней после поездки в Москву Журов был настроен самым решительным образом – не полное же он ничтожество, чтобы предавать любимую ради карьеры. Совсем из ума выжили кремлевские старперы и их псы с Лубянки – чтобы дочь члена ЦК компартии Болгарии могла запятнать чью-то биографию! Абсурд! Теперь-то он обязательно женится. И уедет в Болгарию. Неужели он там ничего не придумает? Да и здесь он не пропадет: думающий и ловкий человек всегда найдет способ поднять денег! Он стал особенно нежен с Иванкой, своей прелестной однокурсницей, поразившей его воображение, лишь только он увидел ее на первой лекции. Себе на удивление, Журов проявил с ней невиданные доселе смелость и легкость. Интерес, к его восторгу, оказался взаимным. Они самозабвенно прогуливали лекции и, пока Марго пропадала в университете, пытливо познавали друг друга. Журов даже не задумывался, догадывается или нет его старомодная тетя, что их отношения с Иванкой отнюдь не платонические. Как это было принято в хороших семьях, он и не пробовал предложить Марго оставить девушку ночевать, и каждый раз провожал Иванку в общежитие.
Во всех друзьях-приятелях своего племянника Марго видела только хорошее, все были «прекрасными мальчиками», даже когда глушили на кухне дешевый портвейн и курили ужасный «Беломор». Витя Смирнов – уж на что уж жулик, правда, сохранивший детскую наивность и умение восторгаться самыми незначительными вещами, и тот без колебаний был зачислен ею в круг «прекрасных мальчиков». Что уж говорить о чистой и скромной болгарской девочке, с которой Марго могла поговорить на ее родном языке.
Именно в силу этой черты Марго, ее безоговорочного приятия всего окружения любимого племянника, громом среди ясного неба стала ее реакция на пересказ разговора с отцом.
– Ты представляешь!.. Они, эти мерзкие твари, эти чекисты, вызвали его на беседу и по-дружески предупредили на мой счет! Типа, если я женюсь на Иванке, то не только у меня, но и у него будут проблемы… и вылетит он с Первого канала, и никаких ему больше заграничных командировок! Чтоб я… чтоб на такую подлость… Не дождутся! Пошли они все знаешь куда! Мы поженимся, и точка!
И вдруг Марго, тонкая, чуткая, все понимающая, всегда стоящая на защите его интересов, чуждая любому проявлению совкового карьеризма, его не поддержала! Хуже того, встала на защиту отца и его треклятой работы!
– Поверь, Бобочка, я ни на йоту не сомневаюсь в твоих чувствах к Иванке. Очаровательная, прекрасная девушка… Но в этом случае тебе придется смириться. Раз Толю предупредили «товарищи оттуда» – значит, все очень серьезно, и я полагаю, ты не вправе разрушать то, что твой отец выстраивал годами. Мне очень жаль, мой мальчик. Всем сердцем сочувствую тебе! Но пойми меня правильно: я хотела бы, чтобы ты перестал принимать Иванку у нас дома. И в мое отсутствие тоже…
Ошеломленный Журов вылетел вон из квартиры и помчался к Вите на Обводный. Слез Марго увидеть он никак не мог.
Витя был дома и с карандашом в руке сидел над преди-словием к «Опытам» Монтеня в поисках двух-трех не очень длинных цитат, чтобы пополнить арсенал «знаний», которыми он сыпал при случае в компаниях, предпочтительно в женских. Большего ему от великого француза и не требовалось. Не читать же целиком такой талмуд! Была у него такая слабость – ошеломлять собеседников эрудицией, он обожал ссылаться на изречения великих людей в каких-то определенных, весьма конкретных обстоятельствах, вроде «как сказал Декарт, переехав из Парижа в Голландию» или «как заметил Рокфеллер, заработав свой первый миллиард». Когда память подводила его, Витя нес полную отсебятину, граничащую с ахинеей. При этом глазки его блестели удовольствием и радостной готовностью тут же обернуть все в шутку, если случится чудо и собеседник поймает его на этом безобидном мошенничестве. «Если хочешь излечиться от невежества, надо в нем признаться», – с одобрением подчеркнул Витя в книге. И признался, ничтоже сумняшеся. Тут-то и затрезвонил с наглой настойчивостью дверной звонок. Без предупреждения к Вите никто не ходил, поэтому открывать он не спешил. Но когда стены задрожали от ударов корпусом в дверь – того и гляди вообще вышибут, – пришлось оторвать зад от кресла. Похоже, за дверью неистовствовал Журов. Витя тем не менее проявил предусмотрительность, сначала накинув цепочку. Лишь увидев друга в образовавшуюся щель, он впустил его в квартиру:
– Ты совсем, Боря, охренел так ломиться?
Журов, сжав кулаки, смотрел так, что у Вити появилось опасение, что тот готов его ударить. Он отступил на шаг. Журов усмехнулся:
– Хлипкая у тебя дверь, старик! Еще пару раз, и я бы вышиб ее на хрен. Сдрейфил? – Витя развел руками – как тут не сдрейфить, когда тебя буравят таким бешеным взглядом! – Вообще-то ты прав, – продолжил Журов, – мне действительно хотелось кого-нибудь убить. А вот увидел твою рожу – и вроде отпустило. Послушай, как меня обложили… даже Марго с ними заодно… Выпить есть?
Молча кивнув, Витя метнулся на кухню и вернулся с початой бутылкой водки, банкой шпрот и черным хлебом. Достав из серванта рюмки, он протер их полой халата. Журов презрительно хмыкнул, пошел мыть свою на кухню. Вернувшись, призывно стукнул по столу. Витя налил до краев, себе впопыхах перелил, вытер лужицу все тем же халатом. Журов, чтобы не намочить, приподнял лежащую на столе книгу, перевернул обложкой – Монтень.
– Всё очки людям втираешь? Зачем книга-то? Мог и в библиотеке накопать что надо. Или просто, как ты это умеешь, пургу гнать.
– Обижаешь! Читаю автора с интересом, нахожу много полезного, очень актуальная вещь… Ну, понеслась?
Хлопнув первую рюмку, Витя аж сложился вдвое, так его прошибло. Зажмурив глаза и мотая головой, он шумно втянул в себя воздух.
Журов испуганно вскочил, схватил друга за плечи и наклонился, заглядывая ему в лицо.
– Что случилось? Витя!
Витя выпрямился и открыл глаза:
– Вкусная, собака!
Закусить требовалось немедленно. Принести вилки Витя не удосужился. Оба полезли руками в шпроты и вытянули за хвост по рыбешке. Заглотив, они отломили по куску хлеба, макнули в масло в банке, принялись усиленно жевать.
– Зачем ты держишь эту гадость? – спросил Журов. Витя пожал плечами. – Давай еще по одной!
Витя слушал внимательно и, в отличие от друга, не пьянел. Суть он уловил сразу и крайне удивился, что такой, казалось бы, пустяк, как роман отпрыска не просто с болгарской девчонкой, а с дочерью члена ЦК, может как-то пошатнуть позиции обозревателя Гостелерадио СССР. И не только пошатнуть, а представлять реальную угрозу вообще для карьеры! Что-то тут не так… Бутылку распили лихо, Витя выудил из шкафа какую-то полузабытую заначку, тоже водяру. Ее давили теплой. Журов стремительно раскисал и нес полную чепуху. Витя не перечил. Зачем? Потом сходили в магазин еще за водкой, курили, прикуривая одну сигарету от другой, потом Журов с трудом успел добежать до туалета, где его вырвало, после чего уснул прямо в одежде на Витином диване.
Выйдя утром на улицу, Журов собрался было пойти домой пешком, проветрить голову, но внезапно передумал и запрыгнул в трамвай до Нарвских ворот. Пивных ларьков, открытых спозаранку, там не перечесть! Но все как один, даже самый надежный у Парка тридцатилетия ВЛКСМ, были закрыты. Когда он спустился в метро и втиснулся в переполненный вагон, растворимый кофе, которым Витя пытался его отпоить, подошел к самому горлу и Журова чуть не стошнило. Каким-то чудом он удержался и всю дорогу глубоко дышал. На углу Малой и Большой Пушкарских ларек был открыт, и очередь на удивление небольшая. Мелочи в карманах хватило на две кружки, первую он выпил, не отрываясь, перед второй стрельнул сигарету, какую-то дрянь без фильтра, у стоящих рядом помятых мужиков. Братья родные… От сигареты опять подурнело, он сплюнул крошки табака, переждал. Затем не спеша приговорил вторую кружку.
Марго не было дома. И хорошо. Не пришлось ничего объяснять.
Проснувшись под вечер, он долго и хмуро ворочался в постели. Как же паршиво, как муторно! Единственное утешение, если прямо сейчас не сдохнуть, что завтра должно стать лучше. Какую гадость они пили! Что он хотел доказать Вите? Доказал? Услышал что-то вразумительное в ответ? Он в состоянии хоть что-то вспомнить? Тут среди полной сумятицы, в череде смазанных эпизодов выплыли Витины слова: «Ничего у тебя там не выйдет. Тот же Совок. Разве что отец Иванки чего подбросит».
Журов не мог с этим согласиться. Он сам, без всяких отцов! И в Болгарии тоже! Голова же есть на плечах. Он выглянул за дверь – Марго гремит кастрюлями на кухне, – на цыпочках добежал до телефона и перенес к себе в комнату.
– Привет, Вить… Ну, мы вчера и дали… Сам-то как?
– Я-то ничего. А вот ты мне вчера весь сортир заблевал. И пришлось на полу спать… Удружил.
– Да ладно ты! С кем не бывает! Ты мне лучше вот что скажи… почему это у меня в Болгарии ничего не выгорит? С чего ты взял? Что ты лечишь меня?
– Никто тебя, Боря, не лечит. Так… мысли вслух… Согласись, в Болгарии элементарно меньше шансов. Ты понимаешь, о чем я? Меньше, чем здесь! Что, не так? – Ответить Журову было нечего. Витя продолжил: – Иванка, конечно, девчонка клевая… Но хочу напомнить тебе одну вещь, которой ты, упершись, как баран, напрасно пренебрегаешь. Ты, Боря, рожден с отличными, можно сказать, идеальными для этой страны анкетными данными! А с таким отцом, как твой, можно очень высоко взлететь… если он тебя правильно воткнет, в чем я не сомневаюсь. Так что подумай, старик! Женщин вокруг много…
– Витя, – заорал Журов, – вы что, все сговорились?! – и бросил трубку. На его вопль без стука – когда такое было? – вошла Марго.
Она открыла рот еще в дверях, но, почувствовав в комнате кислый запах перегара, сначала замахала руками, словно разгоняя его, потом, поморщившись, сухо произнесла:
– Я попросила бы тебя, Борис, когда ты не ночуешь дома, в обязательном порядке предупреждать меня заранее. Не позже одиннадцати часов. Чтобы я могла спокойно спать, а не обзванивать до утра приемные отделения больниц и моргов.
Журов ничего не ответил, лег в постель, повернулся лицом к стене и накрылся с головой одеялом. Поколебавшись, Марго присела рядом, положила руку ему на плечо.
– Бобочка, мальчик мой, больше ничего не буду тебе говорить… ты сам все понимаешь. Постарайся взять себя в руки. Давай-давай, вставай! Принимай душ, проветривай комнату, а то дышать невозможно, и пойдем ужинать.
Она через силу стянула с него одеяло, поцеловала в затылок и вышла из комнаты.
Лишь через сутки Журов выбрался из дома. Марго упорхнула в университет на лекцию друга своего покойного мужа, профессора Г. А. Бялого, читавшего по вечерам спецкурс по русской литературе ХIХ века. На его лекции ходила добрая половина уважающей себя интеллигенции города, без Марго тут было никак не обойтись.
Журов добрел до «Рима», но заходить не стал, передумал и поехал в «Сайгон»[3]. Первым, кого он там увидел, оказался Миша, так друзья называли начинающего художника Андрея Медведева.
– Ты чего такой довольный? – спросил Журов, пожимая ему руку.
– Дури взял. Узбекской. Говорят, хорошая. Будешь?
– Здесь? Я стремаюсь чего-то…
– Так и я здесь стремаюсь… В мастерскую поедем.
– Тогда айда! Хрен с ним с кофе!
Напоследок Журов обернулся – мало ли кто еще из знакомых мог быть сейчас в «Сайгоне» – и оторопел. Через стол стояла Анук Эме и что-то энергично втолковывала подруге, та только согласно кивала. Он зачарованно сделал несколько шагов в их сторону. Конечно же, не Анук Эме, но как похожа! Услышать бы ее голос… Он приблизился еще на несколько шагов. Какой приятный тембр, какая живая и эмоциональная речь… Только вот что не так? Ба, да у нее акцент! Такой не перепутать, француженка, но как свободно говорит по-русски! И что с того? Необъяснимо, но на душе Журова почему-то потеплело. Он пошел догонять Мишу.
На мансарде в Мишиной мастерской на Загородном проспекте напротив джаз-клуба побывала добрая половина андеграунда города. Мастерская была выделена Союзом художников Мишиному отцу, но тот легко без нее обходился, и как только Миша поступил в «Муху»[4], тут же уступил ее сыну в полное и безраздельное пользование. Почти 100 метров в центре города, правда, без горячей воды и с вечно сломанным очком на лестничной площадке пролетом выше, под самым чердаком. Два совершенно пустячных недостатка на фоне остальных колоссальных преимуществ.
Предварительно заварив чай, Миша расторопно и с любовью к делу забил косяк. Закурили. Вторую половину пустили паровозом, пяточку растягивали. Как и во всех предыдущих случаях опытов с каннабисом, Журов абсолютно ничего не почувствовал: то ли конопля попадалась всегда левая, то ли легкие наркотики его не забирали. Других он не пробовал и не собирался. Однако он с уважением смотрел на задумчиво-мечтательное лицо Миши. Человеку вот кайф пришел!
После второго косяка ничего не изменилось, но появилось ощущение исключительной благоприятности момента, чтобы поделиться некоторыми соображениями о своей жизни. Прыгая с одного на другое, он заговорил о мучительной смерти матери, о блядской работе отца и его стремительной – чесалось у него, что ли? – женитьбе на молодой и тупой телочке из Мухосранска. Тупая не тупая, а выдавила его из квартиры на Пешков-стрит. Возлюбленная Иванка – прекрасна, но из-за нее отца прессуют органы. В Болгарии он не пропадет, потому что имеет голову на плечах. Марго замечательная, самый дорогой для него человек, но и та встала на сторону отца. Друг Витя оказался двуличной гнидой, он заодно со всеми против него. А после окончания университета он ни за что не станет проституткой и будет писать что-то особенное и талантливое. Может, и в Болгарии!
В пылу этой спонтанной исповеди Журов не заметил, как к ним присоединились две юные очаровательные барышни: высокая, яркая, эффектная и очень смело одетая Ульяна и миниатюрная блондинка Женя, полная противоположность подруги, но тоже очень красивая.
– Так ты сын Анатолия Журова? – с интересом спросила Ульяна, изучающе разглядывая его с ног до головы.
– А что, это имеет значение? Да, сын! Но я все сам! И сейчас, и в будущем! – высокомерно отрезал Журов.
Ульяна с Женей переглянулись, почти синхронно фыркнули и расхохотались, запрокидывая головы. К ним тут же присоединился Миша, уж больно заразительным было их веселье, и Журов не удержался – как можно обижаться на таких хорошеньких!
Даже сквозь смех он удивился, насколько резко и выпукло ему видятся предметы в комнате. Картины и рисунки, тесно и беспорядочно развешанные по стенам, подрамники штабелями где только можно, банки с кистями, тюбики с красками, полки, заваленные бумагами и в основном бесполезными книгами, ветхие, полуживые стулья, поцарапанный стол, консервная банка вместо пепельницы, потрескавшиеся чашки с остывшим чаем, старинный патефон, найденный кем-то на помойке с кучей довоенных пластинок, которые – о чудо! – еще можно было слушать на этом самом патефоне.
Мишина дурь совсем не забирает. Правда, он не заметил, как пришли девушки… Откуда он знает, что Ульяна манекенщица? Вероятно, Миша сказал. Женя – маленькая, таких в манекенщицы не берут. Они лучшие подруги… Какие все хорошие… Миша, девушки.
– Котик, – Ульяна положила руку ему на грудь, – не смей сомневаться! Обязательно женись на своей Иванке! – Журов признательно посмотрел на нее. Что-то такое она знает, раз так уверенно говорит. Хватит сомневаться! Все нормальные люди советуют жениться! Тогда решено! Какая все-таки красивая эта Ульяна!
С этого момента он смотрел на девушку, не отрывая взгляда, загадочно и заговорщицки ей улыбаясь. Когда пустили по кругу очередной косяк, Журов глубоко затянулся и, задержав дым, сделал Ульяне знак следовать за ним. Она без колебаний встала со своего места. Выйдя в другую комнату, он обнял ее, не чувствуя ни малейшего сопротивления, прижал к себе, решительно раздвинул языком ее губы и в поцелуе выдохнул дым. Он делал так в первый раз, до этого только слышал. Вдохнув, она прикрыла глаза, что-то прикинула в уме, показала жестом ему оставаться на месте, отлучилась и вернула такой же поцелуй. Больше они из комнаты не выходили, медленно и изучающе целовались. Журов изнывал от желания, в узких джинсах стало больно от возбуждения. Он полез ей под блузку, она мягко не позволила.
– Котик, а тебя разве не предупредили, что мне шестнадцать лет? Я вообще-то еще в десятом классе. И потом… ты ведь только что собрался жениться на своей прекрасной болгарке! Как же так, неужели ты передумал?
«Шестнадцать лет! Невероятно! Да-да, Иванка, родная! Конечно! Я женюсь на ней. Потом. А сейчас как я хочу эту Ульяну! Господи, десятиклассницу! Кто бы мог подумать! А на Иванке женюсь позже. Или, может, жениться на Ульяне?» В голове был полный сумбур, но приятный, не приносящий беспокойства, скорее наоборот, вертелось что-то веселое, даже радостное – если не жениться на одной, хотя все решено, можно тогда жениться на другой. Желание не пропадало, целоваться дальше Ульяна категорически отказалась. С чего это вдруг? О том, чтобы погасить свет и увлечь ее в угол на диван, не стоило и мечтать. Они вернулись к Мише с Женей, та тут же объявила, что им давно пора. Журов вызвался проводить их в расчете на новую порцию поцелуев в подъезде Ульяниного дома, но подруги решительно отказались. Без них стало скучно. Журов засобирался домой.
В метро – бывает же такое – ехали на удивление симпатичные и добрые люди. Спроси Журов, стоит ли жениться на Иванке, каждый пожелал бы ему семейного счастья.
Марго уже спала, к счастью, он не разбудил ее грохотом замков. Безумно хотелось пить, во рту творился какой-то кошмар. Прильнув к крану на кухне, он долго-долго пил холодную ленинградскую воду. «Какую муть взял Миша, кайфа никакого, а сушняк – сдохнуть можно».
4
Через зимнюю сессию Журов позорно перетащился, получив по всем предметам снисходительное «удовлетворительно». Исключительно благодаря громкой фамилии. Связываться с ним никто из преподавателей не желал, даже непримиримый истматчик, сыпавший неудами налево и направо. Ни о какой принципиальности по отношению к Журову-младшему речи и в помине не было, преподаватели – кто равнодушно, а кто с легким смущением – разводили руками, пожимали плечами и советовали в дальнейшем больше заниматься и лучше готовиться к экзаменам. Буквально все подозревали в нем незаурядные способности, лишь по недоразумению пока не раскрытые, которые априори не могли отсутствовать у сына гуру журналистики. В свои незаурядные способности Журов твердо верил сам – просто сейчас ему не до учебы. С кривой ухмылкой он вяло поддерживал разыгрывающиеся при выставлении оценки мини-спектакли, в ответ невразумительно что-то мычал про загадочные личные обстоятельства, обещал исправиться и взять себя в руки в самое ближайшее время, уже в следующем семестре. До сессии столь же невзрачно и уныло он протелепался на практике в молодежной газете «Смена». Что практика, что сессия, казались ему чем-то пустым, обременительным и мимолетным, не заслуживающим серьезного к ним отношения. Когда наступит время – а оно наступит сразу после распределения, яркого и многообещающего и уж точно никак не зависящего от отца, – он будет писать остро, принципиально и смело. Так, что о нем заговорят. Внутренний голос нашептывал, что его неординарные статьи прорвутся через партийно-чекистские препоны, правда, голос не объяснял, как он их напишет и каким чудом их не затормозит цензура. «Боря, ты пробьешься! Обязательно пробьешься!» – настойчиво твердил голос. Журов прислушивался с благодарностью, и этого было достаточно.
Что именно в его внутренних настройках в действительности послужило импульсом для столь неприглядно обставленной разлуки с Иванкой, Журов не знал, а может, боялся себе признаться. Он же любил ее! А на деле получается – не выдержал первого же испытания! Почему? Он бросил девушку из уважения и любви к отцу, несмотря на большие и мелкие обиды, то есть все-таки из сыновнего долга? Или все-таки из страха за свое прекрасное будущее? Если глубоко в себе не копаться, ясно, что из-за отца. Нельзя же человеку такую свинью подкладывать, коль его столь недвусмысленно предупредили «товарищи оттуда»! Эта работа – смысл его жизни! А вдруг не в отце дело?! Ведь иногда, на короткие мгновения, откуда-то возникало раздражение, что придется что-то придумывать в этой хреновой Болгарии!
Отвлечься от самокопательства совершенно неожиданно помогла целая вереница факультетских представительниц прекрасного пола, давно и безуспешно проявляющих интерес к симпатичному молодому человеку импортного вида, да еще и сыну самого Журова. Был голубчик недоступен, словно изо льда сделанный, и вдруг – раз, как по волшебству стал очень даже доступен, более того, охоч до всякого любовного баловства. О таком разнообразии студенческой жизни с этой стороны он раньше не догадывался. Безусловной золотой жилой на поприще необременительных знакомств являлись университетские дискотеки, особенно в общежитии юристов на проспекте Добролюбова, где крутили самую свежую музыку мавританские арабы. Беглый французский Журова с легким алжирским акцентом (ребенком он провел три года в Алжире, пока отец был корреспондентом ТАСС) незамедлительно превратил его в друга ведущих.
Какие бы ни возникали искушения, домой на ночь он никого не приводил, зато днем и до позднего вечера кабинет профессора Лопухина превращался то в дом свиданий, то в клуб любителей водки и портвейна. И ни слова упрека от Марго – все гости Бобочки как раньше, так и сейчас оставались прекрасными мальчиками и девочками, хотя, судя по участившимся сменам постельного белья, а также количеству пустых бутылок, о чем-то таком она, по идее, должна была догадываться. Кто знает…
Вымучив последнюю тройку как раз у непримиримого истматчика, Журов выдохнул: через сессию худо-бедно перевалился, время подумать о каникулах. Чуть ли не вприпрыжку он рванул в «Петрополь» – пивной бар в двух шагах от факультета. Не на сухую же ему думать! Взял кружку, подсел к приятелям с филфака – Петрусю с русского отделения и Лехе с португальского. Те чего-то насупились, словно он был им в тягость. Журов пожал плечами и взял всем по кружке. Петрусь вопросительно посмотрел на Леху, тот моргнул глазами в знак согласия, и Петрусь показал портфель с двумя бутылками вина.
– Белый вермут по рубль восемьдесят семь, – восторженно прошептал он, – будешь?
Вопрос же риторический! Раскатали обе бутылки за полчаса, зашло неплохо. Петрусь удовлетворенно откинулся на спинку высокой скамьи и мечтательно изрек, поглаживая себя по животу:
– Если бы у меня было сто восемьдесят семь рублей… я бы купил сто бутылок такого вермута!
– Я ваш должник, мужики, – рассмеявшись, сказал Журов, – очень в жилу ваш вермут! Я тут маялся на трезвую голову, куда на каникулы податься: в Москву или в – Репино…
– И что решил? Я лично в Репино, в Домжур, – произнес Леха, – но и от Москвы не отказался бы. Друзей там море.
Журов внимательнее посмотрел на Леху – а что, парень приятный, с юмором, не дурак, рожа интеллигентная…
– Знаешь, старик, я, пожалуй, составлю тебе компанию. Есть у меня маза в Домжур.
Он довольно потянулся – как неплохо складывается день, – как вдруг увидел Иванку, входившую в зал с Горшкалевым. Горшкалев был объектом всеобщих насмешек из-за нелепых виршей в факультетской стенгазете. На полголовы ниже Иванки, он даже не обнимал ее за талию, а по-хозяйски вел за зад, что в глазах Журова было особенно мерзко. «С каких это пор она пьет пиво? Почему Горшкалев?! Этот жалкий задрот с вьющимися жидкими волосенками, в дурацких очочках и со шрамами от прыщей на довольной физиономии?! Почему со всего факультета или университета, не говоря уж об огромном городе, она выбрала самую жалкую личность?! Горшкалев теперь карабкается на нее?! Это что, месть?!» Кровь прилила к лицу Журова. Иванка сделала вид, что не замечает его. Он не удержался и, до боли вывернув шею, провожал их взглядом, пока они не расположились за столом. Размазать бы Горшкалева по стенке, встряхнуть Иванку, чтоб опомнилась, высказать ей все об этом ничтожестве. Он привстал с места… но его остановил простой вопрос: зачем? Разве что-то можно вернуть? Разве что-то изменилось?
Изменилось! Журов вдруг понял что. Даже если бы сию минуту пал СССР, упразднили КГБ и КПСС с комсомолом, работе отца ничего не угрожало и тому подобное, он Иванку не вернет, потому что никогда не сможет простить ей Горшкалева. И дело не в том, захочет ли она простить его.
– Прекрасная пара, – издевательски, растягивая гласные, произнес Леха, с любопытством глядя на Журова, на лице которого отразилась целая гамма чувств.
– С нашего факультета чувак… поэт хренов. А она болгарка, в смысле, из Болгарии… Ладно, мужики, мне пора, – он встал, – Значит, в Репино, говоришь. Гуд. Буду там. Хочу успеть еще в Дом журналистов. За путевкой.
Торопливо попрощавшись и не оборачиваясь в зал, где сидела Иванка, он вышел из бара. «Спасибо тебе, папа», – остервенело бормотал он, натягивая куртку.
Без проволочек, но с обещаниями налево и направо передавать при случае приветы папе, он подмахнул путевку и спустился в бар Дома журналистов, ютящийся в полуподвале. Крохотное, тускло освещенное и плохо проветриваемое помещение, тем не менее известное в городе. Крепко выпить журналисты никогда не стеснялись, видимо, жаркие дискуссии, вспыхивающие в баре чуть-ли не каждый вечер, создавали особую атмосферу… Сквозь клубы табачного дыма он разглядел только одно свободное место у стойки рядом с какой-то девушкой. Лицо знакомое. Он где-то уже видел ее… Актриса? Ба, да это же Анук Эме из «Сайгона»! Та самая француженка!
Чего нельзя отнять у Журова, так это то, что он был воспитанным и вежливым молодым человеком, весьма далеким от всякого рода хамства и бесцеремонности. И дело не в белом вермуте, уложенном на несколько кружек разбавленного пива, почему он, не спрашивая позволения, плюхнулся рядом с девушкой, вплотную придвинув к ней стул, так что коснулся ее ног, и сразу заговорил по-французски, с ходу обратившись на «ты». – Меня зовут Борис. Как вашего писателя Виана.
Ее звали Кароль.
– Я живу на Мойке, совсем недалеко от нашего консульства. Как пойдем? По Невскому или по Фонтанке?
– А как ты хочешь?
– Когда не очень холодно, предпочитаю по Фонтанке. У Михайловского иногда задерживаюсь, замедляю шаг… Его мрачная история… Как бы тебе объяснить… там я чувствую вибрацию времени… Ну а затем уже на Мойку. Иногда заглядываю в Летний сад, позитивное для меня место… Особенно в творческом плане. Когда не идет материал… или что-нибудь срочное, самые удачные мысли приходят именно там. Особая энергетика? Может, совпадение… А когда холодно – на троллейбусе или автобусе по Невскому.
– Сегодня холодно?
– Очень! Но все равно пойдем пешком! – Кароль засмеялась.
– Какими судьбами, забыл спросить, тебя занесло в Домжур-то?
– Как какими? Я корреспондент L'Humanité Dimanche. По совместительству… А так пишу здесь диссертацию. По русской публицистике начала века и ее влиянии на революционные настроения масс… – прежде чем продолжить, она заглянула ему в лицо, проследить за реакцией. – В Высшей партийной школе! – Журов остановился как вкопанный и остолбенело уставился на нее. Она засмеялась, – Удивлен? Признайся? – Он озадаченно кивнул. Представить Анук Эме слушательницей ВПШ! Рехнуться можно! Довольная произведенным эффектом, она продолжила: – Но защищаться я буду в Сорбонне…
– Зачем тебе вообще русская публицистика? Революционные эти настроения?
– Как зачем? Хотя бы потому, что я коммунистка! Прям коммунистка-коммунистка! В Париже – даже очень активная… Представь себе, я – секретарь ячейки округа!
«Господи, каких только партий нет во Франции! Либеральные, демократические, правые… Да какие угодно! А ее угораздило к коммунистам податься… А не плевать ли, когда можно поболтать по-французски не с арабами или неграми, а с настоящей парижанкой?» – думал Журов, наивно полагая, что лишь этим ограничивается его интерес…
Важна была не тема разговора, а процесс. Спорили о Борисе Виане. Журов осознанно провоцировал ее, иногда неся полную чепуху, потому что «Пену дней» читал невнимательно, скорее пробежал глазами, а к «Я пришел плюнуть на ваши могилы» даже не притронулся, знал содержание по аннотации. Просто очень нравилось эпатажное название. Кароль, магистр литературы, принимала его туфту за чистую монету и пылко, но весьма структурно и убедительно отстаивала свою точку зрения. С исполнителями было чуть легче, но он опростоволосился как последний невежда. По какому-то недоразумению он ничего не слышал о Серже Генсбуре. Это поразило ее. Как такое возможно, чтобы человек, на первый взгляд, неплохо разбирающийся во французской музыке, заявляющий, что любит Жоржа Брассенса и Максима Форестье, добравшийся до Луи Шедида и Мишеля Жоназа, ничего не знал о Генсбуре!
– Ты с ума сошел! Как такое возможно! Генсбур, кстати, сын выходцев из России… Я дам тебе послушать! У меня здесь есть кое-что… Уверена, ты придешь в восторг! Если не от музыки, то наверняка от текстов!
Несмотря на охвативший Журова кураж, в ее подъезд он вошел с опаской. Если в доме живут одни иностранцы, то стукача-консьержа не миновать. И что тогда делать? Светить студенческий и записываться к французской журналистке, когда из-за болгарской студентки поднялся такой сыр-бор? Бред же! Однако Бог миловал. Но дальше порога квартиры он проходить отказался: ни кофе не выпьет, ни бокала вина. Да, она очаровательна, женственна, непосредственна… но нет! Нельзя-нельзя! Не напрасно же он… Схватив кассету и записав на клочке газеты ее номер, он выскочил из дома.
– Извини, спешу! Как-нибудь в другой раз… я по-звоню!
Еще десять минут назад он никуда не спешил! Кароль смотрела на лужицу воды, натекшую с его сапог, вспоминала глаза, какими он ее поедал, и именно из-за многообещающего блеска этих глаз не могла найти объяснения такому стремительному бегству… Он понравился. Даже очень. Хорошо, что не красавец, зато чувствуется в нем какая-то порода, стиль. Он еще позвонит. Кароль улыбнулась.
Первым делом Журов поехал в Москву, как ни был зол на отца. «Можешь быть доволен, мы расстались», – даже не поздоровавшись, объявил он ему. Журов-старший без слов обнял сына и, пока тот находился в Москве, был с ним предельно прост, терпим, жизни не учил и моралей не читал. И словом не обмолвился о провальной сессии. Просто золотой какой-то. На прощание он отвалил сыну весьма приличную сумму, заметно больше обычного.
Вернувшись в Ленинград, Журов коротко посидел с Марго на кухне за чашкой кофе, поделился с ней московскими новостями и к вечеру умчался в Репино.
Дом журналистов в Репино представлял собой старую финскую двухэтажную дачу комнат на десять-двенадцать, с двумя небольшими верандами, крошечной кухонькой и двумя туалетами-умывальниками. На крыльце у входа зимой всегда валялись веники, чтобы отряхивать снег с ботинок, прямо за дверью висел ключ от сарая, где хранились общественные финские сани и куда ставились лыжи. Вокруг дачи плотно росли старые сосны и ели, по ночам, если спать с открытой форточкой, было слышно, как они поскрипывают под тяжестью снега и от мороза. Готовить на кухне не полагалось, только если попить чайку с бутербродами, зато у управляющей можно было приобрести талоны на питание – два рубля в день за все про все – в гостинице «Репинская» в десяти минутах неспешной ходьбы.
Дача журналистов, как ни парадоксально для этого периода тотального студенческого нашествия в загородные санатории, дома отдыха и гостиницы, была заселена народом возрастным и степенным. И лишь Леха со своим другом Николашей привносили хоть немного разгула в этот оазис тишины и покоя. У Лехи однозначно свербело в одном месте – он яростно метался в поисках приключений от «Репинской» до Дома кино и обратно. Леха жаждал любви, Леха жаждал постоянно быть пьяным, а если не пьяным, то хотя бы поддатым. С любовью Леху подкашивал его друг Николаша – меланхоличный юноша редкой красоты, обладающий мягким юмором и прекрасными, будто не из этой жизни, манерами, но невероятно застенчивый с прекрасным полом. При знакомстве с ним девушки, как правило, переставали ровно дышать, на Леху внимания не обращали. Леха был готов идти по остаточному принципу, пусть Николаша забирает лучшую, а ему уж кто достанется… Но Николаша никого не забирал, а значит, и Леха оставался с носом. Подобный расклад для него был полной катастрофой. Он искрился от негодования, но надежды на серьезные и длительные отношения – дней на пять-шесть – с прекрасной дамой не терял. Приезд Журова открывал Лехе совершенно другие возможности, бередил оптимизм! Он сразу попытался взять его в оборот, без малейших колебаний открыв бутылку водки из неприкосновенного запаса:
– Боб, дружище, ты нам позарез нужен! В Доме кино отдыхают три прекрасные нимфы, но они заколдованы – они неразлучны до тех пор, пока их не расколдуют три влюбленных в них принца. Будешь третьим! Можем скинуться и пригласить их вечером в «Репинскую» на танцы! Лучше сегодня. Ну, твое здоровье!
– Вздрогнем, мужики! А не заколдованные нимфы в округе есть?
Леха звонко и больно треснул ладонью по колену Николаши, тот аж подпрыгнул.
– Смотри, Колян, какой понимающий человек подтянулся! Сразу видно, знает толк в наболевшем для нас с тобой вопросе. Есть, Боб, есть! Навалом! Кстати, ты в курсе, что управляющая дачей имеет дурную привычку закрывать входную дверь в одиннадцать часов? Тебе не кажется, что она ограничивает нашу свободу и лишает важнейшего стратегического маневра?
– Не вижу проблемы. Просто один из нас, по очереди или по жребию, будет возвращаться домой на полчаса раньше и открывать дверь изнутри по условному знаку – например, броску снежком в окно. А потом, нам обязательно гулять под луной с нашими избранницами? Разве мы не можем приглашать их к нашему очагу часов этак в девять-десять?
Леха повеселел, на Журова смотрел с восторгом.
– Тогда айда на ужин! А потом на танцы!
– Не гони. Дай отдышаться-то с дороги! Только из Москвы… Поесть, конечно, надо. А вот приглашать дам на бал… Может, в другой раз?
– Ладно, пригласим в другой раз, – тяжело вздохнул Леха, – А вот на танцы все-таки заглянем. Окинем взором контингент.
Журов зашел в свою комнату. Было слишком натоплено. Он открыл форточку, быстро разобрал сумку и плюхнулся на кровать. С улицы приятно тянуло морозцем и хвоей. Хотелось залезть под одеяло и проспать до утра. Перед глазами стояла француженка, как он ни старался прогнать ее образ. «Ну и чего я к ней подсел? Поперся провожать… Теперь, будь оно неладно, знаю, где она живет… телефон. Клялся же, что больше никаких иностранок! Господи, что со мной происходит?! Расстаться с Иванкой, причинить такую боль… Я-то знаю, что не виноват. Вернее, виноват, но вынужденно. Это не моя личная подлость, это все из-за отца… Сам бы я никогда… Однако весь в дерьме! И все это – чтобы буквально через месяц увлечься француженкой!? Зачем мне это?! Нет, нет и нет! Ни в коем случае! Надо придумать, как передать ей эти чертовы кассеты… хотя чего тут думать – попросить Идриса или Хусейна. Или вообще не возвращать… Забыть. За француженкой, как пить дать, серьезно приглядывают, контакты пеленгуют… А с другой стороны, чего это я тут размечтался, словно ей есть до меня дело. На фиг ей, сногсшибательной красавице, сдался студент?! Вот и прекрасно: будем считать, что я ей не нужен! Она мне и подавно! По-хорошему, закрутить бы шуры-муры с простой русской девочкой и выкинуть из головы любую иностранщину! Поблядую тут с парнями немножко, а там видно будет. Стану тут третьим принцем… Детский сад какой-то…» Глаза Журова слипались, он зарылся в подушку, устроился поудобнее и… Раздался требовательный стук в дверь:
– Пошли на ужин! Мы тебя на улице ждем!
Журов задумался, – а стоит ли? Поколебавшись, все-таки встал. Можно выспаться и завтра.
Нетрудно догадаться, что ужином дело не ограничилось. Сметелив что-то невнятное в основном ресторане гостиницы, они переместились в другой, где проходили танцы.
Журов уселся за столик с табличкой «заказан» прямо у танцпола. Леха с Николашей стеснительно переглянулись.
– Не волнэ, – успокоил их Журов, – мне папаша столько бабок отстегнул за хорошее поведение, что можно и шикануть. Сейчас договорюсь с таможней! – он отвел в сторону подлетевшего к ним разгневанного официанта – не видите, столик заказан! – что-то с покровительственной улыбкой втолковал ему на ухо. Официант чуть отстранился, осмотрел Журова и убрал табличку. Вскоре на столе появились две бутылки шампанского и внушительная порция красной икры. И больше ничего! В этом заключался особый шик.
Музыканты настроили инструменты, и на сцену вышла певица – уставшая, видавшая виды женщина лет сорока, в атласном платье с блестками, обтягивающем узкий зад и лопающемся на бюсте невероятных размеров. Пела она плохо, но кого могло это остановить! Как по команде «старт», с первыми же аккордами народ ринулся на площадку. Леха тоже сделал попытку, но Журов удержал его:
– Не спеши! Еще успеешь. Дай осмотреться. С наших мест мы всех увидим.
– Так застолбят же лучших! – не сдавался Леха.
– Всех не застолбят, – уверенно произнес Журов.
– Предлагаешь поменять русскую пословицу? – хмыкнул Николаша. – Под лежачий камень вода течет?
Не успели они рассмеяться, как рядом нарисовалась хорошенькая голубоглазая блондинка, в обтягивающих стройные ножки джинсиках и модных сапожках.
– Коля, привет! – затараторила она. – Помнишь меня? Мы в одной школе учились, только я на класс младше. Я Оля Петровская!
– Конечно, помню, – приветливо отозвался вежливый Николаша. – Знакомься, мои друзья: Алексей и Борис.
Возникла пауза. Леха в нерешительности посмотрел на Журова, тот подмигнул ему и немедленно предложил девушке присоединиться к их компании.
– Ой, я не одна, я с подружкой!
– Давай сюда подружку! – восторженно проревел Леха, ринувшись на поиски свободного стула.
У красивых девушек подружки обычно совсем никакие – они или невзрачные серые мышки, или толстушки, или гренадеры под два метра. Наихудший вариант подружки – не красивая, но очень умная! Оля же вернулась с наиаппетитнейшей, буквально излучающей сексуальную энергию, ладной брюнеткой, которую представила не просто как Лену, а с ударением на фамилию – Дитмар. Из чего следовало заключить, что либо папа Дитмар, либо дед, а то и прадед Дитмар чем-то знаменит.
«Не успел я подумать о хорошей русской девочке, как тут же попал на пятый пункт. Интересно, если у меня с ней что-то будет, отца тоже вызовут на дружескую беседу?» – мысленно усмехнулся Журов, с готовностью усаживая девушку рядом. Николаша от борьбы за внимание девушек устранился. Благодарный другу Леха соловьем запел вокруг Оли. Когда заиграла музыка, на месте уже никто не остался. Журов танцевал в своей манере: иногда замирал, едва покачиваясь в такт, и крепко прижимал к себе Лену, зарываясь лицом в ее роскошные волосы. Ее запах – чуть-чуть пота и каких-то незамысловатых, но тонких духов – будоражил его. Она не противилась, похоже, ей было приятно.
Выходить на мороз после закрытия ресторана, чтобы посмотреть, как устроились ребята, наотрез отказалась Оля, сколько Леха ни клялся проводить обратно в целости и сохранности. Лена не поддерживала ни подругу, ни Леху, Журов только загадочно улыбался и от уговоров воздерживался. На прощание остановились на промежуточном варианте – завтра сразу после завтрака идти гулять на Финский залив, а потом варить глинтвейн в Домжуре. Ни с того ни с сего Журов крикнул вдогонку уходящим девушкам:
– Если вдруг передумаете, будем рады. Только бросьте снежком в окно. Мое – крайнее левое на первом этаже с фасада!
– Обязательно, – язвительно ответила Лена, и они упорхнули.
– Боб, ты с ума сошел? Обидятся же! Чего ты не помог уболтать их? Ленка пошла бы, вон как на тебя смотрела… А за ней и Оля, – выпалил Леха, как только подруги скрылись из виду.
– Видимо, потому что устал с дороги… Пришлось бы долго сидеть, что-то говорить, уламывать… Хотя, должен признать, девчонки мировые. Кстати, – тем же усталым голосом старшего товарища, привыкшего направлять неопытных юнцов, продолжил Журов, – вопрос, что делать втроем с двумя? Если только Николаша не согласился бы перекантоваться на веранде. У нас уйма времени. Нимф еще ваших киношных расколдовывать… Или уже забыли?
– Возможно, ты прав… – пробормотал Леха. – Нимф забыть невозможно. Хотя… Колян, если что, пойдешь спать на веранду?
– Лешка, а ты пойдешь, если что, туда спать? – вопросом на вопрос ответил Николаша.
– Николенька, брат, да если ты притащишь девчонку, я ради тебя готов не то что на веранде, а в сугробе… столько, сколько тебе заблагорассудится. Хоть до самого утра! Лишь бы ты, дорогой мой друг, мог спокойно покувыркаться! – Леха обнял Николашу за шею и звонко поцеловал в голову.
Пока дружно топали ногами на крыльце, Леха вдруг встрепенулся:
– Кстати, Боб, спасибо за поляну! Выступили с блеском!
– Пустяки, – отмахнулся Журов.
На завтрак Журов не пошел, и на прогулку по заливу – тоже. Остался спать. Проснулся с приятными мыслями о вчерашней Лене. Хорошая же. Размышляя о возможности близких отношений и грядущих в этой связи удовольствиях, он не заметил, как мысленно перескочил к француженке. Что же за наваждение такое! Думаешь об одной, а перед глазами встает другая! Он заставил себя вернуться к вчерашним танцам, вспоминая, как крепко прижимал к себе девушку, а она и не пыталась отстраниться… Наверняка он ей понравился. Вперед, Боря, чего тут мяться!
Он вышел на улицу. Хотел было пойти ребятам навстречу, но увидев, как хорошо утрамбован снег, взял в сарае финские сани и покатил прямо в противоположную сторону. Быстрая езда неожиданно доставила такую радость, что он позабыл обо всем, катил себе и катил, только менял иногда толкающую ногу. Домчался аж до магазина в Комарово. Жаль, деньги оставил дома. Его это не расстроило, уже менее прытко Журов покатил обратно, по длинному пути вдоль залива. Красота! Справа заснеженные пляжи, сосны вдоль берега, слева, через шоссе – уютные старые финские дачи. Как Журов и рассчитывал, совсем скоро он встретил всю компанию. Все замерзли, согреваться глинтвейном на даче девушки почему-то не захотели. Им бы в гостиницу, да и обед скоро… Журов вызвался домчать на санях Лену, затем вернуться за Олей. Та отказалась.
Бросив сани у входа в гостиницу, он пошел провожать Лену. Она не позволила ему войти в номер, но в дверях, взяв двумя тонкими холодными руками за голову, прильнула к его губам долгим поцелуем. В какой-то момент он закрыл глаза и… представил Кароль! Пришлось глаза открыть. Лена смотрела на него бархатно и бездонно.
– Увидимся за обедом или ужином? – спросила она, расстегивая верхнюю пуговицу дубленки.
– Обязательно, – с энтузиазмом ответил Журов.
На лестнице он столкнулся с Олей, ее красивые голубые глаза оперативно произвели переоценку:
– Так ты сын Анатолия Журова?
– С чего ты взяла?
– Лешка рассказал.
– Вот болтун! Да, сын. Это что-нибудь меняет?
– Меняет, и очень многое!
– Ничего это не меняет! Мне от этого только хуже, – выпалил он и покатился вниз по лестнице, прыгая через ступени.
В холле его ждали Леха с Николашей.
– Пожрем, и в Дом кино, – категорично заявил он, – Пора знакомиться с вашими заколдованными подругами!
Леха поскучнел, он определился с объектом для воздыханий:
– Может, ну их…
– Что, брат, запал на голубоглазую? Тогда плюнем на киношниц и… – великодушно начал Журов, но – вот уж неожиданность! – его перебил Николаша:
– Раз решили, значит, пойдем!
Леха любил своих друзей, Николашу в особенности, сомнений он больше не выказывал.
На улице Журов вспомнил про сани. Сперли, как и следовало ожидать. Придется что-то объяснять, оставлять управляющей деньги, дарить коробку конфет или шоколадку… Впрочем, какая это мелочь в сравнении с тем, что творится на душе. Как бы разобраться… Всё как-то сразу: и потребность заглушить горечь от потери Иванки – простить ей Горшкалева он не сможет, и необходимость выкинуть из головы француженку… По идее, увлечение Ленкой – подходящий вариант для решения этих проблем. Интересно, Дитмар – еврейская фамилия или немецкая? Что-то подсказывало, что, несмотря на страстный поцелуй, на легкие отношения вроде просто переспать пару раз для обоюдного удовольствия она не пойдет. А к серьезным не готов он; ему бы что-нибудь необременительное, с легкомысленной и недалекой барышней. Очень может быть, что роль пылкого влюбленного позволила бы все-таки затащить Ленку в постель, но потом придется обставлять расставание, что-то объяснять, изворачиваться, врать. А врать Журову не хотелось. Не потому, что это плохо, а потому что он не желал для себя никаких, даже самых незначительных переживаний. Оно ему надо? Хватит! Выходит, бежит он даже не от Ленки, а всего лишь от перспективы отношений с ней. Что с ним происходит, когда такое было?!
Киношные нимфы оказались во всех отношениях приятными девушками, умненькими, в меру ехидными, в целом доброжелательными и кокетливыми барышнями. У них в гостях уже блистали остроумием за бутылкой сухого вина два молодых человека интеллигентно-еврейской внешности, кстати, оказавшихся Николашиными знакомыми. Расклад симпатий и взаимных притяжений бросался в глаза, «незанятой» нимфой оказалась пухленькая девушка Аня, дочь очень известного актера черно-белого советского кино и не очень известной актрисы кино современного. Николаша млел от нее, и как Леха раньше этого не заметил! Они с Журовым выкурили по сигарете и без лишних объяснений засобирались домой. Всем на радость, включая Николашу.
– К девчонкам? В «Репинскую»? – предложил Леха. Журов оставил призыв без ответа. Леха не унимался, – Можем предварительно заправиться на дорогу. Сварганим глинтвейн.
– Идея. А заодно соберемся с мыслями, как жить – дальше.
– А чего тут думать! В нашем возрасте у мужиков есть две основные доблести: бухнуть и кого-нибудь трахнуть. Мозгами будем шевелить во взрослой жизни, я имею ввиду, не студенческой… А пока надо кайфовать и попусту не заморачиваться.
– Не слишком ли у тебя все просто?
– Не слишком, – спокойно отрезал Леха. – Я, Боря, не очень-то люблю делиться красотой и сложностью своего внутреннего мира… Поэтому кайфовать и не заморачиваться!
– Ну-ну! А о будущем своем задумываешься? Или тоже только во взрослой жизни?
– Ты уж меня совсем за дурака не держи-то. Разумеется! Как тут не задуматься, в какой стране живем… Я, не пойму с какого перепуга, учусь на португальском. Положа руку на сердце, кому он, на хер, здесь нужен? Работы нет как таковой. Даже теоретически! Переводить некому и нечего, отношений с Португалией и Бразилией нет. А португалоязычная Африка… только если там, на месте… Поэтому я воспринимаю португальский как мост в мое светлое будущее. Все просто: пару раз смотаться переводчиком в Африку, поднять там денег. Вернуться домой, не испортив биографию. Тут понадобится отец, если будет еще при делах… чтобы воткнуть меня в международные связи. Придется, скорее всего, вступать в партию… но мне насрать.
– Ты это серьезно? – изумился Журов.
– О чем?
– О партии.
– Абсолютно! Я воспринимаю КПСС как простое необходимое условие. Как ходить на работу в костюме. Ты ж в школе то с октябрятской звездочкой, то с пионерским галстуком, то с комсомольским значком… И что? В партии тьма народа, вступившего в ее позорные ряды исключительно из карьеристских соображений. Конечно, было бы здорово прямо со школьной скамьи послать коммуняк вместе с комсомольцами на три буквы, но зачем тогда поступать на филфак? Особенно на португальское? Старик, я никогда не смогу свалить отсюда с концами, пока существует этот строй. То есть теоретически как-то могу… Жениться, например, на иностранке… Но в заложниках останутся преданный системе папа и сестра… мама умерла у меня от рака… я еще в десятом классе был… – Журов вздрогнул, но промолчал. – А я их люблю, – продолжал Леха, – и такую свинью подложить им не в силах. Значит, надо за границу ездить. В командировки. Потому что хочется мир посмотреть. Интересно же! А как? Только работая во власти или в партийных органах. Вот и весь ответ.
Журов неодобрительно покачал головой. Уж куда-куда, а в партию он вступать не намерен. Не дождутся!
Николаша к ужину не вернулся. Быстро забросив в себя горячее, пошли гулять на залив. Леха с Олей шел впереди и очень неплохо, с выражением и без лишних завываний декламировал раннего Мандельштама, то призывая Афродиту остаться пеной, то каждому тайно завидуя. Журов с Леной почти не говорили, иногда останавливались, целовались.
Оля опять наотрез отказалась на ночь глядя идти смотреть, как устроились ребята. Журов инициативы не проявлял. Лена недоуменно смотрела на него. Он оставался невозмутимым. Ну что, попрощались. Вернулись на дачу, решили сегодня больше не пить. Леха оптимизма не терял – еще уломает он Олю! – а пока ринулся пытать Николашу насчет пухленькой Ани. Нравился он Журову, хороший парень. А ведь они с ним похожи, думал он, и по характеру, и даже внешне. И отцы журналисты… и мамы… почти одновременно…
Устав ворочаться, Журов решил почитать, зажег свет. Только он открыл свежий номер «Иностранки» – Марго хвалила какой-то новый роман, – как раздался удар снежком в окно. Очевидно, что Ленка. Вот уж не думал, что она сама проявит инициативу. И что делать? Все-таки отношения? Как не хочется ввязываться… Черт его дернул зажечь свет! Придется открывать, что-то говорить, как-то выпроваживать. Как не обидеть-то? Чертыхаясь, он натянул джинсы, вышел в коридор. Чтобы никого не разбудить, свет зажигать не стал. Придерживая вечно скрипучую входную дверь, снял цепочку, щелкнул замком. На пороге стояла голубоглазая Оля с бутылкой шампанского в руках. Журов опешил. Она приложила палец к губам и знаками показала ему, чтобы вел к себе. Войдя в комнату, она тут же огляделась, нашла выключатель и погасила свет. О хорошем парне Лехе Журов почему-то не вспомнил, сопротивляться напору не стал, только подумал: вот шлюшка!
В начале девятого утра Оля его разбудила, он проводил ее до входной двери, только открыл, как увидел в образовавшемся просвете в паре десятков метров от дома Леху. Этому-то чего не спится? Что ему делать на улице в такую рань? Что-то похожее на угрызения совести вихрем пронеслось в душе Журова, но не задержалось. Вот уж что совсем не входило в его планы, так это разбираться с Лехой из-за этой дешевки, в которую тот умудрился втюриться. «Там Лешка!» – пискнула она в надежде на поддержку Журова, но он как-то ловко выпихнул ее на порог и захлопнул дверь. Быстро вернувшись в комнату, он подошел к окну, пристроился у занавески так, чтобы не быть замеченным с улицы. Леха таращил глаза на свою пассию, та же, с гордо поднятой головой, прошла мимо, не поздоровавшись и не удостоив его ни словом, ни кивком. Как мимо стены. Журов удовлетворенно выдохнул, лег в постель и заснул как ни в чем не бывало.
5
Проснулся он с тягостной мыслью, что хочешь не хочешь, а поговорить с Лехой придется. Надо объяснить дураку, что запал он на пустышку, которая, едва узнав, незамедлительно клюнула на громкое имя Журова-старшего. Он, Боря, не очень-то и виноват во всей этой истории. Девчушка буквально смела его. Как устоять-то, живой же человек?! Безусловно, может показаться, что вышло как-то не по-мужски, но на самом деле он оказал Лехе услугу… Есть вариант вообще ничего не объяснять, а сделать вид, что ничего и не было. Ну а уж если Леха припрет его к стенке, можно сказать, что невинно просидели за разговорами до утра. Он советовался, как вести себя с Ленкой. Как все некстати! Может, плюнуть на всех, собрать вещи и рвануть в город?
Его сомнения разрешились сами собой. Услышав шум подъезжающей машины, он выглянул в окно. Из такси выкарабкивался Витя Смирнов. Журов прильнул к форточке и восторженно заорал: «Витя, привет! Сейчас открою!»
Витя с любопытством осмотрел скромный интерьер комнаты, ухмыльнулся при виде пустой бутылки шампанского на тумбочке и позволил себе заметить, что кровать смята как-то не по-холостяцки, пахнет женщиной. Журов отмахнулся: так, ничего серьезного.
– Есть дело, Боб. За день к нам может прилипнуть по пятихатке. Срочно нужны наши мавры. Как думаешь, они в Питере или разъехались на каникулы?
Журов пожал плечами, кто ж их знает.
– В чем дело-то?
– Меня вывели на серьезных деловых людей из солнечного Узбекистана…
– Хлопкоробов?
– Может, и хлопкоробов. Им срочно и позарез нужна аппаратура для какого-то важного бая. Точнее, в подарок его дочери на свадьбу. Срок до завтра. Я пока подписался. Все есть в «Березе». Даже если считать по пять деревянных за зеленый, штукарь нам обеспечен. Короче, поехали в город, мотор ждет, счетчик щелкает!
Изображать неудовольствие Журов не стал, собрался в два счета, нацарапал управляющей записку и с облегчением плюхнулся на заднее сиденье такси.
Развалившись спереди, Витя принялся рассуждать о безусловных преимуществах женитьбы на дочерях всяких баев, басмачей и прочих председателей колхозов и совхозов Советской Азии. Впрочем, он слышал абсолютно из достоверных источников, что браки с дочерьми оленеводов с крайнего Севера тоже весьма прибыльное дело, отваливают в приданое немыслимые деньжищи. Кто б ему сосватал дочь какого-нибудь важного чукчи?
У Нижневыборгского шоссе перед переходом стояли Леха с Николашей. Таксист перед поворотом чуть притормозил. В метре от них. Обернувшись на скрип шин, они без труда разглядели Журова на заднем сиденье. Николаша приветливо замахал руками, водитель остановился, но Журов раздраженно скомандовал ехать дальше. Леха демонстративно плюнул вслед, что заставило Витю с любопытством обернуться. Журов пренебрежительно сморщил нос – не стоит внимания, пустяки. Знал бы он, каким бумерангом вернутся ему эти «пустяки» через несколько лет!
В городе все прошло как по маслу. Хлопкоробы сулили новые и постоянные заказы, что открывало друзьям устойчивые перспективы.
Отмечать провернутое дело Журов отказался, чем несказанно удивил друга. Когда такое было? Сразу после дележа денег он поехал домой. Впереди маячила еще целая неделя каникул, но в Репино уже не вернуться. Не ехать же в Москву по второму разу! Марго что зимой, что летом каникулы проводила у друзей-коллег в Тарту, квартира свободна… Дальше что? Журов уныло открыл «Иностранку», где там этот роман-то? Но читать не стал. Мысли вновь вертелись вокруг француженки. «Генсбура, что ли, этого послушать», – подумал он и поставил кассету, устроившись на диване. Наверняка шансонье его убаюкает. Не тут-то было! Эпатажная эстетика, провокационность текстов, нескончаемая игра слов произвели на него сильнейшее впечатление. Француз меньше чем за час стал для него идолом. Не то что лежать, сидеть спокойно он уже не мог. Это же неоспоримый повод увидеться с Кароль! Кто, кроме нее, сможет объяснить ему ускользающие от понимания смыслы? Забыв о страхах и об осторожности, безоговорочно зафиксировав в сознании, что предлог для встречи не подлежит сомнению, он устремился на Мойку.
Она долго не открывала, наконец вышла в банном халате, голова обвязана полотенцем. Журов видел только ее глаза… Уже переступив порог квартиры, он вдруг сообразил, что забыл кассеты, но не в них дело, он их позже как-нибудь занесет. Дело же в том, что Генсбур… и его понесло. И только когда халат слегка опешившей Кароль случайно распахнулся, приоткрыв грудь, он наконец оторвался от ее глаз и увидел ее всю. Она же только что из душа! Халат надет на голое тело! Она видит, куда он смотрит, но халат не поправляет!
– Борис, ты дурак?
Журов довольно сдержанно относился к своей внешности. Разглядывая себя в зеркале, иногда нравился себе, а иногда совсем нет. Красавцем себя однозначно не считал. Для него не являлось секретом, что его персона вызывает определенный интерес у девушек, высматривающих в нем какую-то породу и благородство. Ха-ха! Уж он-то знал, что происхождение его самое что ни на есть пролетарское! Какая, к чертям, порода? Скорее воспитание и манеры! Но эта?! Парижанка, ослепительная красавица, корреспондент известной французской газеты, взрослая по сравнению с ним – она-то что в нем нашла?!
Его накрыло волной нежности и ласки, ее милая и трогательная ненасытность самым волшебным образом сочеталась с признательностью, питающей его мужское самолюбие; до вечера следующего дня сплетение их тел практически не прерывалось.
– Где ты был так долго?
– Да так… Ездил в Москву повидаться с отцом, потом провел несколько дней на загородной даче журналистов.
– Так мы коллеги?
Он помялся:
– Будущие. На журналистике я учусь. На 3-м курсе.
– Постой-постой, а сколько тебе лет?
– Двадцать.
– Боже! Совсем бэби! – она захохотала. – Тебя не смущает, что я старше тебя?
– Ты что?! Ты просто сногсшибательная! – с пылом ответил Журов и слегка зарумянился от того, что он пока так юн. С ней хотелось быть взрослее – уверенным, сильным, состоятельным мужчиной.
Она встала из постели, закурила, но не одевалась. Журов осоловевшим взглядом следил, как она ходит взад-вперед по комнате.
– Скажи, Борис, вчера, когда ты позвонил в мою дверь… ты был так возбужден, с таким лихорадочным видом вываливал восторги по поводу Генсбура… Мне они показались чересчур преувеличенными. Я тоже его люблю, но чтобы так… Неужели это Генсбур привел тебя в такое экзальтированное состояние?
– Он мне очень понравился! Очень-очень! А сейчас мне кажется, что не явись он ключом к встрече с тобой… как бы лучше сказать… в некотором роде, придуманным предлогом, императивом… мое отношение… и реакция в отрыве от тебя были бы наверняка более сдержанными. А теперь он мой кумир до конца жизни… Благодаря ему я у тебя. И совсем потерял голову!
«Совсем потерял голову, – повторил он про себя. Он совсем потерял голову! Квартиру иностранного корреспондента должны слушать! Как он об этом не подумал? – Надо немедленно валить отсюда, – тут же решил Журов, – и все объяснить ей про контору в другом месте. Где угодно, только не здесь. Что я тут успел наговорить? Опаньки, а как мы общаемся? На русском? Французском? Кажется, мы прыгаем с одного на другой… но, пожалуй, больше на французском. Придется товарищам с горячими сердцами попереводить! А что они могли услышать, кроме наших нежностей? Мое имя и где я учусь. Достаточно, чтобы вычислить меня в два счета! Папа, пламенный тебе привет! Впрочем, существует вероятность, что прослушивается только телефон…»
– Я тебе потом все объясню, сейчас ничего не спрашивай, – обняв Кароль, шепотом и на ухо проговорил он, – У меня есть маленькое дельце… Тут неподалеку. Я мигом! Давай встретимся через час на «Канале Грибоедова», в вестибюле метро. И куда-нибудь сходим.
Кароль непонимающе посмотрела на Журова, но правила затеянной им странной игры приняла, поэтому тоже шепотом и на ухо спросила:
– Ведь ты больше не исчезнешь?
Он возмущенно замотал головой. Улыбнувшись, она снова потянулась к нему; Журов подумал – чтобы что-нибудь сказать, но вместо этого она смачно чмокнула его в ухо, да так, что зазвенело в голове. Под хохот француженки он спешно оделся, театрально прикладывая руку к якобы разболевшемуся уху, уже в дверях на пальцах показал, что ждет ее через час, и выскочил на улицу. И тут же попал в кошмарную февральскую метель с сильными и колючими порывами ветра. Зато в вестибюле метро было тепло и спокойно; прислонившись к стене недалеко от выхода, он достал сигареты. Надо бы разобраться, что с ним происходит… Если его вычислят, то жертва с Иванкой окажется напрасной, но как раз об этом он уже ни капельки не жалел. А вот если он не засветился, то Кароль терять он не собирается. Как можно, она такая… такая женственная!
После второй сигареты его охватило беспокойство: а вдруг она не придет? Вернулись сомнения – зачем такой сногсшибательной женщине сдался студент? В назначенное время она не пришла. Журов не мог определиться, что делать: звонить или идти к ней домой. А вдруг трубку она не возьмет и дверь не откроет? Поигралась с доверчивым дурачком и вон его из головы. Может, вообще специально халат распахнула… Он ей не игрушка! Надо идти разбираться! Решено. Он уже собирался оттолкнуть нахально вставшее на пути непонятное существо – какой-то блокадный персонаж, облепленный снегом, в пальтишке, в больших вязаных варежках, закутанный по самые глаза платками и шарфами, – но, опустив глаза, обратил внимание, что блокадник, точнее блокадница – в джинсах и изящных женских сапогах. Блокадница сняла варежки, под ними были еще и перчатки, размотала верхний шарф. Он встретил сияющий взгляд Кароль. Когда она приспустила следующий шарф, Журов увидел, что она дрожит от холода. Неужели у нее нет ничего более теплого?!
– Так, едем немедленно ко мне. Тебя нужно как-то отогревать! Хорошо бы водки.
– Только давай сначала перекусим. Водка на голодный желудок… Тут в двух шагах есть бистро с пирожками и горячим бульоном. Заглянем?
– Ты имеешь в виду «Минутку», что ли?
– Наверное. Побежали!
Устроились у окна. Так мело, что виднелись лишь контуры Казанского собора. Говорить с набитым ртом о КГБ Журов счел неуместным. Щекотливая тема требует особого подхода, Кароль надо подготовить. Пока же он вступил в дискуссию о вкладе гегемона в уродование города: куда ни кинешь взор, везде дурацкие лозунги гигантских размеров типа «Наша цель – коммунизм», «Слава КПСС», «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить». Кароль реагировала спокойно и утверждала, что подобная форма пропаганды вполне уместна в борьбе за построение коммунизма, тем более что партии нельзя отказать в определенном такте по отношению к исторической части города, практически не тронутой этими самыми лозунгами. Вот, например, собор напротив. На нем же нет ничего ни о Ленине, ни о КПСС.
– Согласен, лозунгов нет. Но большими золотыми буквами по фронтону написано: «Музей истории религии и атеизма», а это, Кароль, православный собор Казанской иконы Божией Матери!
Кароль уже собиралась поделиться своими соображениями, как коммунисты должны относиться к религии, но ее внимание переключилось на соседний столик, где то ли финн, то ли швед осуществлял взаимовыгодный обмен с фарцовщиком. На ее лице появилась презрительная гримаса – спекулянты.
– Прохода нет от этих уличных дельцов! Мне кажется, это серьезней лозунгов…
Журов непонимающе взглянул на нее.
– Неужели ты не видишь, Борис, сколько всего стоит за подобными спекуляциями? Тут и экономика, и социальный аспект, и криминальный… и многое другое!
– Вопрос, как посмотреть. С моей точки зрения, они деловые люди, с риском зарабатывающие кусок хлеба.
– Какой кусок хлеба?! О чем ты? Они просто не хотят трудиться! По вашим законам, они совершают преступление!
– Кароль, Советский Союз – государство, а точнее, диктатура рабочих и крестьян! Интеллигенция здесь ругательное слово! Высшее образование, конечно, престижно, но совсем не выгодно с точки зрения заработной платы. Здесь все устроено так, чтобы инженер получал меньше рабочего, учителя и врачи – меньше уборщицы или санитарки! Многие… я в том числе… элементарно хотят иметь деньги, а легальных способов заработать нет!
Журов начал горячиться, но, не заметив на ее лице ни малейшего одобрения, сообразил, что свою пламенную речь продолжать не стоит, однако в завершение все-таки буркнул:
– Если люди не совершают тяжких преступлений, не воруют, не грабят, не торгуют оружием или наркотиками, а просто кое-что покупают-продают, я их не осуждаю! – сразу после этих слов он обнял Кароль. – Ну как ты? Отогрелась?
Она согласно кивнула.
Журову и дома не удалось сразу подступиться к деликатной теме. Без шапки, платков, шарфов и варежек Кароль выглядела очень элегантно. Помогая ей снять пальто, он обратил внимание на красивую клетчатую подкладку. И эта деталь необычна! Все в этой женщине необычно и волшебно! Он поставил себя мысленно рядом, и у него перехватило дыхание: эта чувственная и утонченная парижанка – вообще не из этой жизни – почему-то выбрала его! Он уже обладал ею! Трудно поверить! Как хочется вновь… дома, где нечего опасаться!
– Придется многое объяснить тебе. Очень многое… Все сложно в этой стране… лицемерно… Самое простое общение с иностранцами, я не говорю уж о… отслеживаются органами. Нам будет непросто, ну, в том смысле, если мы захотим продолжить наш… наши… ты понимаешь, о чем я. Придется договариваться, как вести себя… Прочая ерунда… Боже, как это противно! Ну почему? За что?! – застонал он. Кароль внимательно его слушала, успевая с интересом осматривать квартиру. Довольно буржуазная. Много книг. Это хорошо. Журов тем временем продолжал: – Есть еще обстоятельства… семейные. Как-то все глупо, – он потупил взор, замолчал на мгновение и выпалил: – Но я ничего не могу с собой поделать! Ни о чем не могу говорить! Я опять хочу раздеть тебя!
– Так раздевай!
Кароль думала, что ей просто нравится спать с этим ненасытным мальчиком, и воспринимала их близость как награду за одиночество. По текстам Генсбура она учила Журова жаргону, он посвящал ее в тонкости русского мата. Ее веселило, в какое неистовство его приводила Je t'aime… Moi non plus – он тотчас набрасывался на нее. Несколько раз она включала запись, казалось бы, в самый неподходящий момент, эффект был всегда тот же… случалось и на полу среди впопыхах сорванной одежды.
Ничего нового о КГБ она не узнала. Единственное, что произвело на нее впечатление, так это определенная тотальность, с которой отслеживались контакты с иностранцами. Даже с коммунистами и выходцами из социалистического лагеря. Какое недоверие к единомышленникам! Так вот почему слушатели и преподаватели ВПШ, дружелюбные и открытые в стенах школы, за ее пределами стараются быстрее от нее отделаться… Она не очень поверила в историю об угрозе работе отца. Как безобидная связь сына – она же не американская реакционерка! – может повлиять на судьбу известного на всю страну журналиста? Однако правила конспирации приняла безоговорочно: у него встречаться только в отсутствие тети, у нее говорить шепотом и заходить в подъезд с интервалом в полчаса, звонить друг другу из телефонных автоматов. Прямо шпионские игры какие-то! Но забавно. Приключение, о котором она когда-нибудь напишет. Его антисоветские эскапады она пресекла на корню. Он даже не догадывается, сколько преимуществ у советских людей. И каких! Одно централизованное отопление чего стоит! Зимой! А копеечное электричество! А всеобщее и доступное среднее образование! А здравоохранение! Нет, она не отказывается от разговоров о политике, но не готова выслушивать голословные заявления!
Только через несколько недель Журов отважился спросить, почему он. Кароль хотела отшутиться, но передумала. Как-то незаметно он перестал быть для нее просто парт-нером.
– Ты в моем вкусе. И очень привлекательный! – Он поморщился – не то! – Я не шучу. Ну хорошо. Видишь ли, я здесь и года не прожила, а ко мне уже несколько раз, всегда через посредников, обращались с весьма странной, на мой взгляд, просьбой. Выйти замуж, чтобы якобы спасти кого-то. Что значит спасти? Не понимаю… То непризнанного поэта, то великого математика, то физика, которому не дают работать… Один раз честно, без всяких сказок, предложили крупную сумму… Замучили просто! И у меня появилось предубеждение – любого мужчину, оказывающего мне знаки внимания, я стала подозревать в корысти… – она подошла к Журову, прижалась. – А тебя – нет. Причем с первой минуты. Ты смотрел на меня такими глазами… И продолжаешь смотреть. Я чувствую себя желанной! Теперь ты доволен?
Очаровать француженку у Вити Смирнова не получалось – к ресторанам она была равнодушна, его симпатичная жульническая героика вообще не производила на нее впечатления, более того – она решительно и категорически ее осуждала! При случае подаренный букет роз вызвал ее изумление, приняв цветы, она тут же на французском о чем-то встревоженно спросила Бориса. Пока тот со смешком давал ей объяснения, с подозрением смотрела на Витю. В отношении к себе Кароль он улавливал некую логику, типичную, в его понимании, для жителей Запада. Те даже не догадываются, как приходится крутиться нашему брату, чтобы хоть что-то заработать сверх мизерной зарплаты. Сам считая себя жуликом, Витя видел в спекуляциях свое призвание, чего совершенно не стеснялся. Совок вечен, бороться с ним бесполезно. Да и глупо. Если в Европах-Америках он мог бы стать брокером на бирже, скупщиком, посредником и тому подобное, то здесь у него шансов нет, не было и не будет! Даже теоретически! Поэтому он спекулянт, а значит, враг трудового народа!
Роман друга с француженкой вызвал его уважение и зависть, у него такой женщины никогда не будет! Но его не покидало убеждение, что ничего хорошего обоим Журовым это не сулит – журналистку из капстраны комитет должен пасти с особым пристрастием. Однако шли месяцы, а ничего по этой линии не происходило – Журовых не трогали. Выходит, и в Большом доме[5] сплошные раздолбаи! Что за страна, бардак повсюду!
По идее, Кароль могла улететь в отпуск еще в начале лета, но искушение пожить вместе с любимым, пока Марго в отъезде, было столь велико, что она задержалась. Журов проходил летнюю практику, не требующую постоянного присутствия в редакции, что было очень кстати. Однако этот бесспорный плюс напрочь перекрывался чудовищным минусом – его направили не в «Ленинградскую правду», как он рассчитывал, а в «Вечерний Ленинград», да еще в отдел партийной жизни, которым руководил тертый и всего боящийся Яков Самуилович Лифшиц. Журов должен был написать очерк «О настоящем коммунисте», но беда заключалась не в этом. Настоящего коммуниста он сам выбрать не мог! Безоговорочно требовалось писать о конкретном человеке, понятное дело, о рабочем, конечно же, Герое Соцтруда и делегате одного из съездов. Звали его Евгений Александрович Солдатов, и нес он свою трудовую вахту на гремящем на весь Союз Кировском заводе. Делать нечего, Журов принялся названивать герою, после третьей попытки стало ясно, что настоящий коммунист Солдатов никакое интервью давать не собирается. Будь персонаж вымышленным, он как-то бы выкрутился, а тут?! Журов попробовал было броситься Якову Самуиловичу в ноги, но тот как отрезал – писать надо обязательно и только о Солдатове! Журов предположил, что, вероятно, через партийную организацию завода можно как-то обязать героя поделиться с корреспондентом какими-нибудь фактами своих трудовых подвигов. Лифшиц уклончиво ответил, что только в самом крайнем случае, и то он гарантировать ничего не в силах, а пока юноше надо проявить журналистскую настойчивость, хитрость, если хотите.
Набрав в очередной раз номер упрямого рабочего, Журов решил воззвать к человеческому милосердию, типа, пожалейте студента, ведь не зачтут практику! Солдатов оказался абсолютно бессердечным человеком, мычал в ответ, что никак не может. Без вразумительных объяснений почему. Что-то подсказывало Журову, что следующим шагом герой-рабочий будет посылать его на три известные буквы.
– Ну а пива-то вы со мной выпить можете? – в отчаянии прокричал он в трубку.
После непродолжительного молчания свершилось:
– Пива выпить могу.
При этих словах Журов, пожалуй, испытал первую большую радость в своей трудовой жизни.
Договорились на пятницу в пивном баре «Нептун» на улице Трефолева в трех остановках от заводской проходной. Журов приехал на час раньше, по пути заглянув в гастроном напротив бара, где минут десять простоял в задумчивости: что брать – водку или портвейн. Выбрал водку, не пропадет. У входа в бар стояла большая очередь, войти по временному, все-таки уважаемому редакционному удостоверению не удалось. Пришлось сунуть рубль швейцару, трешку – официанту. Тут же нашелся правильный столик. В назначенное время Журов забеспокоился: вдруг настоящий коммунист при виде толпы страждущих на входе плюнет и развернется домой? Нет, надо героя встретить, только как узнать-то его? Журов заметался вдоль очереди, заглядывая каждому в лицо. Ну не орать же: «Кто из вас, мужики, Герой Соцтруда Солдатов?» В это время раздался громкий сигнал трамвая, Журов обернулся. По пути из гастронома напротив, полностью игнорируя движение автомобилей и трамваев, переходил дорогу невысокий аккуратный мужик в пиджаке и с дипломатом. Мужик уверенно смотрел на Журова и шел прямо к нему:
– Ты Журов?
– Евгений Александрович?
– Он самый. Ну здравствуй! Будем стоять или…
– Нет-нет, что вы! Столик я заранее занял! – и Журов повел его мимо невозмутимого швейцара в зал.
Официант поставил перед ними две металлические тарелки с копченой рыбой и солеными сушками и по кружке пива. Солдатов сразу отхлебнул и заметил с каким-то удовлетворением:
– Разбавленное!
– Не без этого! – заискивающе хохотнул Журов, – Как вы меня узнали, если не секрет?
– Тут и думать нечего – ты один такой нарядный фраер суетился, а люди стоят спокойно, ждут.
Журов достал блокнот. Солдатов сразу насупился:
– Слышь, парень, я ж сказал тебе, что интервью давать не буду.
Журов слегка растерялся, придется запоминать. Ради зачета по практике он был готов раскошелиться, поэтому на всякий случай вкрадчиво сообщил:
– Должен сообщить вам, Евгений Александрович… только поймите меня правильно… Этот наш сабантуйчик – подотчетное мероприятие, за него платит редакция! Так что чувствуйте себя на предмет расходов свободно.
Солдатов ничего не ответил, понять что-либо по его лицу было невозможно. Когда подошел официант, он хмуро бросил:
– Еще по паре! – Журов одобрительно затряс головой. Забрезжила хоть какая-то перспектива – вдруг спьяну у работяги язык развяжется.
Принесли пиво, и Солдатов изрядно, большими глотками ополовинил кружку.
– Вообще моча, – мрачно изрек он и после небольшой паузы продолжил: – Я вот недавно в ГДР ездил. С делегацией от Комитета защиты мира. Так там рабочий по дороге домой на каждом шагу может зайти в пивную… Даже в ресторан! Пиво там что надо… вообще какое хочешь… и нажираться до поросячьего визга человеку не требуется. Все такие чистенькие. Везде порядок. Опять же закусить можно. Вкусно.
Оба посмотрели на свои тарелки с полупротухшей рыбой и неподъемными сушками – хрен раскусишь!
– Мы в прошлую получку с ребятами из бригады пошли выпить. За насыпь, что напротив улицы Корнеева, знаешь? – Журов жадно ловил каждое слово… – Вроде место безлюдное. С одной стороны железная дорога, с другой – бетонный забор какой-то конторы… Высоченный. Нас не видно, никому не мешаем. А оказались в западне! Менты облаву устроили с двух сторон, бежать некуда… только если через насыпь. Но они, суки, и там принимали. Короче, всех повязали. А у меня из документов только удостоверение Героя Соцтруда. Мужиков в обезьянник, а меня домой отпустили. Вежливо так, с уважением. На всех телегу накатали, а на меня – хрен с маслом…
После этих слов, произнесенных с неподдельной обидой – менты на него телегу не накатали! – Солдатов замолчал, и вытянуть из него что-то полезное для будущего очерка не получалось, как Журов ни изголялся.
«Неужели придется высасывать материал из пальца? – У-у-у, коммунисты гребаные… И чего это Лифшиц так с ним уперся? Другого, что ли, в пятимиллионном городе не сыскать? Да пошел Лифшиц в жопу! Вместе со своим Солдатовым! Что-нибудь да напишу. Сколько можно заискивать перед этим долдоном?!»
– Может, пожрем и заершим? Что думаешь? – нагло перейдя на «ты», спросил он, показывая купленную в гастрономе водку.
Рабочий с интересом посмотрел на студента, приоткрыл дипломат и показал точно такую же, судя по всему, купленную в том же гастрономе напротив бутылку.
– Я думал, ты хлюпик. Ну что ж, дело хорошее. Валяй!
И понеслась. Как говорится в народе – до зеленых соплей.
Всего через несколько лет Евгений Солдатов дал рекомендацию Борису Журову для вступления в ряды КПСС.
Уже который день Журов страдал у печатной машинки. Иногда, очнувшись от раздумий, он шустро стучал двумя пальцами, громко передвигая каретку. Перечитав написанное, он тут же яростно выдергивал лист и остервенело рвал его на мелкие кусочки. Кароль впервые видела, как он пишет. Объяснение тому было наипростейшим – стоило им оказаться у него дома, как они тут же прыгали в постель. Тратить время на что-то иное казалось кощунством. И вот наконец в кои-то веки они могут днями засыпать и просыпаться в объятиях друг друга, вместе ходить в магазин за продуктами, готовить… А вместо этой ожидаемой идиллии какая-то истерика. На пустом месте!
– Кароль, merde, merde! Я не знаю, что делать! О чем писать? О том, что настоящий коммунист – такой же пьяница, как и все? Да, мужик он хороший, должен признать. Но ведь и его в милицию замели! Он вообще ничего о себе не рассказал, я даже не знаю, у какого станка он стоит…
Кароль с нежностью смотрела на него. Бедный мальчик, как он чист еще! Не может вывернуться из не самого сложного редакционного задания! Чуть-чуть цинизма ему не помешало бы. Надо помочь ему.
– А что, если посмотреть на поднятый твоим рабочим вопрос с другой стороны?
– Какой вопрос он поднял, Кароль? О чем ты? Что рабочему человеку в получку бухнуть негде?!
– Именно! Давай поразмышляем о культуре и традициях приема алкоголя не только в России, но и в других странах. Давай откроем дискуссию о пользе кафе, бистро, ресторанчиков и таверн!
– Кароль, милая моя, какие бистро, какие таверны! Этого же никогда в жизни не напечатают! Отдел партийной жизни же!
– И замечательно! В первую очередь коммунисты должны подавать пример окружающим. Ну вот в Париже на заводах «Ситроен» или «Пежо» в столовых продают вино и пиво. И что? Поверь, французы пьют очень много! Это же не является какой-либо социальной или экономической угрозой. Не представляет опасности для общества! Если только сразу не садиться за руль… Надо перевести тему к вопросу необходимости подъема общего культурного уровня населения! И призыв этот должен прозвучать из уст рабочего, члена партии. Как ты говоришь, еще он кто? Герой Социалистического Труда? Какая прелесть!
– Кароль, то Париж, а то Кировский завод! Представить себе не могу в этой стране рабочего или колхозника, приезжающего на завод или на поле, ха-ха, на личном автомобиле. Потому что автомобиль здесь – роскошь. Чтобы купить машину в СССР, надо несколько лет стоять в очереди!
Спорить ей не хотелось, не слушая возражений, она вытащила его из-за стола и приложила совсем немного усилий, чтобы начисто отвлечь от журналистского задания. Все-таки еще совсем мальчик!
Довольный и опустошенный Журов уснул, она выскользнула из-под одеяла. Сделала чуть тише магнитофон – Серж Генсбур напевал о Господе, курящем гаванские сигары…
Первой мыслью было сесть за машинку, но так она его разбудит. Вытащив из пачки несколько листов бумаги, она принялась быстро, почти без исправлений и зачеркиваний, строчить по-французски. Она набросает лишь тезисы, а ему останется перевести, ну и дополнить, разумеется.
– Михаил Николаевич, Журов из Москвы на проводе. Соединять?
– Обязательно!
– Миша, здравствуй, дорогой! Как жив?
– Твоими молитвами, Толя. Как ты там, в столице на передовой? Чуть ли не каждый вечер смотрим с Машей тебя по телевизору. Пиджаки у тебя – с ума сойти можно! Как был пижоном, так им и остался! Выглядишь цветущим!
– Спасибо, старик, пока в обойме. Наверху, похоже, мной довольны. Но ты же знаешь, как все переменчиво. Как там мой оболтус?
– Знаешь, Толя, вопреки твоим ожиданиям он оказался молодцом. Будет журналистом! Я его к Лифшицу в отдел партийной жизни засунул. Яша дал ему трудно-подъемное задание – подготовить очерк об одном рабочем – Герое Соцтруда и все остальное по списку, – из которого слова клещами не вытащить! Лично с ним знаком, вместе в ГДР с делегацией Комитета защиты мира ездили. Представь себе, парень твой написал очень толковый и смелый материал! Печатать его по понятным причинам нельзя, но талант у него есть! Когда будешь-то в городе на Неве?
– Ну, уважил ты меня, Миша! Как вырвусь, так сразу. Дела, жена опять же молодая. Не забудь поклониться от меня Маше. Надеюсь, она в добром здравии. Целуй детей! Ну, бывай!
– Бывай, Толя, звони, если что. Всегда подтолкнем твоего парня, поможем. Обнимаю!
Журов с удовольствием откинулся на спинку кресла. Борька-то, оказывается, на что-то способен! Выходит, все-таки течет в его жилах журовская кровь! Он достал коньяк, налил себе до краев в стоявшую рядом кофейную чашку, опрокинул, крякнул и с удовольствием закурил.
6
Жизнь Бориса Журова складывалась отнюдь не плохо. Без блеска, на «хорошо» он переходил с курса на курс. Узбеки периодически делали увесистые заказы, Идрис с Хусейном не подводили. Главное же, упоительные и нежные отношения с Кароль продолжались, и каких-либо угроз им не поступало! Их частые прогулки по городу почему-то не привлекали внимание наружки, иначе, как полагал Журов, последствия не заставили бы себя ждать. Ладно наружка, но почему на многолюдных посиделках в мастерской у Миши их никто не закладывал? Ведь должны же были туда просачиваться всякого рода осведомители. А у Миши все кому не лень знали, что Боб – сын того самого Журова, а Кароль – парижанка! В общем, сплошные чудеса!
В университете Журов по-прежнему презирал и встречал в штыки буквально все творческие задания из-за ничтожности предлагаемой тематики. Его не покидала уверенность, что будь он свободен в выборе, то наверняка написал бы если не гениально, то неординарно. С зашкаливающим снобизмом он игнорировал обучение ремеслу и все чаще прибегал к помощи Кароль, воспринимая ее как студенческую хитрость, как шпору на экзамене. Лишь бы получить зачет у очередного препода-неудачника.
– Милый, – как-то со смехом обратилась к нему Кароль, – наша совместная работа тебе ничего не напоминает? Что ты таращишься? Я прямо как Мадлен Форестье!
Мопассана Журов любил.
– Но я-то не Жорж Дюруа!
– Чем же ты отличаешься?
– Как чем? Во-первых, я не авантюрист… и люблю тебя бескорыстно! Во-вторых, это всего лишь учебные задания. А потом, сколько всего я добавляю от себя, пока перевожу. Чего ты улыбаешься, Кароль? Я мог бы легко сам! Честно! Хочешь, в следующий раз? Просто у тебя так быстро все выходит, раз-два и готово… ты ж руку давно набила… а у меня все впереди. А так нам остается больше времени для наших нежностей. Иди ко мне!
Его дни омрачали лишь две проблемы, которые в раздумьях он нередко увязывал в одну: грядущее распределение и скорый отъезд Кароль. Советскую журналистику презирать-то он презирал, но работать в какой-нибудь периферийной газетенке не собирался, ему как минимум подавай «Ленинградскую правду». А кто ж его туда возьмет? А если жениться на Кароль и свалить? Только что в этом Париже делать? Оба вопроса требовали решения, и если на распределение Журов повлиять был не в силах, то вот жениться или нет, мог решить только он!
– Пойми, Вить, родители у нее чокнутые бедные коммунисты, помощи от них не будет… Положим, у нее есть работа… Но квартиры-то нет! И сбережений тоже. Мне посуду мыть? Курьером бегать?! Не висеть же у нее на шее!
– Париж – это тебе не Слынчев Бряг! Другие возможности, Франция все-таки! – Журов поморщился – ситуация назревала один в один… Он полагал, что Витя, как друг, не имеет права упоминать при нем Болгарию и Иванку. Он вычеркнул из памяти свою первую любовь – при встрече на факультете в груди больше ничего не екало… Да, ему пришлось поступить с Иванкой неприглядно! Но исключительно из-за отца! И не надо напоминать ему об этом! Витя же как ни в чем не бывало продолжал выдвигать аргументы «за» с не меньшей убедительностью, чем несколько лет назад – «против»:
– А Франция – передовая капиталистическая страна! Европа! Тебе всего-то двадцать два! Все впереди! Курьером тебе бегать не придется, увидишь. Устроишься переводчиком. Свободно же шпаришь! До хрена же всяких там культурных и научных обменов. Подучишься чему-нибудь, вольешься в какое-нибудь дело… Наладим канал обмена… через дипломатов, например, или журналистов… Ты там, я здесь. Может, какую иконку тебе передам, пару килограммов икры, а ты мне что-нибудь оттуда! Не пропадешь! Боря, вали отсюда! Люди огромные деньги дают, чтобы жениться на иностранке. Заметь, на любой! Хоть на уродине, хоть на старухе! Лишь бы уехать… А у тебя любовь! Только ради Кароль – какая женщина! – уже стоит бросить все к чертовой матери! Все тебе дается на шару! Прушник! – последние слова Витя произнес с раздражением: обращался-то он к Журову, но адресовал их себе – несмотря на обаяние, щедрость, подвешенный язык и многие другие неоспоримые достоинства, в любви ему не везло. Он бы и с толстушкой, пусть даже старше его, пусть не красавицей… А с такой, как Кароль… на край света, на Колыму… да хоть куда. Он представил себя на месте Журова…
– Торговать иконами – грех!
Витя очнулся от грез и выпучил глаза:
– С каких это пор ты стал верующим?
Журов отвернулся и категорично заявил куда-то в – сторону:
– Я не верующий, но Бог точно есть. Торговать иконами мы не будем.
– Не будем так не будем, – легко согласился Витя, – но что-нибудь-то нароем!
Разговор повис. Журов не осмеливался поделиться своим главным страхом. Что-то подсказывало ему, что Кароль охотно выйдет за него замуж, при этом как в первую встречу, так и сейчас не понимал, что она в нем нашла. Их любовь воспринималась им как стечение обстоятельств. Чувства Кароль, подозревал он, сильны и искренни только здесь, в Ленинграде. Необходимость встречаться тайно лишь придает им остроту. Стоит же ему оказаться во Франции, как сотни красивых, уверенных в себе мужчин с квартирами, машинами, яхтами, виллами и прочими богатствами, немедленно оттеснят его на второй… даже не на второй, а на самый задний план. И что тогда? Он станет ей обузой!
В общем, Журов топтался на распутье. А тут еще рожу в общаге начистили на пустом месте… От унижения, собственной слабости и обиды на всех и на вся затащил в постель эту влюбленную в него девчушку… Зачем? Обязательно надо было кому-то поплакаться? Что Ирка в него влюбилась, он с ленивым самодовольством почувствовал сразу, еще когда без всякой задней мысли, от скуки, пригласил ее выпить шампанского. В тот раз решил голову ей не морочить, а через месяц увидел на дискотеке, и что-то словно щелкнуло внутри. На следующий день, когда повез домой, вдруг раскаялся, оставил бедную у подъезда, струхнул подняться к ней. Подумал тогда, что только объяснений с мамашей ему не хватало. Не делать же предложение руки и сердца. Как-то бестолково все вышло… и осадочек остался. Причем с гнильцой.
На следующий день после Ирки он очень некстати не удосужился убраться в квартире, выпустил это обстоятельство из виду и привел Кароль. А в прихожей коробки с аппаратурой – и как теперь уверять, что он не при делах? На кухне Витин букет – и что он вечно лезет со своими цветами! И на тетку не свалишь… Недопитое шампанское, грязные бокалы… постель как-то не так смята. Предвосхищая возможные вопросы, сразу сказал, что заходил Витя, в кои-то веки с дамой, которая, потеряв голову от его остроумия, забыла букет. Да и аппаратура Витина, позже заберет! При этом глаз поднять на Кароль не мог. Фингал этот на полфизиономии…
Неуклюжая ложь Журова причиняла Кароль страдание. Но не его вранье сейчас главное. Отъезд домой неумолимо приближается, а он все не подступает к волнующей ее теме. Неужели придется, отбросив гордость, самой спрашивать, собирается ли он на ней жениться? Или ни о чем не спрашивать? Вернуться во Францию, не расставив точки над i?
– Пожалуй, я поеду домой, – рассеянно глядя широко открытыми глазами на смятую постель, упавшим голосом произнесла она. – Проводишь меня до метро?
Журов, как ей показалось, выдохнул с облегчением и без лишних расспросов загремел засовами.
Сразу после защиты диплома в Ленинград прилетел Журов-старший и, как давно завелось, игнорируя гостеприимство Марго, остановился в «Европейской», куда и пригласил сына поужинать. Заодно и поболтать о том о сем.
Пили водку, закусывали черной икрой и груздями. Буквально все посетители, кроме иностранцев, разумеется, с любопытством, прямо или украдкой, рассматривали известного телеведущего. Анатолий Александрович привык к вниманию и по давно выработанной привычке на людях не расслаблялся – шибко на стуле не разваливался, узел галстука не распускал, ел правильно и аккуратно. В то время как его сын был излишне вальяжен и чуть ли не лежал. Когда что-то можно было взять руками, брал, игнорируя нож и вилку; единственное, чего не делал, так это не ел водку стаканами. Напиваться сегодня в планы не входило. Дураку ясно, зачем примчался отец. Журов, внимая Витиным уговорам, решил-таки родителя выслушать. Хотя язык чесался с порога ошарашить того известием, что он женится на француженке и уезжает в Париж. Пора и ему мир посмотреть. Интересно, что ответил бы на это Журов-старший, ведь сейчас-то «товарищи оттуда» его не предупредили, профукали. Куда смотрели два с половиной года, раздолбаи!?
Журов-старший замечаний сыну не делал, оставался безучастным к нарочитой демонстрации плохих манер, только посмеивался, ел и пил с отменным удовольствием, был легок, остроумен и во всех отношениях приятен. Не придраться! Лишь когда принесли кофе, он приступил ко второй, главной части намеченного плана:
– Должен сказать тебе, сын, мне присылали некоторые твои работы… и я дал кое-что посмотреть, – тут он перечислил ряд имен и фамилий главных редакторов московских и ленинградских газет, известных на всю страну журналистов и даже упомянул одного писателя-классика. – Не только я, но и все они уверены, что у тебя серьезные способности, – слова отца лились бальзамом на душу. Вот оно! Он и сам подозревал в себе талант, верил.
– Признаюсь, для меня это полная неожиданность. Очень приятная. Не ждал от тебя, думал, что судьба наградила меня сыном-разгильдяем. Так вот. Уж коли ты прописан в Ленинграде и, как я предполагаю, планируешь начинать свою карьеру именно здесь… мне это приятно, все-таки родной для меня город… – Журов хотел на этом месте вставить с максимально возможной желчью, что родной отец вряд ли собирается прописывать сына обратно в Москву, в квартиру с молодой женой. Так что их планы и интересы по части Ленинграда совпадают, но, удивительное дело, от ехидства воздержался.
– Мы тут с друзьями посовещались и подумали, что тебе есть смысл начать работать не в городской газете, а в многотиражке. В «Кировце», – на этом известии Журов очнулся от сладких грез. Что за бред! Какая, на фиг, многотиражка! Это же орган Кировского завода – кроме танков и тракторов, о чем там писать?! Ишь чего удумал – заасфальтировать единственного сына в вонючую многотиражку. Он открыл уже было рот, чтобы сообщить обезумевшему отцу о своей женитьбе, но тот не позволил себя перебить и продолжил своим поставленным голосом:
– Тебя распределят туда литсотрудником. Если не будешь валять дурака, через год ты ответственный секретарь газеты… там товарищу давно пора на пенсию. На заводе сильная партийная организация, причем на правах райкома, а это значит, что ты без всяких проволочек и лишних церемоний сможешь вступить в партию. А там недалеко до корпункта где-нибудь в Европе. Тут я тебе посодействую… Главное, не делать глупостей!
«Корпункт в Европе, – завертелось в мозгу Журова. – С французским. А это у нас помимо Франции только Бельгия и Швейцария. Заманчиво, очень заманчиво. Неужели Витя прав и на самом деле стоило папашу выслушать? Тут надо хорошенько подумать… прикинуть, так сказать, прибор к носу».
– Зарплата там небольшая, где-то от семидесяти до девяноста, но, надеюсь, ты уже взрослый парень, разберешься. В конце концов, сможешь публиковаться, если перестанешь лезть на рожон. Пора взрослеть и становиться на ноги, поэтому исключительно из этих соображений материально помогать тебе я больше не буду. Деньги – не главное в нашей жизни. Нужны связи, правильные знакомства. Они тебе заменят всё. А деньги появятся. Никуда от тебя не денутся.
Относительно будущей зарплаты Журов иллюзий не питал. До тех пор, пока их с Витей комбинации будут приносить столь приятный доходец, он на заработанные трудом, в смысле на работе, деньги жить не собирался. Как на них прожить-то?
– Надеюсь, я могу подумать? – обратился он к отцу.
– Подумай-подумай, – хмыкнул тот.
Журов уже готов был расслабиться и крепко выпить за счет родителя, как вдруг теплый и дружелюбный свет глаз отца сменился на стальной, колючий. Понизив голос, он сухо отчеканил:
– И последнее, что я хотел тебе сказать. Перестань считать себя самым умным и держать всех остальных за дураков.
Журов пристально посмотрел на отца. «А не гэбэшник-ли мой папочка? Буравит меня взглядом, как следователь в застенках НКВД».
– Что ты имеешь в виду?
– Думаешь, мне не известно про твою, как там ее, Кароль?! Мало ему, распиздяю, было болгарки, так он на француженку полез! Хорошо, меня заранее предупредили и дальше, чем следовало, информация не пошла. Чего мне это стоило! Каких нервов, каких унижений! В гроб меня хочешь свести?! Если ты опять вздумаешь жениться на иностранке, имей в виду: да, мне ты жизнь подпортишь, но я не пропаду! Дальше же произойдет следующее: визу ей аннулируют, и хочет не хочет, а домой она поедет в кратчайший срок! А ты, мой любезный сын, будешь немедленно вызван в военкомат и пойдешь трубить на службу родине! Куда-нибудь в Тьмутаракань. Причем в этом случае я приложу все усилия – уж поверь! – и сделаю так, чтобы тебя призвали не в армию, а во флот! Тогда загремишь не на два года, а на все три. Расписаться вы не успеете, я позабочусь. Все понятно?
– Ты что, угрожаешь мне?! – прошипел Журов, готовый броситься на отца с кулаками. Вот гад! Единственного сына в армию! Журов приподнялся в кресле…
– Боренька, котик! – раздался ласковый девичий голос у самого его уха. – Как я рада тебя видеть! Куда же ты запропастился? Ну познакомь же меня с твоим знаменитым папой!
Ульяна. И как теперь заехать в рожу родителю? Взгляд Журова-старшего немедленно преобразился. Моментально оценив стать и ослепительную внешность Ульяны, он превратился в галантного кавалера и встал с места.
– Мой папа Анатолий Александрович… Ульяна… моя добрая знакомая, – выдавил из себя Журов.
– Никаких Анатолиев Александровичей! Просто Анатолий. Прошу к нашему огоньку, милая барышня! – И отец отодвинул стул для Ульяны.
Ульяна приняла приглашение и чинно, прямо держа спинку, присела за столик. Как девушка умная, она сразу сочла необходимым объяснить свое присутствие в ресторане в столь поздний час:
– Анатолий Александрович, – обратилась она. Тот протестующе замахал руками. Она вздохнула и как бы против воли произнесла: – Анатолий, – она еще раз вздохнула и славно так улыбнулась, – я подрабатываю моделью в Доме моды на Невском… У нас тут в банкетном зале был закрытый показ по линии отдела культуры Горисполкома… для делегации польских модельеров… А так я учусь на живописи в училище Серова. Извините, что прервала вашу беседу… как тут удержаться! Мы с девочками уже выходили, и тут я вас с лестницы случайно заметила… Я давно говорила Борису, что просто мечтаю с вами познакомиться. Вы же гуру журналистики, мой кумир!
Журов-старший незаметно выдохнул: знакомая сына не какая-то прошмандовка, чего можно было ожидать от такого оболтуса, а приличная девушка, студентка, модель. Все-таки не для барыг каких-нибудь, а для Горисполкома в показе участвовала.
Для Журова учеба Ульяны стала полной неожиданностью и во многом объяснила, почему он через раз заставал ее в Мишиной мастерской. Он-то держал ее за обыкновенную центровую чувиху, искательницу богемной жизни. Манекенщица же!
– А мы тут с юношей спорим, как у нас заведено! Без этого никак не обходимся. Вино? Шампанское?
– Шампанское, если можно. И о чем же спор? Если, конечно, это не семейная тайна.
– Мой отец, он же гуру журналистики, приехал купить меня, – выпалил Журов. – Они с друзьями давно договорились о моем будущем, при условии, что я не буду валять дурака. А еще мне надо вступить в партию! Об этом они тоже с друзьями договорились. За меня уже все решено!
Ульяна понимающе кивнула головой и поинтересовалась:
– Боренька, а что ты предлагаешь? У тебя есть другие варианты?
Тот пожал плечами, ну не говорить же о Кароль!
– Тогда чего сопротивляться? Ты был очень… как бы это сказать… возбужден, когда я подошла. Ты же будущий журналист! Конечно, в партию надо вступать, коли есть такая возможность. Люди же годами ждут! Потому что надо как-то выбиваться, а как без этого? – она сделала большие глаза. – Знаешь что? Скажи папе спасибо!
В это время официант принес шампанское, дружно чокнулись, мужчины водкой – будем здоровы! Ульяна поднесла бокал к губам, отпила, загадочная улыбка не сходила с ее лица. Больше к теме распределения не возвращались. Журов погрузился в свои мысли. Ульяна же заинтересованно и весьма непринужденно вела беседу о международном положении. Ничего себе манекенщица!
Перед самым закрытием ресторана Анатолий Александрович попросил счет, внимательно, без всякого смущения его проверил, прибавил сверху что полагается, и пошел провожать молодежь. На прощанье он поцеловал Ульяне руку и оставил ей свои контакты – всегда к услугам, всегда рад! С сыном против всех ожиданий расстались мирно, тот даже позволил себе приобнять. Уже без металла в голосе Журов-старший попросил его хорошенько подумать над его словами.
Когда сели в такси, Ульяна вдруг неожиданно предложила:
– Хочешь, зайдем ко мне?
После знакомства у Миши, когда, обкурившись конопли, они целовались чуть ли не полвечера, Журов попыток сблизиться с Ульяной не предпринимал – тогда у него была Иванка, теперь Кароль. А Ульяна отнюдь не производила впечатление девушки, способной мириться с ролью второго плана… Журов посмотрел на нее – чего она хочет? – мысленно раздел. Воображение подкинуло такое, что перехватило дыхание. Он же не конченый идиот!
– Хочу, – с поспешностью согласился он, – а как же твой Гоша?
– При чем тут Гоша? – с усмешкой спросила Ульяна. Журов не нашел, что ответить, она засмеялась, чуть придвинулась и взяла его под руку. Журов, воспринявший это как сигнал к действию, тут же полез целоваться, она не позволила, лишь положила голову ему на плечо. Так и доехали.
Ульяна жила на канале Грибоедова в двух шагах от Калинкина моста. Парадная ее дома мало чем отличалась от журовской – разве что не все лампочки выбиты – и так же плотно и усердно была загажена людьми и кошками. От запахов резало в глазах. Быстро взбежали на третий этаж, Ульяна простым французским ключиком открыла единственный замок. Везде горел свет, слышались голоса, смех и звук гитары – что-то страстное и темпераментное: то ли испанское, то ли цыганское. Журов вопросительно посмотрел на девушку, она безразлично пожала плечами и повела его по заставленному книжными стеллажами коридору в сторону шума. В гостиной, уже без книг, но сплошь увешанной картинами, пили, закусывали, курили, говорили. Ульяна громко поздоровалась и, не задерживаясь, перешла на кухню, где у плиты сновала красивая женщина, на вид лет сорока пяти, по стилю и манерам похожая на Марго. За столом сидел худой темноволосый мужчина с острым суровым лицом и методично резал тонкими аккуратными ломтиками дефицитную салями.
– Папа, мама, – громко обратилась Ульяна, – это мой хороший-прехороший друг Боря Журов. Прошу любить и жаловать! Котик, это мои родители!
Вот уж неожиданность так неожиданность. Уж не смотрины ли это? Журов смутился, не к месту совсем уж пьяно покачнулся и промычал что-то невнятное, типа, давно – мечтал.
– Молодой человек, – строго, почти угрожающе спросил Ульянин отец, – а вам не кажется, что приходить в столь поздний час и сильно пьяным в дом к молодой девушке по меньшей мере неприлично? Если не назвать это другими словами?!
Журов разом проглотил язык, что тут сказать-то? Выручила Ульяна:
– Папуля, ты что? Не ругай его, пожалуйста, я же сама его притащила! Это сын Анатолия Журова, международника… Я их случайно встретила в «Европейской». На «Крыше». У нас показ был. Представляешь, Боря на отца своего чуть с кулаками не бросился, так ругались! Пришлось вмешаться, обаять, успокоить. Боря будущий журналист! Ему лишь не нравится, что отец без обсуждения с ним устраивает его распределение… вернее, не совсем так… а то, что отец ставит условие вступить в партию. Вот человек и выпил немножко. Ему сейчас очень плохо!
Выражение лица Ульяниного отца не смягчилось ни на йоту, но уже менее строго он продолжил свой допрос:
– А вы, значит, отцу за заботу не благодарны и в эту партию вступать не желаете?
– Не желаю, – подтвердил Журов.
– Ну что же! Достойно похвалы, весьма благородно. Но глупо, – на этих словах он потерял интерес к Журову, взял тарелку с колбасой и пошел к гостям. Вслед за ним устремилась и его жена.
Ульяна скинула туфли на высокой шпильке, оставшись босиком, она сразу показалась Журову чуть ближе.
– Ну что, пьем чай? – она смотрела на него своими большими близорукими глазами. Журов не совсем понимал, зачем Ульяна его притащила, дом полон гостей, и вообще, родители. Какой на хрен чай? Что ему тут делать? Но украдкой заглянув ей в вырез платья, согласно кивнул головой. Вдруг все-таки?
– Скажи мне, красота моя неземная, кто твой папа? Военный?
Она рассмеялась:
– Мой папа – военный? Ха-ха! Он художник! В гостиной, да и повсюду всё его картины. Он очень строгий, но добрый! А мама преподает в Герцена. Психологию, – Ульяна легко журчала, голос ее обволакивал. Журова не покидало ощущение, что роковая красотка тихонечко, чтобы не спугнуть, примеряет его к себе. Чего бы это вдруг?
– Скажи, котик, а как поживает твоя француженка? У вас же роман?
Журов чуть не упал со стула.
– Откуда тебе известно?
– Полгорода сплетничает об этом!
Вот это номер! В один вечер вдруг узнаёшь, что тайна совсем и не тайна. А он-то думал… Вот же наивный дурак! Как же отец смог перекрыть ход делу? Почему с Иванкой не смог?! Сплошные загадки… Узнать бы когда-нибудь…
– Хорошо поживает. Даже прекрасно. Почему спрашиваешь?
– Ты с ней, с твоей француженкой познакомился до того, как ко мне у Миши приставал? Или после?
– Ульяна, ты что! Мы с тобой просто целовались! Сколько времени прошло! Зачем тебе это?
– Еще как приставал! Ну, ты можешь ответить?
– Могу. После.
– Значит, ты расстался со своей прекрасной венгеркой…
– Болгаркой, – поправил Журов.
– Болгаркой, – согласилась Ульяна, – и сразу познакомился с француженкой? А меня ты так и не вспомнил?
– Уля! Ты же была в десятом классе! Сейчас-то что?! Мужики штабелями у твоих ног!
– Ну и что, что в десятом классе! Мог бы и вспомнить! – Ульяна надула губки, похоже, она чуть-чуть в обиде на Журова, что тот посмел увлечься не ею. Эта ревность в сослагательном наклонении развеселила его. «Вот сучка!» – ласково и с одобрением подумал Журов.
– Пойдем, я покажу тебе мою комнату, – предложила она.
– Спасибо, нет, – внезапно он передумал и решил больше не задерживаться, – Как-нибудь в другой раз. Только не обижайся! Боюсь, не сдержусь и наброшусь на тебя… а ты папу своего позовешь… и он вышвырнет меня на веки вечные.
Она вышла проводить его на лестничную площадку, прикрыв дверь, порывисто прижалась к нему всем телом и прильнула к губам. С чего такая страсть? Журов предположил, что так она проверяет, возбудится ли он. Возбудился. Удовлетворенно кивнув, она отстранилась и хлопнула дверью, бросив на прощание:
– Котик, звони в любое время, можем сходить куда-нибудь.
– Обязательно! – и он скатился вниз по лестнице. На воздух, на воздух!
А не пойти ли к Кароль? Идти не больше часа, да и прогулка по ночному городу обещает быть приятной. Июнь же месяц. Опять же голову проветрить. Но, поразмыслив, он испугался вероятной поспешности своих слов и решений. Журов посмотрел на часы – есть шанс успеть перебежать Васильевский остров и перебраться к себе на Петроградскую… У моста Лейтенанта Шмидта он передумал и пошел по набережной к Дворцовому. Вдоль гранитных парапетов дружелюбно бухала молодежь. Кто-то бренчал на гитарах, особо передовые приволокли магнитофоны. Пару раз Журова приглашали выпить, он не отказывался и выступал своим в доску, клевым чуваком. Путь до Петроградской естественным образом затянулся, домой он поднялся совсем пьяным, но веселым и мирным.
На кухне горел свет, на диванчике спала Марго, шум замков разбудил ее. Увидев племянника, она хотела сделать ему выговор, но он, счастливо улыбаясь, обнял ее со словами: «Как же я тебя люблю!» Она поморщилась от выхлопа, но высвобождаться из его объятий не стала.
– Бобочка, опять ты пьяный! Скажи лучше, вы хорошо поговорили с Толей?
– Лучше не бывает!
– Вот и славно. Иди спать. Спокойной ночи!
– Марго! Ты лучшая тетя в мире! Спокойной ночи тебе, Марго!
Проснулся Журов на удивление свежим. Первым делом подумал об Ульяне; раз она его немножко ревновала, пусть только и на словах, он ей интересен! Все-таки хорошо, что она студентка, а не просто манекенщица. Без всяких обид вспомнились слова ее отца: «Похвально, благородно, но глупо». Выходит, и он, человек творческий, которому, по логике, должно быть глубоко пофиг, тоже советует вступать в партию… Ну-ну.
Далее ход его утренних мыслей устремился в еще более приятном направлении: великие мира сего – редакторы, писатели, отцы советской журналистики – находят у него незаурядные способности! Так он и не сомневался. Он еще покажет, на что способен, дайте только время! Начинать, правда, придется в «Кировце», писать и править для пролетариата, но вскоре после этой скучищи его ждет Европа! Тут его мысли перекинулись на Кароль, но тоже весьма заманчивым и благоприятным образом, рисуя прелюбопытнейший сценарий. Исходя из перспективы работы в Европе – а в его воображении это воспринималось уже как данность – можно ведь их нежные отношения продолжить иным образом: сейчас, сломя голову, не жениться и в омут не лезть. Пусть гэбэшники успокоятся. И отец вместе с ними. Кароль тихо уедет, но приезжать-то к нему она сможет! А через два-три года он сам во Франции или в Швейцарии! И встретятся они уже в равных весовых категориях! Тогда и поженятся. Ему, известному журналисту – другого не дано! – будет значительно проще пробиться в ведущие французские газеты. Из СССР, понятно, придется сбегать, точнее – туда не возвращаться. Такая эскапада, безусловно, вызовет немалый скандал, отца попрут с Первого канала… Но до этого еще очень-очень далеко… можно пока особенно не заморачиваться. Если поразмыслить, все не так уж и плохо! Прав, прав Витя! Не зря он на «Крышу» сходил.
На волне его хорошего настроения позвонила Ирка. Раздавленная его очередным исчезновением, Ирка собиралась высказать Журову много всего нелицеприятного, после чего послать его далеко и надолго. Однако, уловив в его голосе неподдельную радость, изменила намерения и мгновенно переключилась на пустую болтовню.
– Прелестное дитя, – почти кричал в трубку Журов, – Только не дуйся на меня! Я сам собирался тебе позвонить! Куда пропал? Так я же диплом защищал! Защитил! Все, учеба позади! Впереди долгая трудовая жизнь! Это надо отметить! Сходим куда-нибудь? А хочешь, съездим завтра в Солнечное, купнемся, позагораем? Завтра не можешь? Экзамен? А когда? Послезавтра? Заметано! В десять в центре зала. Купальник не забудь, а то ню придется загорать… Я-то не против! Я? Точно не забуду! Клянусь! Честное комсомольское! Ну все, целую тебя! Пока!
Напевая Sea, Sex and Sun Генсбура, Журов проследовал на кухню, где Марго варила кофе. Аромат сумасшедший!
– Бобочка, ты так громко говорил… я невольно все слышала. У тебя новая девушка?
– Тетя, очень может быть, что да!
– И кто же твоя избранница, позволь полюбопытствовать?
– Зовут ее Ирка, и учится она, представь себе, моя дорогая тетя, на фи-ло-ло-ги-чес-ком факультете! То ли на шведском, то ли на норвежском! Что абсолютно не важно. А важно то, что она юна, стройна и мной увлечена!
Все сорок минут дороги они простояли в тамбуре, курили. В Солнечном электричка мгновенно опустела, толпы пестрой молодежи устремились по широкой, ничем не примечательной асфальтовой дороге в сторону залива. Маршрут до пляжа делился на два этапа: первый налегке, только с пляжными сумками, до продовольственных магазинов у Приморского шоссе, второй, уже под тяжестью колбасы, вина и пива, среди сосен мимо редких дач по симпатичной пешеходной дорожке уже непосредственно к заливу. Более модного пляжа под Ленинградом не было! А раз модный, то и надевалось все самое лучшее. Если у человека в гардеробе из фирменных шмоток имелись только демисезонные ботинки, он шел в этих ботинках, джинсы – так в джинсах, свитер с модной мулькой – значит, в свитере! Очевидным дополнительным преимуществом являлась хорошая фигура, поэтому те, кто ничем крутым из одежды похвастаться не мог, раздевались сразу при сходе с платформы. На самом пляже, разумеется, свитера и ботиночки приходилось снимать… но никто не мог помешать девушкам принимать самые выгодные позы, чтобы ноги казались длиннее, а парням весь день играть мускулатурой, если таковая имелась… Надо все-таки признать, что существовала целая категория непримечательных и скучных граждан, приезжавших в Солнечное просто позагорать. Пройти через пляж по прямой было невозможно: одиночки, группки и компании на полотенцах, подстилках и одеялах устраивались на расстоянии не больше полуметра. В воде постоянно происходили столкновения, кишмя кишело! У центрального входа на пляж с утра до вечера работали всевозможные стекляшки, торгующие лимонадом, бутербродами, мороженым, а иногда и пивом.
Наконец-то выйдя на узкую бетонную дорожку – венец пути, – условно разделяющую пляж на две части, они не нашли ни одного свободного местечка, чтобы устроиться хоть с каким-то комфортом: тысячи и тысячи людей заполонили все пространство, насколько хватало глаз. Это обстоятельство не могло омрачить приподнятое настроение, овладевшее ими с момента встречи на вокзале, и они не спеша пошли в сторону «Дюн». В санаторий «Дюны» на оздоровительные процедуры охотно приезжали иностранцы, поэтому шансы попасть туда с шоссе без пропуска сводились к нулю, и от станции пилить да пилить… да и за каким, спрашивается, пилить, когда без санаторной книжки там ни пива не выпить, ни бутерброд не слопать.
Через двадцать-тридцать минут ходьбы, когда корпуса санатория замаячили вдалеке, а за спиной исчезли лежбища загорающих, Ирка с Журовым оказались на безлюдном пляже среди многочисленных дюн, кое-где заросших высокой сухой травой. Идеальное место, к тому же далекое от посторонних глаз. Едва расстелив подстилки, они устремились в воду.
На берегу, не сговариваясь, дружно плюхнулись в теплый песок, сначала загребая его себе под подбородок, а потом повернув голову набок, чтобы смотреть друг на друга. Иркины глаза лучились счастьем, взгляд Журова был ласков, но, вероятно, так же он смотрел бы на забавного котенка или щенка.
Уже несколько дней Журов не подавал Кароль признаков жизни, в одностороннем порядке устроив себе перерыв в отношениях. Ему же требуется переварить поступившую от отца информацию, хорошенько все взвесить! А потом уж делиться планами. При этом он не испытывал никакого дискомфорта – он же любит ее и верит в совместное будущее. А чтобы будущее было счастливым, ему остается только подтянуться в профессиональном плане. Чтобы соответствовать любимой женщине! И этому, как ни парадоксально, посодействует собственный отец, в очередной раз вломившийся в его личную жизнь. Никакой вины он не испытывал – надо же человеку побыть немного одному, чтобы не поступать опрометчиво! Тающая от любви Ирка тому не помеха…
Лучи солнца мягко грели спины. Надо очень постараться, чтобы сгореть в Ленинграде не в жаркий день… Незаметно они задремали. Первой очнулась Ирка, уселась рядом, стряхнула с себя песок, нашла высохшую тростинку, и принялась медленно выводить буквы на спине Журова. Он лениво приоткрыл глаза, довольно улыбнулся, перевернулся на спину. Она принялась очищать его грудь и живот от присохшего песка, потом перешла к ногам. Журов потянул ее к себе, прежде чем целовать, огляделся по сторонам. Никого! Так это же можно же!..
На долгое сопротивление Ирку не хватило, от одних его поцелуев она теряла голову… через несколько мгновений она позабыла обо всем на свете. А вот Журов – нет. Сверкать жопой для любопытных он не собирался! Периодически замедляясь, он поднимал голову и внимательно осматривался. Похоже, их никому не видно… Журов был в невиданном ударе, себе на удивление. Ирка же захлебывалась в потоке нежных слов, стонов и всхлипов, распаляя его тем самым все дальше и дальше.
К концу дня оба все-таки перегрелись, от греха подальше свернулись раньше задуманного. Зато попали в «Горку», невзрачный и единственный ресторан в Солнечном, где наспех съели по невкусному горячему. Что отбило малейшее желание там задерживаться. Поехали в летний бар «Домик лесника», где-то между Комарово и Зеленогорском. Вот же удача, там давали финское баночное пиво! Из динамиков, вывешенных на улице, умеренно громко звучал альбом Walls And Bridges Джона Леннона. Какой бармен правильный чувак! Еще и «Винстоном» приторговывал, два рубля за пачку. Вполне по-божески! На деревянном настиле перед входом топталась передовая молодежь, почти все в джинсах и босиком, у многих рубашки завязаны узлом на животе (так круче смотрится!), половина курит «Винстон»! Девушки как на подбор собрались симпатичные и фигуристые, мужики настроены миролюбиво, потребности начистить морду соседу не возникало. Прямо-таки невиданная атмосфера, и выглядит все как-то фирменно! Журов застолбил место на струганых бревнах, заменявших скамейки и окаймляющих настил. Они с Иркой тоже с готовностью разулись, вытряхнули песок. Никто из присутствующих пиво в стаканы не переливал, наоборот, небрежно поглядывая друг на друга, прикладывались к милым сердцу иностранным банкам. Ну, чисто заграница!
Финское пиво, да еще в такой нарядной таре, Журова и подкосило – как можно упустить возможность так правильно нагрузиться! Для полноты картины он уселся на полу, Ирка солидарно пристроилась рядом. В одной руке он держал банку, другой обнимал Ирку за шею, иногда притягивая к себе и целуя куда попало: то в нос, то в брови, то в пышную копну кудряшек. После Джона Леннона бармен поставил «Роллинг Стоунз». Эх, все бы бармены были такими!
Эта хипповая идиллия прервалась лишь в одиннадцать вечера, когда бар, к всеобщему разочарованию, закрылся. Народ неохотно расползался в разных направлениях – кто в соседние дома отдыха, кто в сторону станции или к Приморскому шоссе. Журову же приспичило купаться на Щучьем озере. Голышом. Только как туда добираться, совершенно неясно, пешком-то на ночь глядя не пойдешь, и не близко же. Уговорам не чудить он долго не поддавался, в конце концов все-таки согласился на залив. Народу на берегу собралось предостаточно: жгли костры между камней, повсюду распивали, ну и, естественно, барахтались в воде, нарушая тишину восторженными воплями. И как в такой обстановке купаться голышом? В белые-то ночи? Пришлось Журову смириться, но ненадолго. Пришла другая блажь – найти укромное местечко и повторить недавний подвиг в дюнах. Ирка тоже была пьяна, но легко и смешливо; похоть набычившегося Журова ее не смущала, а если не кривить душой, была даже приятна. Хорошо ли, плохо ли, укромного местечка не нашлось.
Журов вдруг умолк и через минуту захрапел, пока они, плюхнувшись на еще теплый песок, считали появляющиеся на небе звезды. Ирка с шутками и смешками его растормошила, повела к шоссе ловить машину. Вид шатающегося Журова, пьяно размахивающего руками, отпугивал всех водителей, пришлось Ирке самой взяться за дело. Она усадила его в траву, прислонив к сосне, чтобы не сползал, и вскоре сумела договориться за огромные для нее деньги – десятку! Другого выхода не оставалось.
Пока мать с Маринкой на даче, по идее, тут же заснувшего Журова можно везти к себе. Но, увы, мосты уже разведены, – вот ведь ленинградская летняя напасть! – пришлось двигать на Большую Пушкарскую.
В окнах горел свет, значит, Марго дома, что не могло остановить Ирку. Она втащила Журова в парадную и вскоре требовательно вжала палец в звонок. Марго немедленно открыла дверь. Журов глупо улыбался, вися на Ирке, и, как ни старался контролировать дикцию, произнес совсем невнятно:
– Марго! Это моя новая пассия Ирка.
Ирка без всякого смущения, с хорошей такой улыбкой, отважно глядя в глаза, не стала лепетать, как ей приятно и тому подобное, а по-деловому и с должным юмором произнесла:
– Здрасьте! Принимайте груз!
– Ну здравствуйте, Ирина. Меня зовут Маргарита Александровна, я тетя этого охламона.
Зная, что пустое дело, она все-таки не удержалась от замечания: «Как ты мог так напиться в обществе девушки! Какой стыд!» Журов развел руками, полез целоваться, потом попытался рухнуть перед Марго на колени. Никакого стыда он не испытывал, чудесным образом оказавшись дома, пребывал в отменном настроении и веселился как мог! Марго с Иркой дружно затолкали его в ванную. По логике, Ирке следовало бы сделать вид, что спешит домой, но жеманиться она не стала, а как только Марго с благосклонным видом пригласила ее выпить чая, немедленно согласилась. Ирка не раз видела эту симпатичную интеллигентную женщину в буфете у Тамары, та, в свою очередь, тоже обратила внимание на смешливую девушку в ореоле непослушных кудряшек. Какая славная! Когда люди нравятся друг другу, в большом количестве дежурных слов нужды нет; неслыханное дело, Марго сразу обратилась к Ирке на «ты».
– Сейчас схожу за бельем, и постелим тебе здесь на диване. Хоть и на кухне… извини, другого места нет… выспишься за милую душу!
Любая воспитанная девушка должна была вымолвить что-то подобающее моменту и признательно улечься спать, где предложено, но не Ирка, которая без тени смущения отказалась и, поблагодарив, направилась к комнате Журова. Марго оторопела. Затем посмотрела на нее долгим взглядом. Это – не неслыханная наглость, а демонстрация решимости, сделанного выбора. Девочка любит Бориса, что-то подсказывает, что сильно и надолго.
Проснулись поздно, уже за полдень. Журов крайне удивился, обнаружив Ирку в постели, однако тут же предположил, что та перекочевала к нему после ухода Марго на работу. Удивление переросло в изумление, когда прозвучал ответ. Над этим стоит подумать, что-то тут не так:
– Как тебе удалось? Марго абсолютно старых правил… только после женитьбы и все такое.
– Никак. Пожелала ей спокойной ночи и пошла к тебе.
– А она?
– Посмотрела на меня. Внимательно. И все.
– И ничего не сказала?
– Ничего!
Журов не понимал, радоваться ему или нет. Конечно, совсем неплохо было бы иметь возможность оставлять женщин на ночь. Но Кароль же он привести не сможет! А если благосклонность тетки распространялась исключительно на Ирку? И чем она только взяла Марго? А не получится ли, что с этого дня Ирка будет иметь на него особые права и сможет приезжать, когда ей заблагорассудится? Впрочем, вряд ли ей удастся без его согласия. Охомутать себя он не позволит. Так что скорее это плюс.
Он потянулся к Ирке, она выскользнула из его рук:
– Посмотри на себя! Ты вчера не душ принимал, а грязь размазывал! Я тоже хороша, вся чумазая… голову не помыла, волосы не расчесала… Вся постель в песке! Марш в ванную! Я после тебя!
Журов нехотя вышел из комнаты, но тут же ворвался обратно, распираемый многообещающей перспективой:
– Марго на работе! Мы одни! Давай вместе! Ты мне спинку потрешь!
А почему бы, собственно, и нет?
Этот день остался в памяти Ирки на всю жизнь, хотя ничего особенного и не произошло. Они напустили пену до потолка, Журов сидел у нее между ног, а она медленно и нежно, как маленькому ребенку, вымыла ему голову, потом жестко, но не больно прошлась мочалкой по спине, плечам, рукам, по каждому пальцу. Размякший, он откинулся ей на грудь, и они так лежали долго-долго, неспешно раскладывая на эпизоды вчерашний день, находя в нем новые подробности и подтрунивая друг над другом.
Как ни была влюблена Ирка и как ни хотелось ей остановить эти блаженные мгновения счастья, но требовалось подменить на даче мать, выходившую на работу. Оставлять Маринку без присмотра чревато последствиями. Журов пошел проводить ее. Целующиеся и смеющиеся, они никого вокруг не замечали.
Кароль увидела их издалека.
Сразу после защиты диплома Журов предупредил, что два-три дня собирается праздновать с друзьями. А разве она не важнее всех друзей? Почему сначала не с ней? Впрочем, во многом он еще совсем мальчишка, видит в пьянстве особую доблесть… Это пройдет! На четвертый день она принялась названивать ему. Без ответа. Или трубку брала тетя. К концу недели Кароль почувствовала, что сидеть сложа руки больше не может. Что-то случилось! Вдруг он в больнице? Или в милиции за какое-нибудь сумасбродство? Надо действовать! Для начала написать ему записку и бросить ее в почтовый ящик квартиры. Потом найти кого-нибудь, кто бы навел справки у тети…
Перебежав на другую сторону улицы, Кароль притаилась в дверях первого же магазина, чтобы успеть туда юркнуть, если Журов вдруг оторвется от своей спутницы и вздумает оглядеться по сторонам. Как ни странно, после всех переживаний и страхов сейчас она была спокойна и испытывала лишь любопытство. Она хладнокровно смотрела на Ирку не как на соперницу или похитительницу возлюбленного, а как на объект сравнительного исследования, пытаясь объективно разобраться, чем же та лучше. «Совсем девчонка, на несколько лет моложе его, – мысленно начала перечислять она Иркины достоинства, – влюблена по уши, вон как пожирает его глазами. О! Вот почему постель была так смята… букет, шампанское… Волосы, пожалуй, неплохие. В целом – простенькая. Русская, с ней можно не скрываться! – и вдруг: – Комсомолка!» Почему-то именно эта внезапная констатация банальной вещи взбесила Кароль. От уравновешенного созерцательного любопытства не осталось и следа! С нее хватит! Журова, Ленинграда и России! На что она тратит свою жизнь?! Всё! Немедленно домой! В Париж!
Достав из сумочки конверт, она принялась ожесточенно рвать его на маленькие кусочки.
7
С печально-ностальгической улыбкой откинувшись на спинку кресла и закинув руки за голову, Журов думал об Ирке, восстанавливая в памяти подробности их отношений. Он обещал жениться? Не обещал! Когда-нибудь говорил, что любит? Ни разу, даже в самые не подконтрольные разуму моменты близости! И что же тогда так погано? Осадок на душе? Почему даже с годами не пропадает чувство вины?
Глаза наконец начали слипаться, и он перебрался обратно в постель. Все-таки приятно, что Ирка до сих пор так нежно его помнит, возможно, даже любит. Возможно, даже не меньше, чем тогда, в молодости… Ему не в чем себя упрекнуть… Ну разве что сбежал без объяснений…
Журову приснился повторяющийся, вызывающий раздражение, крайне неприятный ему сон. В составе какой-то известной и очень популярной группы он стоит чуть в глубине сцены с гитарой в руках, а играть-то он совсем не умеет! Однако Журов быстро водит пальцами по струнам, так что издали, из зала, может сложиться впечатление, что он действительно играет. На переднем плане всегда кумир публики, исполнитель, автор музыки и текстов, но на его роль Журов никогда не претендует, он видит его только со спины, лица и имени не помнит. Иногда гитара Журова не подключена к динамикам, тогда изображать из себя музыканта ему не трудно. Остановиться или уйти со сцены Журов почему-то не может. Когда мелодия хорошо известна, он вовремя и к месту принимает эффектные позы и лицо его искажается гримасой виртуоза, исполняющего особо сложный пассаж. Иногда же сон ставит перед Журовым задачу сложнее – гитара подключена, и тогда ему приходится извлекать из нее какие-то звуки, но так, чтобы вышло незаметно для зрителей. После каждого своего «аккорда» он с беспокойством смотрит в зал. При этом Журов не просто стоит на сцене, а двигается или отбивает ногой ритм, артистично и убедительно. Это вызывает улыбки у музыкантов, они почему-то никогда не мешают ему разыгрывать этот спектакль. Концерт никогда не кончается, Журова не разоблачают. Ему никак не удается вспомнить, как его занесло на сцену, зачем и был ли у него выбор не участвовать в этом балагане.
Увидев сон первые два-три раза, Журов сперва думал, что это некий мостик в детство, в школьные годы, когда многие мальчишки, слушая музыку, делают вид, что играют на гитаре или на ударной установке. Однако, когда игра на гитаре привиделась еще и еще, он начал задумываться о причинах и тайных знаках. И пришел к неутешительному выводу, что это явный сигнал оттуда, из других измерений, что он занимается не своим делом. Эта мысль не раз приходила Журову и без снов: ни разу в жизни он не испытал удовольствия от работы. И если в тридцать или сорок лет еще пребывал в уверенности, что все у него впереди, то после пятидесяти оптимизма поубавилось. А потом и вовсе не осталось.
Были и другие сны, тяготившие Журова и служившие напоминанием, что что-то важное в своей жизни он безвозвратно упустил. Но он наловчился забивать их сразу с утра полным погружением в мелкую дневную рутину. Поэтому нельзя сказать, что настроение его заметно испортилось. Так, повалялся в постели несколько лишних минут, погрустил, поразмышлял. Затем рывком поднялся, включил Euronews, старательно сделал бутерброд – важно, чтобы хлеб не торчал из-под сыра! – не спеша съел, запивая маленькими глотками кофе, не столько вникая в новости, сколько возмущаясь голосом одной из ведущих – говорит, как из подземелья или словно ее душат! Как ее только взяли?! Потом он тщательно побрился, одновременно ломая голову, что надеть, наконец определился. Решил ехать на метро.
В подземном переходе, среди торгующих всяким барахлом теток и давно примелькавшихся старушек, просящих милостыню, виртуозно играл на аккордеоне аккуратный старичок профессорского вида. Играл, как всегда, классику, а не какую-нибудь ура-патриотическую дребедень или попсу, что, вероятно, принесло бы ему больше денег. Чуть замедлив шаг, колеблясь, Журов прошел мимо и уже на выходе из перехода подумал, какой же он все-таки гад, мог бы и поделиться мелочью с профессором. Уж в следующий раз – обязательно! Старичок нравился Журову. Глядя на него, он иногда представлял и себя, если прижмет жизнь, в роли продавца в подземном переходе. Только вот чем торговать? Не стоять же с протянутой рукой… Будущего Журов боялся, на пенсию не рассчитывал – как прожить на такие крохи? На Варьку почему-то шибко не надеялся… Своим достоинством, благообразностью, преданностью классике старичок укреплял журовский дух, в противовес поющему раз-два в неделю на том же месте дурню, своим воем подрывающему веру в прекрасное. Дурню на вид было лет тридцать, он поразительно походил на Иванушку-дурачка из советских мультфильмов – был так же румян, курнос, краснощек, кудряв, в целом, ладен и обладал сочным, низким и довольно красивым голосом. Если бы только он не пел! Слух и дурень были несовместимы, но он об этом не догадывался и, широко открывая рот, старательно и громко тянул гласные под неумелое бренчание на гитаре. Невпопад! Пел он только раннего Макаревича. При спуске в переход, заслышав ненавистный голос, Журов ежился с брезгливым видом и обыкновенно затыкал пальцем ближайшее к источнику воя ухо, стараясь быстрее проскочить мимо. Иногда даже переходил на бег. От бездарности дурня по коже бегали мурашки. Непроизвольно старичок стал олицетворять для Журова исчезающую русскую интеллигенцию, дурень же, как нетрудно догадаться, – ленивый народ, у которого все через жопу.
На работе Журов был приветлив, улыбчив и осторожен. В компании все знали, что он друг молодости генерального, г-на Сердана, так теперь величали Идриса. Очевидных привилегий, кроме не стратегической, но уважаемой должности, это обстоятельство ему не приносило, но все были с ним предельно предупредительны. На всякий случай. С первых дней оценив профессионализм коллектива, он благоразумно признал, что в деловом плане значительно слабее любого руководителя, и, кроме одного яркого выступления в первый год работы, чуть не обернувшегося для него увольнением, воздерживался от каких-либо резких телодвижений, предпочитая долго и терпеливо согласовывать любой шаг, проект или процедуру. На такое занудство ни у кого до Журова не хватало времени, поэтому, как ни парадоксально, он стал полезным звеном! Отказать ему никто не мог – очевидно же, что самостоятельно, без согласования с директором, он ничего делать не станет. Как следствие – рано или поздно он договаривался с самыми несговорчивыми и бескомпромиссными менеджерами и руководителями. Его стали даже уважать.
Помимо профессионализма и безусловной успешности еще одна деталь впечатлила Журова с первых дней – красота многих сотрудниц, особенно в подразделениях продаж. Прямо дом моделей какой-то! Их по внешности, что ли, подбирают?! Вопреки собственной натуре, несмотря на скуку своей семейной жизни с Галькой, что с высокой долей вероятности должно было подтолкнуть его на путь увлечений и удовольствий, Журов немедленно дал клятву на этой работе амурными приключениями и пьянством ничего себе не портить. Без срыва, конечно, не обошлось, но случился он за стенами компании… А так первые несколько лет он вообще ни с кем не выпивал и даже на выездных корпоративах не совершал попыток сблизиться с какой-нибудь соблазнительной коллегой, хоть и получал определенные сигналы. Любители выпить презирали его за воздержание – что-то не то с мужиком; перспективный женский пол поставил на нем крест – человек, судя по всем признакам, импотент или совсем уж примерный семьянин и конченый подкаблучник.
Только благодаря нехватке помещений Журову выпала счастливая карта сидеть в кабинете, предназначенном для первого заместителя, вакансия которого по неведомым причинам оставалась свободной. Из кабинета открывался великолепный вид на Москву-реку. После развода Журов перевез туда часть библиотеки, расставил фотографии, что создало атмосферу некой домашности… С недавних пор, когда Журов на одном из многолюдных корпоративов наконец отважился размочить алкогольное воздержание и сделал это ярко, в лучших традициях молодости, отношение коллег к нему стало меняться. А что, нормальный мужик, оказывается, свойский! И выпил со всеми, и на сцену вскарабкался, станцевал прикольно.
Одуревшие от работы, шума и суеты в своих опенспейсах сотрудницы как-то хором смекнули, что к Журову можно заглядывать на чай-кофе и заодно поболтать с ним в тишине и покое о всяком разном. Он искренне радовался любому визиту, был прилежным и неравнодушным слушателем, а в вопросах, касающихся мужчин, не раз выступал консультантом. Случалось, с пользой и по делу.
В офисе у лифта стояла Марина из маркетинговой службы, длинноногий ангел с чувственным ртом и блестящими глазами, по шкале Журова входящая в топ первых красавиц компании. Журов втянул живот, приосанился и расправил плечи.
– Здравствуйте, Борис, – поздоровалась она.
– Здравствуйте, Марина, – Журов отвесил легкий поклон и пропустил девушку вперед. – Это я по понятиям. Привык пропускать женщин вперед, – проворковал он, – а по этикету, вы же в курсе, да, что мужчина входит в лифт первым? Типа, если уж проваливаться в шахту, то ему.
Марина смотрела ему прямо в глаза. Складывалось впечатление, что она без труда читала его мысли: «Боже, какая фигура, какая грудь, глаза, губы».
– Знаете что, – неожиданно предложил он, – а не хотите ли выпить со мной кофе? У меня.
И вдруг она, так же как Ульяна много лет тому назад, тем же жестом положила руку ему на грудь и слегка постучала тонкими пальчиками:
– С удовольствием!
8
От разговора с Кароль Журов ожидал всего что угодно, готовился к уговорам, компромиссам, обсуждению вариантов, но что она грязно пошлет его, развернется и уйдет… Он сидел в оцепенении на скамейке Летнего сада и водил внезапно вспотевшими руками по идеально отутюженным белым брюкам, будто пытаясь разгладить стрелки. «Что такое на нее нашло? Как она могла поступить так со мной? Она вообще не ругается… матом в особенности… Неужели из-за моего отсутствия? Всего-то неделя, может, чуть больше… Мне же надо было подумать! Какая муха ее укусила?» Проблемы явно были в ней, он-то любит ее и собирается связать с ней жизнь. Чего она так разобиделась? Что ее не устроило? Ждать два-три года? Так надо было сказать! Судя по случившемуся, ему совсем не удалось донести свою мысль. Вероятно, стоит переждать день-другой, а потом еще раз встретиться и объяснить, разложить по полочкам преимущества своего плана.
…Кароль даже восхитили его цинизм и прагматизм. Он хотел договориться! И ни слова о любви! Предлагать женщине, которая вот-вот уезжает в другую, недоступную для него страну, жениться через три года, когда он каким-то мистическим образом окажется то ли в Бельгии, то ли в Швейцарии! А пока тайно приезжать к нему туристкой на случки! Какое счастье, что она первой не заговорила о женитьбе!
– Нет, мой дорогой Борис, приезжать к тебе я не буду! – кося глазами на его великолепный темно-синий блейзер, объявила Кароль. – Отнюдь не потому, что не смогу. Это-то как раз не проблема. Не захочу! Я сыта по горло твоим пьянством, эгоизмом, изворотливостью! Пошел ты на…
Журов встряхнулся наконец, поднялся со скамейки, несколько раз махнул руками от себя, словно стряхивая и отгоняя невидимый покров негатива. Первой мыслью было пойти домой, но, посмотрев на часы, он передумал и направился в сторону Невского, по Садовой мимо Михайловского сада. Перед «Баку» он замедлил шаг, но, поколебавшись, прошел мимо, прямиком в «Щель» «Метрополя». Там он взял двести граммов коньяка и бутерброд с икрой и огляделся в поиске места – свободно было только рядом с двумя пожилыми мужиками в мятых дешевых костюмах и в галстуках-селедках.
– Не возражаете? – спросил он и только тогда узнал Лифшица из «Вечерки». Тот был с главным редактором.
– Здравствуйте, молодой человек. Добро пожаловать к нашему огоньку!
– Ой, извините! Сразу и не узнал вас. Здравствуйте, Яков Самуилович! Я буквально на минутку! – Журов никуда не спешил, но пить коньяк рядом или вместе с Лифшицем в его планы никак не входило, поэтому он лихо опрокинул в себя стакан, в два присеста заглотил бутерброд и распрощался.
– Ты знаешь, кто этот юноша? – провожая его глазами, спросил Лифшиц.
– И кто же, позволь полюбопытствовать?
– Сын Толи Журова. Пару лет назад практику у нас проходил. С твоей, Миша, подачи.
– Весь в отца! Такой же пижон. Эх, пиджаки у этих Журовых роскошные!
На улице Журов закурил – сработала привычка хвататься за сигарету сразу после алкоголя. Двести граммов пока никак себя не проявляли. А хотелось бы! Проверил наличность – меньше десятки. Не густо, хватит на бутылку дешевого коньяка и шоколадку. С Витей? К Мише? В общежитие? А надо ли вообще к кому-то ехать? В четырех стенах сегодня не высидеть, что же тогда делать? Журов пересек Садовую и побрел в сторону Адмиралтейства. Как бы потушить пожар обиды, как бы придумать что-то такое, чтобы отвлечься от полученной оплеухи?
Решение пришло само собой – внимание привлекла высоченная девица, выбежавшая из телефонного автомата и скрывшаяся в ближайшем подъезде. Подняв глаза чуть выше, он прочитал небольшую вывеску: «Дом моделей». Опаньки, здесь же работает Ульяна! Может, пришло время?
Двушек в карманах не нашлось, но автомат не возражал против десятикопеечных. Ульяна была на месте.
– Красота моя неземная, привет! Это Борис Журов.
– Боренька, рада тебя слышать! Мне тут передали, что звонит мужчина с приятным низким голосом… А я-то голову ломаю!
– Можно я без лишних экивоков сразу к делу?
– Конечно!
– Есть планы на вечер?
– Пока нет. Хочешь предложить что-нибудь?
– Хочу. Во сколько ты освободишься?
– Могу через час.
– Жду тебя у входа! – и Журов немедленно положил трубку. Теперь предстояло сделать второй шаг, впрочем, план уже созрел. Телефонный автомат принял следующие десять копеек; на счастье Журова, трубку сразу взял его давнишний приятель Женя Нагайкин, бармен валютного бара в «Прибалтийской». Как скромно замечал Женя, на весь СССР валютных барменов было меньше, чем космонавтов. В «Прибалтийской» он мог всё.
– Старик, у меня к тебе просьба. Вернее, сразу две. Вторая не простая.
– Валяй!
– Посадишь вдвоем сегодня за уютный столик? Барышня. Просто улетная.
– Подружки есть?
– Есть-есть, целый Дом моделей. Но это потом!
– Сегодня только в гриле. Устроит?
– В гриле так в гриле! Следующий пункт повестки. Сможешь одолжить или договориться в долг? Дней на пять, не больше. Потом, сам знаешь, никого не обижу.
По жизни Женя был конченым страдальцем по части женского пола, при виде мало-мальски смазливой юбки совершенно терял голову, никаких тормозов! Сейчас речь шла о мужской солидарности, но помимо этого в качестве бонуса маячили пока неведомые, но прекрасные подружки новой знакомой Журова. А Журов заявлялся исключительно с красавицами.
– Сделаем. Пропуск закажу. Сначала загляни ко мне!
– Старик, не пожалеешь! Я твой должник!
При виде Ульяны Женька аж затрясся и немедленно предложил перед походом в гриль выпить у него в качестве аперитива коктейль-другой. Он угощает и приготовит на свой вкус. Четкими, отработанными движениями, играя бутылками и шейкером, он взболтал первый коктейль и вышел из-за стойки подать его. Журову с Ульяной пришлось развернуться на высоких табуретах. Бежевую кожаную курточку и новенькие джинсы не заметить было невозможно, а так Женька заодно продемонстрировал Ульяне умопомрачительные казаки на скошенном каблуке и с металлической пряжкой!
– Женя, ты просто шикарный! – не преминула она восхититься.
И без того румяные щечки Женьки зарделись еще ярче, привычным движением он провел руками по прическе, проверяя безукоризненность своего кока, как всегда тщательно уложенного волосок к волоску перед началом трудовой вахты. Эх, если бы только можно было накачать Журова до потери пульса и смыться с этой секс-богиней, затащить ее в койку на укромном флэте! С наскоку, без подготовки, надо признать, шансов ноль. Но при случае попытаться стоит. Он подарил Ульяне пачку More – вдруг у нее сигареты кончатся? – и вызвался лично посадить их в гриле. На прощанье он ткнулся влажными губами Ульяне в щеку, незаметно сунув ей в сумочку сложенную записочку с номером телефона.
– Как тебе мой Женька? – сделав заказ и по привычке совсем уж развалившись на стуле, спросил Журов. С такой же интонацией, вероятно, русский помещик в прошлом веке мог интересоваться мнением соседа об охотничьей собаке или, может, о ловкости мужика из своей деревеньки, скажем, кузнеца, споро подковавшего захромавшую кобылку.
– Хорош! Прямо эталонный бармен! Ты видел, как ловко он подсунул мне свой телефончик?
– Да что ты говоришь! Не заметил. Вот поганец! Позвонишь?
– А надо?
– Тебе решать!
– Похоже, Женя твой умом не блещет. Павлин… А с меня хватит всякого ушлого обслуживающего персонала… халдея только не хватало. Тебе никогда не говорили, что у тебя барские замашки, котик?
Журов довольно засмеялся.
– Ты первая! – и повторил чью-то реплику: – Эх, мне бы деревеньку душ эдак в двести!
С Ульяной было легко и интересно. Мысленно прокрутив их встречи, Журов вдруг подумал, как умело и непринужденно она оказывалась на одной волне с любым человеком, причем пустой болтовней общение с ней никак не назовешь! Даже с его отцом она умудрилась поговорить не о чем-нибудь, а о политике! И сейчас с неподдельным вниманием слушает его разглагольствования о будущей карьере, словно сговорившись с отцом, рассуждает о перспективах работы за рубежом… С такой женщиной можно далеко уйти!
Съели по шашлыку с зеленью, выпили бутылку «Мукузани». Журов заказал еще одну и вышел в туалет. Мысли были заняты Ульяной. Ведь ей и двадцати еще нет! От нее исходит такой сексуальный призыв, что теряешь голову. Красива, умна, элегантна, будущая художница! И явно присматривается к нему… Помыв руки, Журов внимательно посмотрел на свое отражение и мысленно поставил рядом Ульяну. Чего тут скромничать, блестящая пара! Ну что, в атаку? Он одернул свой блейзер, расстегнул еще одну пуговицу рубашки. Получалось почти до живота. Перебор. Застегнул обратно. У входа в ресторан он остановился и залюбовался Ульяной. Восхитительна! Пока Журов не сводил глаз с подруги, из-за одного из соседних столиков поднялся во всех отношениях – внешность, костюм, фигура – безукоризненный мужчина и подошел к ней. Чуть наклонившись, он произнес несколько слов с приятной улыбкой, Ульяна благосклонно рассмеялась, затем мужчина протянул ей визитку и с легким поклоном удалился. Она не без интереса повертела карточку в руках и спрятала в сумочку. Журов задумчиво постоял еще несколько минут. Спонтанно возникший план вышибить клин клином рухнул в одно мгновение. Кароль тоже была красива, правда, несколько иначе – ее красота благороднее и тоньше Ульяниной. Суть не в этом! К ней в ресторанах мужчины не подходили. Да она никогда бы ни с кем и не заговорила, пока Журов отливает в сортире, и уж точно не взяла бы никакую визитку. Кароль!
– Ты не представляешь, Ульяна, как все надоело! Как хочется в какой-нибудь стильный и по-настоящему красивый ресторан… где-нибудь на берегу моря.
– Ну, Боренька, ты даешь! Сидишь в одном из лучших ресторанов города… заметь, не последнего на этой планете. В современной красивой гостинице… между прочим, на берегу! Пусть и не совсем моря, а Финского залива. Вид из окон… вокруг сплошные иностранцы… И все тебе мало!
– Есть такое, – скромно вздохнул Журов и внутренне отключился от Ульяны, разом потеряв к ней вспыхнувший было интерес. Она что-то такое почувствовала, вида, разумеется, не подала и продолжала быть самим очарованием. На посошок заглянули поблагодарить труженика валютного фронта. Женька выразительно смотрел на Ульяну, настойчиво предлагал посидеть у него хоть до самого утра, когда кончится смена. А вдруг? Журов отказался, Ульяна и подавно, но пообещала заглянуть, и даже с подружками. Женька легко заглотил наживку и преисполнился надежд.
Без всякого сожаления и наспех расставшись с Ульяной у подъезда ее дома, Журов тут же бросился к телефонному автомату. Шел первый час ночи. Кароль бросила трубку. Тогда он поехал на Мойку, дверь она не открыла, как он ни ломился. Позабыв о всякой осторожности, он орал по-французски на улице, требуя, чтобы она немедленно спустилась или открыла дверь, пока какой-то мужик не высунулся в форточку: «Беги, Джо Дассен, жена милицию вызвала». Пришлось Журову шустро уносить ноги. Милицию он презирал меньше комитета, но тоже презирал, а еще боялся – служащие в ней необразованные пейзане и пролетарии, не разобравшись, что к чему, легко могли отбить гениталии такому трепетному интеллигенту, как он.
Когда Журов впервые вошел в Лабораторный корпус Кировского завода, где располагалась редакция газеты «Кировец», он мысленно в очередной раз проклял отца. Это ж надо было запихнуть единственного сына в такую дыру! Где-то в душе он все-таки рассчитывал на атмосферу, хоть отдаленно напоминающую Лениздат, чтобы по коридорам бегали журналисты с гранками в руках, сновали милые секретарши и корректорши. В Лениздате окна на Фонтанку, БДТ по соседству, «Щель» в «Метрополе» и другие прелести городского центра. До Мишиной мастерской – пять минут пешком! А тут?! Заводская проходная, унылый вид на проспект Стачек, за станцией метро – уродливые девятиэтажки, ближайший очаг цивилизованного пьянства – бар «Нептун» на улице Трефолева, а в окружении одни безнадежные неудачники. Впрочем, сближаться ни с кем в редакции Журов не собирался.
Но уже через неделю-другую он начал осознавать кое-какие преимущества своего распределения. Во-первых, должность литературного сотрудника не подразумевала высиживание в редакции от звонка до звонка. Более того, по большей части он сам мог распоряжаться своим временем, в задачу входило ежемесячно сдавать положенные объемы. Какая-никакая, а все-таки свобода! По прошествии времени он с удовольствием констатировал, что писать самому ему особо не требовалось, до поры до времени скрытый от человечества талант впустую не растрачивался, так, правил кое-какие никчемные статейки. В первую получку, как принято, Журов проставился, по количеству вина, водки и всевозможной закуси – больше положенного, но как-то не задалось в плане общения; ему было откровенно на всех наплевать. Сослуживцы ответили взаимностью, выпить выпили и закуску умяли, после чего потеряли к нему какой-либо интерес и с расспросами с той поры не лезли. Это был второй плюс. В-третьих, главный редактор, кстати, оказавшийся приличным мужиком, как-то правильно поговорил с ним, намекнув, что хоть и не строит особых планов на Журова, но где надо – поможет. Нет резона ему здесь задерживаться, а вот освоить азы ремесла и идти вперед, в смысле, наверх, было бы вполне разумно. Журов решил, что редактор у него в кармане! Самым, пожалуй, неожиданным, совсем уж незначительным на первый взгляд плюсом оказалось приятельство с несговорчивым коммунистом Солдатовым! Случайно столкнувшись с ним на заводской проходной, Журов вдруг обрадовался, как будто встретил близкого друга, чего совсем от себя не ожидал – после знаменательной пьянки с рабочим он вообще позабыл о его существовании! А тут уверенно и с обоюдным желанием договорились «повторить подвиг» и в получку накатить пивка в известном заведении. Казалось бы, абсурдная идея – что может быть общего у приближающегося к полтиннику семейного работяги и только закончившего университет молодого сноба, беспорядочно прыгающего от одной женщины к другой? Однако по неведомым причинам в назначенный день они встретились, залили пиво принесенной с собой водкой, и с тех пор у них вошло в привычку раз в месяц ершить в «Нептуне». И темы для разговоров находились, и не скучали!
О Кароль Журов старался не думать. Когда же это случалось, в душе немедленно начинала саднить глухая досада и раздражение на судьбу – как так получилось, что он навсегда потерял ее, такую умную, нежную, стильную… И безвозвратно упустил шанс на иную жизнь, причем дело отнюдь не в возможном отъезде во Францию, а во внутреннем содержании, в настройках отношений между мужчиной и женщиной. Он ни секунды не сомневался, что до определенного момента Кароль хотела выйти за него замуж. Тем больше его злило нежелание бывшей возлюбленной в самый ответственный момент понять его. Почему она, всегда такая чуткая, внимательная и отзывчивая, вдруг проявила такое упрямство, тупость какую-то, и не то что не вникла в его план, а послала его! Затмение? Он же готов был ради нее не возвращаться на родину! (В мыслях Журов практически всегда видел себя в корпункте в Швейцарии или во Франции!) Или все-таки она использовала его, а во Франции он изначально стал бы ей обузой? Верилось с трудом, на Кароль это не было похоже, но такой вариант, по крайней мере, объяснял ее категоричность, правда, не освобождал от зуда на сердце, что прошел он мимо своей идеальной женщины.
Следуя единственному понятному сценарию излечения от любовного недуга, Журов сделал попытку вытеснить француженку Иркой, которая, на первый взгляд, по всем своим чудесным параметрам идеально подходила для успешного осуществления оздоровительной функции – влюблена в него по уши, задорна и переполнена радостью жизни. Выдержав небольшой санитарный перерыв, необходимый для полноты осознания своей потери, он с энтузиазмом закрутил новый роман. Ирка откликнулась всем своим чистым сердцем.
Поначалу все очень даже удачно складывалось. Осень выдалась мягкой, и, пока не похолодало и не пошли затяжные дожди, Журов встречал Ирку после занятий, они гуляли по городу, ворошили ногами опавшую листву в парках, иногда он затаскивал ее в рюмочные на Моховой или Восстания, где она терпеливо и безропотно ждала, пока он не раздавит свои двести-триста граммов. Потом он провожал ее до дома, изредка поднимался наверх почаевничать с Ларисой Дмитриевной. Случалось, Лариса Дмитриевна выставляла коньяк, тогда, по понятной причине, Журов задерживался. Ирка всегда стеснялась матери, уж очень бросалась в глаза ее торговая хватка. Но главная беда заключалась в другом – уже после второй-третьей рюмки мать с хитрым видом заводила одну и ту же волынку о планах Бореньки на жизнь, давала бестолковые советы. А как-то вообще совсем кондово ляпнула, безусловно имея в виду Ирку, что журналисту, да и любому человеку, планирующему ехать в зарубежную командировку, в обязательном порядке требуется жениться на девушке с безукоризненными анкетными данными. Иначе не выпустят. Пока мамаша умничала на эту тему, Ирка следила за реакцией Журова. Тот буквально вошел в ступор, словно сам не догадывался об этой очевидной истине – кто ж выпустит холостого! – и полностью выпал из разговора, о чем-то хмуро призадумавшись.
Намеки намеками, а оставлять Журова на ночь мать категорически не позволяла, ее дочь – порядочная девушка! Вот поженитесь, заявляла она, тогда и спите вместе, где угодно и сколько хотите! Такое ханжество было отвратительно, мать не понимает, что они уже давно?!
И совсем уж неожиданная проблема прилетела от младшей сестры Маринки, втюрившейся в Журова. Стоило тому переступить порог, как она приставала к нему как банный лист, ни на секунду не оставляя их наедине, и никак ее не прогонишь. Если ситуация с Маринкой Журова веселила, то вот задушевные беседы с неуемной Ларисой Дмитриевной его тяготили.
К себе Журов приводил Ирку крайне редко. Причем, несмотря на безоговорочное благоволение к ней со стороны Марго, всегда подгадывал, чтобы тети не оказалось дома. Видимо, опасался их дальнейшего сближения, опережающего развитие его собственных отношений. По дороге домой он покупал бутылку сухого, войдя в квартиру, стремительно разливал вино по бокалам, включал Генсбура и без особых прелюдий валил Ирку на диван. Трудно насытиться любимым человеком за месяц, два или три, поэтому Ирка особенно не возражала и не шибко задумывалась, почему любимый, стоит появиться Марго, делает не совсем явные, но заметные попытки помешать их общению.
Каким-то непостижимым образом Ирка с определенного момента точно знала, что соперниц у нее нет, однако упорно хотела получить тому свидетельство. Витя Смирнов, узнав в свое время о ее подработках в «Интуристе», предложил ей в тех случаях, когда позарез нужны деньги, принимать оптом всякую мелочевку, которую туристы имеют привычку дарить в знак благодарности, в первую очередь сигареты. Вспомнив об этом, Ирка схватила блок любимого «Салема» из своих запасов, самым тщательным образом скрываемых от матери и Маринки, и понеслась на встречу с Витей. Неужели она не сумеет вытянуть из словоохотливого жулика интересующие ее сведения, в первую очередь о той французской сучке? Своими же глазами видела!
Витя пришел с цветами! В костюме и в галстуке! И пригласил ее пообедать в кафе «Север»! Ирка изумилась. Не велика тайна, что деньги у него водятся, но ради навара пятерки, максимум десятки, приглашать на обед? Еще и на букет раскошеливаться? Как пить дать хочет втянуть ее в какую-нибудь валютную аферу. Ну уж нет! Напрасно только потратится! Ирка чуть не забыла об основной цели встречи и приготовилась немедленно отшить его, лишь только он коснется валюты. Витя блистал остроумием и к опасной теме не приближался. В какой-то момент Ирку осенило, что он за ней приударяет. Неужели надеется, что она вот так вот может, за спиной Журова? Ирка разозлилась и открыла рот, чтобы поставить наглеца на место, как вдруг подумала, что это от одиночества. Возможно, даже комплексов. Остроумный, щедрый Витя стесняется своей внешности и полноты, на самом деле он застенчив с женщинами! От этого предположения Иркина злость немедленно улетучилась. Ладно, подумала она, от меня не убудет, пусть человек пофлиртует. Однако долго придуриваться она не умела и внезапно выпалила, перебив Витю на полуслове:
– Вить, я Журова люблю.
Ей показалось, что по его лицу пробежала тень, а может, все-таки показалось. На лице улыбка осталась, но исчезла из Витиных глаз.
– Зачем ты мне это сообщаешь?
– Не знаю, – пожала плечами Ирка, – наверное, просто так… Впрочем, я давно хотела тебя спросить об одной вещи, и буду тебе признательна, если ты скажешь мне правду.
– Валяй!
– Говорят, у него был роман с какой-то француженкой? – спросила она, уверенная, что задает вопрос с равнодушным видом.
– Ну был. И сплыл. Она собрала свои чемоданы и – уехала.
– Значит, у него сейчас никого, кроме меня, нет? Если можешь ответить без всякой там мужской солидарности, ответь. Мне важно знать.
– Тебе нечего беспокоиться.
– А он ее очень любил?
Витя задумался, взвешивая в уме не только ответ, но и саму необходимость произносить его вслух, потом отвел глаза и через силу, отчетливо, чуть ли не по слогам произнес:
– Никого он не любил. И не любит. Возможно, хочет, но не может. Не дано! Нет у него такого гена – любви.
Напрасно Ирка не оценила серьезность Витиного заявления, напрасно не придала значения его словам и не задумалась, почему ответ стоил ему усилий. Главное, что ее Боренька никого до нее не любил! Она не смогла удержаться от смеха, накрыла ладонью Витину руку и уверенно изрекла:
– Меня полюбит! Вот увидишь!
Витя давно совладал с собой и вновь лучился дружелюбием и готовностью хохмить, поэтому то ли в шутку, то ли всерьез немедленно согласился с Иркой – как можно не полюбить такую конфетку! Ирка же преисполнилась надежд и энтузиазма, к Вите испытывала безоговорочную благодарность за ценную информацию и подтверждение ее чаяний, поэтому и виду не подала, когда на прощание, словно по случайности, он промахнулся мимо щеки и попал ей в губы, одновременно успев погладить по попе. Ну что поделать с человеком!
Ирку распирало от счастья, образовавшаяся в ней энергия требовала выхода. Обгоняя прохожих, смеясь, улыбаясь налево и направо, она вихрем промчалась по Невскому, затем по Старо-Невскому до гостиницы «Москва», где, махнув на входе интуристовским удостоверением, ворвалась в буфет. Двести граммов шампанского и никаких там конфеток или бутербродов! Лишь расположившись за столиком и изрядно отпив, она сумела как-то упорядочить свои мысли. Ее счастье зависит только от нее. А значит, ей достаточно оставаться самой собой – веселой, привлекательной, любящей, нежной и, что очень важно, ненавязчивой! Так проще же простого! Она же такая по жизни! «Будет, будет моим», – шептала она, всем своим существом посылая сигнал в Космос, чтобы оттуда неведомые высшие силы материализовали здесь, на Земле, ее посыл.
Непонятно, услышал ее Космос со своими высшими силами или не услышал, но Журов, как по заказу, со следующего дня исчез почти на две недели. А потом объявился как ни в чем не бывало, но слегка помятый, объяснил, что решал неотложные дела с Витей. В тот раз Ирка подумала, что Витя затаил на нее обиду за преданность любимому и специально втянул того в затяжной загул. Устроил демонстрацию, что кабаки для Журова важнее чувств! Глупо же, и неужели Витя такая сволочь?!
Неделю-другую все шло по-старому, затем Журов снова пропал. Ирка не стала откладывать и через два дня позвонила Вите, чтобы все высказать этому жирному алкоголику. Витя был дома, трезв и отзывчив, исчезновение Журова из Иркиного поля зрения стало неожиданностью и для него. Он сам не на шутку забеспокоился, Ирка почувствовала, что не врет. Если Журов где-то и гуляет, то не с Витей!
Дождавшись вечера и наплевав на неминуемый скандал с Ларисой Дмитриевной, Ирка в полном смятении заявилась к Журову домой. Он ничем не выказал удивления и, она могла бы поклясться, обрадовался ее приходу.
– Игнат, я соскучилась! – отчаянно объявила она с порога и решительно вошла в квартиру.
После ночи из запоминающихся надолго – так было хорошо, синхронно, насыщенно нежностью и любовью, – утром, когда они вышли на улицу, в одно мгновение возникло тяжелейшее напряжение, исходившее от Журова. Ирка даже вздрогнула. Им было не по пути: ей на троллейбус, ему – на метро. На прощанье он дежурно чмокнул ее в щеку и угрюмо попросил понять его правильно и больше не сваливаться к нему домой как снег на голову – ни он, ни Марго к этому еще не готовы.
– Так что будь добра, прелесть моя, звонить заранее.
Ирка вспыхнула, как от пощечины. Нельзя было сказать как-то иначе и в другой раз? Оставить ее хоть на какое-то время с ее полным и безоговорочным счастьем? По справедливости, надо его немедленно посылать и больше никогда в жизни не видеть. Но как?! Не проронив ни слова, она пошла на занятия. Конечно, такую незаслуженную обиду проще было бы переварить, а если не переварить, то хотя бы осмыслить, «за что ей так», дома, но там ждала Лариса Дмитриевна, а Ирке сейчас только ее причитаний не хватало.
Нужно быть дурой, чтобы с таким грузом отчаяния идти на первую пару. Ирка взяла двойной кофе у Тамары и пошла курить в «Наркоманку». Заодно всплакнуть. Жалко себя невыносимо. Равнодушный, бессердечный, самовлюбленный… гад! Как бы отплатить ему, но чтобы не поссориться? Пока прикидывала как, слезу пустить забыла. Тогда, может, поплачет ночью. Тем более что еще и от матери прилетит: будет сразу два повода. А потом воспоминания о прошедшей ночи направили ход Иркиных раздумий в иное русло. И что на нее нашло? С какой безудержной, из каких только глубин взявшейся фантазией, с каким бесстыдством, нет, не бесстыдством, а раскованностью она отдавалась! Составители Камасутры оценили бы… Такое никак не получится без любви и страстного обоюдного желания! Значит, Журов все-таки ее любит, только не говорит. Получается, он еще совсем «не ее», напрасно она надеялась. Нужно ждать, терпеть и продолжать добиваться своего. Он просто не может смириться с потерей свободы! Поэтому и исчезает, хочет показать свою независимость. Да-да, он, как и все мужчины, цепляется за эту пресловутую независимость и элементарно еще не готов к длительным отношениям! Так ведь он так и сказал буквально час назад! Конечно, грубо… мог бы подыскать какие-нибудь другие, не столь ранящие слова. Но зато честно. Ему еще хочется порезвиться. А ей не стоит навязываться, но надо быть всегда рядом, чтобы ни о какой другой женщине он и подумать не посмел! А то она ему отрежет все его мужское хозяйство. Ирка разулыбалась при этой мысли. А когда представила, как Маргарита Александровна не могла уснуть от их стонов – наверняка ведь многое было слышно, и что только та подумала о девушке племянника, скромной студентке филфака, – стремительно покраснела, а потом не удержалась и тихо рассмеялась. Ну уж нет, теперь она сама к Журову ни ногой. «Какой стыд», – без всякого стыда пробормотала Ирка и, как-то в целом успокоившись – ясно ей все про него! – пошла на вторую пару.
9
Есть люди, которые не могут нормально существовать, когда все у них хорошо, им обязательно подавай препятствия и сложности, чтобы героически их преодолевать или хотя бы находиться в процессе борьбы. Именно к этой категории борцов-героев, сам об этом не догадываясь, принадлежал Журов. И дело не в том, что Кароль была красивее или сексуальнее Ирки и его сердце по-прежнему принадлежало ей, а в том, что с Иркой все складывалось совсем уж благополучно. Уже через неделю-вторую после каждого перемирия он скучнел, начинал тяготиться монотонностью отношений, желание и чувства к ней стремительно меркли. «Выходит, полюбить не получается», – без особого сожаления заключал он и, не откладывая надолго, либо уходил в загул, либо незатейливо исчезал со всех радаров, переставая звонить и подходить к телефону, перед этим строжайше наказав Марго, что его вообще ни для кого не существует. Нередко после очередного похода в ресторан или в бар он просыпался черт-те где в объятиях совершенно непотребных девиц, как следствие – с Витиной подачи у него появился свой постоянный врач в вендиспансере. Сам Витя не болел, возможно, в душе был бы и рад, как грубо говорится в народе, намотать, да вот случая не представлялось. Не складывалось у него с прекрасным полом! Но ежемесячно, с видом вконец утомленного бабами мачо, он заглядывал провериться к своему врачу в диспансере. Это стоило ему пятерку, зато хоть один человек в городе имел основания полагать, что Витя ведет бурную половую жизнь.
Журов же, залечив очередную гонорею, одновременно прочистившись от алкоголя – как известно, лечение стыдных болезней и возлияния никак не совместимы, – без особых угрызений совести набирал Иркин номер. Ирка ничего не могла с собой поделать и прощала его. Вот и получалось, хотел он того или нет, осознанно или бессознательно, а надежный тыл на любовном фронте всегда ему был обеспечен.
Следующей осенью произошло сразу несколько важных событий. Сначала Журова, ожидаемо для него и незаслуженно с точки зрения коллег, назначили ответственным секретарем редакции. Вслед за повышением состоялась лаконичная и убедительная беседа со вторым секретарем парторганизации Кировского завода, и Журов, отбросив свои непоколебимые убеждения, стал кандидатом в члены КПСС. Товарищей впечатлило, что помимо главного редактора газеты вторую рекомендацию дал заслуженный рабочий и уважаемый на заводе человек – Евгений Солдатов. Анатолий Александрович был на седьмом небе от счастья, словно и не он ковал карьеру сына. И Витя Смирнов довольно потирал руки, так как был уверен, что серьезные деньги в стране рабочих и крестьян можно зарабатывать только во власти или в тесном контакте с оной, а его закадычный кореш Боб прет туда семимильными шагами.
Неприятным же событием стал внезапный отъезд в Мавританию проверенных временем подельников Идриса и Хусейна. То ли не сложилось с аспирантурой, то ли влиятельная родня неожиданно изменила на них планы. В испытанной временем цепочке образовались сразу две бреши: где безопасно брать валюту и кому физически совершать покупку в «Березке». По-хорошему, от бизнеса следовало отказаться. Но как? На что жить? Пару раз, умирая от страха, провернули схему через польских студентов, знакомцев Журова по университетским дискотекам, но это никуда не годилось. Во-первых, братья по соцлагерю жадничали и требовали за участие сверх разумного, во-вторых, этот самый соцлагерь был написан у них на физиономиях, поэтому вопросы к ним рано или поздно у «кого надо» возникнут, в-третьих, в силу юного возраста пшеки излишне суетились и много болтали. Надо было что-то решать.
Перед самым Новым годом Журову выпала командировка в Москву. Задание было пустяковым, понятно, что редактор хотел сэкономить на гостинице. Бухгалтерию не волновали даты билетов – держи командировочные в зубы и крутись как хочешь, – поэтому Журов тут же прихватил субботу с воскресеньем, а заодно доплатил до СВ. Уж если ехать, то с комфортом! От перспективы поездки в первопрестольную он вдруг почувствовал легкое возбуждение. То, что придется останавливаться у отца, в кои-то веки не воспринималось как препятствие и совсем не бесило.
Люди, перемещающиеся на «Красной стреле» из Москвы в Ленинград и обратно, словно отмечены какой-то печатью принадлежности к особой касте жителей СССР. И одеты они всегда лучше, и суетятся меньше, и многих встречают прямо у вагонов опрятные и расторопные водители «Волг». Разумеется, Журов ни о какой ожидающей его «Волге» не думал и прямиком через Ленинградский вокзал направился к стоянке такси. Все у него впереди, будут и его встречать преданные референты и услужливо подносить чемоданы!
Поймать частника, так же как дождаться такси на стоянке у трех вокзалов, было сродни чуду. Журов, что редко с ним случалось, кипятиться по этому поводу не стал и с легким сердцем вошел в метро – ехать-то всего три станции! В вестибюле его сразу подхватила толпа и медленно всосала в направлении эскалатора. Как-то раньше он не обращал внимания, что москвичи не идут, а стремительно скатываются вниз в борьбе за каждый метр преимущества, вместо того чтобы спокойно стоять, как это делают ленинградцы. Мало того, напротив такой же сплошной вереницей люди идут по эскалатору вверх! Если спускающихся вниз понять еще как-то можно, то что кроме усталости и одышки могут выиграть поднимающиеся? Журов снисходительно наблюдал за жизнью утреннего столичного метро, и даже необходимость с боем втискиваться в вагон – удалось только с третьей попытки – не испортила ему настроения. Выйдя на «Белорусской», он с облегчением вздохнул – ноги его больше в метро не будет – и уже через несколько минут набирал код подъезда солидного сталинского дома на углу Горького и Большой Грузинской.
Отец ждал его в дверях, он опаздывал на съемку «Международной панорамы». В свои под шестьдесят он выглядел потрясающе, был свеж, элегантен, сверкал улыбкой и благоухал дорогим афтершейвом – других в его арсенале и не бывало.
– Добро пожаловать в отчий дом, сын! Рад видеть тебя! Держи ключи, с замками сам разберешься, мы новые поставили. Располагайся, отдыхай с дороги! Светлана на даче, Варя уехала на праздники к родным в деревню, холодильник забит всякими вкусностями. Придется нам с тобой холостяковать, зато на широкую ногу! Все, убегаю! Дозвонись до меня обязательно, обсудим планы!
Известие, что молодая жена на даче, не могло не обрадовать: не придется хамить по поводу и без повода, как не раз случалось. Возможно, она набралась хоть какого-то умишка и, узнав, что пожалует пасынок, благоразумно ретировалась… Жаль только, старая домработница семьи, тетя Варя, уехала… Придется обойтись без любимых с детства блюд и чаепитий за разговорами о житейских мелочах.
Журов медленно, с опасением вошел в свою комнату, огляделся. Уф, все по-старому, здесь Светка порядок не наводила! Всё на своих местах: и исцарапанный циркулем письменный стол у окна, и диван, и тумбы с уже устаревшей аппаратурой, а главное, сделанный на заказ открытый стеллаж на всю стену, беспорядочно забитый книгами! Какое все родное, как греют душу обложки, к которым привык с детства, – оранжевый Майн Рид, зеленый Фенимор Купер… практически вся русская и зарубежная классика, Ожегов, Даль, вперемежку с томами макулатурной серии. А в любое свободное пространство втиснуты номера «Иностранки» и «Нового мира». Журов обожал этот завал! А на книгах с краешка обязательно должно быть немножко пыли. Без пыли никак, потому что тряпкой туда не дотянуться даже тете Варе во время уборки – для этого пришлось бы доставать каждую книгу. «У меня в квартире обязательно будет открытый книжный стеллаж, большой-большой, и никакого стекла!» Журов считал, что порядок в книгах, когда они аккуратно и по размеру расставлены на полках, да еще и за стеклом, бывает лишь у скучных, заурядных и мало читающих людей. Он-то натура творческая.
Быстро управившись с редакционным заданием, Журов еще до вечера вернулся домой. Отец задерживался – неотложные дела в Останкино. Приехать в Москву и сидеть дома? Журов задумался, кому бы позвонить, с кем бы встретиться… решил, кто ближе живет. И не ошибся: совсем рядом, всего через два дома, закадычный друг по летним каникулам, сын замминистра сельского хозяйства, пьяница, балбес и любитель анекдотов собирал компанию на чешское пиво с креветками.
– Ты представляешь, Жур, дают прямо в соседнем магазине! Прихвати бутылок десять!
Эх, Москва, Москва! В Ленинграде ни креветок, ни чешского пива так запросто не дают. Закаленный экзерсисами с коммунистом Солдатовым, Журов к коробке пива прихватил еще и пару водки. Когда она была лишней?
Журов выглядел самым не золотым из собравшихся – так, по крайней мере, он себя ощущал. Все пришедшие были одинаково, ну, с небольшими вариациями, одеты, прямо как сборная СССР на Олимпийских играх – дорогие меховые шапки, добротные дубленки, джинсы, высокие сапоги. Впечатление, что покупалось все в одних и тех же распределителях, скорее всего, так и было. С кем-то Журов корешил давно, кого-то видел впервые. Разговор шел сумбурный, бестолковый, но назвать его глупым язык не поворачивался. Основным раздражителем и объектом для неиссякаемого сарказма служил не столько пришедший к власти Андропов, сколько принятые при нем меры по наведению порядка и дисциплины в стране. Повсюду шастали получившие беспрецедентную власть менты, сажали одного за другим работников торговли и общепита, кошмарили простых людей так, что и на улицу днем не выйти, требовали, чтобы зрители кинотеатров или покупатели в магазинах немедленно возвращались на рабочие места. А когда, как не в рабочее время, рыскать нашему человеку в поисках дефицита?
Атмосфера неспешного застолья резко изменилась, когда пришла новая барышня. Все звали ее Ксюха, но с каким-то особым пиететом. Девушка была коротко подстрижена, невысока ростом, сероглаза, очень мила собой и чем-то походила на симпатичного олененка. Говорила она с приятной хрипотцой и прямо с порога начала отчаянно материться, но из ее уст мат звучал на удивление симпатично и уместно. Юмора она была сногсшибательного, не прошло и пяти минут, как комната сотрясалась от гогота. Когда кончилось пиво, Журов поразился, с какой лихостью олененок глотает водку.
Журов говорил мало, по большей части тихо посмеивался. Иногда он ловил на себе изучающий Ксюхин взгляд, ему казалось, что смотрела она на него благосклонно, видимо, ввиду его немногословия. За вечер он выдал лишь несколько реплик, когда от дураков и дорог на родине вдруг перешли к спору о музыке. Надо было немедленно разобраться, чей вклад весомее – «Битлз» или «Роллинг Стоунз». Журов отказался от этой ребячьей затеи, а на чей-то вопрос, кого же он больше любит, сдержанно ответил, что Сержа Генсбура. Никому из присутствующих имя француза ни о чем не говорило, но прозвучало солидно и как-то по-эстетски.
После двенадцати все разом засобирались. Надо успеть на метро. Пока прощались, выяснилось, что Ксюха все-таки умудрилась набраться, отпускать ее одну в таком состоянии было стремно. Надо вызывать такси. «В метро меня уж точно не пустят», – лучезарно улыбаясь, сообщила она. Журову бы уйти вместе со всеми, но по просьбе хозяина он задержался, чтобы посадить пьяную барышню в машину.
– Тебе же до дома два шага… и все равно на улицу. И смысл мне выползать на мороз? Будь другом, запихни ее в машину… Только обязательно предупреди водилу, чтоб довез прям до дверей, датая, она всякое может отчебучить…
– Не вопрос.
Битые полчаса по очереди – дай я, у меня рука легкая! – остервенело крутили диск телефона в попытках дозвониться до такси. Напрасно потратили время. Наконец, к нескрываемому облегчению хозяина, Журов решил ловить тачку на улице. Не успели выйти на Горького, как Ксюха с пьяной категоричностью заявила, что ей надо в туалет.
– Тебе плохо?
– Нет, пописать.
Журов раздраженно посмотрел на нее, не могла, что ли, перед выходом сбегать? Возвращаться обратно? Плохая ж примета!
– Пошли ко мне, я в двух шагах живу. Дотерпишь?
Не дожидаясь согласия, он крепко взял девушку за руку и быстро зашагал в сторону дома, буквально волоча ее за собой. Как собачку на поводке.
Судя по тому, что на звук хлопнувшей двери отец вышел в костюме, вернулся он совсем недавно и не успел еще переодеться.
– Отец, мы только на минутку и тут же пойдем. Надо вот барышню на такси посадить.
Ксюха, увидев Журова-старшего, сделала удивленное лицо и чуть тихо пробормотала:
– Прямо-таки ночной повтор программы «Время». Только на дому, – и уже громко и весело: – Добрый вечер, извините за вторжение!
Выйдя из туалета, она как-то сразу преобразилась, как-то подобралась, так что нипочем не догадаться, что еще полчаса назад была совсем никакой.
– А может, на дорожку по рюмочке? – игриво предложил Анатолий Александрович.
– Мы вообще-то спешим.
– С огромным удовольствием! – заявила Ксюха и шустро скинула сапоги, которые совсем недавно с колоссальным усилием всем кагалом на нее натягивали под ее смешки и фривольные комментарии.
Отец широким жестом пригласил Ксюху в гостиную и тут же открыл дверцу стенного бара, плотно заставленного нарядными бутылками.
– Ликер, бальзам, виски, коньяк? – любезно осклабился он.
Светски улыбаясь, обращаясь то к отцу, то к сыну за подтверждением своих слов, Ксюха поинтересовалась:
– А водки у вас случайно не найдется? А то мы из гостей, где именно ее, родную, и давили. Причем на пиво, – зачем-то добавила она. – Мешать не хотелось бы… Все-таки завтра на работу.
У Журова-старшего вытянулось лицо, вот еще одно подтверждение, что сын общается черт-те с кем. И как ему хватает наглости приводить среди ночи столь непотребную девицу. Но марку держать надо, поэтому так же журчаще и не моргнув глазом ответил:
– Какой же русский дом без водки! Сейчас принесу. Заодно посмотрю в холодильнике, что нам женщины на закуску оставили. А то мы тут собрались холостяковать несколько дней, – зачем-то пояснил он.
Ксюха продолжила в лучших традициях светского раута:
– Не беспокойтесь! Что вы! Одну рюмку можно махнуть и без закуси.
Отец затравленно посмотрел куда-то в сторону в пол, однако, когда она предложила помочь, почему-то не отказался и жестом пригласил с собой на кухню.
Если вначале Журов был зол что на отца, что на Ксюху, то сейчас откровенно кайфовал. Сцена – что надо!
На кухне под открытой форточкой на подоконнике Анатолий Александрович обнаружил кастрюлю щей с мясом. Видимо, в холодильник никак не помещалась.
– Вы знаете, милая барышня, я очень люблю так вот по-крестьянски, по-простому закусывать водку холодной отварной говядиной. Варя, наша домработница, щи приготовила перед отъездом. Впрочем, какая она домработница? Давным-давно член семьи! Если я просто выложу мясо на тарелку и нарежу, как вы на это смотрите?
– Совсем как мой папа. Валяйте! Только он любит еще в соль макать.
Журов-старший опять слегка вздрогнул – чудовищная девица, – но все-таки полюбопытствовал:
– И кто же наш папа?
Ксюха нехотя бросила:
– Василий Гаврилович Игнатов.
– Уж не тот ли Василий Игнатов, который…
Ксюха не дала ему произнести должность родителя и устало отрубила:
– Тот самый.
Теперь преобразился Анатолий Александрович. Отныне его лицо выражало полную, прямо-таки неистовую симпатию. Это же дочь человека, от которого зависит вся внешняя торговля СССР! Член ЦК, умница, интеллектуал, а не какой-нибудь старый пердун! Это же высшая элита! Надо же, какая простая, остроумная и оригинальная девушка! Что же Борька не предупредил-то?! Он заметался по кухне, выгружая из холодильника на стол свертки, мисочки и кастрюльки с различными доступными и малодоступными деликатесами и блюдами. В результате возникло затруднение, как все это изобилие рационально переместить в гостиную. Ксюха с интересом наблюдала за ним и пальцем не шевелила. Наконец ей прискучило лицезреть хозяйственную беспомощность обозревателя Гостелерадио СССР, и она предложила:
– Анатолий…
– Александрович.
– Анатолий Александрович! А зачем нам все это хозяйство в гостиную переть? Может, выпьем, как вы говорите, по-крестьянски, по-простому прямо на кухне?
– Конечно же, вы правы, Ксения! – Журов взял себя в руки. Да, дочь Игнатова, но ведь он тоже не последний человек в этой стране. Чего это он так расчувствовался из-за какой-то соплячки? – Борис, – громко позвал он, – Иди к нам, мы тебя здесь ждем!
После третьей рюмки, когда все разом закурили, Ксюха, сделав первую же затяжку, снова поплыла, причем стремительно. Журов-старший всплеснул руками:
– Ксюша, вы же пьяны в стельку!
– В говно, – сквозь наплывающую пелену обреченно согласилась она. – Пока я совсем не отрубилась, Боря, отвези меня, если тебе не впадлу, в Лёнькин дом на Кутузовском… Третий подъезд со двора.
– Куда-куда? Какой номер дома? – забеспокоился младший Журов.
– Осмелюсь предположить, что наша очаровательная гостья имеет в виду дом Брежнева. Сейчас вызову такси, любой водитель в Москве знает, о каком доме идет речь, – ответил Журов-отец. Вот уж у кого была легкая рука – машина ждала уже через десять минут!
Журов довез Ксюху до подъезда ее знаменитого дома, убедился, что она в состоянии самостоятельно перемещаться и ориентироваться в пространстве, слегка подтолкнул ее в сторону двери, шумно и с облегчением выдохнул и поехал назад на той же машине.
Приподнятое расположение духа уже который день не покидало Журова. Поговорить с отцом накануне не получилось, поэтому сегодня они договорились пообедать в «Арагви». Оба любили грузинскую кухню.
Рано проснувшись и позавтракав, Журов который час без дела слонялся по квартире. Чтобы не испортить настроение, в бывшую спальню родителей не заходил – мало ли чего там наворотила Светка. Он то включал телевизор в гостиной, то хватался за старые журналы у себя в комнате. Когда зазвонил телефон, подходить к нему он не собирался, но, подумав, что это может быть отец, все-таки трубку взял.
– Боря? – спросил чуть хриплый женский голос.
– Угу.
– Привет! Это Ксюша.
Он же не давал ей вчера телефона!
– Привет-привет! Откуда у тебя мой номер?
– Не будь дураком! Мы же пиво с водкой вчера не под елочкой мешали!
– Да, ты права. Как ты? Оклемалась?
– Куда ж я денусь! Особенно с такой работой. Послушай, у меня очень мало времени, тут перерыв всего на пять минут. Вчера я хоть и вырубилась, но помню много. Спасибо, что терпел меня, что до дома подвез. И папе твоему спасибо! Считай, что в знак благодарности хочу пригласить тебя на ужин. Сегодня. Сразу предупреждаю, что готовлю вкусно. Запиши адрес и телефон. Если что-то не так, позвони, чтоб я зря не заморачивалась. Жду к восьми. Папе приветы!
Вот так неожиданность! Вообще-то после встречи с отцом Журов собирался слегка покуролесить по столице. Пятница же! Чинно ужинать с малознакомой барышней у нее дома в планы не входило, даже если после ужина светили бы амурные перспективы. Скучно как-то. Без размаха. Однако как запасной вариант принимается.
– В «Арагви» – обязательно цыпленок-табака. Так вкусно, как здесь, я не ел даже в Грузии! Нет возражений?
– Отец, заказывай, что хочешь! Цыпленок-табака так цыпленок-табака, тем более ты хвалишь.
Журов-старший подозвал официанта и уверенно продиктовал заказ. Без высокомерия, дружелюбно, но без панибратства. Не успели принести закуски, как он, словно опасаясь, что другой возможности поговорить с сыном не будет, сразу приступил к главному. Как и большинство любящих родителей – а Анатолий Александрович сына безусловно любил, – он желал ему достигнуть максимально возможных высот по известному и испытанному лично им и его поколением сценарию. Сам-то он, по своему твердому убеждению, достиг потолка – деньги, известность, зарубежные командировки, некоторая творческая свобода, которая позволяется очень немногим. Желательно, чтобы и сын поднялся на тот же уровень, никак не ниже. Выше – уже номенклатура ЦК, а там карьера делается по иным законам. И ответственность там совсем иная. На первый взгляд, все у сына идет правильно и хорошими темпами. Однако без серьезных публикаций хотя бы в «Ленинградской правде» или «Вечерке» далеко не уйти, тем более уж не попасть в зарубежный корпункт, работа в котором, по задуманному плану, должна стать входным билетом в клуб международников. Хватит валять дурака, говорил Журов-старший, способности у тебя есть. Один твой материал о пьянстве чего стоит! Пора писать, заявлять о себе, привлекать внимание, и уж совсем пора становиться журналистом, а не администратором!
В душе Журов понимал, что отец прав, но было бесконечно лень. И немедленно доказывать что-то и кому-то он не спешил. Надо будет – напишет. Он же чувствует, что может. Какие точные слова, иногда просто готовые абзацы порою приходят ему в голову! Но писать серьезно, а не отписываться, как он делает сейчас, о реалиях Кировского завода, извините, он не будет. Разумеется, отцу он свои мысли не озвучивал, а лишь качал головой, чуть улыбаясь: «Ты абсолютно прав, отец! Обязательно тисну пару статеек, не беспокойся!»
Вскоре тема будущего Журова-младшего была исчерпана. Осталось ждать заметных публикаций. Когда принесли цыпленка, оба немедленно умолкли и со вкусом съели свои порции.
– Знаешь, отец, пожалуй, ты прав, цыпленок обалденный… Может, по-своему и не хуже, чем у нас в Баку шашлык по-карски. И лучше, чем цыпленок-табака в «Кавказском».
– Кстати, в «Кавказском» хаш по субботам еще подают? Раньше, помню, чуть ли не с семи часов было дело.
– Не знаю, может, и подают. Я не любитель с утра водку пить… А без нее какой смысл на хаш ехать?
– Рита – только пойми правильно, она мне не докладывает и отнюдь не жалуется… Рита говорит, что ты нередко прикладываешься. Причем сверх меры.
– Бывает. Все же пьют, а я что, хуже? Был бы комсомольским или партийным работником, вообще бы не просыхал. Скажешь, нет?
– Борис, в нашей стране, конечно, умение пить всегда может сослужить хорошую службу. Но есть и обратная сторона. Грань тонкая. На пустом месте недоброжелатели могут навесить на человека ярлык «пьющего», и тогда можно и не отмыться. Так что прошу тебя, имей голову на плечах. А пока, – он поднял бокал, – давай выпьем!
Оба засмеялись и дружно чокнулись.
– Планы на вечер?
– Пока не знаю. Вообще-то думал встретиться с одноклассниками, но пока всё под вопросом, – и неожиданно для себя сообщил: – Вот Ксюша вчерашняя приглашает. Домой на ужин. Приветы тебе передает.
Отец с любопытством посмотрел на него.
– Пойдешь?
– Не уверен, что хочу.
– А тебе не интересно посмотреть, как живет Игнатов? Хотя его дочь может жить уже и отдельно…
– Какой такой Игнатов?
– Ты разве не знаешь, что она дочь Васи Игнатова?
– Откуда? Мы только вчера познакомились… То есть ты хочешь сказать, что Ксюха дочь того самого?
– Именно это я и хочу сказать!
– И ты вот так вот запросто называешь его Васей! Вы с ним на «ты»?
Журов-старший довольно рассмеялся, согласно кивая, и сделал, насколько это было возможным, скромное лицо. Маленькая ложь никогда не повредит благим педагогическим целям.
– Ты даешь, отец!
– Кстати, ты в курсе, что Игнатов – доктор экономических наук, причем реальный! А не по партийной линии… И действующий генерал КГБ!
– Нехило. Ай да Ксюха… Наверное, посмотреть любопытно. Стало только что. Но сначала буду звонить мужикам. Все-таки вместе росли…
– Как знаешь. Будешь задерживаться, найди время предупредить старика-отца. Может, махну с утра к Светлане на дачу. Если ты не обидишься.
– Не прибедняйся! Ты еще многим фору дашь! Какие обиды, брось.
Попрощались совсем уж по-дружески. Отца ждала служебная машина, он привычно расположился на заднем сиденье и, когда водитель тронулся с места, обернулся и помахал сыну рукой. Журов помахал в ответ. «Интересно, – подумал он, – еще совсем недавно я его ненавидел и желал только зла. А сейчас мы мирно обедаем за шутками-прибаутками и обсуждаем, как быстрее мне выбиться. Я прямо пай-мальчик и совершенно не сопротивляюсь. Напротив, прислушиваюсь к его словам и послушно следую по проторенной им дорожке. И даже из-за партии не ссу кипятком… Кто бы мне сказал пару лет назад… Неужели я простил ему Светку? Или его жлобские угрозы насчет Кароль? Если б тогда не Ульяна… чем бы там кончилось? С Иванкой тоже он припер меня к стенке. Правда, Иванка как-то забылась, померкла. Спасибо Горшкалеву… Потом Кароль… Неужели я и ее забуду? Отец купил меня и продолжает покупать? Достаточно поманить меня пальчиком и посулить непыльную работенку в Европе, как я тут же лапки кверху? Я полное говно? Или здравомыслящий человек? Как посмотреть… А может, он и не думал покупать меня, а следует своей житейской мудрости и опыту выживания. Кстати! Мне же приятно, что он такой элегантный, красивый, уверенный! Когда, спрашивается, я видел его другим? Никогда!»
От мыслей об отце Журова оторвала необходимость немедленно решать, что делать вечером. Если с утра приоритетом безоговорочно была выпивка с друзьями, а дальше – как фишка ляжет, то теперь Ксюха со своим звонком – даже не столько со звонком, сколько со своим папашей – спутала все планы. Игнорировать барышню с такими данными? Глупо же. Но и покуролесить в столице тоже чешется. В конце концов он решил поступить хитро – и к Ксюхе заглянуть, и в ночные гости завалиться. Ночные и разудалые гости в Москве были возможны только у Васьки. Из всех знакомых он был единственным обладателем трехкомнатной квартиры, двери которой двадцать четыре часа в сутки были открыты для собутыльников и девиц. Правда, жил Васька в «конце географии» – в Чертаново на улице Красного Маяка, куда, кроме как на такси, вечером не доехать. Не беда! С Васькой и его женой Журов познакомился в Форосе, куда поехал дикарем в компании с факультетскими приятелями после окончания первого курса. История умалчивает, почему семейная пара охотно проводила время в компании вечно голодных парней, круглосуточной целью которых было выпить и склеить девицу и только между делом – поплавать в море и позагорать. Журов перед отъездом в Ленинград оставил Ваське телефон и адрес. Не подозревая никаких подвохов, со свойственной молодым людям сердечностью пригласил приезжать в любое время. А подвох заключался в том, что Васька без всяких предварительных звонков и телеграмм аккурат после окончания зимней сессии ранним утром позвонил в дверь Журова на Большой Пушкарской.
– Боря, ты рад? – без тени улыбки спросил он.
Опешивший Журов выдавил из себя:
– Очень.
Ну, что делать, пришлось целую неделю таскать человека от компаний в общагах до разношерстных сборищ у Миши в мастерской. Васька – кстати звали его Володя Васильев (обращаться к нему по имени язык ни у кого не поворачивался) – приехал заливать печаль от развода с женой, которая, не выдержав нескончаемый поток гостей-собутыльников в их семейное трехкомнатное гнездышко, поставила мужу категорическое условие: или она, или друганы. А если друганов уже пол-Москвы, домашнего телефона нет, а эти самые друганы едут к нему без всякого предупреждения с вином и бабами и днем и ночью? Шансов у отчаявшейся женщины не было! Всему виной Васькина овеянная славой жилплощадь. У кого еще из студентов была такая роскошь? Ни у кого! Даже у детей ЦК! Дело же в том, что Васькина маман слыла, пожалуй, самым ловким адвокатом в Москве по всякой не самой тяжелой уголовщине, и за выигранные дела получала прямо-таки баснословные вознаграждения от благодарных мошенников, воров и жуликов. Она обладала сокрушительной пробивной силой, подкрепленной фантастическими связями. Когда единственный сын, пьяница и лентяй, все-таки пристроенный на юридический факультет МГУ – кто же ей откажет! – будучи еще первокурсником, привел в дом такую же, как сам, невесту-оторву, она пришла в ужас. Таким составом без смертоубийства под одной крышей не ужиться. Тогда она решила сделать невозможное и отселить свое чадо, но в инстанции или в каком-то кооперативе, где вопреки всем советским законам ее связи могли сработать, однушек не предвиделось. Зато были трешки! Скрепя сердце она согласилась, и восемнадцатилетние молодожены стали обладателями трехкомнатной квартиры в Москве! Нетрудно догадаться, что за этим последовало – молва за считаные недели разнесла известие об этой малине. И понеслось…
Поездка в Ленинград выполнила свою терапевтическую функцию: Васька, хоть и впадал временами в печаль, был тем не менее отзывчив, пил все, что горит, и западал на все, что шевелится. При наличии выбора все-таки отдавал предпочтение худеньким блондинкам.
К этому железному и последовательному человеку, кстати, усилиями маман распределенному в какой-то важный институт МВД и уже носившему погоны старшего лейтенанта, Журов и собрался рвануть после визита к Ксюхе.
Вооружившись букетиком, Журов подъехал к известному дому на Кутузовском. Долго сомневался, ждать до назначенного времени или не ждать – он приехал раньше на полчаса. Решил рискнуть, вдруг вельможный отец еще на службе. Вошел в подъезд. А там ни консьержки, ни охраны. Неужели это возможно в таком доме?!
Дверь открыла Ксюха в аккуратных маленьких трусиках и в майке. Без капли смущения пригласила войти. Равнодушно приняв букетик, она попросила подождать минутку, а сама пошла все-таки надеть что-нибудь на свой симпатичный задик, доверительно сообщив: «Пойду срам прикрою».
Ксюха жила одна в добротной двухкомнатной квартире, где при абсолютной чистоте – два раза в неделю отец присылал уборщицу – царил полный и хронический беспорядок. Возвращать вещи на место не входило в ее привычки, поэтому одежда, книги, сумки, пакеты лежали, стояли и валялись повсюду. Натянув джинсы, она сразу пояснила, что, когда здесь с ней проживала старшая сестра, полная, кстати, ее противоположность, в квартире все было иначе – все стояло по своим полочкам. Но, слава богу, сестра вышла замуж и теперь наводит порядок у благоверного, а у Ксюхи с тех пор – милый сердцу присущий нормальным людям бардак. Однако на кухне, в противоположность квартире, царил как раз идеальный порядок. Что-то варилось, что-то тушилось на плите, овощи и зелень уже ждали на столе, приборы и рюмки расставлены. Ксюха призналась, что готовить любит и умеет, только вот времени никогда не хватает, и лишь сегодня, пока Журов не смылся в Питер, она решила вернуться домой пораньше, сварганить что-нибудь вкусненькое. Признаться, она чувствуют вину за вчерашнее, еще и папу знаменитого среди ночи потревожила.
Журову казалось странным такое вот внезапное приглашение домой от молодой женщины, с которой едва знакомы. Как и вчера, он предпочел по большей части молчать. Сели за стол, Ксюха, к его удивлению, достала из морозилки «Столичную».
Школу она окончила в ГДР, потом поступила на немецкое отделение, а сейчас трудилась в представительстве крупной западногерманской компании. Нетрудно догадаться, что у немцев с таким папой своей русской сотрудницы все складывалось лучше всех ожиданий. Конверты с благодарностью от руководства она не принимала, зато не отказывалась от еженедельного, якобы полагающегося пайка – всякие деликатесы, алкоголь, сигареты и тому подобное. Очень легко и откровенно она рассказала, как отец упаковал сильно пьющую мать в какой-то закрытый санаторий, что после развода он женился на первой же домработнице, которая смогла найти общий язык с ней и с ее более покладистой старшей сестрой, а как только девочки поступили в институт, сделал им эту квартиру. Несмотря на обыденность и простоту рассказа, Журов за отдельным фразами и оборотами угадывал Ксюхин мощный, подавляющий его интеллект. И зачем ему это надо? Пора закругляться, махать умной барышне ручкой и, пока не поздно, рвать когти к Ваське. От чая он отказался, и возник благоприятный момент раскланяться, но тут Ксюха некстати вспомнила о Серже Генсбуре, которого он вчера упомянул. Что за чел? Журову бы отмахнуться, но он почему-то не удержался и пустился в рассуждения о творчестве и жизни эпатажного француза. А то барышня еще подумает, что он совсем тупой и двух слов связать не может. Она слушала его с интересом, в какие-то моменты ее теплый взгляд становился, как накануне, изучающим и даже оценивающим. Журов не придавал этому значения и вдохновенно вещал. За этим делом на столе как-то сама собой образовалась еще одна бутылка тягучей ледяной «Столичной». По мере опустошения второй поллитровки произошла метаморфоза, и Ксюха, как и накануне, вдруг превратилась в своего парня, с которым обо всем можно потрындеть и даже готового за каким-то рожном переться к Ваське в Чертаново.
Таксист, очень кстати, приторговывал водкой. Взяли пузырь. Васька, как всегда, визиту ленинградского друга не удивился, только в дверях шепнул Журову, что в гостях у него сослуживцы с проверенными кадрами, что совсем скоро начнется свальный грех, и поинтересовался, указывая глазами, примет ли Ксюха участие в задуманном многостороннем кувыркании. Журов с негодованием отрицательно завертел головой. Не успели войти, как Ксюха оказалась в центре внимания, бесстрашно травила анекдоты и лихо глотала водку. Васькины гости забыли, зачем собрались, к задуманному приступили, вытирая слезы. Надо же, какая клевая девица! Журов нашел время предупредить Ксюху о планах компании, для него совершенно неожиданных, иначе б в голову не пришло тащить ее сюда. Ксюха с пониманием кивнула, и он увел ее в дальнюю комнату, именуемую всеми, включая хозяина, вытрезвителем. Комната была с балконом, дверь на который Васька зимой никогда не заклеивал – куда ж еще сгружать десятки и сотни пустых бутылок? Что с того, что холодно и постоянно дует, ему ж там не спать!
– Может, домой? – спросила Ксюха, осмотревшись. Здесь даже присесть толком было некуда – одна стена, расписанная в стиле обложки Yellow Submarine, была неприкасаемой в силу именно этого обстоятельства, вдоль другой на полу стояли две тахты с отломанными ножками, в углу ютился платяной шкаф. Сидеть на низкой тахте особого желания не возникало, только если лежать.
– До утра нереально. Не раз проверено. Частника здесь не поймать, и таксисты ночью сюда не доезжают, ловить им здесь нечего.
– Почему?
– Впереди по улице еще два дома, а за ними лес. Напротив, если глянешь в окно, тоже лес. Васька в хорошую погоду шашлыки в ста метрах от подъезда жарит…
– Если прижмут к реке, нам крышка[6], – вздохнула Ксюха и неуверенно, что было ей несвойственно, тихо предложила: – Давай тогда стелить?
Журов засуетился – дочь же самого Игнатова! – начал хлопать дверцами шкафа, нашел там одеяла и подушки, но никакого белья и в помине не было. «Сейчас у этого неряхи что-нибудь поищу! Уверен, заначка стираного у него имеется». С этими словами, мимо хрипов и стонов в соседней комнате, он проскочил к Ваське в спальню; тот, к его радости, был «не занят». Пытаясь вычленить в шипении, ругани и претензиях что-то внятное, лоснящийся от удовольствия Васька наконец сообразил, что от него требуется, и молча выдал Журову чистое, по его уверениям, белье. Даже полотенце нашлось!
Когда Журов вернулся в вытрезвитель, Ксюхи там не было. «Да куда она денется с подводной лодки», – пробормотал он, глядя на стену напротив, и постелил постель. Васька даже на наволочки не поскупился!
Тут в комнату юркнула Ксюха, держа одежду в охапке, бросила ее на свободную тахту и улеглась, сверкая торчащими грудками и не прикрываясь одеялом:
– Давай, Серж Генсбур, согревай меня быстрее!
Часть II
1
После второго развода, когда жизненные обстоятельства бросили его на самое дно, но он чудом все-таки выкарабкался – во многом благодаря Варьке, – Журов был готов практически к любым ущемлениям своего «я». Красивая, размеренная жизнь с чувственной, стильной и разумной женщиной стала для него, безусловно, важней всех мужских слабостей и былых порывов. То ли в силу этого обстоятельства, то ли из своенравности натуры Варька постоянно его воспитывала. Не встречая серьезного сопротивления, она, как ему казалось, нередко перегибала палку. Тогда Журова подмывало уйти и переехать в свою однушку в Строгино, которую он сдавал покладистой и рукастой паре из Твери. Необходимость выставлять на улицу людей, исправно плативших ему деньги и содержащих квартиру в чистоте и порядке, всегда останавливала его. Он брал время на размышление. Варька, обладавшая потрясающей интуицией, что-то такое мгновенно улавливала, хватку приотпускала и двигалась в своей непримиримой позиции. И все возвращалось на круги своя, милейшая же и очаровательная женщина! Помимо образцовых жильцов имелась у Журова еще одна причина для нерешительности – боязнь запить по-черному, как с ним уже случалось.
Выстроив всех в выкупленной косметологической клинике настолько, что отпала необходимость ежедневного личного контроля, Варька переехала жить в Апрелевку в загородный дом, доставшийся ей от родителей. Вначале она имела привычку без всякого предупреждения сваливаться на Журова с проверкой, но всегда заставала его чистым, трезвым и нежным. А заодно проверяла и клинику, где и в ее отсутствие все тем не менее шло своим чередом – репутация не падала, и деньги с приятной ощутимостью поступали. Успокоившись, она стала приезжать реже, загородная жизнь пришлась ей по вкусу. Журов какое-то время кипятился – что за дела такие, они вместе живут или как? Варька на полном серьезе предложила бросить его никчемную работу – нормальных же денег не приносит – и переехать в Апрелевку, а в Москву наведываться лишь по случаю: в гости или в театр. Хоть предложение и казалось заманчивым – свою работу, как и всегда в жизни, Журов не любил, – согласиться он не мог; зарплата, какая-никакая, давала ему независимость или иллюзию независимости. Переехав к Варьке, он становился бы заложником любых ее прихотей.
«Безусловно, Варьке я обязан… Чего уж тут таить, она спасла мне жизнь. Где бы я был? Вообще мог коньки откинуть. Хорошо. Я ей признателен и буду признателен до конца моих дней. Но сколько прошло лет, а она не перестает меня строить и не собирается хоть как-то со мной считаться. Все только так, как хочется ей. Я что, не личность? Ей тяжело согласиться даже с такой мелочью, как книжная полка. Мне и самому этот цветок в углу, как бишь его… даже очень нравится. Может, мне теперь и полка не нужна. Дело же принципа… И чего она так редко приезжает, я ей совсем не нужен? Она меня держит для выходов в свет? Я ей к лицу, как наряды? Мне же одиноко… и необходима чувственная жизнь. Хоть с какой-то регулярностью. Не мастурбировать же. Стыдно как-то, да и грех. Сколько можно с ней соглашаться и все терпеть? Я – тряпка, трус, жалкий подкаблучник? Может, все-таки собрать шмотки и уйти? Тогда, глядишь, до нее дойдет, что нежные отношения и преданность надо ценить. А если еще и Машка безумная вздумает вернуться, как, любопытно мне знать, она справится с ней в одиночку? С этой оторванной наркоманкой, чихать хотевшей на мать с ее мнением и порядками. Ее-то Варька боится! Лебезит перед нею. Воспитывать надо было, а не порхать по Америкам… Как можно такого трудного ребенка подбрасывать стареющим родителям? Вот и получили коллективными усилиями полную оторву».
Приблизительно так, конечно, в разных вариациях, начал думать Журов после знакомства с Мариной. За чашкой кофе в его кабинете она поведала, что в скором будущем разводится со своим совершенно рехнувшимся мужем, попавшим в какую-то, иначе не назовешь, секту воинствующих веганов и не дающим после этого никакого прохода ни ей, ни ребенку. Голодом готов уморить, придурок! До драк дело доходит! Но, слава богу, у нее есть мама, совсем недавно вышедшая на пенсию, готовая взять на себя все заботы о ребенке после развода. А Марина поживет немножко в свое удовольствие, так как выскочила, дура, замуж в восемнадцать лет, о чем сейчас глубоко сожалеет!
Во-первых, Марина очаровательна, и очень кстати, что в скором времени будет свободна и ребеночек ее под надзором! Во-вторых, это же его конек – доверительные беседы с молодыми сотрудницами о мужчинах, он же в рабочее время, пока им не надо мчаться домой к этим мужчинам, незаменимый эксперт по этой теме! Он же на стороне молодых, успешных и умных женщин против нынешних никудышных мужчин. Неблагодарные и тупые. Привыкли всё покупать, не ценят истинную женскую красоту и ум! Если они при деньгах, то либо получили от родителей-воров, либо сами пилят государственные! В театр не ходят, книг не читают! Поговорить не о чем! Бедные московские девочки из порядочных семей, получившие хорошее образование, – и как им тягаться с понаехавшими провинциальными хищницами, готовыми на все ради московской прописки? С любым уродом, ментом, бандитом, с любым недоумком… Где ж в такой неравной борьбе умного сначала найти, а потом отхватить? Вот и приходится бедным девочкам всё самим – карьера, квартира, машина, дети. Современные женщины, с торжеством провозглашал Журов, самодостаточны и значительно успешнее мужчин!
Когда Марина, пообещав заглянуть к нему при случае, вышла из кабинета, Журов впервые за долгие годы вдруг призадумался, а не закрутить ли роман? Не влить ли немного свежей крови исключительно из соображений поднятия общего уровня здоровья? Для поддержания мужского тонуса? Эта мысль немедленно подкинула его из кресла, и он подошел к зеркалу. Придирчиво изучил отражение. Так, мужчина он еще хоть куда, никто ему его лет не даст. Можно ли еще себя как-то омолодить? Например, побрить голову или вставить серьгу в ухо? Нет-нет, серьга в его возрасте и при классическом гардеробе не годится! Бриться налысо – любопытный, но рискованный шаг. Он, к сожалению, не Федя Бондарчук или Брюс Уиллис, можно все испортить. Вероятно, стоит подстричься как-нибудь по-молодежному… Пожалуй, объективно слабым местом был растущий и, как прекрасно он знал, дряблый животик. Вот над чем надо потрудиться! Итак, утренняя гимнастика для пресса и работа над общей спортивностью фигуры! А пока втягивать живот и расправлять плечи! Походка и так быстрая, но шаг мог бы быть пружинистее!
Добиться барышни с наскока, как в молодости, уже не получится, неплохо бы разработать план. Для начала стоит еще пару раз поболтать с ней за чашкой кофе, навести мосты, чуть-чуть сблизиться. Затем пригласить на обед, обязательно с вином. Дальше, если не будет осечек, а быть их не должно, готовиться к ужину. В пятницу, само собой. Выпить надо так, чтобы непременно возникло желание поехать танцевать… в клуб, где живые музыканты играют блюз или соул. Дальше, как полагал Журов, дело техники – уж он-то сумеет, прижав ее к себе в танце, нашептать что требуется.
Воодушевленный Журов разулыбался. Намерения бодрили. Мысль, что каких-нибудь десять лет назад, еще семейным человеком, он не имел привычки задумываться над планом действий и без оглядки бросался соблазнять понравившуюся женщину, не омрачала радужные перспективы. Некоторые люди меняются, а некоторые нет! Есть мужчины, которые до глубокой старости обновляют жен, подавай им только молодую, такие женятся по несколько раз, если, конечно, финансы позволяют. Есть другие, которые, единожды соединив себя узами брака и наплодив кучу детей и внуков, тем не менее ведут активную жизнь на стороне. Догадываются ли близкие или нет об этой параллельной жизни – другой вопрос. Есть мужчины-страдальцы, которые вообще не могут устоять перед возможностью покрыть при любой подвернувшейся возможности даже самую непотребную девицу. Таких бедолаг либо сразу выгоняют из дома, либо вообще перестают с ними считаться. Безусловно, есть верные мужчины, но таких он не встречал. Пока Журов был женат второй раз, он себя к страдальцам не причислял, но переспать с интересной женщиной казалось ему доблестным поступком. После развода его точка зрения кардинально изменилась. Встретив же Варьку, он вообще решил никогда ей не изменять. Хватит, напрыгался. И вдруг эта Марина, словно ветром раздувшая погасшие угли на пепелище былых его подвигов! Одна мысль об интрижке, не говоря уж о перепихончике, уже вносила разнообразие в его жизнь. А если что и произойдет… то чисто для тонуса. Ничего страшного! Кроме того, что придется врать Варьке. Но она же в Апрелевке! Потребуется убедительный предлог не ехать к ней на выходные…
Следующее утро началось с зарядки. Журов взял на себя повышенные обязательства и решил не только уменьшить дряблость животика, но и вообще подкачаться. На работу прибежал бодрячком и сразу после обеда пошел в модный салон мужских причесок, где истратил неприличную сумму на то, что ничем не отличалось от простой парикмахерской. Эта деталь не омрачила его боевой настрой, хрен с ними, с расходами, главное – он на правильном пути, какой подъем он испытывает!
К концу рабочего дня все перегруженные сверх меры мышцы далекого от спорта Журова болели так, что он еле дотащился до дома. Однако сдаваться так просто он не собирался, привести свой экстерьер в товарный вид требовалось самым решительным образом. Махнув от всего сердца виски, он провел час в горячей ванне, откуда прямиком переместился в постель. По ощущениям стало легче, и он бойко набрал Варьку, решив именно с ней поделиться планами на омоложение: «Я тут посмотрел на себя в ванной… все-таки я мало двигаюсь, сижу целыми днями на жопе, то за рулем, то у компьютера… какой-то я стал дряблый. Решил вот взбодрить себя, зарядку начал делать. Вот увидишь, к Испании меня будет не узнать!» Варвара, как женщина здравая, инициативу Журова одобрила, но разумно посоветовала вначале особо не усердствовать. А на даче, без всякого ехидства добавила она, можно вместо нескончаемых шашлыков с вином и водкой иногда и в лес ходить, всего-то в километре от дома, если он еще не заметил. Журов был настроен миролюбиво, поэтому безоговорочно ее правоту признал.
На следующий день лучше не стало. С чего? Исключительно из самоуважения Журов в треть движения корячился минут пять, потом, чертыхнувшись, плюнул. Через день, когда он через боль до помутнения в глазах заставил себя делать наклоны и отжимания, у него так прострелило спину, что ходить прямо он уже не мог. Пришлось утреннюю гимнастику отложить, а заодно записаться на иголки и к мануальщику – оба обобрали и не помогли. Только после нескольких уколов вольтарена в поликлинике его отпустило. С серьезными нагрузками, пожалуй, стоит повременить, а вот ходьба… Удачно, что Марина к нему не заглядывала, беспомощным и скрюченным от боли не видела. Но и через неделю она не объявилась. Ведь обещала! Как же так, неужели придется самому выдумывать предлог? Пустяковая, по сути, встреча воспринималась им как важный и обязательный шаг к сближению с ничего не подозревающей женщиной. Шло время, и Журов распалял себя все больше и больше. Вскоре он считал себя уже немножко влюбленным, отдавая при этом отчет, что ничего еще не произошло. Барышня всего лишь раз выпила с ним кофе, с чего он взял, что ей интересен? Что он себе придумал?!
В один из дней он не удержался и по внутренней почте написал ей, уверенный, что в шутливой форме, как грустно ему пить кофе одному и не составит ли она компанию. Ответ пришел в смеющихся смайликах: она бы и с удовольствием, да вот начальник завалил работой, голову не поднять.
Журов вспыхнул, какой же он идиот! Выкинуть ее вон из головы! Хватит позориться! Подумав так, он успокоился, взрослый человек же, и ему даже удалось отвлечься на какую-то незначительную текучку. Но воображение против воли включилось на полную катушку, и если раньше Марина ассоциировалась с нечетким и размытым образом абстрактной молодой женщины, вызывающей желание, то сейчас включились самые смелые, связанные исключительно с ней эротические фантазии! Что это?! Выходит, чтобы вычеркнуть ее из памяти, потребуются время и определенные усилия? Он в раздражении забегал по кабинету, полез на полки переставлять книги в надежде наткнуться на что-нибудь, что захотелось бы перечитать. Глаз ни на чем не задержался, тогда он включил музыку, сперва подумал о Генсбуре, но с ним связано столько воспоминаний… Тогда, может, Эллу Фицджеральд или Нину Симоне? Тоже не то. Поставил Боба Марли. Совсем другое дело – мысли сами собой переключаются на солнце, море, пальмы, ром! Под Sunshine Reggae он, глядя в окно, даже начал пританцовывать и так увлекся, что не расслышал, как открылась дверь кабинета.
– Привет Борис! Все прыгаешь?
Проклятый, самодовольный, зажравшийся араб! Надо же было так подставиться! Пританцовывать в VIP-зоне компании, ежегодно делающей пол-ярда долларов! Журов покраснел, что с ним случалось редко, но быстро взял себя в руки и с ухмылкой ответил:
– Ты же знаешь, Идрис, в душе я ребенок. Херовое настроение, решил вот поднять старым и проверенным способом.
– Есть несколько свободных минут? Заглянешь ко мне?
– О чем ты! Для тебя всегда сколько потребуется. Не только как для директора, а в первую очередь как для друга! – раз Идрис по своим загадочным мусульманским мотивам называл его другом, пойди пойми его, то и Журов отвечал ему тем же.
– Выпьешь чего-нибудь для поднятия настроения еще одним старым и проверенным способом? – спросил Идрис, когда они развалились в креслах в его кабинете.
Журов дипломатично засмеялся. Идрис, в отличие от студенческих лет, больше не пил, но держал у себя несметное количество самых элитных алкогольных напитков.
– Виски, если у тебя найдется открытая бутылка.
– Как же не найдется, быть такого не может… Что там у тебя стряслось? Могу помочь?
Журов замахал руками, это личное, ничего не надо, он сам со всем разберется. Дома и с Варварой все в порядке, хотя, вот ведь неугомонная женщина, умудряется воспитывать его даже на расстоянии. Почему на расстоянии? Да потому что живет за городом, пристрастилась к садоводству, от цветов теперь не оторвать.
Идрис откинулся на спинку кресла и зачем-то спросил, хотя у них давно было принято перескакивать с русского на французский и обратно:
– Ничего, если я перейду на французский?
Постоянной практики языка у Журова давно не было, однако понимал он практически все, другое дело, что не всегда получалось с легкостью говорить самому, иногда требовалось усилие, приходилось подбирать, казалось бы, самые простые обиходные слова. А иногда французская речь лилась легко, насыщенная сложными оборотами и точными эпитетами. Порой алкоголь развязывал язык, бывало, наоборот, загонял в ступор. Сегодня виски сослужил хорошую службу.
– Ты знаешь, кого я видел в Париже неделю назад?
– Идрис, дорогой, откуда же я могу знать!
– Кароль! Твою бывшую подружку!
– Ты имеешь в виду журналистку из L'Humanité, на которой я не женился? С чего это вдруг? – довольно равнодушно поинтересовался Журов.
Идрис был разочарован спокойствием Журова, но виду не подал и продолжил:
– Ее самую. Ты знаешь, я случайно столкнулся с ней около года назад в одном издательстве. Она, к твоему сведению, не только популярная журналистка, но и известная писательница… Мы обменялись визитками. Она мне звонила несколько раз… и наконец застала!
– Что-то я не слышал о писательнице с таким именем. Конечно, я не великий специалист по современной французской литературе… Так, по старой памяти кое-что почитываю, немножко в Google копаюсь… Ни разу не встречал!
– Она взяла фамилию мужа. Очень состоятельный человек. Может, поделишься, что у вас с ней произошло? Такие нежные чувства, такая любовь… и вдруг?
Что чувствует или думает Идрис, на самом деле так просто не понять, его лицо постоянно выражало лишь невозмутимое спокойствие и заинтересованность выслушать собеседника, даже если собеседник нес полную пургу. Вот и сейчас Журов не мог уразуметь, зачем тот ворошит прошлое.
– Ты меня удивляешь, Идрис. Сколько лет прошло, дай прикину… больше тридцати. Ничего не произошло. Она хотела, чтобы я ехал с ней во Францию. А что там делать с незаконченным журналистским образованием? Работать посыльным в газете? Оставаться ей тоже было неприемлемо, тогда бы на всю жизнь я попадал в когорту безработных. Сам помнишь, какие были поганые времена. Решение, стоившее мне чудовищных страданий, как я сейчас понимаю, да и тогда понимал, оскорбило ее, вот она и рванула домой, наговорив на прощание всяких гадостей…
– Все-все! – воскликнул Идрис, – не будем больше о прошлом. Я просто подумал, что тебе будет любопытно узнать, как она, что она.
– Хорошо, Идрис. Так как она, что она?
– Великолепно! На мой взгляд, она входит в тройку самых влиятельных и популярных журналистов Франции, а каждая ее книга является событием.
– Я рад за нее, – с нарастающим раздражением произнес Журов, – к чему ты все это?
– Помилуй, никаких целей! Просто хотел поделиться с тобой, что Кароль пишет новую книгу. Объектом ее исследований являются предперестроечный СССР глазами находившихся там иностранцев и судьбы простых и непростых граждан, отдельных личностей, их взлетов и падений. Книга художественная, но во многом основанная на реальных событиях и персонажах. Она пришла поговорить со мной, узнать, что я помню об учебе в Ленинграде и как сейчас себя ощущаю в России. Однако у меня впечатление, что на самом деле интересовал ее только ты. Судя по ее довольно пристрастным расспросам, предполагаю, ты будешь одним из главных героев.
Темные глаза Идриса смеялись, а вот губы сложились в ироничную улыбку.
– Отличная новость, Идрис, наконец-то прославлюсь. Правда, не стоит ждать ничего хорошего от обиженной женщины, боюсь, с говнецом она меня смешает, – Журов сделал паузу, представляя, какими словами Кароль может написать о нем. – Пока не забыл, увидишь ее еще раз, передай от меня самые теплые приветы!
– Обязательно. Хотя сомневаюсь, что мы еще увидимся… Извини, мне пора выезжать. Встреча в городе.
Журов немедленно вскочил и уже на ногах допил свой виски.
– Спасибо, Идрис, за приглашение. Прекрасно посидели. Я бы, когда у тебя будет время, еще о работе поговорил. Есть пара идеек…
– Посмотри у девочек, что там у меня с расписанием, и запишись… Полчаса тебе хватит?
Журов согласно кивнул.
– Кстати, у Кароль несколько иная версия вашей разлуки.
– И какая, любопытно?
– Когда после диплома ты пропал чуть ли не на две недели, она – влюбленная же женщина! – пошла к тебе и прямо у подъезда застукала тебя в обнимку с юной девчушкой, которую ты, судя по хорошо известным ей признакам, только что оприходовал. Сомнений на этот счет у нее не возникло. Ты был так увлечен, что вокруг ничего не видел. А она стояла на другой стороне улицы… Ты же понимаешь, Борис, я не осуждаю… я на твоей стороне, мы же мужчины!.. Получается, с Кароль ты просто по-дурацки прокололся.
Несмотря на дистанцию более чем в тридцать лет, Журов мгновенно понял, о каком дне идет речь. Так вот почему Кароль не захотела вникать в его далеко идущие планы, казавшиеся тогда гениальными, и сразу послала его… Какой же он идиот!
– У нас говорят, все бабы – дуры. Вижу, француженки не исключение. По чистой случайности я помню, о каком эпизоде она тебе поведала. Правда, понять не могу, зачем ей понадобилось так откровенничать… Во-первых, пропал я всего-то на два-три дня. Ну, загудел не по-детски, есть что вспомнить… Во-вторых, со мной была студентка Марго, курсовую принесла. Мы всего лишь вместе вышли из дома… И больше ничего! Кароль все себе выдумала! Полная чушь!
Глаза Журова полыхали скорбью, поди не поверь ему! Он с горечью произнес:
– Извини за эмоции! Сколько лет прошло, а только сейчас узнаю, из-за какой ерунды… Не буду тебя задерживать, ты же спешишь! Так я запишусь на следующей неделе!
Банальная истина – прошлое не оптимизируется, но представить себе, как могло бы быть, если бы не произошло так, как произошло, ничто помешать человеку не в силах. Журов лихорадочно выстраивал в своем воображении целый ряд «если бы». Если бы он тогда в «Европейской» не послушал отца, если бы случайно подвернувшаяся Ульяна не замяла уже, казалось бы, неминуемую ссору, если бы ему хватило воображения хоть на мгновение представить, что что-то может измениться в незыблемом Совке, что будет перестройка, открытие границ, предпринимательство, обогащение, что брак с иностранкой будет не позорным пятном в анкете, а конкурентным преимуществом! Если бы он тогда не тянул резину, а женился на любящей его женщине, если бы он уехал с ней во Францию… Сколько неиспользованных возможностей, сколько несостоявшихся сценариев судьбы!
Журов давно не вспоминал Кароль – сколько лет прошло, и повода не возникало. И вовсе не известие о том, что она живет себе поживает и работает у себя во Франции, подстегнуло его сожаления, а то, что она знаменита и успешна. А раз так, значит, и его она куда-нибудь пристроила бы. И жил бы он припеваючи в Париже, может, писал бы, а может, открыл бы переводческое агентство или турфирму, и лето бы они проводили где-нибудь на Лазурке, и будущее, вероятнее всего, так не страшило. Эх, забыл спросить, как она выглядит, сильно ли постарела? Впрочем, в своем воображении он рисовал ее по-прежнему красивой и изящной. Иначе как бы он со старушкой на пляже в Сан-Тропе или Антибе появлялся? Как можно представить такое?!
Дома Журов без труда нашел в интернете десятки ее фотографий. Возраст не обезобразил Кароль, она слегка располнела, но не критично. Он почувствовал облегчение, как будто то, как выглядела сейчас его бывшая возлюбленная, имело значение. «Буду во Франции, постараюсь найти ее. Объясню, что она тогда ошиблась. Это же была студентка Марго, она что, забыла, что моя тетя преподавала в университете? У нее студенток быть не могло, которые на дом курсовые приносили?» Убаюкивая себя этой ложью, которая в его сознании воспринималась как непреложная правда, Журов перебрался в спальню и без всяких истерик, горячих душей и снотворных заснул крепким сном. Причем до самого утра – и когда такое случалось? Можно было бы предположить, что и во сне образ Кароль будет с ним, однако этого не произошло, наутро он и думать о ней позабыл. Ему приснился хороший сон! И в нем была совершенно другая женщина! Журов запомнил сон на всю жизнь.
Старый двухэтажный деревянный дом в лесу. Или на окраине деревни. Но точно, не финская дача в Репино или в Комарово. Конец лета или совсем ранняя осень. Дом утопает в зелени, дело к вечеру, потому что солнце не в зените, и его лучи пробиваются сквозь листву сбоку, наискосок земле, глаза не слепят. Все очень похоже на фильмы Тарковского, та же эстетика: паутина на стеклах веранды, бьющийся в стекло с внутренней стороны окна мотылек. Звуки леса, птицы, насекомые, порывы ветра. Журов в плотных брюках, в штопаном свитере и в куртке-ветровке сидит на крыльце, слегка покосившемся от старости, некоторые доски подгнили, но еще держатся, когда на них наступаешь, они тихонько поскрипывают. Это его дом, он всегда в нем жил, может, и родился. Судя по постройке, по старой дореволюционной мебели, по одежде Журова, складывается впечатление, что это довоенные годы, хотя легко могут быть и семидесятые-восьмидесятые. Ему, похоже, лет сорок, но точно не тридцать и не пятьдесят. Кто он – доктор, учитель, писатель? – не имеет значения. Важно то, что он живет здесь скромно и с достоинством. Но одиноко. И вдруг появляется женщина, она пришла к нему, он сразу понимает, что навсегда. И от этого ему радостно. Вещей у нее совсем мало, каким-то образом она принесла сразу несколько горшков с цветами, которые тут же расставила на крыльце. Она моложе Журова, в платке, худая и хоть и некрасивая, но прекрасная. Она улыбается каким-то своим мыслям, рот большой, она немножко этого стесняется, но в этом есть особая прелесть для Журова. И блеск ее глаз, и в этих глазах он читает, что отныне все будет хорошо, они пойдут вместе до самого конца. Они проголодались и идут готовить что-то простое – может, варить картошку. Он открывает буфет, чтобы достать тарелки, а в этом буфете испокон века хранятся пакеты с крупами и сахарный песок, чтобы не добрались полевые мыши. Он со смехом выходит на улицу, стряхнуть просыпавшийся сахар с тарелок. А потом сразу наступает вечер, и почему-то электричества нет, они зажгли в доме свечи, но сами пошли на улицу. Он накинул ей на плечи свое пальто, потому что стало прохладно. Они молча сидят. В их молчании много смыслов, нет никакой необходимости в разговоре. Журов понимает, что это счастье.
С утра Журов был задумчив, иногда рассеянно улыбался. К чему этот сон? Надо же, какой уютный дом привиделся… что за женщина? Ни сейчас, ни в прошлом похожих на нее хоть отдаленно он не встречал. Может, это образ? Или знак? Впрочем, сомневаться нечего, сон пророческий и сулит ему что-то хорошее! Может, большую любовь, которая перерастет потом в тихое счастье, как только что приснилось?
На работе, прежде чем, как заведено, начать день молитвой оптинских старцев, он взял книгу стихов Арсения Тарковского – как кстати, что часть библиотеки всегда под рукой! – и нашел «Первые свидания».
Свиданий наших каждое мгновенье
Мы праздновали, как богоявленье,
Одни на целом свете…
Перечитав стихотворение дважды, сначала глазами, а потом еще раз вслух и с выражением, Журов предался размышлениям. «Надо бы мне что-нибудь написать по мотивам сна. Рассказ? Пожалуй, да, и от третьего лица. Предположим, герою приснился такой сон и он принимается искать по всему городу увиденную во сне женщину. И находит ее. Любопытно, где и как. Допустим, нашел – что говорит? Что происходит дальше? Знакомство, ухаживания, долгая совместная жизнь? Банально и скучно. Нет, рассказ не годится! Сценарий? Хотя какой сценарий, в чем суть истории? Да и кто сейчас возьмется снимать фильм без пальбы, компьютерных эффектов, кровищи… К кому идти с тихой любовью!? Таких умников-сценаристов, как я, пруд пруди, и все чего-то несут».
Поразмыслив еще немного, он решил написать сказку о любви. Грустную. Сент-Экзюпери написал же «Маленького принца»! Он, конечно, так не сможет, но формат симпатичный. Почему бы не попробовать? А там, если напечатают, глядишь, и известность к нему придет…
Воодушевленный творческими перспективами Журов немедленно создал новый файл в папке «разное» и назвал его «сказка». Что-то в названии ему не понравилось, какая-то неточность, и он переименовал файл в «черновик», потом в «проект», потом в «план», наконец остановился на «сказка-черновик». Процесс пошел, усмехнулся он и решил начать с описания дома, который, казалось, стоял у него перед глазами. Стоять-то стоял, но как-то безлико, без деталей. Не ограничиваться же тем, что дом деревянный и старый, это же убого и совсем бесталанно! «С домом пока повременим, займемся природой и заходящим солнцем». И солнце выходило скучное, и природа оказывалась никакой. Хорошо, можно поработать над образом героя и развитием сюжета…
Ни в тот, ни в другой день хотя бы один абзац, не вызывающий раздражения и недовольства, выжать из себя не удалось. Штамп на штампе. Сон, казался ему все более красивым, но зафиксировать эту красоту словами и придать ей смысл никак не получалось. Дальше пробуждения героя сюжет не шел, никаких идей! Вставал все тот же основной вопрос – что дальше-то, про что история? «Господи! Умоляю тебя! Пошли мне верные слова, дай сил связать их в предложения. Чтобы получались абзацы и заполняли страницу! Направь меня, Господи! Пусть я напишу. Пусть будет хорошо! Вложи в меня смысл, Господи!» – неистово взывал он по ночам.
Когда Марина постучалась в дверь его кабинета, он сосредоточенно смотрел в компьютер, что-то бормоча и чертыхаясь, и голову в ее сторону не повернул.
– Ой, я не вовремя, – она уже собиралась закрыть дверь, как он, едва услышав ее голос, вскочил с места:
– Мариночка, о чем вы! Всегда рад! Проходите! – широким жестом он указал на два кресла, стоящих перед его столом. – Куда же вы пропали, душа моя? Я начал даже скучать. Ну что, кофе? – он посмотрел на часы, и сразу перескочил через целый пункт своего плана. – Хм, половина второго. Может, нам пообедать? Не составите компанию?
– Почему бы и нет? Давайте. Только схожу за кошельком.
– Я вас умоляю! Не обижайте меня!
Без лишнего жеманства Марина согласно кивнула головой.
Далее все развивалось как нельзя лучше: по дороге, при любом случае, когда пустая болтовня допускала проявление бурной эмоции, он со смехом, чисто по-дружески, слегка обнимал ее. И она не отстранялась! В ресторане при заказе вина он продемонстрировал обширные познания, поставив на место официанта, порекомендовавшего банальное «Пино Гриджио». А когда Марина пожаловалась на отсутствие в окружении адекватных мужчин, Журов, даже и не мечтавший о такой подсказке, весьма красноречиво поделился своими соображениями. Нынешний мужчина, вещал он, в силу непропорционального распределения денежной массы или богат, или совсем беден. Среднего класса в стране не существует! Бедные нас сейчас не интересуют, а богатые, как известно, привыкли всё покупать, им, чтобы добиться расположения женщины, не надо быть умным и образованным. Иначе говоря, у них не возникает необходимости или потребности быть лучше, они ни в чем не конкурентны, кроме объема своего бумажника. Да, есть немало мужчин, обладающих привлекательной внешностью, наконец-то стали следить за собой и прилично одеваться, но, с другой стороны, посмотрите, Мариночка, сколько среди них нарциссов! Барбершопов больше, чем салонов красоты! Хорошо, если в постели что-то могут, либидо совсем потеряли, да и геев нынче сколько! В отношениях стал преобладать цинизм, романтика совсем исчезла!
– Неужели в вашу молодость было иначе? Не рассказывайте мне, что деньги, внешность и красивая одежда не имели значения.
– Конечно, имели! Причем колоссальное! Но практически все были бедны и плохо одеты, и даже симпатичным молодым людям требовалось еще что-то в дополнение к приятной внешности! В чем-то разбираться и увлеченно об этом рассказывать, декламировать стихи, быть остроумным, побеждать на соревнованиях, петь, играть на музыкальных инструментах. Короче, делать что-то, чтобы привлечь внимание.
– Ага. Распускать хвост. Видите ли, все перечисленные вами таланты и сейчас привлекают внимание девушек.
– Конечно, привлекают! Но являются факультативными! Сейчас вообще можно познакомиться или договориться о сексе на сайтах знакомств! Говорю с уверенностью, потому что, признаюсь, сам после развода сидел какое-то время на «мэйл ру».
– И как?
– Не вдаваясь в подробности, скажу, что сайт позволил мне поднять самооценку, которая в то время была ниже плинтуса. По той же причине, о которой я говорю: мужчины на этих сайтах излишне циничны и вообще не вербальны. Когда доходит дело до разговора и до знакомства, они не соответствуют своей аватарке. Я, извините за нескромность, был там звездой. Но это все в прошлом.
– Понятно. А вот в молодости вы чем брали? Как привлекали внимание девушек?
Журов засмеялся.
– Марина, так сложилось, что у меня было полно денег. Я… как бы правильно выразиться, занимался теневым бизнесом, что было крайне рискованно. Уж очень мне не хотелось прозябать, как вся страна… Потом, я хорошо одевался и выглядел сильно по-иностранному… Тогда это имело колоссальное значение.
– Вот видите!
– Сдаюсь-сдаюсь! Все-таки похвастаюсь с вашего разрешения! Я был легок в общении, читал, мог поговорить о прочитанном. Еще я любил танцевать. Как подорванный бегал по дискотекам.




















