Читать онлайн Урман бесплатно
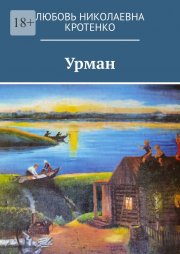
© Любовь Николаевна Кротенко, 2024
ISBN 978-5-0062-7784-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
У Р М А Н
(По воспоминаниям моего отца Н.М.Кротенко)
Дочка, прости, что долго не мог написать,
О чем ты просила. Дел много, закрутился совсем.
Но вот решил – все брошу и напишу.
ПУТЬ В НЕИЗВЕСТНОСТЬ
Выслали нас в 1931 году, 16 мая, в субботу. Ехали мы из села Волчиха алтайского края до Славгорода трое суток. Расстояние там сто шестьдесят километров. Ехали на лошадях. В Славгороде нас пересадили в телячьи вагоны, и до Омска ехали поездом. Когда началась эпопея раскулачивания, отец наш пропал без вести и в ссылку нас отправили втроем: маму, сестру Лену тринадцати лет и меня. Мне было шестнадцать лет. Весной я закончил семь классов. Мама и Лена ехали в одном вагоне, а я – в другом, с лошадьми. Хорошо помню пристань в Омске. Народ, народ – куда не глянь – народ! Узлы, сундуки, чемоданы, плачь детей, костры, котелки с подгоревшей кашей. Для нас – подростков, – это путешествие в неизвестность было скорее романтикой, но взрослые, конечно, понимали, что к чему. Мужики собирались кучками и вели беседу о том, куда нас везут, и что там каждого ждет. Этого никто не знал, и каждый фантазировал, как мог.
Через два дня нас стали грузить на баржи. Всего барж было четыре. На две погрузили людей и на две – скот. Это были коровы, лошади и для них корм – сено и овес. Меня с пятнадцатью ребятами из нашего села направили конюшить на последние баржи. Мама и сестренка Лена ехали на передних баржах. Теснота там была вопиющей. В трюме духота, непродыхаемый запах мочи, поноса и давно не мытого тела. На корме каждой баржи был один туалет, а нас ехало четыре тысячи. Круглые сутки стояла очередь в это необходимое заведение. Плыли по воде тридцать пять дней. Вначале вниз по течению Иртыша, а потом от его устья вверх по Оби. Вел баржи буксир «Комсомолец». На буксире были каюты, где размещали команду и сопровождающих охранников. Прислуживали им и готовили еду наши девушки.
В устье Васюгана (левый приток Оби) – один из райцентров Томской области – село Каргасок. Тут все заметили странную особенность.
Вода а Оби белесая, а в Васюгане темно-коричневая. Вливаясь в Обь, она не сразу смешивается с обской водой, а много километров, сохраняя свою первозданность, держится темной лентой вдоль левого берега. От Каргаска вверх по Васюгану плыли сто двадцать километров до устья реки Нюрольки, которая впадает в Васюган. Здесь нас высадили на пески, где Васюган круто поворачивает направо. Небольшое пространство намывных песков, нанесенных Нюролькой, устье которой напротив. За песками простиралась заливная пройма, заросшая черемушником и ивняком. Четыре тысячи ссыльных высадили на песке еще влажные от недавно схлынувшего наводнения.
Это были раскулаченные крестьяне из пяти районов Алтайского края. Волчихинский, Михайловский, Ключевской, Славгородский и Павлодарский. Баржи быстро разгрузили, и они отбыли в Каргасок, оставив на всю компанию одного милиционера. Дело шло к вечеру и все стали на скорую руку делать шалаши, чтобы укрыться на ночь. Из питания у некоторых еще остались крохи – сухари, да пшено, а большинство питались травой и ракушками. Рыбачить не умели, да и нечем. На пятый день прибыла на катере из Каргаска комендатура. Всех прибывших разбили на группы. Каждая группа будет строить свой поселок в тайге там, куда ее высадят. Поселки были пронумерованы. Мы с мамой и сестрой попали в поселок номер один. Впоследствии его назвали по нашему селу, из которого нас выслали, – Волчиха. Выше по Нюрольке наметили поселок номер два и назвали его – Славгородка.
Развозили людей на неводнике. Его тащил маленький катерок. На неводнике, грузоподьемностью пять тонн, за рейс увозили по десять семей. С утра поднялся сильный ветер. Волны в белой пене с шипением накатывали на пески. Катерок метелся в воде словно щепка, а неводник захлестывала вода. Два сильных мужика едва удерживали трап. Перепуганные дети орали во всю силушку, женщины плакали – пришла погибель, и громко читали молитвы. Свое бессилие перед стихией понимали даже самые крепкие мужики. Женщины и дети почти ползли по трапу. Мы – степной народ, впервые столкнувшись с огромными водными просторами, были ошарашены, увидев, во что буря превращает воду. С большим трудом катерок пересек Васюган и въехал в Нюрольку. Нюролька – река неширокая, волны заметно снизили свой накал. Все облегченно вздохнули, даст Бог – еще поживем.
Пять километров тащились мы вверх по Нюрольке. Наконец, катерок приткнулся к берегу. По кромке воды небольшая полоска песков. Выше – хвойная тайга, забитая щетиной непролазного багульника. Шапки белоснежный цветов покрывали его сплошным ковром. От него исходил дурманящий аромат, который смешивался со смоляным запахом пихты и ели. Тучи комаров плотно заполняли каждый сантиметр воздуха. Дышать было нечем. С неводника спрыгнули мужики, чтобы чистить от лесаи багульника небольшую поляну для высадки людей и скарба. Быстро разгрузились, и катерок с неводником отправился за следующей партией горемык.
Мы с мамой выбрали небольшое местечко метрах в двадцати от берега. Вначале ломали, вырубали багульник. Когда расчистили место под балаган, я принялся рубить жерди для каркаса, а мама с Леной резали пласты дерна. Ими мы плотно опкладывали это временное жилье. Сильно мучил гнус и голод. Пищи не было совсем. Только через три дня после прибытия сюда нам стали выдавать заплесневелую пшеницу, которую везли из дома, как общий фонд для посева. За долгую дорогу, промокнув в трюмах, пшеница заплесневела. За ненадобностью для посева нам стали выдавать ее по две ложки на человека в день. Остальное – трава и ракушки, которые собирали по берегу.
На третий день комендант организовал протницкие и заготовительные бригады. Лес готовили на месте и сразу пускали в дело. Строительство начали с большого барака. Я попал в бригаду плотников, мама на валку леса. Лена была еще мала. Она собирала прошлогоднюю клюкву, брусику, ракушки, корни осоки. Бригадиром нашей плотницкой бригады был Дробышев. Он был предельно строг. Если сделал что-то не так, врежет под загривок своим железным кулачищем – мало не покажется. Все его боялись.
Когда вся площадь под поселок была расчищена от леса, и полным ходом шло строительство жилых бараков, прибыл курьер из комендатуры. Было приказано ссыльных Волчихинского района переселить на реку Васюган. Там должен быть построен поселок Рабочий. Место это было выбрано не случайно. Рабочий строился, как крупная перевалочная база в устье реки Нюрольки. Маленькая таежная речка была судоходна только в половодье. Летом, даже в межень, по ней не мог пробиться даже маленький катерок. Все грузы, завозимые в новые поселки и леспромхозы по Нюрольке, складировались в Рабочем. А уж потом – зимой на санях, а летом на неводниках или легких баржах, везли их вверх по реке. В засушливые годы по ней можно было проехать только на лодке или обласке. Для постройки поселка из Волчихи перевели тридцать одну семью. Мы разобрали недостроенный барак, сбили бревна в длинный плот, погрузили на него свое скудное барахло и поплыли вниз по Нюрольке к новой жизни.
Вспоминая этот момент нашей ссылочной тряски, думаю – лучше или хуже для нас был этот переезд? Ведь в Волчихе мы уже почти достроили барак и вскоре могли туда переселиться. Не бог весть что, но зиму можно пережить в тепле. На новом месте все надо начинать сначала. Лето в Нарыме короткое, к зиме можно и не успеть под теплую крышу. Но много лет спустя я оценил этот переезд, как подарок судьбы, хотя и был он горьким и со слезами. Доплыли до нового места – такая же тайга, топкий берег и непродыхаемый гнус. Высадились, где была потом пристань, снова начали расчищеть площадки под балаганы. Был уже август месяц, и ночами ложился легкий иней. На третий день комендант дал указание корчевать лес вдоль реки Васюган под поселок и готовить лес для строительства.
Правда, когда мы приехали сюда, нас всех поставили на снабжение. На день раньше нас прибыла в Рабочий баржа с продуктами. На общем собрании нам объявили месячную норму. Выдавалась только мука и крупа. Плотникам – восемнадцать килограмм, женщинам – шестнадцать, детям – восемь, старикам и инвалидам – шесть. Руководил всем комендант Люберцев. Из переселенцев он назначил завхоза, бригадира и конюха. Работали от темна до темна. Мама, с больным сердцем, от плохого питания и работы на раскорчевке, едва держалась на ногах. И я совсем ослаб, но работал, не показывая своего бессилия. Когда темнело в глазах, чувствовал, что падаю – опирался о стену и ждал когда пройдет головокружение.
Строили дом коменданту, комендатуру, магазин, интернат, мосты, постоялый дом, больницу. Когда закатывалось солнце, строили свой барак, бревна которого из Волчихи пригнали сюда плотом.
Наступил сентябрь, а мы живем в балаганах. Еду готовили на костре. Стряпали лепешки вперемешку с крапивой и осиновой трухой. Суп варили из ракушек с небольшой болтушкой из муки, добавляя в изоблии траву. Рыбу ловить было нечем, да и некогда. Иногда каким – нибудь рядном удавалось на отмели поймать мелочь: это был почти праздник. Кто был посильнее, строили себе избушки в столбах. К двадцать пятому октября барак был закончен. Крышу закрыли пластами дерна, печи сбили из глины. Нары изготовили из колотых досок. В каждой из семи комнат поселили по три семьи. С нами жили семья Шимко и семья Дмитриенко. У всех в семье по три человека. Итого десять взрослых в комнате четыре на пять. Зимовали сильно голодно. Я всю зиму плотничал (в июле мне исполнилось семнадцать лет), а мама в тайге пилила дрова для пароходства. Сильно за зиму отощали. От голода и простуды я заболел «рожей». У меня воспалились грудь и спина. Вначале была краснота, а потом все тело взялось волдырями. Фельдшер обмазал меня какой-то мазью, забинтовал все туловище и велел не снимать повязку пятнадцать дней. Через какое-то время поднялся сильный зуд. Терпеть его не было сил. Когда сняли повязку, там кипла сплошными кучами вошь. Через пятнадцать дней я вышел на работу. Был предельно слаб. Есть было нечего. Пайка хватало дней на двадцать, а остальные десять – живи, чем хочешь. На работе меня ценили. Два раза за зиму я получал премию от коменданта. Один раз десять килограмм муки, а второй – хлопчатобумажный костюм. За работу денег не платили, паек и одежду выдавали авансом. Так мы работали три года. В конце третьего года получили расчет. Кто-то получил гроши, остальные остались в долгу.
Немного истории и географии Васюганья, где предстояло прожить нам двадцать лет. Земли эти принадлежали ранее остякам. Теперь этот народ называют «селькупы». Поселки остяков были расположены по всему Васюгану и его притокам. Вниз по Васюгану, в километре от Рабочего, поселок Московка. Всего там было шесть остятских домов. Еще ниже по руслу, через двенадцать километров, – поселок Забегаловка – тридцать дворов. Там работал «Интеграл» – это приемны пункт пушнины, ягод, грибов, орехов, боровой и водоплавающей птицы. Там же работала рыбозасольня, которая подчинялась Каргасокскому рыбзаводу. В Забегаловке проживало много русских. Они работали в «Интеграле» и засольне. Остяки в основном занимались промыслом.
Вверх по Нюрольке пос. Кочерма – двенадцать дворов. Между Рабочим и Кочермой – пос. Пернянга. За Кочермой шли поселки, где жили исключительно остяки: Карауловка, Остров, Мыльджино, Чворовая Нижняя, Чворовая Верхняя, Окуневка, Туксига, Калатушка, Черымово. В своих поселках остяки жили только зимой. Весной, летом и осенью кочевали. Во многих местах по рекам, озерам, старицам у них были юрты. Их остяки называли «карамо». Сверху на жерди натягивалась кожа лося, а внутри шкуры оленей и медведя по всему полу. Шкуры служили одновременно и постелью. В центре юрты в холодное или дождливое время горел костер. Дым выходил в дыру юрты в потолке над костром. Нюролька в среднем своем течении резко поворачивает на юг в сторону Барабинской степи. Здесь очень красивае места. Болот мало. Пышные заливные луга, которые рассекают небольшие речушки. На сухих гривах кедрачи, занимающие огромные территории. Много черемухи, малины, смородины, других ягод, изобилие белого гриба и сырого груздя. Царство непуганого зверя и птицы.
В период Октябрьской революции, спасаясь от террора, бежали сюда богатые люди. Они построили поселок Староверов. Когда неразбериха в стране улеглась, погубив столько народу, что едва наша многострадальная земля чуть было вообще не осталась без людей, новая власть принялась отыскивать ускользнувшую от возмездия «контру». Нюх у нее был отменный. Выследили и нашли староверов, хотя отыскать в дикой тайге крошечный поселок, по сути, было невозможно. Убивать их не стали, а приказали организовать колхоз и встать на учет в Каргасакской комендатуре. Наверно, впоследствии могли с ними расправиться. Однако, староверы оказались хитрее. Зимой на своих лошадях, собрав скарб и скот, бросили дома и скрылись в неизвестном направлении. С тех пор о них ничего не известно.
В этих краях водилось бесчисленное множество разного зверя. А в 1933 году завезли соболя, норку и бобра, запретив на них охоту. Промысловики следили за пушистыми новоселами. Через несколько лет, когда они достаточно размножились, их стали вылавливать и переселять в другие места.
По Васюгану, вверх по течению от Рабочего, были остякские деревушки и три русских села: Шкарино, Седельниково и Средний Васюган. В этом селе до революции жили богатые люди. Они занимались скупкой пушнины у остяков, имели свои засольни и склады. У них в собственности были буксиры и баржи. Все, принятое от остяков, загружалось на баржи и буксир тащил их до Томска. Там продавали сами или сдавали в магазины по хорошей цене. Обратно везли: спирт, муку, сахар, спички, керосин, мыло, чай, крупу, соль и другие товары.
***
Прошли первые зимы ссылки тридцать первого и тридцать второго годов. Весной комендант назначил старостой Рабочего Кулешова Наума Сафоновича. Из района поступило распоряжение корчевать тайгу под пашни. Раскорчевку нетронутой тайги легко можно назвать каторжной работой. Огромные пихты, ели, кедрачи – густо теснились между собой, напоминая строй непобедимых богатырей, защищающих свои владения. Рубить такой лес было жалко. Падая, каждое дерево несло свой неповторимый шум и, грохнувшись о землю, издавало предсмертный тяжкий стон. Особенно жалко было крушить кедрач. На его ветках наливались зародыши шишек. Стволы после обрубки сучков отправлялись на строительство и на распиловку доски. Свалить дерево – не самая трудная работа, а вот выдернуть пень – проблема. Корни толстые, напитанные смолой, глубоко уходили в землю. Надрываясь, корчевали пни и мужчины, и женщины. Под кроной леса земля оказалась глинистой, было понятно, что без удобрения ничего на ней не вырастет.
На третье лето была организована артель. Кулешова назначили председателем. Завхозом Шапкина Владимира Михайловича. Привезенные лошади поступили в распоряжение артели. На той стороне Васюгана, после наводнения, распахали луг и на двух гектарах посадили картошку. На черноземной луговой земле картошка уродилась крупной, и было ее много. К этому времени Кулешов построил себе дом с большим погребом. Больше в поселке погребов не было. Жили еще в бараках и шалашах. Осенью каждой семье раздали по мешку картошки, остальную ссыпали в погреб Кулешову. Он потихоньку ее продал, оставив только на семена и для себя. Народу отчитался тем, что она у него сгнила. Мама отнесла Кулешову одеяло, тогда оно называлось «коневое» и получила за него ведро картошки и ведро очисток.
В это время в Рабочем организовали «многоловку», как Райпотребсоюз. В ее контору были назначены грамотные люди. Заведующим стал Шапкин Михаил Кондратьевич – отец Владимира Михайловича. До ссылки он работал лесничим, имел чин полковника. На должность главбуха был принят Баринов Петр Михайлович. До ссылки он работал экономистом госбанка. Завторгом назначили Колмагорова Ивана Даниловича. В Волчихе, до ссылки, он работал управляющим заготпункта. Снабженцев стал Чикмачев Гаврил Алексеевич.
Кулешов был мужиком опытным, хотя и имел всего четыре класса церковной школы. Он взялся за работу круто. Под его руководством построили смолзавод, лесопилку, была организована бригада рыбаков. На лесопилке лес пилили вручную маховыми пилами. Ножами щепали дранку под штукатурку для отделки внутри помещения. В бондарке кололи клепку для бочек, собирали бочки, делали сани, телеги, столы, лавки, табуретки. Нестроевую древесину пилили на чурочку для топки парохода и буксиров.
В двенадцати километрах от Рабочего вверх по течению впадает в Васюган небольшая речка Кагальтура. Места здесь сухие, ягодные. Во всех озерах, заливах и протоках очень много рыбы. Но главное – огромные пихтовые рощи – сырье для пихтового завода, который здесь и построили. Завод считался молодежным предприятием. Девушки и юноши жили в бараке, срубленном из сырых бревен. В углу стояла железная печь. Ее топили круглосуточно. С потолка все время капало. Спали все подряд на нарах из жердей. Постель – пихтовая лапка. Питание скудное. Огородов тогда еще не имели, рыбу ловить было нечем, а пайка на месяц не хватало.
В этом же году построили контору артели. Счетоводом Кулешов назначил Елизарова Владимира Кузьмича. Сын зажиточного крестьянина из Волчихи. Поговаривали, что ему удалось вывезти в ссылку весь свой капитал в золоте. Для лошадей конюшню построить еще не успели, и Кулешов раздал коней своим приятелям. Они ездили на них в Каргасок, в торгсине отоваривались продуктами: мукой, крупой, сахаром, солью, жирами, мылом, монофактурой, домашней утварью. В Рабочем все продавали за большие деньги. Эти дельцы драли со своих братьев по ссылке три шкуры. Такая же история и с коровами. Коровника еще не было, и комендант раздал «буренок» по своему усмотрению. Коров было шесть штук, а семей в Рабочем – полсотни.
Коменданты менялись часто. После Люберцева был Будков, потом Иванов. При нем я работал плотником, был на раскорчевке, иногда рыбачил с бригадой рыбаков. Комендант Иванов был очень строгим и любил дисциплину. Кулешов в это время считал себя лицом неприкосновенным, и воровал казенные деньги, не стесняясь. При расчете артельщиков они со счетоводом Елизаровым составляли ведомость расчета в цифрах. Когда, скажем, неграмотная женщина получала аванс девять рублей, а вместо подписи ставила крестик, они перед девяткой ставили единицу, получался аванс девятнадцать рублей. Десятка отправлялась в карман мошенникам.
Однажды заболела моя сестра Лена. Ее положили в больницу. Там работал фельдшер, а скорее, коновал Скрыпка. Медсестрой была Тоня Иглевская. У Лены признали расстройство желудка и начали лечить грелками. Но лучше ей не здоровилось. Однажды шел с работы домой на обед и как обычно заглянул ее проведать. Она сидела на койке в палате повеселевшая, и говорит мне: «Братка, мне стало легче и завтра меня выписывают». Пришел домой, поделился с мамой хорошей новостью, и мы сели обедать. Полчаса спустя, гляжу в окно – бежит к нам Тоня: «Скорее идите, умерла Лена». Остались мы с мамой вдвоем. Позже Скрыпка догадался, что у нее был заворот кишок от тяжелой работы.
В тридцать третьем году мы перешли из барака в свой домик. Нам досталось красивое место. Бугорок над поймой, внизу круглое озерко, из которого мы брали воду, за ним лужок, потом залив – Курья, отделенная от Васюгана полуостровом, за которым блестела коричневой водой река. Просматривалась красота заливной поймы почти до горизонта. Только любоваться этой прелестью не было: ни времени, ни сил, ни настроения.
Сколько помню свою маму, она еще на родине все время жаловалась на боли в сердце. В год перехода в свой домик она сильно заболела. Я увел ее в больницу. Полежала она там всего три дня. Захожу ее проведать, Скрыпка говорит: «Забирай свою мамашу. Ничего у нее не болит – увиливает от работы!» Кое-как довел ее до дома. Ночевать позвал старушку. Один побоялся с ней остаться. На другой день пошел к коменданту за разрешением вести мать в кустовую больницу. Он направил меня к Кулешову, чтобы дал лодку и человека в помощь. Кулешов усмехнулся и ответил: «Лодка нам в артели самим нужна, а людей лишних у меня нет. Вези свою тунеядку сам – не маленький». Было мне в тот год девятнадцать лет.
Добрые люди дали лодку и весло. Пошел домой, взял посталь для матери и постелил на дно лодки. Мать положил на плечо, понес к берегу, а тяжести не чувствовал – она уже совсем высохла. Прикрыл ее холстиной и повез в Чижапку, где была кустовая больница. Гнать лодку было тяжело, потому что приходилось одновременно грести и поддерживать мать. Она металась от сильной боли и мочила полотенце, прикладывая себе на грудь. На закате солнца мы добрались до поселка Желтый Яр. Мама запросила молока. Я поднялся в гору к домам. Денег у меня не было, но люди сочувственно отнеслись к моей беде и дали кринку молока бесплатно. Мама пить не стала, говорит: «Мне стало лучше. Потом попью. Давай скорее ехать, а то еще далеко».
Проехали еще километров восемь, и так быстро стемнело, что не видно стало берегов, кругом поблескивала вода. Я остановил лодку и понял, что заблудился. Ехал-то я по течению, а тут вижу – вода идет мне навстречу. На Васюгане бесчисленное множество проток, заводей, курьюшек, стариц – сбиться с пути, да еще ночью, – ничего не стоит. «Мама, – говорю, – мы заблудились». Она подняла голову: «Давай, греби к берегу. Переночуем, а завтра разбужу тебя пораньше, и там разберемся». Я лег рядом с ней, укрылись одеялом. Измучился за день, устал до последних сил и сразу уснул, как убитый.
Утром проснулся – солнце уже давно поднялось над горизонтом. Сразу обратил внимание на мать. Думаю, почему она меня не разбудила? «Мама, – говорю, – ты обещала разбудить меня пораньше, а солнце уже высоко». Она молчит. Приложил ладонь ко лбу, а голова холодная. Правая рука лежала на сердце и была белая, как снег. Я понял – маму потерял еще вечером. Сел на беседку в лодке и не знаю что делать.
В это время шли колхозники на покос. Оказывается, мы заблудились недалеко от поселка Курулдай. Женщины подошли ко мне и спросили, что случилось? Я как мог рассказал о своей беде, даже пожаловался на Скрыпку и Кулешова из-за которых потерял мать. Они выразили мне сочувствие и сказали, что зло без наказания не останется, а мне надо взять себя в руки и похоронить мать достойно. Ехать в Рабочий с мертвой матерью не надо, – на воду это займет дня три, тем более, что у меня там нет никого из родни, кто помог бы в похоронах. Посоветовали похоронить мать на их деревенском кладбище.
Я подъехал к деревенской пристани, только сошел на берег – подходят две старушки. Немного постояли возле мертвой матери, посочувствовали мне и сказали, чтобы шел в контору к председателю колхоза и просил помощи. Сами вызвались обмыть тело и найти для покрывала холст.
Председатель, фамилию его не помню, оказался на месте. С ним еще был агроном Аргутов. Он дал двадцать пять рублей на похороны, а могилу мы копали с председателем вдвоем. В это время на конюшне запрягли лошадь в ходок и к берегу мы подъехали на транспорте. Мать уже лежала в гробу, одета и накрыта холстом. Хоронили вчетвером – мы с председателем и две старушки.
Вот до чего закаменело сердце, – за весь день я даже не заплакал, а хоронил мать, как чужую женщину. Но когда вернулся с кладбища и подошел к лодке, которая была пуста, а на рыбачьих вешалах покачивало ветром одежду и постель матери, у меня кепка поднялась на кудрявой шевелюре. От ужаса волосы встали дыбом. Не помня себя, я рухнул лицом на какой-то пень и ревел, как зверь, изнемогая от горя. Куда идти? Куда ехать? В Рабочем кроме могилы сестры, никого нет. Бежать? Поймают, да и куда?
Время двигалось к вечеру, когда нашел в себе силы выехать в обратный путь. На закате доехал до Желтого яра. Там решил переночевать. Развел на берегу небольшой костерок, повесил котелок с водой, присел на бревнышко, смотрю на огонь, а в голове не единой мысли о моем дальнейшем пребывании на этой негостеприимной земле. Поплыл, как по течению. Надо ехать – еду, а куда, зачем, а главное – к кому?..
Пишу эти строчки, когда мне за семьдесят, а такого горя, такого пережитого ужаса никогда больше не испытывал. Всю жизнь помню это, как самое страшное из того, что ожидало меня еще впереди.
Ко мне подошли мужики. Они собирались рыбачить неводом, а лодку кто-то угнал. Спросили, – можно ли поехать на моей? Пригласили и меня с собой. Рыбачить неводом я уже умел хорошо. Меня посадили на корму лодки, как заправского башлыка. Прямо у деревни забросили снасть и потянули. Было их шесть человек. Я сижу на корме и расправляю невод. Поймали центнера три. Насыпали почти целую лодку, а сверху загрузили невод. Лодку гнал я, а мужики шли по берегу. Они набрали себе рыбы кому сколько надо, а в лодке осталось еще центнера полтора.
Думаю, – что мне делать с этой рыбой? Второй день пошел, как во рту не было ни крошки, а есть не хотел. В темноте с берега разглядел избушку и решил попроситься ночевать. Там жили старик и старушка. Как оказалось – очень славные люди. Пустили меня в дом без разговоров. Я сбегал на берег, набрал крупной рыбы, нам хватило на ужин и на завтрак. Утром еще притащил старикам рыбы и отправился дальше. Вот до чего были честные люди, – за ночь никто не взял из моей лодки ни одной рыбешки.
Еду, а рыбы в лодке еще порядочно. Ладно, думаю, повезу, если протухнет, выброшу за борт. Проехал всего километра четыре – навстречу большая лодка с парусом. В ней человек десять.
– Рыба есть? – Кричат.
– Есть! – Отвечаю.
Подьехали к берегу. Они купили у меня чеыре ведра и дали десять рублей. Это была экспедиция таксаторов. Я подрастерялся, не веря своим глазам. Таких денег давно не держал в руках. От волнения забыл сказать им «спасибо». Проехал еще километров пять. Вдруг слышу, стучит катер – нефтянка. Она так гремит, что слышно ее по реке на несколько километров. Приближаюсь к катеру, слышу, кричат:
– Рыба есть?
Заглушили они мотор, я подъехал ближе. Они признали во мне остяка. На катере мне дали за пять ведер рыбы – восемь рублей. У меня в кармане оказалось восемнадцать рублей. По тем временам это была значительная сумма, считай, зарплата за месяц. Отдохнуть и пообедать остановился на берегу возле поселка Тюкалинка. Рыбы оставалось еще с ведро. Развел на берегу костер, начистил котелок рыбы, а соли нет. Вспомнил, что продавцом в Тюкалинке работает Терехов. Мы с ним в Рабочем плотничали в одной бригаде. Соль в первые годы ссылки была большим дефицитом и продавалась только своим – поселковым. Терехов соль мне не продал, хотя и просил я всего одну ложку. Он ответил, что соль у него на подотчете, а вас тут много проезжает. Ладно, думаю, поем без соли. Хлеба тоже нет.
В это время, гляжу, идет по берегу Беленко Фрося. Она тогда работала в Тюкалинке зав. яслями. Поздоровались. Я рассказал историю смерти матери и про соль. Она сбегала в поселок и принесла мне целый килограмм. В тот день у костра мы долго разговаривали. Это была первая встреча с твоей матерью. К вечеру подъехал к Уралке. Там купил рубашку, хлопчатобумажный костюм и кепку.
Мать умерла в то лето, когда мы перешли жить в свой домик. Лес на дом готовили на том же бугорке, где и построились. Там позже родились и вы. Бревна по снегу волочили веревкой, перекинув ее через плечо. Весной ночами я рубил сруб, мама таскала мешком из болота мох. Она уже тогда сильно болела, но нужен был свой дом, своя крыша над головой, в первую очередь для больной матери. День работы на раскорчевке – выматывались из последних сил. Но ночью, будто сам Бог вдивал в нас энергию – ведь мы строили свое, хотя и скромное жилье.
Приехал я в Рабочий, подошел к дверям своего домика, открыл дверь, а войти не решился. Из комнаты на меня пахнуло холодком и до такой степени одиночеством, что, уцепившись за косяк, завыл, как собака. Переступить порог так и не решился. Ночевать пошел проситься к соседям.
В новом доме прожил всего зиму. Весной раскопал огород и посадил восемь ведер картошки. Умудрился даже сделать три грядки под турнепс, морковку и редьку. Земля здесь бедная – глина, глина. На нашем бугорке была небольшая низина – болотина. Я раскорчевал ее, а там мох сфагнум, а под ним – торф. Изо мха сложил грядки, сверху присыпал глиной и песком. Думал, что-нибудь да вырастет. Не до жиру, как говорится. Все лето работал плотником. Приходил домой с заходом солнца. Немного перекусывал, если было чем, а потом полол огород и поливал грядки. С питанием было туго, но острого голода больше не испытывал. Давали паек: мука, крупа, жир и соль. Наловчился ловить рыбу. Небольшую, мелкой ячейки сеть дал мне парень, остяк, мой ровесник.
Встретил его случайно. Как-то ночью после работы, брел берегом Нюрольки в поисках ракушек и наткнулся на обласок, у берега. Парень, остяк, складывал в него сети. Мы немного поговорили и познакомились. Звали его Андрей Пернянгин. Он дал мне небольшой обрывок сети и показал, как этой снастью можно поймать щурят на мелководье. Для того, чтобы поставть сеть по всем правилам, нужен обласок. Но о такой роскоши можно было только мечтать. После смерти матери стал понемногу приходить в себя. А потом круглосуточная работа так выматывала, что в короткую передышку спал, как убитый.
Осенью Беленко Сергея Константиновича (будущего твоего деда), Колтуна Ивана, Кунгина Ивана и меня Кулешов отправил в Тюкалинку строить детский дом. Мне разрешили выкопать огород. Овощи я ссыпал не к себе в погреб, а к соседке Дарье Михайловне. В свой домик на зиму пустил сапожника, калеку Никифора Козарезова. Детский дом мы построили за два месяца. Мужики пешком отправились в Рабочий, а меня директор детдома пригласил на работу с детьми. Там я был сыт, одет, обут. Однако, благополучие мое было недолгим. Кулешов, узнав, что я хорошо устроился, срочно приказал мне отбыть в Чижапку на строительство средней школы. Заступиться за меня некому. Комендант подкинул строго: « Не пойдешь добровольно, отправлю под конвоем».
Ч И Ж А П К А
Директор детдома вызвал меня к себе. Очень хороший был человек. Фамилия его Коренных: «Вот что, Николай, – сказал он мне, – отстоять я тебя не смог, не в моих это силах, но малость для тебя могу сделать. Зайди на скад и передай кладовщику вот эту записку. По ней он отпустит тебе продукты. Возьми сколько сможешь унести. В Чижапке тебе придется туго». Кулешову, выродку и бабнику, он пожелал много нехорошего, о чем писать не положено. Кладовщик выдал мне тридцать килограммов муки и крупы, пять – лапши, сахар, соль, хлеб, сливочное масло и три килограмма соленого мяса. Кроме продуктов – постельные принадлежности: одеяло, подстилка, подушка, тулуп и плотничьи инструменты. Набралось около восьмидесяти килограмм. Смастерил большие санки, погрузил свое добро и пешком отправился в Чижапку.
Был конец декабря. Мороз лютовал, а путь лежал долгий – сорок километров. Из Тюкалинки вышел засветло, с расчетом к вечеру прибыть на место. Шел по зимнику, который в ледостав прокладывают по Васюгану. В Нарыме меня выручало хорошее здоровье, заложенное природой. Как бы ни голодал, как бы ни надрывался, а выпадет случай поесть досыта, да поспать лишний часок, – уже готов гору свернуть.
В Чижапку добрался поздним вечером уставший, заиндевелый. Поместили меня в барак. Общие нары, засланные соломой, холод, грязь. Посредине помещения длинный стол, в углу железная печка. Варили каждый себе. На печи всем котелкам места не хватало. Набралось нас пятнадцать человек. Мороз с сорока градусов не сдвигался. Рабочий день десять часов. Труд был чудовищно тяжким. Лес мерзлый, как стекло, а его надо окантовать, ошкурить, вырубить угол, а уж потом в стену.
Продукты мной были быстро съедены, остался на пайке и стал голодать на полную силу. Ел много, ведь работа тяжелая, на морозе. Дома была картошка, но привезти ее было некому. Потом я узнал, что ее уже съели. Напрасно все лето старался с огородом. Пришлось с большим сожалением продавать тулуп. Дали мне за него два ведра картошки, десять штук редек и десять штук турнепса. В бараке все ополовинили, а через неделю я опять голодал. Паек выдавали только хлебом – семьсот грамм в сутки. Его мы съедали утром за один присест. В обед и вечером подсоленный кипяток, чтобы сбить голод.
Всего на школе работало шестьдесят человек. Сюда же входили вальщики леса и возчики. На тес и плахи лес пилили маховыми пилами, вручную. На этом поприще работал и я. Напарником был Гардусенко Иван. Лодырь, каких мало, хитрый и лукавый. Месяц с ним помучился, мы даже норму не выполняли, а потом выгнал его и взял в напарники Кучина Володю. Он был левша, но мужик ловкий и сильный, старше меня на пятнадцать лет. Стало мне легче и зарабатывать стали больше – до тридцати рублей в месяц. Заработка хватало только выкупить паек.
Прорабом был Криворотов. Сказать, что был строгим – ничего не сказать. Был зверь, людоед. Издевался над плотниками как хотел. За малейший промах – штраф до десяти рублей. Это треть зарплаты. Приходилось продавать часть пайка и выкупать остаток. Одежда на стройке изнашивалась быстро, а спецодежду тогда не выдавали. Купить не на что. Платили за работу ровно столько, чтобы выкупить паек. Несколько раз на постоялом дворе встречал Кулешова, когда он ехал в Каргасок. Просил привезти мне картошки из Рабочего, но в Каргасок он ездил со своими любовницами, и для моей картошки в «кошевке» места не было. На мне износилась фуфайка и валенки, а штаны и штопать было не за что. На кальсонах остались одни лохмотья.
Подковырял проволокой валенки, наладил санки и решил бежать. Вначале мелькнула мысль добраться до Новокузнецка. (Я знаю город будет, я знаю – саду цвесть, когда такие люди в Стране Советской есть). Так Маяковский написал про Новокузнецк, когда там побывал. Строился в Новокузнецке огромный металлургический завод и сам город. Стройка требовала неограниченное число рабочих рук, потому на работу брали всех – с документами и без. Убежавшие, если им, конечно, удавалось «умыкнуть» из ссылки, устраивались на стройку в Новокузнецке.
Ночь перед побегом совсем не спал. Ворочался, прикидывал и так, и эдак, продумывая план рисковой задумки. Кто-то меня выдал и чуть свет я сидел у коменданта на квартире. Фамилия его была Черных. За время двадцатилетней ссылки много сменилось комендантов в Рабочем и других поселках. Не о многих осталась память как о порядочном человеке. Коменданта Черных всю свою жизнь вспоминаю с благодарностью. Он был очень добрым человеком. Несколько раз по моей просьбе выдавал мне дополнительный паек. Осмотрел он мою одежду, вернее, лохмотья, крякнул, как-то по-отцовски и говорит:
– До Каргаска от Чижапки шестьдесят километров. Тебя даже ловить не будут. Через десять километров в такой одежде, босой и голодный замерзнешь на радость волкам. Садись, поешь, а потом иди к прорабу. Я напишу ему, чтобы сделал тебе расчет и ступай в Рабочий. Вашему коменданту напишу, что тебя отпустил. Про побег забудь. Не такие ушлые погибали зимой и даже летом.
Криворотов начислил мне окончательный расчет – три рубля сорок три копейки. Полагалось за полмесяца пятнадцать рублей. Остальное он удержал за квартиру – сырой промерзший барак. Узнав об этом, Черных приказал сделать перерасчет. Криворотов пересчитал и выдал еще рубль.
Был апрель тридцать пятого года. Я шел по васюганскому зимнику, сильно таяло. Портянки вывались из рваных пимов, намокли. И пимы тоже хоть выжимай. Пройдя шестьдесят километров, глубокой ночью я добрался до дома. За весь путь ни разу не поел – было нечего. Дома, не раздеваясь, просидел до утра и побежал к Дарье Михайловне. Думал, наберу сейчас картошки, редьки и турнепсу, наварю и наемся досыта. Женщина встретила меня со слезами на глазах, явно притворных, печально доложила, что картошка сгнила и она ее выбросила. Полезла в погреб, достала два ведра мелочи, как горох:
– Вот, Колюшка, все, что уцелело.
Принес я это счастье домой, сварил, поел и пошел в баню. Я был оборван так, что грешное тело сверкало из дырок со всех сторон. Старуха Некрасова, моя соседка, дала мне покойного деда холщевые кальсоны и холщевую рубаху. В те годы во всех общественных банях были коморки для обжаривания одежды от вшей. Там я прожарил свои лохмотья, хорошо помылся. Дома, как мог, затянул нитками дыры. На завтра была Пасха. Мы, еще не совсем отбитые властью от Бога, считали ее главным праздником в году. В Рабочем Пасху праздновали подпольно. Позже, года чепез два, когда я уже работал бригадиром на раскорчевке, женщины попросили меня в этот светлый праздник отпустить их после обеда домой. Я их отпустил, а сам остался на деляне и продолжал работу. За такое самовольство комендант меня арестовал, и две недели я сидел у него в кладовке, как в тюрьме.
Утром на Пасху я ел мелкую картошку, вспоминал родителей, сестренку, наш дом на родине. С восходом солнца звенели на все село церковные колокола. Праздничные столы ломились от еды. На улицах гуляние: нарядные люди, гармошки, балалайки, песни, игры. Кому надо было все это поломать? Надел свою драную робу и отправился на улицу. На бугорке перед первым мостом собралась молодежь. В низинах снег еще держался за землю, а бугорки уже просохли. Было тепло и безветренно. Солнце, как и положено в Пасху, ослепительно сияло на голубом небе. На бугорке радовалась Пасхе гармошка, а девчата пели что-то грустное. Я до них не дошел, сел поодоль на огородное прясло и стал смотреть, как гуляет молодежь. Посидел с часок, чувствую – слезы на глаза наворачиваются. Не хватало еще расплакаться. Поднялся и ушел домой.
По пути к дому меня встретила Кулешова Варвара Кузьмовна – жена Кулешова. Остановилась, даже поздоровалась со мной, чему я крайне удивился.
– Колюшка, – сказала она мне, – Наума Сафоновича сняли с рабрты.
Я сделал вид, что удивился и сочувственно спросил:
– За что?
– Говорят, что заворовался.
Я кивал головой, слушая ее, и делал печальное лицо, все-таки мы из одного села, а про себя думал, что Бог наказал ворюгу. Весь день просидел дома, а утром пошел к коменданту Иванову. Показал ему справку от коменданта Черных, который писал о том, чтобы мне выдали одежду, обувь и продукты. Иванов выписал мне двадцать килограмм муки, крупу, сахар, соль, масло, кирзовые сапоги, пару белья, фуфайку и рабочий костюм. Все бесплатно. Наверно, он пожалел меня – молодого работящего парня, одетого хуже побирушки. От коменданта я пошел к Звягинцеву. Он был назначен председателем артели вместо Кулешова. Счетоводом поставили Богера. Хороший, токовый мужик. Главными работами в поселке были, конечно, раскорчевка и строительство.
– Пойдешь пока на раскорчевку, – сказал мне Звягинцев, – в помощники возьмешь мою жену и жену Богера.
Много мог бы сказать о девушках и женщинах, сосланных в Васюганье. Ссылочная заваруха для них во сто крат оказалась тяжелее, чем для мужчин. Нечеловеческие условия жизни, умирающие от голода дети, надрывная работа на раскорчевке леса, на смолокуренном и пихтовом заводах. Мои слова мало что скажут и заденут за живое, а я и сейчас готов снять перед ними шапку и склонить голову. Не подобрать мне слов, чтобы дать нашим женщинам достойную характеристику. Они были НАСТОЯЩИМИ. Да и вам, девчонкам, родившимся здесь в войну, тоже перепало. Сама, дочка, знаешь.
Кулешов до суда был направлен на раскорчевку и работал один. Мы с помощницами хорошо сработались и стали давать двойную норму. В работе май пролетел незаметно. Мои подручные относились ко мне хорошо. Я не давал им тяжело поднимать, а ворочал сам. Они только подчищали площадку, вырубая мелкий березняк и осинник. Пни и колодины я выкорчевывал один. Думаю, что они же позаботились о том, чтобы председатель выдал мне премию за хорошую работу. И мне выдали хлопчатобумажный костюм, пару белья и рубашку. Я выглядел уже парнем, но с девушками не встречался, – было не до дружбы.
МОИ СЕРДЕЧНЫЕ ДЕЛА
Иду как-то вечером с раскорчевки, устал до последнего вздоха, голодный до тошноты. Паек давно кончился. Выдавали сразу на месяц, но точно распределить продукты по дням трудно. Крапиву вокруг огорода давно съел. Иду и соображаю, где бы раздобыть ракушек и крапивы? Хотел наварить котел побольше, чтобы хватило и на утро. Гляжу, у магазина стоят Кулешов и Скоморохов. Кулешов от суда легко отделался. За время председательства успел наворовать столько, что подкупить таких же дельцов не составило труда. Вместо тюрьмы его назначили председателем на Тюкалинку. Выглядел он молодцевато: побрит, одет, как франт, улыбка до ушей. Он окликнул меня, я остановился.
– Что ж, Николай, ты все бобылем ходишь? Живешь один, как барсук. Одному жить вредно. Спроси хоть у кого.
Хотел сказать ему, что живу один, потому что ты угробил мою мать, но промолчал. В это время я ненавидел его до скрипа зубов. Кулешов улыбался и продолжал издеватьтся:
– Надо тебе, парень, жениться. Вон бери Нюрку Фигурову. Хорошей будете парой. Лучше тебе не найти.
Фигурова Анна была девушкой некрасивой, с кривыми зубами и кривыми ногами. Ее мать звали цыганкой, потому что она занималась ворожбой. Анна была лодырем, каких поискать, но мать в ней души не чаяла – любила и баловала. Во мне вспыхнула обида. Набрался наглости и ответил:
– Наум Сафонович, Нюрку придетсч тебе брать в жены. Твоя Варвара Кузьмовна стара и больна. Нюрку ни один парень в жены не возьмет, а ей ничего не останется, как выйти за старика.
Кулешов залился в смехе и продолжал издеваться:
– Бери тогда Фросю Беленко.
От такой наглости я остолбенел. Фрося была красавица. Прекрасно пела, веселая, работящая. О такой невесте я и подумать не мог. Сделал вид, что не заметил его издевки и бодро ответил:
– Вот Фросю и возьму! На свадьбу приглашу тебя первого.
– Ну, ну, – хмыкнул Кулешов.
С тем и отправился я домой варить свой травяной суп.
В начале июля прибыл в Рабочий старшина по обставке Васюгана бакенами. Фамилия его Нестеров Степан Петрович. Ему требовались два гребца на лодку. Работа была рассчитана до ледостава. Мои напарницы по раскорчевке, попросили своих мужей – начальников – Звягинцева и Богера направить одним из гребцов меня. Пусть парень отдохнет.
Через неделю Кулешов уехал в Тюкалинку принимать колхоз, а я ушел работать гребцом. Зарплату мне положили шетьдесят рублей в месяц, да пятнадцать рублей хлебных. Зарплату следовало отдавать в артель, а хлебные оставлять себе для выкупа пайка. Вторым гребцом взяли Безотесного Сергея. Он был старше меня на год. Работа гребца тяжелая, зато мы сразу подружились с Сергеем и нашим начальником степаном Петровичем. Три человека – это весь наш коллектив.
Работа пришлась мне по душе. В начале июня вода стояла еще большая. Пока не обозначился межень, мы больше отдыхали и подрабатывали на перевозке пассажиров. Катера тогда были редкостью, ездили на лодках и обласках. На подработке мы получали в месяц по полсотни рублей и больше. Эти деньги не сдавали в артель, они шли нам в карман. Хлеб на каждого выдавали из сельпо по килограмму в день. Остальные продукты покупали в охотничьих магазинах, потому что установка бакенов предназначалась для безопасного прохождения транспорта рыбаков и охотников.
Когда я отъелся и появился небольшой остаток хлеба, стал раздавать его таким же горемыкам, каким был сам. Оставшихся без родителей детей было так много, что интернаты, построенные почти в каждом поселке, не могли приютить всех. Русских детей-сирот с большим удовольствием забирали к себе остяки, воспитывая их как своих. Был на Нюрольке дед – остяк, по фамилии Осачий. Он ходил по поселкам ссыльных с плакатом, где было написано: «Принимаю сирот». Много наших украинских девушек вышли замуж за остяков, спасаясь от голодной смерти.
В свой дом на лето я пустил жить Некрасовых. В семье их было шесть человек: две девушки и два сына. Старший из них был Никифор. Он от рождения был калека и таскал непослушные ноги на двух костылях. Никифор остался сапожничать в своем доме. Я ночевал у него. Возле умывальника мне втиснули топчан. День и вечер я был занят на работе, а спать мне было все равно где. Питались с семьей Некрасовых мы вместе. Все заработанные мной деньги, продукты, пойманную рыбу, дичь, орехи отдавал в общий котел. Мы жили одной семьей. Они любили меня, считали сыном и думали, что я женюсь на одной из их дочерей. Но я не собирался на них жениться. Они были хорошие девчонки и старались для меня, но мне, здоровому парню, идти в примаки!? Нет, увольте! Я должен сам организовать свою семью и женюсь на той девушке, любовь с которой будет взаимной. Гордости у меня было хоть отбавляй, хотя и нищий. Я и сейчас думаю, что поступил правильно. Был такой Сашка Иващенко. Сирота и тоже нищий. Взяли его к себе тесть с тещей, а потом всю жизнь упрекали, что из дерьма вытащили. А Сашка пахал без разгиба на все их семейство. Теще все было мало, она бегала по деревне и всем жаловалась на своего непутевого зятя, которого они по доброте душевной пустили к себе в дом. Оказывается, промахнулись с кормильцем.
Однажды, в начале августа, едем мы на своей бакенской лодке из Шкарино в Рабочий. Было очень жарко, и мы по очереди купались, прыгая из лодки в Васюган. К вечеру остановились на песках напротив устья Нюрольки. Развели костер, повесили на палочках над костром рыбу, наладили чай, и пока готовилась еда, стали обсуждать предстоящую в Рабочем вечеринку молодежи. Ни у кого из нас девушки не было. Решили бросать жребий. Написали на бумажках имена девчат и стали тянуть. И совсем неожиданно мне выпала Фрося Беленко. Она тогда дружила с Суязовым Владимиром. Отчаянный парень. Его в деревне побаивались. Все драки между ребятами затевал он, но и сам зачастую ходил в синяках, как черт. Я по характеру не задира, конфликтов избегал, но если случится постоять за себя, то врежу между глаз, – мало не покажется. Девушку, которая выпала по жребию, нужно было обязательно проводить с вечеринки. За невыполнение мы придумали какое-то наказание. Я задумался, как быть? С одной стороны попадет от Володьки, а с другой – от своих ребят.
Приехали в Рабочий, пришли на вечеринку. Это место мы называли «точек» – за вторым мостом между домами Беленко и Рыбакова. Молодежь собралась быстро, зазвенела балалайка, все пошли танцевать. Я с разбегу – будь что будет – пригласил Фросю. О Суязове почем-то даже и не вспомнил. Оказалось, что в тот вечер на «точке» его не было. Мы с Фросей покружились, покружились в этой толкучке и ушли. Был теплый, тихий вечер. Гнус уже пропал. Мы пришли на пристань, уселись на бревно. Бревен на берегу навалено много, их сплавляли по Васюгану к Рабочему с мест заготовок. В первый вечер нашего общения мы проговорили до утра, а потом стали встречаться, когда выпадет свободное время.
О СЕМЬЕ БЕЛЕНКО
Беленко Сергей Константинович, твой дедушка, был профессиональным портным. Он мало работал на раскорчевке, только в первые годы ссылки. Когда организовали колхоз, он был колхозным портным. За работу получал трудодни. У них с Ганной, твоей бабушкой, было семь детей. В ссылку выехали девять. В дороге два младенца умерли. Остались четыре дочери и три сына. Старшая из дочерей Анна. Судьбе ее не позавидуешь. (Не родись красивой, а родись счастливой). Красавица была твоя тетка, каких не было, нет и не будет. Темно-русая грива блестящих волос спускалась ниже пояса и была такой густоты, что бедной девушке приходилось выстрегать пряди, чтобы расчезать этакую Богом данную красоту. Ее темносиние глаза, улыбка сводили с ума парней не только в Рабочем. И жених был ей подстать – Шапкин Володя. Красивый, грамотный парень. Дело шло к свадьбе, когда он уехал в Томск учиться на агронома. Анна уже ждала ребенка. Неожиданно для всех он в Томске женился. Видимо, был расчет остаться в городе. Анна родила сына и в тот же год умерла, надорвавшись на раскорчевке. Шапкин, узнав о смерти Анны, приехал в Рабочий, забрал сына и больше у нас не появлялся.
Фрося была вторая по возрасту. В тридцать третьем году ее послали на ясельные курсы. По окончании работала в Тюкалинке заведующей яслями всго год, а потом ее направили на курсы ликвидаторов. Закончив их, она преподавала на Уралке – учила читать и писать неграмотных. Потом работала в колхозе. В колхозе работала и ее сестра – Соня. Третья сестра Мария, вышла замуж и уехала в Ростов-на-Дону. Старший из сыновей Николай, погиб на фронте, ему было девятнадцать лет. Младшие – Володя и Анатолий закончили в Новосибирске институты и в Рабочий не вернулись. Ганна, мать такого огромного семейства, работала в колхозе.
Я много раз упоминал Кулешова. Чтобы ты поняла, что это был за человек, напишу о нем отдельно.
К У Л Е Ш О В Н А У М С А Ф О Н О В И Ч
Отец его богатый алтайский крестьянин, Ксенафон Матвеевич Кулушов. Его огромные пашни обрабатывали наемные рабочие. Мужик деловой, хваткий. Не просто так разбогател он на степных алтайских просторах. И все бы хорошо, но не любил он свою жену. Жили, как чужие. Жена не совала нос ни в его дела, ни в любовные похождения.
Один забавный случай до ссылки смаковала вся Волчиха. Была у Ксенафона Матвеевича любимая женщина. Звали ее Таня Куданова. Жила она недалеко – на второй улице за усадьбой Кулешовых. Было ей около сорока. Красивая, спокойная женщина. Доход ее состоял из приема мужчин. Ксенофон в ней души не чаял, закрыв глаза на профессиональную деятельность любимой. У Ксенафона Матвеевича было два сына: старший Наум, а младший Константин. Оба женаты. Оба не обойдены умом, удалью и внешностью. Константину тоже приглянулась Таня. К ней он похаживал втихаря. Уход вечером из дома объяснялся легко – пошел играть в «очко». В то время игра в «очко» была модной, играли на деньги.
Поздней осенью забивали овец. Тушки подвешивали в амбарах. В очередной раз Константин, отправляясь к Тане, зашел в амбар, отрубил полтушки овцы: Таня без подарка не принимала. А на другой вечер к ней решил наведаться Ксенафон Матвеевич. Он зашел в амбар, взял оставшуюся полтушки барана, завернул в мешок и пошел к своей любимой. В то время ему было около шестидесяти лет, но старик был крепок и здоров. Таня велела мясо унести в кладовку. Там он увидел вторую половину овцы. Значит, здесь побывал кто-то из его сыновей. Оставалось выяснить – кто? В тот же вечер, собрав сыновей, он прями спросил: «Кто ходит к Тане?» Сыновья смущенно молчали, и отец понял – оба! И очень удивились сыновья, когда отец предложил установить очередь.
Наум Сафонович унаследовал от отца незаурядный ум, практичность и деловитость. В Волчихе, до ссылки, он работал директором молзавода. Жил в отделе от отца. Варвара, его жена, была болезной и родила Науму только сына Васеньку. Мы с ним были ровесники и на родине в Волчихе учились в одном классе. Науму Сафоновичу дети были не нужны. Он брал от жизни по полной, а на отсутствие женской ласки ему было жаловаться грех.
Любовь к женскому полу из Кулешова не выбила даже ссылка. После того, как он удачно откупился от суда в Рабочем, его назначили председателем колхоза в Тюкалинку. Там был первый по Васюгану колхоз раскулаченных алтайских крестьян. В Тюкалинке в начальной школе работал учителем сын Наума Сафоновича – Вася. Варвара Кузьмовна осталась в Рабочем. По сути она только формально была его женой и никогда не ограничивала свободу своего мужа. В Тюкалинке Кулешову приглянулась Анна Керельчук. Ей было около сорока. Муж умер в первый год ссылки. Свободного время у председателя колхоза мало, но Наум Сафонович находил его и у Анны был частым гостем. Василий, сын Наума Сафоновича, не был таким бравым молодцем, как его папа. Характером он пошел в мать. Да и внешностью не блестал. Небольшого роста, слегка полноват, с белесыми редкими волосами. Девушки его не любили. Он устал от одиночества, ему не хватало женской ласки и материнской любви. Однажды они встретились с Анной у ее дома. Немного поговорили. Анна заторопилась на работу, а Василию сказала: «Скучно будет, заходи».
Скучно Василию стало в тот же вечер. Он пришел к Анне с вином и закуской. Накрыли стол. Время подошло к ночи, когда в дверь постучали. Василий в одно мгновение очутился на печи, захватив с собой тужурку. Войдя в избу, Наум Сафонович сразу увидел Васину шапку, которую тот забыл захватить с собой в укрытие. Накрытый на двоих стол тоже намекал кое о чем. Наум Сафонович, по примеру своего отца, не стал журить сына, позвал его в сени и сказал, что к Анне будут ходить по очереди. У папаши была зазнобушка еще и в Березовке. Отец с сыном чередовались до осени тридцать пятьго года.
В тридцать шестом году Василия перевели учительствовать в Желтый Яр. Наум Сафонович не долго задержался на должности председателя в Тюкалинке. Его сняли с работы уже в конце августа. Он и здесь не утерпел и запустил руку в колхозную кассу. В это время Анна была уже беременной и после родов подала в суд на алименты. Хотя определить чье дитя она носила под сердцем, было не возможно, Наум Сафонович взял грех на себя и ему присудили двадцать пять процентов от заработка выплачивать Анне. Кулешов оказался в тупиковом положении. Ему предстояло вернуть в колхоз украденные деньги, а сумма была приличной. За трудодни он ничего не получил. Ему не выдали карточки на хлеб, поскольку они выдавались только рабочим, колхозникам они не полагались.
Работая гребцом на бакенах, я набрался сил, поправился, стал походить на парня. С Фросей мы продолжали встречаться. В конце августа нам привезли паек. Выдавали сразу на полмесяца – пятнадцать килограмм на человека печеного хлеба. Я получил свой паек и несу все пятнадцать килограмм в мешке. Гляжу, Кулешов стоит на том же месте, где предлагал мне жениться на Фигуровой. Он первым со мной поздоровался и говорит:
– Коля, дай мне буханку хлеба. У нас с Варварой совсем нет еды.
Мне так хотелось послать его в тридевятое царство, напомнить о том, что смерть моей матери на его совести. Напомнить о том, как он ее больную гонял на раскорчевку, как для умирающей не дал лодку, как за гнилую картошку она перетаскала ему последние шмотки. Да разве все перечислить! А сколько горя мне пришлось пережить в Чижапке, куда он вышвырнул меня, как щенка! Я остановился, развязал мешок, дал ему две большие булки, а сам подумал: «Пускай за все зло, что причинил он нашей семье, я отплачу ему добром». В сентябре его осудили на два года и увезли. На этот раз откупиться было нечем.
Работали мы на бакенах до ледостава, а зимой возил сено и лес.
***
Очень много уделил внимания Кулешову. Это не просто так. Всех нас, согнанных с родной земли, давил в ссылке гнет бесправия, голода и нищеты. Казалось естественным, что в такой ситуации, выживая, люди должны поддерживать друг друга, однако, все сложилось иначе. С первых же дней определились лидеры. Это были грамотные люди, с приличными материальными возможностями, незаурядным умом и железной хваткой. Естественно, что во главе всех начинаний комендант ставил именно их. Его не интересовала порядочность этих людей. На жестокое отношение к подчиненным он закрывал глаза. Одним из таких деспотов и был Кулешов.
К О Л Х О З
В конце тридцать пятого года артель получила статус колхоза с лихим названием «Боевик». Немногочисленные коровы, лошади, свиньи и кролики теперь являлись колхозной собственностью. От них должно будет возрасти поголовье. Раскорчеванные площади засеяли знрновыми, но урожай был плохой. Земля, отвоеванная у тайги, – это глина с высокой кислотностью. Навозу было мало, на все поля не хватало, и вносили его только под овощные культуры. Зерновых получали по три-четыре центнера с гектара. Несколько центнеров засыпали на семена, частично скоту и поставку государству. На трудодни остались крохи. Картошка, на удобренных навозом землях, давала хороший урожай, – до трехсот центнеров с гектара. Все, кто раскорчевал себе огород и унавозил, запасли овощи на всю зиму. Колхозная картошка шла на свиноферму, часть телятам, кроликам, ягнятам и на семена. На трудодни овощи не выдавали.
Земля под огородами тоже не радовала урожаем. Коров было мало, а глина без навоза – это не почва. Жили в основном на пайке, которого не хватало. Приходилось подтягивать живот до весны, когда можно будет ловить рыбу. Я уже писал, что в первый год ссылки комендант раздал коров по своему усмотрению. Этим семьям повезло. Они и огород свой удобрили и жили на молочных продуктах. Остальные умирали почти семьями. Были такие упертые, как твой отец, а главное – природа наградила здоровьем, и им удалось выжить. Все, кто послабее, отправлялись под елки на кладбище. Этот печальный объект Рабочего был открыт с первого дня приезда сюда сосланных горемык и пополнялся ненустанно до самого последнего дня существования поселка.
Начало кладбищу положила массовая гибель людей в первый год ссылки. Зимой покойников не хоронили в землю, а лишь прикапывали снегом. Долбить мерзлую землю у людей не было сил. Весной рыли общую яму, устилали пихтовыми лапками, рядками складывали трупы, снова пихтовые лапки, а потом засыпали землей. У кого из покойников еще оставалась родня – делали гроб. Остальным вечной постелью была пихтовая лапка. Много трупов было с отрезанными мягкими честями тела. Людоедство процветало и комендант принял меры. Он организовал группу девушек и парней, которые дважды в день обходили жилища и бесцеремонно заглядывали в котлы с едой. В этой команде работала и Фрося. Те, кто ел мертвечину, рассказывали, что она сладковатая на вкус, а наевшись, очень хотелось спать.
Основной доход колхоз получал от двух заводов: смолокуренного и пихтового. Правда, был еще и багульный завод, но проработал он недолго. Смолокуренный завод вырабатывал в сутки шесть центнеров смолы и два центнера скипедара. Пихтовый завод давал в сутки пятьдесят – шестьдесят килограмм масла. Лапки к заводу доставляли девушки. Они с топором лазали по огромным пихтам и обрубали ветки. Норма на человека два кубометра сырья. На волокушах, по глубокому снегу и в трескучий мороз, девчонки тащили лапки к заводу. Путь лежал по глухой тайге, по бездорожью от трех до четырех километров. За один раз в топку закладывали по двадцать кубометров лапки. Схемы смолокуренного и пихтового заводов для истории я нарисую. (рис. 2. Смолокуренный завод), (рис. 3. Пихтовый завод) На это чудо инженерной мысли следует посмотреть. Кроме заводов прибыль колхозу давала еще бондарная мастерская. Здесь делали бочки под засолку рыбы, капусты, грибов, колбы и под ягоду, а так же для продажи в другие поселки и в Каргасокский рыбзавод. Большая часть прибыли шла на развитие колхозного хозяйства, на содержание скота и на закупку сельхозинвентаря. Все, что оставалось от закупок и налога, выдавалось работникам. В эту осень я возил лес на Кагальтуре. Зарабатывал по двадцать пять рублей в месяц. На продукты мне хватало, а одежду купить было не на что. Дом и огород у меня были.
В июле мне исполнился двадцать один год. Можно было подумать о семье. С Фросей мы дружбу продолжали, но разговора о женитьбы не было. Без ложной скромности скажу, что работал я хорошо. Начальство обратило на меня внимание и в тридцать шестом году назначили бригадиром по всему производству. Местная молодежь избрала меня зав. клубом. Это, конечно, как нагрузка.
(рис. 2. Смолокуренный завод)
(рис. 3. Пихтовый завод).
К И Н О П Е Р Е Д В И Ж К А
Доверие начальства и молодежи меня подюодрило, хотя и без того выкладывался в работе на полную силу. Держать клуб в чистоте мне помогали девчата. Сюда после работы собиралась вся молодежь Рабочего. Танцы сопровождали два музыкальных инструмента: гармошка и балалайка. На балалайке, кроме меня, играли еще человек пять. Так что музыки нам хватало. Танцевали и плясали лихо. В то время не было в Рабочем радио, о телевизоре еще весь мир не знал, а патефон считался большой роскошью. Мы сами себя веселили: пели, танцевали, плясали, рассказывали сказки и побасенки, было множество затейлевых игр. До сих пор помню эти вечеринки. Два раза в месяц провозили кино. В то время было оно немое, но приезд киномеханика в поселок был настоящим праздником. К нам приезжал киномеханик Мальцев. Он был отчаянным гармонистом и хорошо пел. После кино он устраивал небольшие концерты, а мы под его музыку танцевали. Слушать его оставались даже старики. Они сидели на лавках, сдвинутых к стенам, смотрели, как веселится молодежь. На другой день поселок обсуждал просмотренный фильм. Эмоции захлестывали. Каждый понял происходящее на экране по-своему и комментировал так, насколько хватало ему фантазии.
Понять, что происходит на экране, мог только большой выдумщик. Киномеханик спешил поскорее закончить фильм. За многократный прокат фильм ему надоел до чертиков, и он велел парню, который, сидя верхом на лавке, крутил «динаму», – крутить быстрее. Изображение по полотну проносилось с большой скоростью. Титры, мелькавшие внизу экрана, шли сплошной черной полосой, и прочитать их не могли даже грамотные. Если удавалось ухватить два-три слова, то к промелькнувшей картинке привязать их не успевали. Неграмотные сидели, тупо уставившись на экран. Они слушали киномеханика, который должен был пояснять по ходу содержание картины. Этот процесс ему давно надоел и он, не гладя на полотно, гнал такое, что у зрителей глаза лезли на лоб. Допустим, что по фильму мужик едет на телеге, запряженной парой быков. Киномеханик поясняет: «Бредут по пустыне верблюды, проваливаясь по колено в песок». По залу пробегал недоуменный шумок. Старухи крестились, им казалось, что они уже спятили. Малышев продолжал: «Верблюды громко поют». И пел какую-то чепуху. По всем деревням киномеханик считался самым умным человеком и крупной марки специалистом. Бабы и девки липли к нему, как смола к юбке.
Мальцев Василий, сорока лет отроду, жил в Каргаске. Женат был на красивой женщине и имел двух взрослых сыновей. Как-то вечером в Рабочем он подкараулил девчонку четырнадцати лет. При безграничной популярности Мальцеву ничего не стоило навешать лапшу на уши малолетней дурочке. Звали ее Анна. Обольщенная вниманием «кинозвезды», Анна в первый же вечер очутилась в объятиях Мальцева. Узнав об этом, ее мать подняла скандал. Анна собралась бежать с красавчиком. Любовники встретились на околице поселка по дороге в Волчиху. Там Мальцев поджидал Анну на телеге с киношным имуществом. Полтора месяца Анна сопровождала киномеханика в командировке с кинопередвижкой по Васюгану и Нюрольке.
По окончании медового тура, он привез девчонку домой, жене коротко сказал: «Прошу любить и жаловать». Жена промолчала, промолчали и сыновья. Мальцев возил с собой Анну до ледостава. По окончании летнего сезона они вернулись в Каргасок. Он сдал на склад аппаратуру, зашел в магазин, взял водки и явился с Анной домой. Дуся, жена Мальцева, истопила баню, приготовила хороший стол. «Какая у тебя красивая и добрая жена», – сказала Анна. На что Мальцев ей ответил: «Слушай, Анна, с сего дня ты будешь жить с моими сыновьями по очереди. Не захочешь – отправлю домой. Командировка наша закочилась.
Жене Мальцев сказал, что жить без женщины не может, что в долгих командировках ему, солидному мужику, не пристало на каждую ночь тащить в постель новую бабу. Молодая дурочка всегда рядом и это его устраивало. Дуся сказала, что она его понимает.
ЭКСПЕДИЦИЯ В ВЕРХОВЬЕ р. НЮРОЛЬКИ
В начале тридцать четвертого года, одиннадцать человек молодежи из Рабочего, были сняты с комендатуры. (Это вовсе не значило, что можно уехать, куда захочешь. Документов не выдавали.) В этот список попали и мы с Фросей. Нас всех вызвали в Каргасок для прописки и военного учета. Фрося по какой-то причине с нами не поехала. Домой из Каргаска я спешил, как никогда, потому что мы с Фросей договорились, что когда вернусь – поженимся. Она встретила меня на пристани. Я передал ей через борт чемодан и, не дожидаясь трапа, спрыгнул с парохода. Я был счастлив. Комендант надо мной больше не властен и кончилось мое одиночество. Но едва я ступил на берег, как Фрося мне заявила, что свадьбу надо отложить, потому что она завербовалась в экспедицию таксаторов и завтра уезжает. Такого сюрприза я не ожидал. Моему возмущению не было предела. В экспедиции одни мужики и с ними уедет моя невеста!?
Фрося принялась меня утешать:
– Мы решили поежениться, а у нас ничего нет. Я поеду в экспедицию, заработаю денег, мы купим себе одежду и справим свадьбу.
Понятно, что она была права, что моя категоричность ничего не поменяет. Мы принялись обсуждать возможрность поехать вместе. Но дело шло к сенокосу, а я был бригадиром, значит, вряд ли меня отпустят. Прикинув так и этак, мы решили вначале сходить к инженеру экспедиции. Если он согласится взять меня в штат, тогда идти к Гниденко, председателю. Инженер посмотрел на меня, сказал:
– Такого молодца грех не взять!
Однако Гниденко уперся:
– Нашел время шляться по экспедициям!
Мы с Фросей в два голоса стали его уговаривать в том, что нам необходима эта вебовка, ведь у нас нет ни одежды, ни денег, чтобы сыграть свадьбу.
– Ладно, – согласился Гниденко. – На свадьбу не забудьте позвать!
Утром, двадцатого июня, это был тридцать шестой год, загрузив пятитонный неводник продуктами и инструментом, мы отправились в путь. Время работы было рассчитано на четыре месяца. Коллектив наш состоял из шести рабочих мужчин и двух женщин – Фроси и Жени. Начальником был инженер Шепилов.
До работы предстояло проехать вверх по Нюрольке триста километролв. Гребли вверх по течению, сменяясь парами чрез два часа. Когда попадались пологие не топкие берега, шли бечевой. На протяжении всего пути, веселя себя, пели песни. Голоса у всех были отменные. Современным певунам и не снились. Пели популярные в те времена романсы и песни: «Пропала надия», «Славное море», «Бродяга», «Накинув плащ с гитарой под полою», «Соколовский хор у Яра»… Ночевать останавливались на сухих местах под раскидистыми березами или кедрами. Иногда у стойбищ остяков.
К истоку Нюрольки местность преображалась. Топкие берега рек и речушек, впадающих в Нюрольку, переходили в пойменные сухие луга, кедровые рощи, сосновые бора, светлые березняки. Все это радовало глаз и душу. Местность преображалась не просто так. Реки Васюган и Нюролька в среднем своем течении резко поворачивают на юг к Барабинской степи и берут начало на Васюганской равнине. Это уже далеко не заболоченная Васюганская низина. Кстати, сюда к селу Орловка на речке Уй (приток реки Тары), устремлялись беглые ссыльные. Это был своего рода водораздел. Отсюда шла неплохая дорога на железнодорожную станцию Татарск. Не каждый из беглых знал этот путь. Иногда проводниками были остяки, а зачастую шли на удачу.
В верховьях рек Васюган и Нюролька, где местность воистину великолепна, нас сильно омрачал гнус. Это был кашмар на полную силу. Комар, паут, слепень – тучи этих кровопийцев висели в воздухе, и не было от них никакой пощады. Вечером к этому ужасу примешивалась еще и мошка, выедая глаза и забивая рот и нос. На первую ночевку мы выбрали стойбище остяков под названием Остров. У берега стояли две хилые избенки. Недалеко от них мы развели костер. Натянули для ночлега полога и стали готовить ужин. Незатейлевую еду из соленого мяса и пшена разбавил гнус. Его в суп набилось столько, что превратился он в густую черную кашу. Пока варилась еда, наши женщины снимали эту нечисть из котелка, как пену, но это не помогло. Мясо промыли в реке и съели, а с супом пришлось проститься. Утром, не позавтракав, отправились дальше. Решили завтракать и обедать в лодке. Здесь, на реке, гнус заметно редел.
Нам сопутствовала погода. Дни стояли тихие и солнечные. После тяжелой работы на раскорчевке и строительстве, это был настоящий отдых. Лес проснулся от зимней спячки и радовал изумрудной зеленью. Буйно цвела черемуха, разнося свой неповторимый аромат. Бригада подобралась дружной. Теплое солнышко настраивало на удачу, любовь, желание жить и работать.
В верховье Нюрольки мы прибыли первого июля. Отсюда начиналась наша работа, где-то здесь была старая просека, проложенная еще при царе Александре Первом. Она успела зарасти деревьями и густым подлеском. На карте она была помечена, но отыскать ее без помощи охотника было не возможно. Шепилов нанял старого остяка, который был из местных и знал здесь все. Он отыскал ее быстро по двухсторонним затесам, оплывшим смолой. Нашли и полусгнивший столб с государственным чугунным гербом. На нем было высечен 1814 год. Столб был окопан и поставлен на холмик. Старая просека тянулась вдоль реки на шестьдесят восемь километров. Нюролька – река извилистая и просека то уходила от берега на десять километров, то приближалась до трех. В тот же день принялись ее расчищать, а вечером вернулись на берег к лодке. День, по нашему мнению, был удачным, а вечером у костра мы обсуждали начало работы.
Отдельно хочу сказать о Шепилове. Он был с высшим образованием и, спасибо ему, не ленился у костра рассказывать нам о многом. От него мы узнали о таксаторских экспедициях, которые занимались учетом леса и давали ему материальную оценку. А коль просека, с которой мы начали работу, была проложена при Александре Первом, то попутно наш начальник рассказал о войне с Наполеоном. И в дальнейшем, в редкие часы отдыха, он рассказал о многом: о природе тайги и тундры, пустыни, горах, морях, странах, океанах, о звездном небе…
Утром, оставив на лодке часть груза и дежурного, отправились на продолжение расчистки просеки. Она шла, как я говорил раньше, вдоль реки. От нее через километр прокладывали визирки к берегу. Палатку и продукты тащили с собой. В лесу и у реки было много дичи. К ужину, особо не напрягаясь, набивали глухарей, косачей, рябчиков. Это было большое подспорье в питании. Лето стояло в разгаре, было жарко и безветренно. Гнус не давал передышки ни днем, ни ночью. Потные лица от укусов опухли, сильно часались. Прорубать просеку закончили на восьмой день. Последняя визирка к Нюрольке была длиной четыре километра. На берегу реки поставили маяк. Отдохнули, вернулись к просеки и по ней шли к лодке два дня.
(рис. 4. Фрося Беленко на расчистке просеки)
На старости лет, больной и сильно располневший, вспоминая нелегкую свою молодость, думаю вот о чем. Какая несгибаемая сила несла меня по жизни? Ведь был голодный и полураздетый, трещал, как говорится, по всем швам от надрывной работы. Иногда тащу пень из твердой лесной глины, так напрягусь, что кажется – вырву пень и сдохну! Жрать хотелось до такой степени, что мысль: «Соглашусь тут же умереть, если предложат мне вместо жизни – поесть один раз досыта). Но разогнусь, отдышусь и снова рву и рву пни, которым, казалось, не будет конца. С одной стороны – это была бесплатная принудиловка, а с другой – Бог дал мне здоровье, наградил стараеием и азартом. В экспедиции тоже был не мед, но мы работали за реальные деньги – главный жизненный стимул. Возвращались на бивак, уставшие, изъеденные гнусом, но всегда с хорошим настроением.
От человека не зависят три вещи: его рождение, его смерть и любовь. Она может нагрянуть в любом возрасте и при самых нелепых жизненных обстоятельствах. Вот и я – голодный и оборванный, круглый сирота, а угораздило влюбиться, да еще и в лучшую девушку поселка. Но самое неожиданное, что и она ответила мне взоимностью. Мы начинали нашу совместную жизнь «голы, как соколы», но меня это не смущало. Я знал, что сделаю все, чтобы моя семья жила в достатке.
Дежурной по лодке, перед уходом на расчистку просеки, мы оставили Фросю. Решили, что для девушки это самая легкая работа: сиди, да жди возвращения бригады. Но она встретила нас со слезами на глазах: «Никогда больше одна не останусь. Лучше буду рубить просеки, чем ожидать, когда меня в лодке задерет медведь». Весь вечер у костра она рассказывала, сколько натерпелась страху, как не спала ночами, а в лесу все трещало и рычало. Несколько раз медведь подходил к лодке, только благодаря огромному костру, что горел на берегу, он не сожрал продукты и ее.
На это возразить было нечего, она была права. Оставлять девушку одну, безоружную на целую неделю в такой глухомани было большой глупостью. Пять дней мы приводили в порядок одежду, чинили обувь, шили поршни из сыромятной кожи, отмывались от смолы, грязи и пота. Нас с Фросей считали уже семейной парой, а Шепилов с первых же дней стал жить с Женей. Ей было тридцать пять лет, но замужем еще не была. Соперником Шепилову был Рыбаков Ефим, которому Женя тоже нравилась.
После отдыха выехали к маяку на последней визире. Отсюда мы продолжали работу вверх по Нюрольке. Я работал в паре с Рыбиным Ефимом. Багданов Василий и Гладких Иван – вторая пара. Кулешов Василий, Фрося, Женя и инженер – промер визир и таксация леса.
Мы с Ефимом взяли продукты, топоры, пилу и отправились к месту работы. К вечеру, дорубив визиру до реки, остановились на ночлег. Днем прошел сильный дождь, и ночью было очень холодно. Мы сильно устали и вымокли, но повезло – убили рябчика. Его сварили с пшеном и хорошо поужинали. На ночь соорудили ладью, чтобы огонь горел до утра. Развесили одежду и обувь на просушку, натаскали на постель пихтовых лапок, улеглись и уснули, как убитые.
В этом заходе нам крупно не повезло. От ладьи загорелись вначале наши штаны – они ближе всех висели к огню. За ними по очереди: рубашки, портянки, сапоги. Но вот огонь подобрался к пихтовым лапкам. Мы так крепко спали, что не почувствовали ни огня, ни дыма. Проснулись только тогда, когда загорелись на нас кальсоны и обожгло ноги. Затушив огонь на себе, принялись тушить одежду и обувку. От штанов остались только пояски, от рубашек – воротники. Портянки и обувь сгорели совсем. Как быть? Визиру не дорубили, на нас только кальсоны, сгоревшие выше колен. Голые, голодные и босые мы работали три дня. В последний вечер убили белку и съели ее без соли. Утром на обласке прибыл к нам дежурный по биваку. Мы радостно кинулись к нему. Он вначале отпрянул от нас в непритворном испуге, но придя в себя, хохотал до коликов. Нам было не до смеха, быстро прыгнули в рбласок и велели ему грести к лагерю во всю силу.
Перед отправкой к своей бригаде, которая ждала нас в лодке, мы принарядились, как могли. За три дня работы в одних рваных кальсонах, наше тело до опухоли съел гнус, залепило смолой, ободрало ветками. От кальсон не осталось даже лохмотьев. Мы содрвли с большой березы кору, сделали юбки, прикрепив к себе ремнями от штанов. Кудрявая моя шевелюра превратилась от смолы в кошму, в ней густо торчали хвойные иголки. Когда мы прибыли в лагерь, народ наш обедал. Мы лихо выпрыгнули из обласка на берег и ринулись к костру. Увидев нас голых, с набедренными березовыми повязками, все замерли с ложками в руках. Видимо, соображали – что это значит? Повисшая пауза была недолгой. Мы попытались рассказать, в чем дело, но нас никто не слушал. Хохот стоял истерический, до слез, до покатухи. Мы голые, голодные, в царапинах, ссадинах, в смоле и босые стояли, как два истукана, терпеливо ожидая, когда спадет накал истерики.
Первой пришла в себя Фрося. Она оторвала нам по тряпке, чтобы сделать набедренные повязки и подала полные миски каши с мясом. Пока мы ели, Шепилов достал тюк с запасной одеждой, женщины принялись греть воду и после еды соскабливали с нас смолу и грязь. Волосы спасти не удалось, нас остригли наголо. После санобработки нас одели во все новенькое, а обувь принялись мастерить сами. Для этой цели возили сыромятину. Это соленая безволосая кожа лося. Сделанная из нее обувь, называется поршни. Расстилаем кожу, ставим на нее босую ногу, обводим ступню углем с напуском в пару сантиметров и вырезаем по углю ножом. По краям протыкаем дыры, вставляем в них ремешки, тоже из сыромятины, и затягиваем на ноге. Остается только просушить тоже на ноге. Вот и обновка по твоему размеру. Хотя нас погорельцев одели и обули, ребята еще долго над нами подшучивали.
На следующем этапе нашей работы была визира в двадцать километров. Она выходила на огромное болото – поньжу. Трое рубили визиру, остальные работали на промере, таксации, заготовки и ошкуривании столбов. К столбам крепилась табличка с номером и годом прохода визиры. Через два дня мы вышли из глухого урмана на равнину, в красивейший березовый лес. По земле множество белого гриба, низкая травка, какие-то цветочки. В воздухе витал пряный аромат. Мы обрадовались этакому простору и остановились на ночлег. Решили закатить себе шикарный ужин – суп с мясом, грибами и пшеном. Быстро развели костер и я побежал искать воду.
Если все складывается хорошо, то жди какой-нибудь пакости. Весь день не ели, устали, и вот впереди вкусная еда, споркойный отдых, а вокруг неописуемая красота. И тут несчастье – воды не было нигде. До самой темноты мы искали ее, но тщетно. Пришлось грызть сухари, а во рту даже слюны нет, чтобы размочить крошки. Ночь спали плохо. Весь следующий день шли без воды, и только к закату солнца визира вывела к поньже (непроходимое болото).
ОСТЯК ЯКУНИН
Немного отвлекусь, и расскажу про васюганскую знаменитость – деда Якунина. Однажды мы остановились в Окуневке. Это левый берег Нюрольки. Здесь была только одна избушка. Жили в ней дед Якунин и его старуха. Его звали Дормидон, а старуху – Настя. Дормидон по Васюгану и Нюрольке был большой знаменитостью. После революции его от имени всх остяков отправили в Москву на какой-то съезд. Вернулся домой дед в фетровой шляпе, и очень гордым. Шляпу, говорил дед, подарил ему сам Калинин. Думаю, не врал. Деда быстро переименовали в «Политика», а озера в километре от Рабочего назвали Московскими. Там была одна из заимок новоиспеченного депутата.
Однажды, поднимаясь вверх по Нюрольке, мы заметили на левом берегу реки остяка. Он махал шляпой, подзывая нас. Мы пристали к песчаному берегу. Подошла его жена, и они вдвоем очень живописно, с поклонами, приветствовали нас. Сказать, что место Окуневка прекрасно, – ничего не сказать. Метров сто от берега реки огромное озеро. За ним – кедровая роща. Вокруг озера голубика, черника, брусника, клюква. На другой стороне реки крутой яр. За ним тайга – урман, где много разной дичи: лосей, оленей, медведей и пушных зверюшек. А рыбы здесь, как и по всей Нюрольке, – кишмя кишело. Старики были не так стары – что-то около пятидесяти лет. Жили припеваючи. У них даже лошадь паслась на привольном лужке.
Впереди нас ждал трудный переход по непроходимому болоту из Нюрольской поймы в Васюганскую. Мы решили воспользоваться гостеприимностью Дормидона и его жены, чтобы привести себя в порядок и запастись в дорогу соленой рыбой и если повезет, то и мясом. Дормидон согласился помочь нам в добыче. Фросю с Женей мы оставили на заимке, чтобы они привели в порядок одежду, а мы с хозяином отправились ловить язя. Язь – рыба мясистая и жирная. Если ее распластать, хорошо промыть и засолить, а потом плотно уложить в берестяной кузов, то хранить такой запас можно долго. Вскоре я заметил, что Дормидон все время околачивается около Фроси. Такое внимание мне показалось странным, но я посчитал его особым почтением к красивой девушке. Однако, в последний день перед отъездом, он отвел меня в сторону на серьезный разговор.
– Николай, – сказал он, – у меня к тебе хорошее предложение… Я отдаю тебе свою старуху, пусть будет тебе служанкой и коня. Ты отдай мне Фросю, потому что я шибко люблю русский баба. Ты молодой и красивый, найдешь себе другую девку. Я – политик и мне нужна красивая русская баба.
Одна из речушек, впадающих в Нюрольку, была в пятнадцати километрах от Окуневки. Ее не было на карте и Шепилов с рабочими и Дормидоном отправились туда, чтобы сделать топографическую съемку. На той речушке у деда было два амбарчика под орехи и ягоды. Зимой Дормидон отвозил их на лошади в Каргасок. Дошли до речушки, у берега сбросили груз и ружья. Амбарчики были метрах в десяти от берега. Поднялись к амбарчикам и присели отдохнуть перед работой. Но, не успев расслабиться, услышали треск сучьев, – шагах в двадцати стояла на задних лапах огромная медведица. За ней нянька – пестун, а рядом два маленьких медвежонка. Рабочий сидел ближе всех к дверям амбарчика и в одно мгновение был внутки его. Дормидон, пригнувшись, кинулся к речушки за ружьем, а Шепилов за секунду оказался на берестяной крыше. Дальше его действие трудно было объяснить. Он стал поджигать бересту, на которой стоял. Крыша вспыхнула горячо и ярко. Медведи пустились наутек. На Шепилове загорелась одежда, приведя его в чувство. Он спрыгнул на землю, и стал кататься, сбивая с себя пламя. Прибежал Дормидон с ружьем, стал стрелять вдогонку медведям, а потом вытащил из горящего амбара рабочего.
Заканчивая рассказ про деда «Политика», замечу, что чувство к Фросе были у него настолько серьезными, что он до самого нашего отъезда из Рабочего не забывал о своей несчастной любви. У нас давно уже сложилась семья и было трое детей. Он регулярно навещал нас по три-четыре раза в год. Фрося готовила ему борщ, вареники, наливала стакан водки. Выпив и закусив «Политик» откидывался головой к стене, стучал затылком и горько стонал:
– Русский баба хочу!
ВАСЮГАНЬЕ
Осень на Васюганье ложится рано. В конце августа по утрам белеет иней. На последнем участке работы нам довелось встретить октябрь. В это время по рекам шла шуга. Дожди сменялись снегом, болота начали промерзать. За трудный полевой сезон одежда на нас порядком поизносилась, а сапоги давно уже были заменены поршнями.
Подробное описание работы в экспедиции – это попытка познакомить тебя с той местностью, где ты родилась и некоторыми аборигенами, которые мне особенно запомнились.
Однажады, а это было в конце работы, под мокрым снегом и в болоте мы окоченели настолько, что двигаться и работать не было сил. И вдруг потянуло дымком. Это значило, что где-то близко люди. Прошли с километр и услышали лай собак, а между кустами выглядывала избушка. Дым шел не из трубы, а из дырки в потолке. У входа молодая русская женщина рубила дрова. Она не удивилась нашему приходу. Вся округа знала, что в этих местах работает экспедиция. Прицыкнув на псов, она пригласила нас в дом.
Посредине избушки горел костер, а дым выходил в дыру потолка. Изба без окон, только двери. Вокруг костра пол из тесаных бревен, на них оленьи и медвежьи шкуры. На шкурах возились ребятишки. В полумраке не разобрать – русские они или остяки. Походили на тех и других. Хозяйка рассадила нас вокруг костра и стала помогать стягивать с нас одежду и обувь. Сами мы плохо справлялись с этим – руки и ноги онемели и были точно чужие. Мокрую одежду и портянки хозяйка развесила под потолком избушки, а нам приготовила густой, горячий чай. В березовой куженьке выставила белый хлеб, нарезанный крупными ломтями. Вскоре появились и другие куженьки с вяленным оленьим мясом, вялеными язями, икрой ельца и чебака. Одним словом – ресторан плачет! Мы были голодные до икоты, но к еде не притронулись. От тепла наши руки и ноги так стало ломить, что хотелось орать во все горло. Анна, так звали хозяйку, метнулась на улицу, притащила в берестяном тазике холодной воды, мы стали по очереди пихать туда ноги и руки. Вскоре всем полегчало и мы повеселели. Потом долго пили кирпичный чай, закусывая белым хлебом с икрой и вяленой олениной.
Анна рассказала нам, как она очутилась в остятской избушке с кучей детей. Семья ее была выслана на Васюган из Славгородского района Алтайского края. Отец от надрыва и голода умер в первый же год ссылки. В семье было восемь детей. Жили в поселке Борисовка, недалеко от села Средний Васюган. Прокормить голодную ораву после смерти мужа у матери не было сил. Однажды к ним заехал остяк Абрам. Была зима, он ехал на оленях, запряженных в нарты. Может, кто-то подсказал Абраму зайти к ним, Анна не знала. У него умерла жена, и онт остался с тремя детьми. Абрам, не церемонясь, стал уговаривать мать отдать ему девочку в няньки. Он сказал, что поможет матери прокормить остальных детей и поможет с одеждой. Матери ничего не оставлось делать, как принять это предложение. Он оставил мешок муки, соль, сахар, масло, мясо оленя, крупу и отрезы материи. Анне было тогда тринадцать лет. Она до сих пор не может забыть, как зареванная, дрожа от страха, ехала с остяком в глухой урман. Остяк был старше ее на двадцать пять лет.
Два года она ухаживала за его детьми, хорошо поправилась, привыкла к Абраму. Он заменил ей отца. Но она сильно скучала по матери, братьям и сестрам. Когда ей исполнилось пятнадцать лет, Абрам потихоньку стал намекать ей, что пора девушке подумать о муже. Она прекрасно поняла, о чем речь. Деваться ей было некуда, и она согласилась стать его женой. Теперь у них совместных трое детей. На наш вопрос: «Хотела бы она выехать из тайги?», ответила, что ей жаль детей и Абрама, к которому она привыкла, потому что он добрый и ее жалеет. А русских ребят, своих ровесников, она не знает, и общаться ни с кем не приходилось.
Вскоре появился Абрам. В проеме избушки стоял остяк – страшнее не видел. Здоровенный ростом, черное лицо, рот большой с толстыми губами, глаза узкие щели. Мы порядком испугались, уставившись на это чудо природы, и перестали есть.
Анна спокойно сказала:
– Вот и Абрам пришел.
Абрам оказался гостеприимным человеком. Едва переступив порог, он спросил, хорошо ли она нас встретила и накормила? Потом разделся и, подсев к огню, поинтересовался, в чем нуждаемся и какая помощь нужна нам от него?
Мы обсушились, согрелись, плотно поели и когда собрались уходить Абрам сказал, что он нас проводит. Мы прошли с ним до домика его брата, который жил недалеко. Они с братом закололи оленя, и Абрам отвалил нам заднюю часть туши бесплатно. Кстати, жена брата тоже была из ссыльных, видимо, появилась здесь по той же схеме, что и Анна.
Работа подходила к концу. Зима давала о себе знать, а мы все еще подскребали недоделки. Только через неделю, завершив все дела, принялись собираться в обратный путь. Предстояло добраться до села Средний Васюган. Мы снова навестили Абрама и Анну, ночевали у них. Они нас хорошо накормили, снабдили табаком, а главное, Абрам дал оленей, на которых отправили часть груза и всю бригаду, кроме нас с Мишей Глуховым. Нам предстояло с оставшимся грузом, на двух обласках, спуститься по воде до Среднего Васюгана. На речушке Окуневке, которая впадает в Васюган, в тихих заводях установился ледок. Пришлось пробивать его перед собой, а когда добрались до Васюгана, облегченно вздохнули. Только редкие тонкие льдинки поблескивали по воде, которые не мешали ходу обласка. Были уже и забереги, но мы, не останавливаясь, за сутки добрались до места.
Нам сделали расчет. Я получил сто двадцать рублей, а Фрося – сто десять. В сельском магазине купили кое-что из одежды. Денег оставалось не так много. Последним катером выехали в Рабочий. Ночевать я зашел к Фросиным родителям. Мы уже твердо решили пожениться.
ПЕРНЯНГИН АНДРЕЙ
Рассказывая о работе в экспедиции, я немного забежал вперед. В тридцать первом году, когда раскулаченных крестьян пригнали на Васюган, среди остяков уже шел упорный слух, что на их землю прибывает бесчисленное множество бандитов, убийц и врагов Советской власти. Напуганные остяки приготовились защищать свою родину. Много полегло нашего сосланного брата от пуль остяков. Мы боялись уйти в лес за ягодами, шишками или грибами. Там могли наткнуться не только на медведя, от которого можно было убежать, но и на пулю остяка, от которой не скрыться. Когда ссыльные, гонимые голодом, приходили к остякам просить для умирающих детей хлеба, они беспощадно травили людей собаками.
Не все, конечно, так агрессивно были настроены к новоселам. Некоторые присматривались к нам, даже знакомились. Больше, конечно, молодежь. Старики были упрямее и на контакт с русскими не шли. Когда отношения предельно обострились, а остяки поняли, что им «плетью обуха не перебить», решили покинуть Васюган и уехать в Самарово. Это была их столица. Теперь город Ханты-Мансийск. Они оставили свои дома и отправились в долгий путь на лодках и обласках. Путь был далеким и опасным. Вниз по Васюгану до Оби, потом вниз по Оби до устья Иртыша, где и была столица.
Там от большого скопления людей пришла беда – тиф. Много прибывших и местных остяков погибло. Уцелевшие стали срочно возвращаться в свои места, где им пришлось обустраиваться заново. Они рыли себе землянки, по-остякски – карамо и, как прежде, охотились и рыбачили. Из этой неразберихи выиграли те из остяков, кто не поверил пропаганде и остался дома. Вскоре они поняли, что русские не враги, а обычные работящие люди, среди которых им предстояло жить как равным.
В первый год ссылки мы с мамой очень бедствовали. Когда голод прижал нас на полную силу, мы решили продать вещи, которыми мама особенно дорожила. Когда-то еще девушкой, она расшила полотенце плотным мелким крестиком. В него вставила кружево ручеой работы и шелковые кисти. Была еще скатерть, расшитая по всему полотну роскошными красными розами. Как ей удалось вывести это чудо из дома, для меня так и осталось загадкой. Скорее всего, она обмотала их вокруг своей талии.
Купили мамино рукоделие на буксирном пароходе за две булки черного хлеба и шесть килограмм крепкого листового табака. Я мелко его нарезал, смешал с осиновой трухой и опилками. Получилась настоящая махорка, крепкая дажде после такой процедуры, емкостью три с половиной ведра. Полведра оставил дома на всякий случай, а три ведра ссыпал в мешок, взвалил на спину и отправился берегом Нюрольки в остятскую деревушку Пернянгу. Только вошел в деревню, меня тут же окружили остяки. Они собирались рыбачить и складывали сети в обласки. Я остановился и поздоровался. Они явно были удивлены моим приходом и, молча, смотрели на меня, наверно, соображали, что сделать с этим нахалом? Я снял мешок и показал свой товар, сказав при этом, что меняю его на хлеб, крупу, муку, рыбу и соль. Остяки быстро заговорили на своем языке, стали пригоршнями черпать из мешка махорку, нюхали, клали за щеку, набивали трубки.
Вижу дело плохо, сказал твердым голосом:
– Если не будете покупать, то я ухожу.
Они ответили:
– Твой уходить не надо. Табак заберем, тебя утопим.
Тут я трухнул не на шутку. Их было не меньше десяти. Они лихо набивали табаком карманы, кисеты, даже туески. От такой наглости я растерялся, стоял, как истукан, раскрыв рот.
По жизни я все-таки везучий человек. Гляжу, с горки бежит к берегу молодой остяк. Это был Андрей Пернянгин. Когда-то он дал мне огрызок сети. Еще издали он стал махать руками, и кричать что-то на своем языке вперемешку с русским матом. Подбежав, крикнул по-русски:
– Заплатить!
А дальше опять на своем языке что-то громко и сердито. У моих покупателей как-то быстро спал накал воинственности, и они пошли в деревню, чтобы принести за табак расчет.
Вскоре мой мешок под завязку заполнился продуктами так, что я с трудом взвалил его себе на спину.
– Бросай мешок в обласок, – сказал мне Андрей, – я увезу тебя в Рабочий.
Так впервые я сел в обласок, который, как Ввнька-встанька, замотался из стороны в сторону. Я ухватился за борта руками, отчего стало еще хуже, потому что зачерпнул воду, Андрей прикрикнул:
– За борта не держись! Сиди свободно, а то утопишь себя и меня.
Я успокоился, а вместе со мной успокоился и обласок. Пока плыли до Рабочего, Андрей рассказал мне, как делают обласки, где ставят сети, как определить, где есть рыба. Такое вот странное знакомство произошло у меня с остяками.
На второе лето я выдолбил из толстой осины колоду. Эта посудина называлась бот. В то время уже многие мужики делали такую примитивную лодку. Ведь без плавучего средства на бальшой воде, куда нас закинула судьба, не обойтись. На лесистной местности мы, как малые дети, учились, начиная с нуля. На своем боте я усвоил урок Андрея твердо держать равновесие, но дальше курьи отъезжать боялся.
Однажды на мели нашел обласок – старый, с течью в носу. Приволок домой, и хотя особо не надеялся, что смогу починить его, но принялся за дело. Промыл, просушил, проконопатил щели, обмазал смолой, и судно приняло надлежащий вид. Сам смастерил весло, и смело стал ездить по Васюгану и Нюрольке. Вскоре мне повезло и с сетью. Нашел ее на обсохшем лугу. Она запуталась на кусту черемухи. В половодье реки заливают пойменные луга. Васюган и Нюролька сглатывают в свою пучину все старицы, озера, протоки, ручьи и речушки, превращая огромное пространство заливного луга в бурное море. Пойму можно определить лишь по кустам цветущих черемух и ивовых кустов. Кое-где притаились на небольших островках осинники, частично залитые водой. Там растут гиганты-осины. До половодья их спиливают для изготовления обласков, а когда поднимается весной вода, их сплавляют в деревню и обрабатывают. Заливные луга в Рабочем называли «сорами».
Когда начинался нерест рыбы, она на «сора» «перла дуром». Сети за пару часов забивало рыбой так, что они шли на дно. На огромном водном просторе ветер гулял с большой силой, поднимая огромные волны. Если сеть была плохо закреплена, ее срывало, тащило по воде до первого попавшегося куста, и закидывало на него. Распутать ее, сидя в обласке, невозможно. Оставалось с ней попращаться. На такую сетешку я и наткнулся на обсохшем лугу. Стащил ее с куста, распутал, многочисленные дыры залатал, как мог и в ночь направился на свой первый промысел. Ставить сеть не умел. Надо одновременно закреплять ее, сбрасывать в воду и грести. Хорошо намучился, пока закрепил свою двуперстку в воде.
Утром, с дрожью в руках от нетерпения, поехал проверять улов. В мой трофей попала единственная, но крупная рыба – чебак. Жили мы с мамой тогда еще в бараке. В это время я работал плотником, рыбалкой занимался ночью. Сеть ставил до самой шуги. Уловы были невелики, но подспорье в еде стало заметно.
Весной, через два лета, была организована бригада рыбаков, куда взяли и меня. Артель купила стометровый невод, неводник и греби. Научиться премудростям рыбалки было не сложно, и вскоре я стал заправским рыбаком. Удочками не рыбачил никогда – это занятие для тех, кому нечего делать, а мы работали на раскорчевке и строительстве по десять часов в сутки в артели, а ночью надо было строить себе дом и добывать пищу.
Рыбачили весь световой день, потому что норма была «под завязку». Уроки ловли рыбы сетями я тоже познал в бригаде. Научился вязать сети, невода, делать посадку. Долбил осину на обласок, сам делал распарку и растяжку бортов. Получались у меня и отличные лодочки. Пару даже умудрился продать. Весла делал кремневые из комля кедра, научил меня этому Андрей. Они не впитывали воду, не трескались, не ломались и служили долго. Одно время работал бригадиром рыболовецкой бригады и учил добывать рыбу других. Теперь я знал, где надо поставить сеть, и домой возвращался с хорошим уловом.
КАГАЛЬТУРА
Томская комендатура была организована в тридцатом году, когда у товарища Сталина возник гениальный план о том, как можно, не расстреливая людей, уничтожать их тысячами. Болотно-урманный геноцид. Для этого по всем районам Томской области были созданы комендатуры. Они принимали людей тысячами. Не имея для проживания ни жилья, ни продуктов, ни одежды. Измученных, выживших в долгой дороге людей, из душных битком набитых барж высыпали на болотистый берег непролазного урмана, полуживых от голода и издевательств. Тут и дураку было понятно, что выброшенных на произвол судьбы бедолаг, ждет неминуемая гибель. Спустя год, когда (наконец-то!) задумались о снабжении – в живых осталась треть, а где и того меньше.
Снабженческой сетью по Васюгану и Нюрольке занималась комендатура, а не государство, потому что сосланный народ был лишел избирательных прав и прав на выезд. Нас называли «переселенцами», наверно для того, чтобы смягчить слово «заключенные», которыми мы являлись на самом деле.
Название снабженческая сеть получила – многолавка. Завоз товаров осуществляло государство, дальше шла работа комендатуры. Многолавка не занималась свободной торговлей. Ни сосланные, ни вольные, ни остяки – никто не мог ничего купить. Многолавка выдавала паек по норме, установленной комендантом. Мука, крупа, сахар, соль, табак, спички, мыло, растительное масло. За наличный расчет можно было купить, если даст распоряжение комендант. Паек выдавали авансом в течение трех лет. Только спустя этот срок было дано распоряжение на свободную торговлю, но денег у нас не было, потому что за работу не платили.
Двенадцать километров по Васюгану, вверх по течению от Рабочего, – речка Кагальтура – приток Васюгана. Она вытекает из большого озера, куда в свою очередь, впадает множество речушек, берущих начало из болот и тайги. Места здесь созданы природой на радость человеку. От реки тянется чистый сосновый бор, по которому заросли брусники и черники. По пойме кусты раскидистых черемух. Ягоды каждый год на них так много, что кусты кажутся черными. Ветви склоняются до земли и обламываются. По другую сторону Кагальтуры – мшистая низина, там много крупной клюквы. За низиной – березняк, где весной собирали колбу, а летом белый гриб и сырой груздь – «косой коси». По пойменному простору множество озер и проток, где водились караси огромных размеров – до пяти килограмм. Осенью утки поднимались над поймой тучами.
В этом благодатном месте на второй год ссылки было дано указание о строительстве смолзавода. Строительство его закончили к осени. Для рабочих возвели длинный барак. По одной стороне нары из колотых досок, по другой – печь, стол, лавки. Рядом соорудили еще такой же барак, который назвали бондарка. Здесь делали бочки под смолу и скипидар, готовили клепку для бочек, резали дранку. Бочки шли на свои нужды, и ими артель успешно торговала.
На заводе и бондерке работала только молодежь, около сорока человек. Среди нас были и взрослые мужики, которые занимались валкой леса и вывозкой. После работы травили анекдоты, рассказывали сказки, разного рода небылицы и пугалки, пели песни. Были среди нас и юмористы, которые соревновались между собой в острословии, а все смеялись на полную силушку, если было над чем.
Расскажу о том, что нам казалось смешным. А смеялись мы в то время над своей нищетой и политической беспомощностью. Одним словом, что имеем, про то и поем. Был среди нас паренек – сирота – Миша Кургин. Было ему шестнадцать лет. Родители и все сестра и братья умерли еще в первый год ссылки. Не было у Миши ни жилья, ни средств к существованию. Перебивался Миша в жизни тем, что подадут ему добрые люди. Кто старую фуфайку, кто бросовые штаны, кто старые чирки. Работал он в бондарке, потому что работать на улице ему было не в чем, бондарка рядом, перебежал двадцать метров, и в тепле. Однажды утром все собрались на работу, а Миша сидит на нарах в уголке, зажавшись.
– Миша, в чем дело? Заболел?
Миша сконфуженно прошептал:
– У меня штаны лопнули от ширинки до самого заднего пояса.
Белья на Мише не было, а ходил он в одежде на голое тело. Тут острословы зацепились за безысходную ситуацию перепуганного парнишки:
– Миша, посмотри у себя ниже пояса – ничего не потерял?
Хохот на весь барак. Только девчонки не смеялись, а смотрели на ребят укоризненно и вертели пальцем у виска. Они велели горемыке снять штаны для починки, а самому прикрыться фуфайкой. Пока девчонки зашивали штаны, Миша, прикрытый фуфайкой в уголке, выглядывал из-под нее, как мышка из норки. Парни, не переставая, хохотали, поджав животы, и просили мальчишку сбросить фуфайку и пройтись по бараку. Я сейчас думаю, что картина слез достойна, а мы ржали бессоветным образом. Жизнь брала свое, и от непосильной работы и бесправия нужна была разрядка, которую мы, как могли, получали. Особо острое внимание уделяли влюбленным.
Смолокуренный завод работал уже на полную силу. В начале осени были настоящие заморозки. Вечерами после работы все собирались у огромной печи смолзавода. Трещали хвойные дрова, пахло скипидаром, лесом, сосной. Все рассаживались у жаркого огня на лавки, – это была наша молодежная вечеринка. Начиналась она всегда со чтения книги. (Книгу «Робинзон Крузо» – мы зачитали до дыр. Ведь, по сути, мы, выброшенные в болото без средств к существованию, являлись Васюганскими «Робинзонами» – это все прекрасно понимали). Читали попеременно грамотные девушки или парни. Тут же рассказывали всякого рода байки, пели под балалайку песни и частушки.
Вскоре наше неуступное внимание привлекла парочка. Был среди нас смазливый парень Семен. Ходок еще тот! С первых дней работы на заводе он обратил внимание на Раису Беспалько. Девушка была переросток, рябоватая, сутулая. В то время среди ссыльных был перевес парней, и за девчонок дрались с ребятами из соседних поселков. Даже при таком раскладе на Раису парни внимания не обращали. Переживая свой физический недостаток, девушка была застенчива и молчалива. Будь человек уродом или красавцем, – природу не обмануть. Всем хочется внимания, тепла и ласки.
Семен построил себе шалаш и с нами в бараке не ночевал. Вскоре Раиса получила там тепло и ласку. Нас это возмутило. Ведь явно, что Семен на Раисе никогда не женится, а Раисе придется куковать век ни девкой, ни бабой. Решили парочку развести. Семену устроить кошмар, чтобы запомнил надолго и Раисе преподнести урок. Наверно, это была большая подлость с нашей стороны, но нам казалось, что поступаем правильно.
Мы наловили ведро лягушек и ночью, когда парочка заснула, высыпали им в гнездышко. Через короткое время из балагана летел дикий рев Раисы и крепкий мат Семена. Эту ночь никто не спал. Утром Семен попутной лодкой отбыл в Рабочий, и комендант отправил его на лесозаготовку в Мыльджино. Раиса перешла жить к нам в барак. Для нее любовь в шалаше имела последствие. К зиме в поселок она прибыла на сносях. В то время забеременить девушкой был большой позор. Все думали, что отец спустит с нее шкуру, но он к этому событию отнесся спокойно и просил коменданта отпустить дочь к тетке во Владивосток. Там она родила сына.
Летом людей на смолзаводе оставалось мало, большую часть переводили в Рабочий на раскорчевку, работу на пашне и заготовку сена. К зиме сезонные работы в поселке заканчивались, и молодежь возвращалась на Кагальтуру.
В тридцать шестом году я возил на Кагальтуре лес. За мной был закреплен конь по имени Бурка. Мы с ним за день выполняли по семнадцать – восемнадцать рейсов, это полторы нормы. Бригадиром был Боков Василий. Года на два старше меня. Однажды мы с ним схватились не на шутку. В то утро он ушел на охоту. За день я сделал восемнадцать рейсов. Среди вывезенных бревен было шесть сутунков – это первое бревно от комля. Сутунки от хвойных деревьев шли на перегонку для смолзавода. В тот день распиловщикам на доски не хватило бревен для выполнения нормы, и они решили распилить сутунки. Смолевые бревна маховыми пилами режутся плохо. Пильщики пожаловались Бокову, что нет на разпиловку бревен и резать приходится сутунки. Мы, возчики, уже готовили ужин, когда Боков ворвался в барак.
– Кротенко! – заорал он. – Срочно запрягай Бурку и привези пильщикам шесть бревен!
– Бурка устал, – говорю, – мы с ним дали полторы нормы – это раз, во-вторых, на улице ночь, а в-третьих, сутунки я привез не пильщикам, а на перегонку.
– Какой умный счетовод! – Боков выскочил на улицу.
Думаю: «Что он затеял?» Выхожу за ним, а он моего конягу выводит из конюшни. Я выхватил у него повод, а он зацепил меня за грудки так, что пуговицы посыпались с рубашки. Я слегка ему двинул, а он шмякнулся спиной о стену конюшни. Тут наш бригадир совсем озверел, схватил палку и двинул на меня.
– Эх, Вася, Вася! На кого ты руку поднял!
Без особого труда выхватил у него палку, отбросил ее, и ухайдокал Васю так, что он на неделю забыл про жратву, на которую был горазд, потому что через разбитые губы ложка не могла пробиться в рот. Я бы за Бурку еще хорошо его «поцарапал», да вмешался Семеняк, выскочив на шум из барака, и разнял нас.
Боков в долгу не остался. Утром запряг коня и поехал в Рабочий жаловаться коменданту. Тот отозвал меня в поселок и в наказание я получил пять суток принудиловки. Принудиловка заключалась в том, что надо было сделать какую-то работу бесплатно. Мне досталось самое катаржное – раскорчевка пней. Зимой выдернуть пень из мерзлой земли очень тяжело. Но я поднатужился и выполнил принудиловку за два дня. Вечером пришел к коменданту для отчета. Он пригласил меня поужинать и мы поговорили о многом, о Бокове в том числе. Его, оказывается, комендант давно собирался заменить и подбирал человека. Он написал бумагу, где бригадиром назначал меня, выдал мне новую фуфайку и стяженные штаны – с тем я прибыл на Кагальтуру. Бурку я закрепил за Боковым, посоветовав, работать на совесть и «Ваньку не валять». Гляжу, он в первый же день обернулся всего восемь раз. Тут я, как начальник, морально поддал ему чертей.
СВАДЬБА
После смерти матери я пустил к себе в дом жить калеку-сапожника Никифора. Жить один в доме не смог. Я по натуре человек стеснительный и никак не мог рашиться сказать, что женюсь, а ему пора уходить домой. Но к такому важному событию в жизни я готовился. Начал с мебели – делал большую деревянную кровать. Да и поселок знал, что у нас с Фросей скоро свадьба. Он, конечно, понял и перебрался к своим.
Подруги Фроси: Варя Скоморохова, Нина Лучко, Зина Бойко и другие девушки помыли в избе пол, побелили стены и печь, вырезали из бумаги на окна шторы. Вечером, после работы, мы с ребятами купили бутылку водки и поехали к Беленко свататься. Для хохмы запрягли в телегу быка Мирона, чтобы погрузить приданое невесты, которое вместилось в маленький сундук. А в это время в моем доме вовсю шло приготовление к торжеству. Парни сколотили большой стол и лавки. Девчата готовили свадебную закуску: варили картошку, парили свеклу с морковкой, жарили рыбу, пекли лепешки и драники на рыбьем жиру, кто-то дал квашеной капусты. Я заранее купил ведро браги – изделие Рыбачихи. Брага была кислой – вырви глаз, а крепости никакой. Водку купить было не на что. Оставшихся денег от работы в экспедиции хватило нам, чтобы купить посуду и двенадцатиколиберное ружье.
Молодежи на свадьбу собралось восемнадцать человек. Фросиных родителей не было. Отец был в отъезде, а мать не пошла:
– Там одна молодежь. Гуляйте, веселитесь. Скоро приедет отец, и мы отметим семейно.
Свадьба была веселой. Пели песни до хрипоты, под балалайку танцевали и плясали, травили анекдоты. Казалось, что все пьяные, а на самом деле – хмеля «ни в одном глазу». Комендант подарил нам с Фросей по три дня отпуску.
СОБРАНИЕ КОЛХОЗНИКОВ
Свадьба не осталась незамеченной сплетниками поселка. Вот, мол, сошлись двое с «голыми задницами» разводить нищету и от радости плясали до утра. Фрося переживала, услышав такие толки, а я внимания не обращал. Пусть люди почешут языками, если для них это в радость.
Той зимой я возил с лугов сено. Председателем тогда был Рыбаков Андрей Иванович. Был жив и его отец – дед Рыбаков. В Рабочем он пользовался большим авторитетом. Своему сыну давал много дельных советов по ведению хозяйства, а сын прислушивался к мнению отца. При Рыбакове стали больше получать зерновых с полей – пять-семь центнеров с гектара. На трудодень приходилось по восемьсот грамм зерна. Вот только размол его был проблемой, которую надо было решить в короткое время.
По этому поводу было организовано общее собрание, на котором решили еще два важных вопроса: покупку племенных быка и барана. О племенном быке доярки хлопотали давно: «От нынешнего производителя никакого толку. Телята рождаются хилые, от выросших телочек удой скудный, а бычки не дают хороших привесов. Коровы возмущены до крайности хилым кавалером и скоро подадут на развод». Под смех и шум единогласно решили закупить племенных производителей.
Вопрос о постройкие мельницы не вызвал единодишия. Слово взял председатель Рыбаков Андрей Иванович.
– Дорогие товарищи! Сегодня мы обязаны решить вопрос о мельнице. Давайте посмотрим, как идет размол зерна у нас в Рабочем. Опишу наш первобытный агрегат. Две березовые чурки, на плоскость которых высыпан битый чугун. Чурки трутся друг о друга при помощи деревянной ручки, которую крутят наши бабы, сидя на полу и ерзая по доскам задницами. Чтобы намолоть на небольшую квашню муки, надо с утра до вечера крутить деревянные жернова. Настало время освободить женщин от этого кошмара. Я предлагаю вложить капитал в строительство большой мельницы, сработав ее за год, и таким образом решить вопрос размола зерна.
Но отец председателя – Иван Тимофеевич, был категорически против:
– Рано еще затевать с большой мельницей. Денег в колхозе мало, если закупим быка и барана, да построим мельницу, то на трудодень придется ноль. А как жить целый год? Раньше мужик, чтобы поставить мельницу, лет пять копил деньги, на жизнь оставляя копейки. А мы со своими скудными средствами собираемся за год решить все проблемы. Я категорически против! Пусть бабы еще потерпят и потрут задницы о пол.
В зале бабы стали громко возмущаться, а скандальная Марфа Бокова выскочила на сцену, заорала, глядя на Рыбакова:
– Что ты мелешь, старик!? У меня на заднице уже кровяные мозоли, садиться больно, и с Васькой уже спать не могу. Ты, Рыбаков, сам поерзай по полу, тогда и скажешь строить мельницу или отложить.
– Марфа, – оборвал ее председатель собрания. – Я знаю тебя с детства, с годами ты не умнеешь. Если вышла говорить, то говори по делу, а не ори. Здесь тебе не твоя изба, где вы с Василием ходите друг на друга в рукопашную. Не можешь ничего предложить, тогда иди в зал, без тебя разберемся.
С места выступил Журавлев Гавриил Алексеевич, кузнец, сильный, здоровый мужик и умница, каких поискать. Коротко сказал:
– Мельница необходима и строить ее надо.
– Материалов нет, денег нет, специалистов нет, – сказал председатель собрания. – Гавриил Алексеевич, как при таком раскладе ее построить?
– Можно подумать над двумя вариантами: ветряк и плотина с турбиной. Ветряк можно сделать быстро – это не дорого. Все, наверно, помнят, что у нас на родине работали ветряные мельницы. Я принимал участие в строительстве двух ветряков, потому могу начертить схему. Работы по заготовке леса и распиловку можно начинать с завтрашнего дня. Что касается плотины, будем копить деньги на турбину и искать место для запруды водоема.
После собрания были танцы, пели озорные частушки под балалайку. Потом смотрели самодеятельный спектакль, как Иван и Марья ходили в лес по дрова.
На другой день приступили к заготовке материалов для мельницы. Меня и Ивана Гардусенко поставили пилить доски и брусья для мельничных колес. Стоял сильный мороз – сорок градусов. На распиловку шел витой березняк для крепости деталей. Это был мерзлый комель, резать его маховыми пилами – сущее наказание. Работа тяжелая, а мы были еще полуголодные, особенно зимой, когда прекращался лов рыбы. От крепости мороза стоял туман, воздух густой, дышать трудно. Я сильно ослаб. На распиловочных козлах стоял вверху, а Иван внизу. У меня, не перестовая, кружилась голова, а в глазах проскакивали искры. При таком физическом состоянии, наверно, сам Бог спасал меня от падения с высоты. Мой связник Иван был ленив и хитер. Ему легко было стаскивать пилу сверху вниз, а мне тащить ее вверх – тяжело. Нижнему пильщику по правилу требовалось толкать ее вверх, он же наоборот, – повисал на ручке пилы, и мне приходилось тащить ее вверх вместе с Иваном. Этим он доводил меня до белого каления Я соскакивал вниз, крепко вразумлял лодыря, он искренно клялся: «Никола, я все разумив, бильш не буду!» Однако все делал как прежде.
Наш рабочий день – это бесплатный трудодень. Приходилось думать о хлебе насущном после работы. Фрося весь день пилила дрова в лесу, а вечером вязала сети. Я вечерами делал табуретки, столы, кровати. Этим мы кое-как перебивались.
На трудодни нам с Фросей и семье Сергиенко колхоз выделил бычка. Жители Рабочего начали потихоньку обзаводиться скотиной. В это время всех ребят с тринадцатого по пятнадцатый годы, перевели из Каргасокского военкомата в Средне – Васюганский, и нам следовало явиться туда на учет. От Рабочего – это шестьдесят километров вверх по Васюгану. Нас было пятнадцать человек. Отправились пешком. В пять утра вышли из дома, а в семь вечера были на месте. Утром отметились в военкомате, а в обед я пошел в детдом и предложил директору купить у меня мясо бычка. Мне пообещали хорошую цену.
Вернулся в Рабочий, зарезал бычка, попросил в колхозе лошадь на два дня, погрузил мясо и поехал. Коня дали слабенького, он уже не мог таскать бревна из леса, может, болел, а может, ослаб от голодухи. С восьми утра до двенадцати дня мы с ним проехали всего восемнадцать километров. В Шкарино я остановился на отдых у знакомого Ивана Певнева. В дальнейшем его судьба была трагичной. Лет через пять они с семьей переехали в Рабочий. Однажды в половодье он ставил сети «на сорах». Налетела буря, опрокинула обласок. Иван успел зацепиться за край верткого суденышка, а влезть не смог – свело судорогой от холода. Так и нашли его застывшего. Он крепко держался за борт обласка, прибитый волной к кусту черемухи.
В то время, когда я у него побывал, он продавал стельную нетель. Мы с ним срядились за триста рублей. Покормил я коня и поехал дальше. Второй раз остановился отдохнуть и покормить коня в Седельноково. Время подходило к вечеру. Нам оставалось пройти еще километров двадцать. В это время дорога свернула с берега на речной зимник. На реке сильная наледь, конь проваливался по колено и был весь в мыле. Устал бедняга и тянул сани из последних сил. Вот тут я с ним намучился дальше некуда. Дам ему немного сена, потреплю по загривку, слезно попрошу поднатужиться, и бредем дальше. Последние километры я шел впереди с пучком сена, а она захватывала травинки мягкими губами, слабо жевала их и, понурив голову, уныло брела за мной.
Только в два часа ночи мы с конем добрались до места. Устали оба смертельно, да к тому же, у меня в чирках было полно воды, и ноги совсем онемели. Но, слава Богу, дорога обошлась без приключений. Ведь темной ночью не видно промоин во льду. Боялся за коня, за себя, но больше за мясо. За него я дрожал, потому что в Шкарино меня ждала нетель, а утопи я мясо – и все. На второй план отодвинулась наша с конем жизнь, так предвкушал я близкое счастье – иметь собственную корову.
Не мешкая, я отыскал избу зав. детдомом, постучал в окно. Вышел хозяин и открыл мне тесовые ворота. Распрягли коня, поставили в пригон. Пока хозяин угощал меня поздним ужином, прошло часа полтора. К этому времени конь обсох и я вышел, чтобы напоить его и дать сена. Но конь спал и на мой приход даже не поднял головы. Так голодным и был до утра. Утром взвесили мясо. Вышло около трехсот рублей.
Обратный путь без груза оказался легче. Наледь у села прошли через два часа, а дальше дорога была хорошо накатанная. В Шкарино рассчитался за нетель, привязал ее к саням. Певнев дал в помощники парнишку, чтобы он шел за ней и подгонял. Так мы добрались до дома.
Пригона у нас еще не было, поставить нетель некуда. Она должна была вот-вот отелиться. Привязал я ее к кедру, что рос у дома, и мы с Фросей принялись сооружать для своей драгоценной телки временное пристанище. Натаскали из леса жердей, приставили к стене дома, плотно согнав между собой, сверху заложили соломой, которую я запас заранее. Едва успели соорудить чудо-стайку, как наша коровка отелилась. Теперь мы были с молоком на два двора. Один день доили мы, а на другой – соседи.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
В тридцать восьмом году мне было двадцать три года. В это время в колхозе работали два смолокуренных завода (для истории схемы заводов прилагаю), пихтовый завод, багульный завод и большой бондарный цех. В бондарке изготовляли: бочки, клепки, сани, телеги, греби для неводников и лодок, кадушки, шайки, черенки для лопат, граблей, вил и прочее. А также резали дранку для отделки помещений. Была и лесопилка – шесть или семь козел, тес на них пилили маховыми пилами. Здесь замечу, что в Сибири дома никогда не крыли соломой или дранкой. Кровля всегда из теса. Кроме этого, всю зиму в лесу пилили дрова для общественных помещений Рабочего и чурочку для пароходов. В зимнее время мужчины занимались в основном строительством и подледным ловом рыбы. Заготовка дров лежала на женских плечах. Наверно, начальство считало эту работу легкой, хотя на самом деле труд был адским. Зима с лютым морозом, тайга, глубокий снег. У каждой пары пильщиков норма – четыре кубометра. Сюда входило: ручной пилой свалить несколько деревьев, обрубить сучья, распились бревна на чурки, расколоть и сложить в поленницу. Непросвященному это мало что скажет, а кто в курсе, сколько времени и сил требуется, чтобы поставить четыре кубометра дров, распиленных ручной пилой в тайге, при тридцати-сорокоградусном морозе, в глубоком снегу – придет в ужас. Женщин бригадир не выпускал из леса, пока они не выполнят норму. И само-собой: животноводство, полеводство, заготовка леса для строительства, ремонт помещений, рыбалка и множество других работ. Все население Рабочего было занято от старого до малого. Никто без дела не шлялся. Весной, когда вскрывалась река, большой буксир притаскивал две баржи. На них грузили бочки со смолой, скипидаром, пихтовым маслом, бочки с соленой рыбой, – все отправлялось в Каргасок на базу Лесхима.
В тридцать восьмом году я работал старшим бригадиром. По совместительству имел нагрузку зав. клубом. Этот день оказался переломным в моей жизни, и я его хорошо запомнил. Был последний месяц осени. По нашим Нарымским меркам – зима. Но на удивление день выдался теплым. Меня разыскал наш председатель колхоза Рыбаков. Он сказал, что к нам прибыли из Каргаска представители Райкома и Райисполкома для проведения важного собрания, и просил организовать уборку клуба. На старости лет, вспоминая прошлое, я завидую тому молодому парню, которым я был: исполнительным, крутым, легким на подъем, способным организовать любое дело. Помогать нам с уборщицей пришли девушки. Часа за три мы сделали уборку сцены, помыли окна, полы, расставили по залу лавки, подожгли лапку пихты, чтобы наполнить помещение приятным ароматом.
Когда мы закончили уборку, в клуб вошли наш председатель и представители района. Они не отвлекали нас от работы, а стояли у входа и смотрели. Я попросил Варю Скоморохову заканчивать уборку без меня, а сам пошел в школу, чтобы попросить учителей организовать после собрания концерт или поставить спектакль. Комиссия стояла у порога. Я вежливо поздоровался с ними и ушел. Начальство было довольно нашей работой. Они немного еще постояли у двери и отбыли в Сельсовет совещаться.
Вечером в клубе собралось все взрослое население поселка. С речью выступил председатель Райисполкома – Голещихин Петр Ефремович. Он сказал, что решением Областного исполкома Томска все промартели Парабельского и Каргасокского районов преобразуются в колхозы. (К этому времени в Рабочем колхоз уже существовал). Все действующие заводы по выгонке скипидара, смол и пихтового масла, переходят в колхозы, как подсобное хозяйство. Основным занятием колхозов будет выращивание овощей, льна, зерновых, а также жеводноводство. Районы должны полностью обеспечивать себя питанием. На этом собрании нужно избрать новое правление колхоза и председателя. Мы не особо понимали, чем промартель отличается от колхоза. Однако, начальству видней.
В правление избрали шесть взрослых мужиков, которые разбирались в сельском хозяйстве и, к моему великому удивлению, – меня. Я был уже два года женат и считал себя вполне взрослым мужиком, но такого продвижения не ожидал. Меня прямо подкинуло на лавке, что это – шутка? Дальше – больше, еще интереснее!
Слово взял Рыбаков Андрей Иванович и сказал, что на пост председателя надо выбрать энергичного и толкового человека. И вдруг назвал мою фамилию. Я схватился руками за голову, меня даже пот пробил, согнулся к коленям, в ушах звенело.
Собрание оживилось, начали обсуждать мою персону так, будто меня здесь не было. Вспомнили, что оставшись сиротой, я не опустил рук и пробивался в жизнь достойно. Отметили мое серьезное отношение к работе, деловитость, умение ладить с людьми и что во мне просматривается талант организатора. Никто не сказал обо мне дурного слова. Я был тронут до слез. Фрося сидела рядом и плакала, видимо, с перепугу. Тесть и теща между собой что-то горячо обсуждали, возмущаясь. Они ведь держали на меня обиду за то, что их дочь выбрала в мужья нищего сироту. Я пониал, что они обо мне невысокого мнения, хотя об этом никогда не говорили. Спокойная и тихая теща, услышав предложение выбрать меня председателем, громко выкрикнула:
– Вы что!? Какой из него председатель!
Ее возмущение никто будто не услышал.
Поднялся Кунгин Иван Федотович, – мужик пятидесяти лет. Он похвалил меня за честность, усердие в работе, за смекалку.
– Парень он хороший, – умный и видный, но слишком молодой для председателя. Боюсь, не потянет он колхоз. Хозяйство нужно создавать заново. Пусть года два поработает в правлении, присмотрится, наберется опыта, а потом примет колхоз.
Зал зашумел: «Молодой – это плюс, а не минус!», «Молодым – дорога!», «Хотим новой жизни, пусть ведет к ней молодой парень!».
Не выдержал и мой тесть:
– Хватит издеваться над человеком! Он молодой, неопытный. Сейчас расхваливаете его, а если случится что-нибудь в колхозе, – неурожай, к примеру, или падежь скота, – вы всех собак на него повесите. Я категорически – против!
На выступление тестя не отреагировали и требовали одного: назначить председателем меня. Все притихли, когда слово взял Понуренко Федор Федорович. Мужик серьезный и немногословный. Говорил всегда спокойно и по делу.
– Я знаю Николая с детства. Знал его семью, к сожалению, погибшую. Родители его были порядочными и работящими людьми… Говорите – молод. Да, молод, но молодость не болезнь. Я за него ручаюсь, а старики в правлении научат его всему, что знают сами. Нам нужен лидер, командир, если угодно. Пусть им будет Николай Матвеевич. Все задатки у него к этому есть.
Так с легкой руки Понуренко я стал Николаем Матвеевичем. С этого дня в Рабочем все, – от старого до малого, называли меня по имени-отчеству.
Поставили вопрос на голосование. Зал единогласно поднял руки – «за», только тесть, теща и Фрося были «против».
Мы с Фросей не стали смотреть постановку, которая была после собрания и ушли домой, где ждала нас маленькая дочь – Валя. Ночь я не сомкнул глаз, думал с чего начать. Голова гудела от распирающих ее мыслей. Намучившись ночь, встал в пять утра, слегка перекусил и побежал в контору. Почти сразу стали подходить члены правления. День ушел на приемку дел у бывшего председателя Рыбакова, а вечером занимались назначением бригадиров по отрослям.
(рис. 6. Председатель Н. М. Кротенко у кедра на своем огороде. Пос. Рабочий.)
Через три дня мы с бухгалтером выехали в Каргасок для оформления документации. Заказали чеки, получили земельную шнуровую книгу, нужные для работы бланки. Открыли счет в Госбанке. В последний день перед отъездом домой, закупили в Госбанке: плуга, бороны, сенокосилки, лобогрейку, железо для кузни, конную молотилку, веялку, сеялку и прочее. Рано утром выехали домой.
С первого же дня моего председательства я завел себе амбарную книгу, куда коротко записывал, что за день сделано и что предстоит сделать. Заполнял ее урывками, записывая туда, на мой взгляд, умные мысли, что приходили мне в голову. Иногда они были ошибочны, я их отметел, но многое, что придумывалось, шло в дело. До сих пор жалею, что в дальнейшей моей судьбе амбарные книги с записями исчезли. Видимо, не до них мне было в кипучей моей жизни.
Наступила весна. Сельхозинвентарь к севу был готов. Полевой сезон начали десятого мая и закончили через десять дней. Раскорчеванной под посев земли было всего сорок пять гектар.
Прошло два года моего председательства. Я с головой был погружен в колхозные дела. Пятого мая сорокового года к пристани подогнали баржи для погрузки продукции наших заводов. Три большие баржи загрузили под завязку. Для сдачи продукции я направил в Лесхим пред. Ревкомиссии – Муравского. Выписал ему от колхоза пять чеков для получения денег за сданный груз. Печати тогда еще не было, ее заменяли две подписи – моя и бухгалтера.
ЧЕКИ
В Каргаске Муравский сдал продукцию и получил в банке деньги. В это время в Каргасок из Новосибирска прибыли его брат и сестра. В Рабочий они приехали вместе с Муравским на пароходе «Тара». В тот день я выписал чек на пять тысяч рублей. Председатель сельпо Бузаев ехал в Каргасок по своим делам, и я поручил ему получить в банке деньги для колхозных нужд. Чек я выписал в конторе и пошел с ним домой к Бузаеву. Передал ему этот денежный документ и поехал на кульстан – там были срочные дела. В контору, чтобы сдать чековую книжку в бухгалтерию, возвращаться было некогда. Положил ее во внутренний карман пиджака, сел на коня Марша и уехал. Я не имел право таскать с собой чековую книжку, но подумал, что за пять-шесть часов обернусь и чеки сдам в бухгалтерию. Но вышло так, что на полях пробыл до вечера. Голодный и сильно уставший приехал в поселок, где мне сразу доложили, что прибыл Муравский с деньгами. Не заходя домой, побежал к нему, чтобы узнать по какой цене ушла продукция, и сколько он привез денег. Он сказал, что продукцию сдал удачно и получил двадцать две тысячи рублей.
(рис. 7. Н.М.Кротенко на крыльце собственного дома в п. Рабочий с собакой Грозный).
Беда моя началась с того, что голодный и донельзя уставший попал с «Корабля на бал». У Муравских в честь гостей был накрыт стол. Меня пригласили разделить великую радость – встречу родни. Отказаться было неловко. Мне налили стакан водки, просили выпить и хорошо поесть с устатку. Я, с дури, на голодный желудок и бабахнул его до дна. Минут через пять, не успев поесть, отрубился полностью. Утром меня разыскала Фрося. Я был заботливо уложен спать на лавке. С трудом поднял голову, меня сильно тошнило. Голова гудела так, будто по пустой бочке били палкой. Пиджак почему-то лежал на лавке у моих ног. Когда я взял его, то обратил внимание, что чековая книжка была не в кармане, а лежала под пиджаком. Чеки были на месте. Зашел в контору, сдал книжку. Тут мы с бухгалтером допустили оплошность, – не проверили порядковые номера чеков.
В ту злополучную ночь Муравский со своими гостями вырвали из середины чековой книжки два чека. Подделали подпись мою и бухгалтера, и на третий день попутным катером отбыли в Каргасок. Там, в банке, получили деньги. Один чек при заполнении испортили, а по другому – получили две с половиной тысячи. Недели три спустя, на имя Муравского, пришел солидный перевод из Новосибирска и посылка. Потом еще и еще посылки. Люди стали шептаться, откуда вдруг на Муравского посыпался золотой дождь? Через месяц колхозный бухгалтер Понуренко выехал в Каргасок для отчета, и выяснил, что в банке неизвестным лицом была получена сумма денег в размере двух с половиной тысяч рублей. Подписи отправили в Москву на экспертизу. Понуренко получил приказ, мне ничего не говорить! Следствие очень скоро установило, что это дело рук Муравских.
О пропаже денег я узнал случайно. Мы как- то с Фросей вечером собрались зайти на огонек к Костычеву, а днем в конторе я попросил кассиршу выписать мне пять рублей.
– Николай Матвеевич, – говорит она мне, – ходят слухи, что ты по колхозным чекам получил две с половиной тысячи рублей, а в колхозную кассу не сдал.
Я даже засмеялся, приняв это за шутку. Если даже и болтают люди, то рты всем не заткнешь, пусть чешут языками, я ведь в это время в Каргаске не был.
Пришли мы к Костычевым. Нас хорошо встретили. Жена его чудесно готовила. Мы немного выпили, хорошо поужинали, а потом пели песни и играли в «дурака». Кргда мы с Костычевым вышли на улицу покурить, тут он мне все и рассказал. Оказывается, за мной идет слежка, потому что меня подозревают в краже колхозных денег. Тут-то меня и стукнуло молотком по дурной башке. Не сказав ничего Фросе, я побежал к следователю Гришаеву. Он провел меня в комнату, предложил присесть и спросил:
– Что привело тебя ко мне, Николай Матвеевич?
От возмущения я сорвался на крик:
– Почему мне не сказали, что похищены деньги!?
– Потому что был приказ: всем, кто в курсе кражи, – тебе ничего не говорить. – Немного помолчав, спросил: – А кто тебе об этом сказал?
Я ответил, что сам проверил чековую книжку и увидел вырванные из средины листы. Это явно сделал преступник. Колхоз не получал такую сумму в двадцать две с половиной тысячи рублей. Гришаев меня слегка успокоил, что преступник найден – это брат Муравского, и он уже сидит. А за самим Муравским ведется следствие.
На второй день было общее собрание колхозников. Вопрос стоял о похищении денег. Я честно рассказал все, как было. Мне казалось, что колхозники выступят в мою защиту, пожурят и простят эту нелепую оплошность, учитывая мою порядочность. Но я ошибся. Прошлые мои заслуги были перечеркнуты подчистую. Все словно спятили, зал превратился в сплоченный негодующий коллектив. Наконец-то нашли злодея, из-за которого они так бедны и несчастны.
– Как ты посмел нас ограбить!?
– Мы тебе верили, а ты жирел за наш счет! Мальчишка, сосунок! Стыдно начинать жизнь с подлости!.. Думаешь – люди дурнее тебя и не схватят за руку, которую ты запустил в колхозную кассу!?
– Товарищи, посмотрите, – он уже себе и дом новый строит!
– По нему давно тюрьма плачет!
Сыпались и сыпались на мою голову обвинения – все было несправедливо, но больше всего обижало то, что упрекнули в постройке нового дома. Наша избушка, которую построили мы с матерью – четыре на пять метров. Это все, что я, парнишка, и больная мать могли соорудить, таская на себе бревна веревкой через плечо. Нижние бревна успели сгнить, ведь фундамента не было. Первый венец шел прямо по земле. Я ночами заготовил несколько бревен, чтобы заменить нижние. На помощь позвал двух моих приятелей. Мы быстро разобрали стены избушки и поставили нижние венцы. Избушка была мала для растущей семьи, и для пристройки мы протянули бревна еще на пять метров. Думал вечерами подрубить к избушке еще комнату. Это мне и поставили в вину.
Больше всех кричал Муравский. Он называл меня вором, бандитом, беспризорником, запустившим грязную лапу в колхозную кассу.
Бурное выступление Муравского прервал следователь Гришаев:
– Муравский, Вы изо всех сил стараетесь опорочить Кротенко, хотя прекрасно знаете, что он денег не брал. Ваше обвинение меня не тронуло. Скажу больше. Ваш брат уже арестован и все, что связано с воровством чеков, он рассказал. Прямые участники в воровстве: Вы, Ваши брат, сестра и жена. Сейчас следствие идет против вас.
Муравский стоя выслушал весь этот ужас и рухнул, как подкошенный на лавку. Собрание притихло. Я поднялся на трибуну и попросил колхозников до суда снять меня с должности председателя. Просьбу удовлетворили.
Через несколько дней нас с Муравским вызвали в Каргасок на допрос. Был август. Васюган сильно обмелел, пароходы не ходили. Нам предстояло проехать на обласке сто двадцать километров вниз по Васюгану. Это было странное плавание, – в одном вертком суденышке два непримиримых врага и сопровождающий Понуренко.
(Год спустя Понуренко расстреляют в Колпашево. Но на этот счет у меня другие сведения. После ареста, как немецкого шпиона, его держали в камере милиции Каргаска и много суток подряд не давали спать, выпытывая «шпионские» показания. Выбившись из сил, он на ночь заперся в камере изнутри табуреткой и лег спать на голом полу. Милиционеры выбили дверь и зверски били его до тех пор, пока он не скончался. Мне об этом, под большим секретом, рассказал знакомый милиционер).
Понуренко сидел в обласке между нами. Через шестьдесят километров остановились ночевать на берегу луга. Недалеко от берега стояли стога с сеном. Сварили чай, поужинали молча. Спать пошли на сено. Понуренко лег между нами. Ночь прошла без сна, хотя и все сильно устали. Я не мог заснуть от обиды на людей, которые споили меня и обобрали, но больше на колхозников, для которых старался, работая честно, не считаясь со временем, и порой забывая о семье. И вот в трудный для меня час – такое предательство! Досталось и молодой нашей семье, которая превратилась в «воровскую банду».
Лежу, смотрю на небо, подложив под затылок руки. Слышу, Муравский зашевелился. Я поднял голову, а он через Понуренко смотрит на меня. Что он задумал – трудно сказать, но мне показалось это подозрительным, и я рявкнул:
– Лежать! Свяжу гада!
Не знаю, что его подвигло рассматривать ночью мою персону, но до утра он лежал тихо, хотя вряд ли спал.
На другой день к вечеру мы прибыли в Каргасок. Утром был суд. На допросе мы с Понуренко рассказали всю историю с чеками. Муравскому в оправдание сказать было нечего. За свою пакость он передо мной даже не извинился. В итоге ему присудили три года тюрьмы и выплату украденных денег. Не оставили без внимания и меня. За допущенную халатность и то, что таскал с собой чековую книжку, я обязан был выплатить в колхозную кассу полторы тысячи рублей.
Возвращались домой мы с Понуренко вдвоем. Немного не доезжая Рабочего, решили переночевать на Уралке. В протоку у деревни заехали, когда было совсем темно. Слышим, за нами что-то шлепнулось в воду. Обернулись, огромный медведь большими рывками плывет за нами. Мы прибавили ход, медведь приотстал, выбрался на берег, галопом промчался вдоль протоки, опередив нас, снова плюхнулся в воду и поплыл нам навстречу. Мы резко отвернули в сторону обласок, но медведь не сдавался. Он еще дважды выбирался на берег, перегонял нас, бросался в воду и плыл нам навстречу. Такой случай за всю жизнь на Васюгане был у меня единственным. Кто-то медведя разозлил. Может, медвежонка убили, может, был ранен.
На третий день утром мы прибыли домой. За время моей поездки на суд, заскок злобы ко мне и моей семье прошел. Люди стали относиться к нам хорошо и даже с сочувствием, узнав, сколько мне нужно выплатить в колхозную кассу. Нам с Фросей предстояло пережить большие трудности. Полторы тысячи рублей – это огромная сумма, если учесть, что дома ни гроша. Мы продали корову, которую я купил в Шкарино телкой. За нее дали триста рублей. Больше взять денег было негде. Поздней осенью пришлось ехать в леспромхоз на заработки. Два года мы выплачивали долг, а сами сидели без копейки на картошке, рыбе и дичи. Вот такую пилюлю подложил мне председатель ревкома – Муравский.
После выплаты долга меня вновь избрали председателем единогласно. Жестокий урок не прошел для меня даром. Я превратился в бдительного руководителя. Работать стал с удвоенной энергией. Дневал и ночевал на работе. Изматывал себя до последних сил. Колхозники видели мое старание и тоже не отлынивали от работы. Не хвалясь, скажу – я был лидером, заводилой и люди шли за мной. Были особенно трудные времена в войну. Мужиков забрали на фронт, колхоз на военном положении, ежемесячная выплата огромного военного налога деньгами. Весь урожай зерновых сдавался государству, оставив только семена. Мужики, которые не были призваны на войну, считались военнообязанными на трудовом фронте. Бронь была у кузнеца Журавлева Гаврилы, у бригадира Бокова Василия, бухгалтера Чупурнова Георгия, зав. конюшней и ветеринара Тимченко Леона, бригады рыбаков из шести человек. Все, на ком была бронь, платили личный налог деньгами. Труднее всех было рыбакам. Норма зимой полтора центнера рыбы в день. За невыполнение – суд.
Обнищали люди полностью. Но шла война и никто не роптал. На фронте было еще тяжелее. Семьи получали похоронки на мужей и сыновей, плакали от горя бабы, надрывались на работе. Когда особенно прижмет нужда и горе, собираю колхозное собрание. В клубе по всей длине зала накроем столы. Зарежем овцу, натушим картошки с мясом, нажарим рыбы, соленые грузди, квашеная колба, кедровые орехи, дичь… Много вкусного рождает Нарымская земля. За столом собирали всех – от самого старого до грудного младенца. Когда все разместятся, встаю и красочно начинаю рассказывать, как лихо заживем мы после войны. Построим всем новые дома и большую школу, проведем радио, а может и свет, в сельпо завезут много разного товара, продукты будут продавать без карточек, за деньги, которые колхоз будет выдавать за работу ежемесячно. Притихнут люди, слушая сказку про «белого бычка». Выпьем бражки, затянем песню. Глядишь, полегчало у людей на душе. Дома Фрося, бывало, скажет: «Что ты там наговорил про счастливую жизнь!? Мне за тебя было стыдно».
А что мне оставалось делать? Колхозники страдают от непосильной работы, от нищеты, от усталости, если еще и председатель присоединится, – считай, конец света. Я несколько раз писал просьбу в Военкомат направить меня на фронт. И всякий раз мне приходил ответ: «Не ищи легкой жизни, Кротенко, и на фронт больше не просись!»
Самая тяжелая работа зимой – была рыбалка. Норма, вроде небольшая, – полтора центнера, но зимой, чтобы ее выполнить, нужны большие усилия. Мороз в наших краях зачастую по месяцу или два держится до сорока градусов. Лед метровой толщины. Чтобы подвести невод под лед, надо продолбить двадцать и более лунок в диаметре пятьдесят – семьдесят сантиметров и две майны – метр в ширину и два в длину. Одежда на рыбаках – фуфайка и стяженные ватные штаны, поверх – брезентовый плащ, на ногах – подшитые валенки. К вечеру эта униформа превращалась в ледяной панцирь. Поворачиваешься с трудом и скрипом. В особо холодные дни я приписывал себя в бригаду, чтобы выполнить дневную норму.
Женщины и дети лепили пельмени, старушки вязали шерстяные носки и руковицы. Все укладывалось в ящики, которые делали старики, и отправлялось на фронт. Вяленая рыба шла отдельными посылками.
(рис. 8. Ссыльные поселка Рабочий. За столом слева направо: Кротенко Н. М., Кротенко Е. С., кузнец – Журавлев Г. А., фельдшер – Визер, Беленко Ганна. По ряду у стены, слева нараво – вторая – Кунгина Аксинья, Беленко С. К. шестая – Назаренко Анфиса, рядом – Полуянов.)
К весне сорок пятого года дух победы уже витал в воздухе. Все знали, что война кончается. Потому с большой радостью приняли весть – собраться в Сельсовет. Единственный радиоприемик был тогда именно там. Народу набилось битком. Радиоприемник хрипел, визжал, трещал, но мы все-таки улавливали некоторые слова диктора. Даже шум приемника был приятен, – ведь он приносил нам официальное сообщение о том, что войне конец.
На второй день в клубе накрыли столы. Прибили к стенам лозунги: «Спасибо товарищу Сталину за Победу!», «С Победой, дорогие товарищи!». Почти в каждой семье были погибшие. Многие женщины сидели молча за праздничным столом, вытирая слезы из сухих глаз. А дети резвились, бегая между столов, и кричали что есть силы «Ура!». Они радовались Победе и обильной еде, которую организовал колхоз в честь Великого праздника.
Три послевоенных года пролетели незаметно. Военный налог с колхоза был снят, но оставались еще госпоставки, их отменят только при Хрущеве. Стало легче с рабочей силой. На Васюган было сослано много немцев с Поволжья, работали они в колхозе. В сорок восьмом году прибыли в Рабочий несколько латышских семей, сосланных с Латвии.
(рис. 9. Супруги Кротенко с сыном Борисом на крыльце своего дома в Рабочем)
Колхоз вышел в передовые по трайону. В этом же году Райкомом и Райисполкомом Каргаска было вынесено решение об образовании председателей колхозов. До ссылки я закончил семь классов, и меня решено было отправить на учебу в Томский сельскохозяйственный техникум. Трехгодичный ускоренный курс. Чтобы за три года охватить пятилетнюю программу, мы занимались и летом. Колхоз наш в районе был на хорошем счету. Мне было жалко оставлять с таким трудом налаженное хозяйство. На время учебы надо было найти хорошую замену.
На собрании колхозников я предложил на время моего отсутствия избрать председателем Волохина Леонтия Яковлевича. Мужик был хозяйственный, старательный, но любил крепко выпить и матерился через каждое слово. На работе он не выпивал, побаивался меня. Мне неоднократно приходилось зашишать его от разного рода неприятностей и даже от тюрьмы.
(рис. 10. Н. М. Кротенко на реке Нюрольке с конем Маршем, 1948 г.)
А дело было так. Он работал председателем колхоза «Большевик» в Тюкалинке. Хозяйство было непрохое и числилось в районе в десятке передовых. Учитывая организационные способности и деловую хватку Волохина, в районе решили направить его председателем в Волчиху. Там колхоз, как говорится, «дошел до ручки». Половина лошадей сдохла, а те, что остались, едва таскали ноги. Большой падежь был крупного рогатого скота, дохли телята. Овечки вообще приказали долго жить все до одной. Колхозники перебивались на картошке, рыбе, грибах. Долг государству был огромен, и выплатить его было невозможно. Кроме хлебопоставок, не сданных за четыре года, на колхозе висела ссуда денег за семена, которыми государство снабжало колхозы каждую посевную. Вот такой колхоз принял Волохин, чтобы поднять умершее производство.




















