Читать онлайн Военком и другие рассказы бесплатно
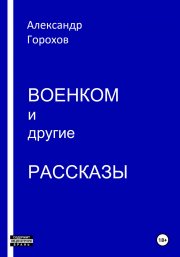
Военком.
― Нет, и не упрашивайте, не стану! ― майор Лозанюк решительно провел рукой горизонтально полу на уровне собственного живота.
Потом рука на секунду зависла, Лозанюк махнул ей, сказал:
– Эх! Ну, разве только пригублю, чуток.
Взял большим и средним пальцами граненый стакан, наполненный доверху коньяком, оттопырил мизинец, поднес все это к губам и замер.
Локоть ушел в сторону, часть руки от кисти до локтя вытянулась параллельно столешнице, загруженной снедью. Маленький, в его ручище двухсот пятидесятиграммовый стакан блеснул донышком с ни кем не читаемой выдавленной в стекле надписью и был аккуратно поставлен рядом с тарелкой холодца.
– Прохладненький, ― сообщил он Егору Тимофеевичу.
Тот кивнул, выпил и поставил свою стопку рядом с майорской. По запотевшим граням потекли капельки. Стакан и стопка как будто копировали обличие майора и хозяина. Грузного и высокого зам. начальника военкомата и мелковатого главного инженера рыбозавода Коростелева.
– Григорий … ― начала говорить жена хозяина.
– Степанович. – Подсказал майор.
– Закусывайте, – жена вздохнула – Григорий Степанович, на здоровье.
– Благодарствуйте, ― сказал зам. военком, но остался стоять.
– Присаживайтесь, пожалуйста, ― снова затараторила женщина.
Майор крякнул, вздохнул, присел на стул. Тот скрипнул и замолк. Замолкли все за столом.
–Так говорите, прибаливает сынок? ― сказал зам райвоенкома.
Жена пожала плечами, глянула на мужа и промолчала.
Егор Тимофеевич покраснел.
– Лечение нынче сложно. Хороших врачей мало. Они дорогого стоят, ― продолжил майор, поддел вилкой кусок холодца, плюхнул на свою тарелку, а оттуда переправил в рот. – По себе знаю.
– Сколько? ― тут же влезла хозяйка.
Майор укоризненно поглядел на хозяина и покачал головой.
Егор Тимофеевич тоже покачал головой и сказал?
– Катя, ты бы поглядела на кухне, как бы мясо не подгорело.
Та закивала головой и, пятясь, чтобы не повернуться к гостю спиной, оставила мужчин вдвоем.
– Распустил ты её, ― сказал Григорий и показал пальцем на дверной проем.
Хозяин согласно вздохнул. Разлил коньяк, они чокнулись. Выпили. Потом еще раз.
– Хотя в оправданье тебе могу сказать, что моя такая же гадюка. Представляешь, ― Григорий от нахлынувшего возмущения развел руки в стороны, ― Три года назад возвращаюсь я из госпиталя, а эта гадюка поняла, что денег особых нет, скривила тоненькие свои губёшки и говорит: «Другие из горячих точек с деньгами возвращаются, а ты только со шрамами».
– Ни хрена себе, ― опешил возмущенный Егор, ― а ты?
– А я, ― майор вытер пот с лица, ― я, как вмажу ей. Со всего маху. Дверью саданул и в комендатуру ушел. Через день является, с фингалом: «Гришенька прости, я это не подумавши, с дуру, я тебя люблю, возвращайся домой».
– Простил?
– Простил, ― вздохнул Григорий, поднял кверху толстенный, размером с сук дерева, указательный палец, ― но запомнил.
И спросил:
– А твоя-то, как?
Егор Тимофеевич, вздохнул, махнул рукой, налил себе и гостю коньяк и выпил.
Выпил и майор. Тоже вздохнул и протянул:
– По-нят-нень-ко.
Потом они выпили еще раз, уже понемногу, по маленькой стопке и Лозанюк сказал:
– Тимофеич, ты мужик толковый. Свой! И в городе, и в районе и вообще тебя уважают. И военкомату помогаешь. В прошлом году крышу помог перекрыть. И вообще. Сына твоего мы отмажем. Запихну я его личное дело так, что никто сроду не отыщет. Не переживай. И ничего тебе это стоить не будет. Разве что захочешь от своей скарлатины чего заныкать, то по секрету скажешь, что мол так и так, передали туда, майор показал пальцем на потолок, столько-то. И добавь, что ежели проболтается, то сына враз призовут. И тебе польза будет, и она не сболтнет.
Егор помотал головой, хихикнул, протянул руку майору, хлопнулись ладонями и заржали. После закусили заливным из судака, запили апельсиновым соком из высокого двухлитрового прямоугольного пакета до того без дела занимавшего пространство стола. Выпили ещё по рюмашке коньяку. Закусили сыром с положенными на него пластинками лимона и замолчали пережёвывая тонкие до прозрачности дольки вяленой осетрины.
Потом зам военком приблизил свое лицо к лицу хозяина и шепотом спросил:
– А может пусть пацан отслужит. Теперь всего-то год. Мы его с военкомом тут у нас при военкомате пристроим. Он на компьютере умеет?
– Умеет, – кивнул слегка захмелевший Егор Тимофеевич.
– Ну вот, видишь! – громко произнес Лозанюк и снова перешел на шепот – Так оно было бы надежней. Год отсидел у нас в военкомате писарем и всё. И никаких вопросов. А то вдруг, что со мной. Или переведут, или повысят, или просто помру.
Егор замахал руками:
– Типун тебе на язык! С какого это тебе, крепкому мужику помирать?
– Всяко бывает. – Печально вздохнул майор. – Вот у нас в части, где я служил. Здоровенный молодой лейтенант. Ростом под два метра. Только из училища. Прыгнул с танка на танк в парке. Машины рядышком стояли. В полуметре друг от друга. И поскользнулся. Ушибся. Дня два похромал потом в медсанчасть пошел. Положили. Через месяц в госпиталь перевели. Через полгода ногу ампутировали. А через год парень помер. В мирное время! Еще до всех этих конфликтов. В СССР ещё! И было парню двадцать пять лет.
Лозанюк перекрестился, сказал: «давай помянем хорошего человека» и они распили не чокаясь остатки коньяка. Пустую бутылку хозяин по старинной примете тут же убрал под стол.
– Так гляди, может твоему годик отслужить. Пролетит и не заметишь! Под общим нашим присмотром. Чем отмазываться. Ты подумай. Ты ведь служил – и ничего.
Главный инженер почесал затылок. Покумекал и сказал:
– Правильно ты Григорий говоришь. Мы служили и вопросов не задавали. Пусть послужит и молодежь. Тем более тут. А точно сможешь его при себе служить оформить?
– Без вопросов. Мне трое воинов нужно. Кроме твоего просил еще своего пристроить директор кирпичного завода. И заместитель главы администрации района.
– Федор Константиныч?
– Точно, он. Ты подумай! Пока вакансии так сказать есть. Подумай. Мы Егор с тобой давно корешуемся, так что тебе я в первую очередь пособлю. Подумай.
Тимофеич кивнул.
В это время в гостиную вошла жена Егора Тимофеевича с блюдом горячей, хрустящей подрумяненной корочкой икры из сазана и такими же вкусными на вид щучьими котлетками.
– А вот и второе, сейчас картошечку принесу. А чего это вы ничего не едите. Егор, ты гостя-то угощай, а то не удобно получается.
Женщина принесла сковороду с жареной картошкой, по поведению мужа и гостя сообразила, что ей среди мужчин делать нечего, что разговор у них налаживается, сказала, чтобы теперь управлялись сами, что она должна пойти к соседке и удалилась.
Майор сообразил, что она с той стороны засунула ухо под дверь и слушает, подмигнул хозяину и громко сказал:
– Умная у тебя, Егор Тимофеевич, жена. – И повторил. – Умная и тактичная. Враз поняла, что ни к чему ей тут с нами быть и нашла предлог. Умная! Ты её береги. Таких мало.
Хозяин не заметил перемены гостем мнения о его жене, кивнул, откупорил новую бутылку и разлил по стопкам.
– Не части, Тимофеич, ведь не спешим. Не на пожаре. Не горит. И заливать нечего.
– Не, не спешим, – согласился главный инженер. И хихикнул. – Точно, заливать не чего.
Потом показал на две полные, красивых форм, бутылки с водкой видневшиеся сквозь стекло серванта и добавил подняв указательный палец:
– Но есть чем!
Зам военком гоготнул и они снова хлопнулись ладонями.
Майор задумался на секунду вспоминая о чем они говорили, вспомнил и снова сказал:
– Умная у тебя, Егор Тимофеевич, жена. И тактичная. Враз поняла, что ни к чему ей тут с нами быть и нашла предлог. Умная! Ты её береги. Таких мало.
Входная дверь хлопнула, должно быть жена и вправду ушла к соседке.
Лозанюк вздохнул, выпил из фужера сок, откусил кусок котлеты, попробовал икру, похвалил, замер на минуту будто чего вспоминал, отстраненно поглядел на хозяина и продолжил:
– Вот у нас в части, когда я только начинал служить, на Северном Кавказе, ещё при социализме, был лейтенант. Из двухгодичников. Тогда были такие. Их на два года призывали. Кого после институтов, кого просто с гражданки. Иногда толковым воинам срочной службы, – майор почему-то вдруг перешел на служебную официальную терминологию, – в конце службы предлагали пойти на курсы младших лейтенантов. Теперь уже не помню толи три месяца, толи полгода их учили. В армии тогда не хватало младшего офицерского состава. Тоже и тогда умников наверху хватало. Все кому не лень армию разваливали. Позакрывали училища, взводные повысились, а замены им нету. Училища-то закрыли. Нехватка кадров. И начали из вузов после военных кафедр или вообще отовсюду набирать. Ну и так далее.
– Да я знаю! Я же служил. Сам такие курсы закончил. – Напомнил хозяин.
– Ну да, так вот, – продолжил майор – был у нас в части лейтенант. Сначала младший, потом ему лейтенанта присвоили. По фамилии Белитдинов. Зазвал он нас как-то к себе в гости с дружком моим тогдашним, Грудиным Женькой. Ну взяли портвейна, тогда мы по молодости пили всякую гадость типа «Солнцедар» или портвейн «Три семерки». Приходим. За стол сели, разлили, выпили по чуть-чуть. Ну он жену зовет, чтобы нам картошечку, вот как твоя, пожарила. Зовет, а её нет. В смысле дома нету. Он нахохлился, говорит, что наверное у соседки.
Мы ему, мол, и бог с ней, колбасу сами порежем. Мы её с собой принесли. Закусим и пойдем. А он психовать начал, раздухорился, пошел искать. Минут двадцать не было. Женька даже прикемарил. Вдруг, шум гам бежит она, он за ней, пинками подгоняет. Глядим, молоденькая девчонка. Лет шестнадцать. Не больше.
Оказалось, этот Галимзян когда вернулся со срочной младшим лейтенантом устроился в милицию, участковым. Увидел на своем участке молоденькую девицу эффектных форм ну и завел с ней шашни. Погоны офицерские, прочие блестючки, рассказы про подвиги. Девица сомлела. Поселочек, где они жили маленький и родители её скоро обо всем узнали. Приходят к этому самому Белитдинову и говорят: «или женись, или в тюрьму!». В тюрьму, потому что девчушке четырнадцать лет. У Галимзяна челюсть отвисла:
– Как, – говорит, – четырнадцать! Она же мне говорила, что шестнадцать давно стукнуло.
А они ему свидетельство о рождении её показывают. А там – четырнадцать! Короче еле-еле уговорили председателя сельсовета расписать их. Дело-то подсудное. А чтобы поменьше разговоров было, Белитдинов подальше от родных мест в армию к нам через военкомат призвался. Вот так-то.
– А собственно к чему это я. – Опять задумался Лозанюк. Потом вспомнил и завершил – Так что ты, Егор Тимофеевич, приглядывай за своим. У нас-то служить ему будет вольно, так чтобы не учудил чего такого или подобного.
– Да, – согласился хозяин, – маленькие дети маленькие заботы.
– Вот-вот, – поддержал майор. – В настоящей части с этим не побалуешь. Там присмотр серьезный. А тут, например, ты с утра до вечера на работе, жена тоже. Мы на обед ушли. Он домой кого хочешь привести может ну и так далее. Сам понимаешь.
Егор Тимофеевич покачал головой и согласился:
– Может.
– То-то и оно. – Опять продолжил Лозанюк. В серьезной части оно надежней служить. Ни тебе дедовщины, ни бардака. Все под присмотром.
Хозяин вздохнул, и тоже согласился, что в серьезной части надежней служить.
Закусили. Помолчали. Потом Лозанюк как бы самому себе сказал:
– Хотя и в любой части может чего угодно случиться.
Хозяин кивнул. Выпили по чуть. И Лозанюк обратился к Егору:
– Вот ты, Егор Тимофеевич, где служил.
– В танковых. Северо-Кавказский военный округ. – Егор расстегнул рубашку, обнажил плечо и показал майору.
С плеча на Лозанюка наводил пушку тяжелый танк. Под ним по дуге крупными буквами синела надпись «СКВО».
Лозанюк покивал головой, задумался, как будто хотел чего-то вспомнить, потом махнул рукой и сказал:
– Уважаю. Танкистов сильно уважаю. Своих не бросают. Всегда выручат. Тяжелый, но правильный род войск. Давай за тебя и за танкистов! Чтобы броня была крепка и танки наши быстры.
– А наши люди мужества полны! – поддержал Егор Тимофеевич.
Чокнулись. Выпили.
– Хотя теперь служба не та. – Посетовал Лозанюк. – Представляешь, солдаты, первогодки, офицеров не приветствуют. Не отдают честь. Привожу осенью партию наших новобранцев в серьезную часть. Под Москвой. Практически образцовая часть. Иду в штаб полка. Навстречу воин. Мимо движется, проходит, как будто меня нет. Честь не отдаёт. В упор не видит. Останавливаю. Спрашиваю, почему не приветствует старшего по званию. А он мне и говорит: «Я курю, а в курилке и столовой не положено приветствовать» и показывает на курилку. А эта самая курилка метрах в пяти. Я ему объясняю про это, а он нет, чтобы извиниться и приложить руку к фуражке, ухмыляется и говорит: «Товарищ майор, штаб вон там» и показывает рукой. Практически меня посылает.
– А ты чего?
– Да ничего. Пошел в штаб. Некогда мне с ним было возиться. У меня поезд через час отправлялся, а надо было еще кучу документов оформлять. Ну сказал в штабе дежурному. Тот отмахнулся. Мол, не до того. Сверху очередная проверка едет. Все издерганы. Замотаны. Служить некогда. Вот так-то. А я думал образцовая часть. – Майор вздохнул, подвинулся поближе к хозяину и тихо сказал – нету в армии решительных, волевых командиров. Чтобы и службу знали, и спросить с других могли и с себя. И не позволяли ни над воинами глумиться, ни над честью армии. Нету, у нынешних, воли! Так что может твоего действительно лучше вообще отмазать. Чтобы на все это безобразие не глядел. Так что ты отец, сам решай, как быть. Как лучше.
– Да я уже и сам не знаю, Григорий Степаныч, чего лучше, чего хуже. Башка раскалывается от этих мыслей. – Выстрадано произнес Егор Тимофеевич.
Лозанюк кивнул:
– Хотя, наверное, лучше пожалуй все же отмазать. Решай сам. Только до среды надо решить.
Егор Тимофеевич почесал затылок и снова наполнил рюмки.
Лозанюк взял свою, поднялся:
– Ну давай Егор Тимофеич, на посошок. Давай за сына твоего, за Витька. Парень он вежливый, когда на улице встречает, всегда здоровается. А чем интересуется-то в жизни? Спортом каким занимается или так, по дискотекам?
Егор Тимофеевич приосанился, видно было, что вопрос ему понравился и рассказать про сына есть что.
– Он у меня со второго класса гимнастикой занимается! Сейчас, Степаныч, в областную сборную входит. Второе место на первенстве области весной взял. Сальто и назад и вперед прямо в комнате делает. Стоит на месте, а потом ради хохмы кувырок в воздухе, раз! И опять на этом самом месте стоит! Парень упертый! А в институте этом экономическом не хочет учиться. Это его Катька туда утолкла. У неё знакомый декан, ну и уговорила Виктора. А парню не интересно это бухгалтерско-экономическое дело, вот он и завалил сессию.
– А чего хочет-то по жизни?
Егор Тимофеевич пожал плечами:
– Да вроде автомобили его всегда интересовали. Он мои «Жигули» водить еще в седьмом классе научился. Как за город выезжали, я его за руль – и вперед! Теперь-то права получил. Водит аккуратно, не лихачит. И ремонт весь на нем. Сам всё делает. Зимой двигатель перебрал. Теперь работает как часы. Лучше нового. Капремонт сам сделал. Я только запчасти кое какие купил.
– Молодец! – Похвалил Лозанюк.
Чокнулись, выпили по последней. Майор уже начал было движение из комнаты, потом пожал плечами, остановился и в некоторой задумчивости, почти как самому себе произнес:
– Тимофеич, я тут вот чего подумал. Только если не то, так сразу отменим. Но сперва выслушай, не перебивай. А что если твоему Виктору в военное училище пойти. У меня, командир нашей бригады генерал Кузовлёв теперь как раз командует высшим военным автомобильным институтом. Я его по весне встречал в штабе округа, так он говорит, что конкурс к нему! Выбирают для учебы самых толковых. А чего, во-первых, высшее образование. – Лозанюк стал загибать пальцы, – Во-вторых, специальность такая, что всегда, даже если уйти на гражданку, работу найдешь. В-третьих, теперь офицерам платят очень даже прилично, да вдобавок квартиру со временем получит бесплатно. Такое после вуза ни кому не светит. Ну да много еще чего хорошего в армейской службе есть.
Зам военком перешел на шепот и почти на ухо хозяину продолжил:
– У меня с генералом отношения редкие. Он меня к ордену представлял. Потом сам вручил орден. Скоро, приказ уже подписан, мне из управления кадров звонили, подполковником стану, опять не без его содействия. Так что поможет поступить Виктору. Сам знаешь, конкурс конкурсом, а жизнь жизнью. Ну как? Может это вариант?
Егор Тимофеевич открыл рот от неожиданного поворота в разговоре. Было видно, как в голове его происходила сложная мыслительная работа. Техническая профессия и опыт постоянно принимать правильные решения ускорили её и он позвал:
– Витя, ты дома?
Сына не было. Тимофеич взял сотовый телефон, позвонил. Ответили.
– А ты Виктор далеко от дома?
Лозанюку было слышно, как сын сказал, что идет с тренировки и минуты через две будет.
В дверях появился крепкий высокий парень с лицом похожим на отцовское так, что не спутаешь.
– Витя, тут такая мысль возникла у нас с Григорием Степанычем. А не пойти ли тебе учиться в военный институт. Автомобильный. Раз уж с экономикой не складывается. А?
Сын удивленно поглядел на отца, потом на гостя:
– Вы это всерьез?
Лозанюк развел руками, кивнул головой:
– А что, профессия интересная, и образование получишь высшее и офицерское звание, ну и так далее. Со всеми вытекающими положительными последствиями. Даже на пенсию раньше уйдешь, чем на гражданке, однако про это тебе ещё рано думать. Начальник училища, генерал, меня знает, поможет. Поедем поступать вдвоем. Так сказать для страховки. Конкурс у них серьезный. Желающих много. Народ-то нынче соображает, что к чему.
– Да меня, вообще-то и так могут взять. – Сын приосанился, ну в точности как отец три минуты назад, – Как никак кандидат в мастера по спортивной гимнастике. Да и в голове кое-что есть. Школу без троек окончил. Да и четверки только по всякой муре.
– Ну, поддержка никому еще не мешала – ответил майор. – Так чего? Звонить генералу?
– Как Виктор тебе такая идея? – присоединился отец.
– А когда ехать-то? Я могу хоть завтра. – Кивнул Виктор.
– Завтра ко мне в военкомат подходи после обеда. В пятнадцать ноль-ноль. Я созвонюсь с утра, всё прозондирую, если будет добро, выпишу тебе какие положено документы.
Потом внимательно поглядел на парня, пожал плечами, сказал, что тому хоть сейчас безо всякого училища можно давать лейтенантские погоны и повторил про пятнадцать ноль-ноль в военкомате.
Сын встал по стойке «смирно», отдал честь и ответил:
– Слушаюсь товарищ майор.
Лозанюк задумался на секунду, будто что вспомнил, потом погрозил пальцем, блеснул в улыбке золотым зубом, сказал, что к пустой голове руку не прикладывают, но к умной можно, особенно если на ней офицерская фуражка.
Попрощался с сыном, потом с Егором Тимофеевичем и уже наступив на порог оглянулся и спросил:
– А как Катерина-то, мать ваша, шуметь не станет, может все-таки отмаже…
– Нет! – В один голос не дали договорить Коростелевы.
– Ну, глядите, мужики, вам решать, – кивнул Лозанюк, кряхтя, прихрамывая на раненую ногу, стал спускаться по ступеням. Майор передыхал на каждом пролете, пожимал плечами, рассуждая мысленно о странностях гражданских, даже очень хороших и толковых людей. О том, почему это они не понимают таких простых, ясных и очевидных истин, что в армии-то лучше, надежнее и даже практичней, если говорить о материальной стороне.
Коростелевы смотрели на него в лестничный проем, на коротко остриженную голову, на огромный от левого уха до правого виска рваный шрам. Шрам, разделивший жизнь майора на ту, которая была до … и ту которая теперь. Потом вернулись к себе. Жена вышла из дальней комнаты, спросила:
– Ну как?
– Да вроде ничего, – ответил отец, – вроде всё в основном нормально.
– Только … – продолжил Егор Тимофеевич, потом замолчал, вздохнул, закурил в комнате, чего обычно не делал, – только память. Так и считает, что в своем военкомате работает. Про ранение, про контузию ничегошеньки не помнит. Ничегошеньки. Хотя про совсем давнее уже вспоминает. Про какого-то Грудина, с которым ещё лейтенантом начинал служить, вспомнил. Еще всякие подробности из молодой жизни.
Егор Тимофеевич докурил, потушил окурок.
– Из последнего, про генерала Кузовлёва. Сам заговорил. Будто тот училищем теперь командует. А они, ты знаешь, Виктор рассказывал, тогда в одной машине были. Только генерала от взрыва сразу. Насмерть. А Григорий сама видишь. Господи если б не он не было бы теперь нашего Виктора. Большой, всё на себя принял. Все осколки. Витька нашего только чуток зацепило. Как он к ним в машину тогда попал? Витек говорит случайно. Попросил подвезти, а видишь как вышло-то. Любимый дядька спас любимого племянника.
– Егорушка, он же ничего не помнит. Я его маленьким вынянчила. Отец с матерью на работе, а я не отходила от него. В первый класс не мать, а я повела, да и потом, всегда были рядышком. – Катерина захлебывалась от слез, не могла остановиться. – Братишка мой маленький, Гришенька. И Витеньку спас. Собой закрыл. Егор, что же это за гадость такая война! Что же с людьми делает. Он же меня вообще не узнает. Что же делать-то?
Егор Тимофеевич обнимал жену, успокаивал, думал разные слова, которые они много раз слышали от докторов. Думал, что жизнь непонятно устроена и мозг непонятно устроен. Что может Григорий ещё всё вспомнит. Не просто же профессор велел именно так с ним встречаться. Учил, как память надо провоцировать.
А повторял одно:
– Вспомнит, Катюша, всё вспомнит, Бог поможет, дай срок выходим.
Холодно розе в снегу
На ногах, повыше пальцев, было написано «они устали». На безволосом животе – «оно хочет есть». На голове ничего не было написано, а на груди простер крылья орел. Орел летел и в клюве держал девицу. Девица, судя по горизонтальному положению, находилась в обмороке. В такой же обморок была готова свалиться моя сестра.
Заспанный мужичок слез со второй полки, запихнул ноги в усталые башмаки и отправился в тамбур курить.
– Говорила тебе, что надо в купе брать билеты! С проводником надо было договариваться! – зашипела сестра. – А ты – «нет мест, всего ночь переспать». Вот теперь переспишь! Этот головорез прибьет и не моргнет.
– В купе тебя зарежут, по частям выкинут в окошко и никто не увидит, а здесь всё на виду. Когда твою умную башку вместе с языком оттяпают, все сразу увидят, – объяснил я.
– Где я тут буду переодеваться? Покажи!
Я молча закинул свою сумку под лавку, сестрину, подняв крышку лежанки, поставил в сундук. Повесил на крючок куртку и потом объяснил:
– Ты, дорогая, когда начнешь переодеваться, все сами отвернутся.
– Как был хамом, так и остался!
Все это произносилось про себя, в уме, и никто в плацкартном вагоне нашей ругни не слышал.
Была ночь. Вагон спал.
Поезд дернулся, поехал, проводник принес белье, мы застелили матрасы, переоделись и улеглись. Сестра внизу. Я на верхней полке.
Вернулся мужик с орлом и девицей на груди. Дыхнул смесью дыма и перегара, кряхтя, забрался на полку и захрапел. Заснул и я.
Утром проводница начала собирать белье за четыре часа до Москвы. Народ ворчал, но связываться не хотел, отдавал смятое за ночь сероватое тряпье, скручивал матрасы, запихивал их на самую верхнюю полку для сумок и чемоданов, вздыхал и садился досыпать на нижние грязно-коричневые лежанки. Поезд, как и положено, стучал колесами, холодное солнце лезло в глаза, слепило.
Мужик с усталыми ногами после очередного перекура дыхнул сигаретным запахом, протянул руку и сказал:
– Витя.
– Гена, ― ответил я.
– Обмоем знакомство. – Он неторопливо, но, как оказалось, быстро нагнулся к сумке, вытащил бутылку с третью прозрачного содержимого, влил его в два стакана, всю ночь звеневших ложечками, стукнул, чокаясь почерневшими подстаканниками. Запрокинув голову, выпил свой и удивленно увидел мой, оставшийся на столе нетронутым.
– Болеешь? – сочувственно спросил он.
– Я ему выпью, враз заболеет! – ответила сестра.
– Сочувствую, – ответил мужик мне.
Поднял второй стакан, сказал:
– За вас, мадам! – и поставил опустевшую тару на скатерку, засыпанную крошками.
Я вздохнул. Он сочувственно спросил:
– Жена?
– Сестра, – ответил я и объяснил: – С похорон едем. Батю похоронили.
– Примите мои соболезнования, – сказал Витя, нагнулся под лавку, жикнул замком и вытащил новую, запечатанную бутылку. – Надо помянуть хорошего человека.
– Я ему помяну! – снова ответила за меня сестра.
Пришла четвертая пассажирка. Она успела умыться, переоделась, сверкала губной помадой, пахла зубной пастой, фальшивыми французскими духами, прелыми железнодорожными простынями и угольным дымом.
– Витёк, сучонок, я тебе сейчас твою поганую пасть зашью вместе со стаканом!
– Жена! – похвастался мне Витёк.
– Красивая, – также лаконично ответил я.
– Моя! – снова похвастался Витёк.
Жена была похожа на гусеницу из мультфильма. Кофточка плотно обтягивала грудь и, такие же по размерам, три живота под ней. Ярко-красные, пухлые губы и огромные накладные ресницы дополняли сложившийся сам собой образ.
– Сучок! – снова прошипела красавица и треснула муженька косметичкой.
Витёк увернулся и пояснил:
– Бьет, значит, любит.
– Когда только успел налакаться? Отошла всего на минуточку.
Довольный похвалой Витёк счастливо улыбался.
– Моя жена! – снова объяснил он нам с сестрой.
– Вроде приличный человек. Писатель, а на деле алкаш алкашом! – говорила гусеница. – За что мне это наказанье Господне? Сейчас едем с конференции литературной. Этому козлу премию дали сто тысяч и бронзовую статуэтку. Так он третий день не просыхает. Просто кошмар какой-то. Даже билетами путевыми заниматься не захотел. Еле эти достали. Там хлебал с дружками-писателями и тут никак не остановится.
Убью! – жена снова саданула Витька косметичкой и опять промахнулась.
Потом собрала его и свои простыни, полотенца, наволочки и пошла сдавать проводникам.
Витек снова нырнул в сумку и для ускорения процесса заглотнул водку из бутылки.
– А вы правда писатель? – от нечего делать спросила сестра.
– А то!
– А с виду и не скажешь, обыкновенный человек.
– А писатели и есть обыкновенные человеки, только всё, что видят, обобщают и потом записывают. А вы думали, писатели и поэты – это только те, которые «с свинцом в груди и жаждой мести, поникнув гордой головой»? ― оживился писатель, закинул ногу на ногу и откинулся к стенке.
– С винцом в груди! Ты ирод с винцом и водярой в груди и в брюхе, и насквозь пропитан, ― снова вступила вернувшаяся жена.
– Холодно розе в снегу! Явилась не запылилась, – огрызнулся Витёк. Спохватился и продолжил роль маститого писателя и поэта: – Позвольте представить – моя супруга, так сказать, лучшая половина. Розалия Николаевна.
Роза улыбнулась, вздохнула, махнула рукой и присела рядом с муженьком.
– Это он Мандельштама так цитирует, – закокетничала она и продекламировала: – Холодно розе в снегу. На Севане снег в пол-аршина…
– В ТРИ аршина, картонка ты вертепная, – возмутился писатель и продолжил сам:
На Севане снег в три аршина…
Вытащил горный рыбак расписные лазурные сани.
Сытых форелей усатые морды
Несут полицейскую службу
На известковом дне.
А в Эривани и в Эчмиадзине
Весь воздух выпила огромная гора,
Ее бы приманить какой-то окариной
Иль дудкой приручить, чтоб таял снег во рту.
Снега, снега, снега на рисовой бумаге,
Гора плывет к губам.
Мне холодно. Я рад…
Он вздохнул, мы тоже замолкли. Колеса громыхали вроде в такт, да совсем не в такт только прочитанному стихотворению. Ничего было в нем не понятно, но ясно, что сказал поэт о чем-то очень главном. И очень точно.
Витёк насладился впечатлением, сказал: «Эх, жизнь наша поганая», нагнулся под лавку, ширкнул замком, вытащил водку, разлил в четыре стакана, мы молча чокнулись и выпили.
– А мы батю похоронили, – выдохнула сестра.
Глаза ее набухли, но слезы не выкатились, а блеснули, поколыхались и ушли назад.
– Меня Катя зовут, – сказала она. Вытащила сумку, достала из неё самогонку в красивой иностранной бутылке, отвинтила пробку, налила всем по трети стакана. Снова вздохнула, сказала: – Давайте помянем нашего папаню.
Молча выпили.
Витёк, подержал стакан, выпил чуть позже остальных и сказал:
– Пусть земля будет ему пухом.
Розалия пояснила то, что все и так знали:
– До сорока дней надо говорить «пусть земля будет пухом», а потом «Царствие Небесное».
Сестра порылась в сумке и вытащила сало, колбасу, хлеб. Порезала на большие ломти. Все закусили. Опять помолчали.
Витёк отправился покурить.
– А чего это он весь в наколках, сидел, что ли? – наконец дождалась удобного момента моя любопытная сестричка.
– Нет, не сидел, – вздохнула Розалия. – Пьяница и дурак, хотя таланта огромного. Напился по молодости в общаге в своем литинституте, а такие же дураки всё это и нарисовали, пока он дрых. Неделю они бухали, а проспался, протрезвел – всё, назад никак. Так и ходит теперь, пугает людей. Полудурок окаянный.
Сестра успокоилась. Розалия вытащила из дальней сумки две книжки в красивых переплетах:
– Возьмите, это его. Только выпустили. Хорошая книга. Прочитайте.
Возвратился писатель. Увидел книги, улыбнулся:
– Это мои, последние, давайте подпишу на память. – Вытащил из кармана рубашки ручку, раскрыл книгу, подписал сначала сестре, потом мне. Я удивился, имена наши он запомнил, написал на первой странице, под углом, красиво, ровно. Мы прочитали надписи, сказали «спасибо». Что дальше делать с подарками, было не понятно. Читать сидя напротив живого автора вроде неприлично, спрятать ― неловко, и мы уважительно замолчали, держа книги перед собой.
– А вы давно писательствуете? – спросила сестра.
– Писательствую? – ухмыльнулся Виктор. – Давно. Сперва, еще школьником, в газетах, потом на втором курсе литинститута тоненький сборничек стихотворений издали. Первая книжка поэта. Тогда так модно было издавать стихи молодых да ранних.
Витёк снова приложился к стакану и продолжил:
– Писал много, взахлеб. И читал. Чего я тогда не перечитал! Всех из серебряного века. Гумилева, Цветаеву, Ахматову. Мандельштама. И тех, кто был за ними, и новых, и старых. И забугорных. И японские трёхстишья и пятистишья, и американские и французские верлибры. Уйму всего. Интересно было. В голове мысли роились. Стихи сами рождались. Умные люди заметили. Преподаватели из литинститута помогли. Через год еще сборник издали, побольше. В Союз писателей приняли. И пошло, и поехало. Теперь стихов мало пишу. Больше прозу. Стихи – дело молодых. Проза для взрослых дядек.
– А Тютчев, а Гёте? Наконец Тарковский, – вступила, наверное, в их давний спор Розалия.
Но писатель не ответил, пожал плечами, мол, какой смысл спорить об очевидном. Потом отломил кусочек хлеба, допил, что осталось в стакане.
– А писать вообще нету никакого смысла. Ни прозы, ни стихотворений. Все это начинается от юношеской дури. От тщеславия и самовлюбленности. Потом, когда насладишься запахом и видом собственной книжки, накрасуешься с ней, думаешь: вот она слава земная, пришла! Дождался! После четвертой, пятой печатаешься уже из-за денег. Да деньги-то оказываются небольшими. Потом утешаешь себя, думаешь, что людям польза от твоей писанины. Вроде помогаешь в жизни разобраться. Прозой – чего-то понять, стихами – утешить. И какое-то время из-за этого держишься на плаву. Вокруг хвалят: «Ах, какой ты талантливый, какой гениальный, какой умный, как это у тебя точно получилось!» Да только херня все это. Никому это на фиг не надо. Те, которые хвалят, не понимают, что в книге хорошо, а что плохо. Хвалят так, словца ради, чтобы показать свою значимость, причастность к литературе, или чего-то им от тебя надо, а сами, может, и не читали вовсе.
Когда поймешь это, а понимаешь не сразу, а долго, но вдруг шандарахнет и поймешь, тогда с тоски начинаешь пить. Вернее, начинаешь раньше, от счастья и радости, что издали, напечатали, что выступаешь, тебя слушают, задают вопросы, ну и прочая, прочая. Пьешь с друзьями, с писателями, потому что вместе, пьешь, чтобы поддержать разговор. Потом вообще по привычке, с кем встретишься. Потом, когда понимаешь, что никому это не надо, что никакого разумного, доброго и тем более вечного не сеешь, тогда уже пьешь с тоски. Оттого, что не пишется, что нету денег, а аванс проели-пропили, и надо книжку нести в издательство, а книжки-то нету. Клепаешь наспех халтуру – авось прокатит. Ну и так далее, как римляне говорили, эт сетера, эт сетера.
А захочешь написать про то, что накопилось, наболело, а тю-тю, нету тех самых главных и единственных слов, куда-то делись, осталась эта самая халтура, профукал способности и таланты, ничегошеньки не выходит. Оказывается, «весь воздух выпила огромная гора». Это Мандельштам верно подметил, и «не приманить её окариной, ни дудкой приручить, чтоб таял снег во рту».
Как он это ловко углядел! «Снег во рту» – это же слова. Настоящие, чистые, не изгаженные и не затертые штампы. Вот эту-то чистоту, непосредственность и правду и выпила гора быта, жизни, суеты, погони за славой, которой, как оказывается, фить – и нету.
Книжки есть, а стихов в них нету. Нету того, что нечаянно, а может переболев жизнью, написал он: «Снега, снега, снега на рисовой бумаге». Нету настоящих снегов-стихов на белой, чистой рисовой бумаге. Ничегошеньки нету. Всё дерьмо. И то, что было, чем хвастался, чему радовался, что обмывал с друзьями и гордился, и то, что будет, будет таким же дерьмом. Потому, что время ушло, изгажено суетой, торопливостью и погоней за этой поганой химерой-славой.
Глаза у писателя горели тоской, безысходностью и правдой. Вдруг потускнели. Он махнул рукой, разлил нам остаток самогонки, выпил. Я тоже.
Мы молчали. Чего тут скажешь, когда незнакомый человек вдруг, не хорохорясь, не рисуясь, выплеснет давно наболевшее.
– Да вы не переживайте, все еще образуется, – пожалела писателя сестра.
Он ухмыльнулся. Стрельнул глазом:
– А я еще о-го-го. Это я так. Может, это я отрабатываю монолог из нового рассказа. Или еще чего такое!
Розалия вздохнула, обняла его, чмокнула в лоб:
– Давай, Витюлечка, собираться, скоро выходить, приехали, Москва.
– Москва? Как много в этом, – взгляд писателя наткнулся на стакан, ― стакане для сердца русского кого-чего? Сплелось и не расплескалось.
Розалия вытаскивала сумки, уговаривала Виктора одеваться, он сопротивлялся. Потом, вдруг, за полчаса до Москвы стал никакой. С трудом ворочал языком, острил, но смешно не было. Особенно Розалии.
Когда поезд остановился, она не знала, как быть со знаменитым муженьком. Я помог выгрузиться из вагона. Распрощался с сестрой, благо её поезд отходил через час с этого же вокзала, а вещей тяжелых не было. Подхватил писателя и под причитания Розалии потащил к такси. В такси Виктора время от времени начинало мутить. Останавливались, он выходил, издавал звуки в подворотнях, мы его втаскивали назад. Таксист матерился, Розалия извинялась, обещала много заплатить. Витёк буянил. Наконец приехали. Вошли в квартиру. Разгрузились. Писатель предлагал обмыть возвращение, шумел, читал свои стихи, хвастался, что куда до него современным неучам, что он один теперь остался в стране и поэт, и писатель.
– И швец один, и жнец, – зловеще шипела Розалия.
– Ну, как, холодно розе в снегу? – куражился он.
Я попрощался, под извинения и благодарные слова жены писателя вышел.
Хитрая штука жизнь, и не приманить её ни дудкой, ни окариной – даст один талант, а отнимет два. Конечно, проще быть мордастой, усатой форелью, спокойно в тине на известковом дне нести свою службу и не горевать о словесности, о стихах, прозе, которые, может, и вправду никому теперь не нужны и зря тащит их в расписных лазурных санях странный в этом пригламуренном мире горный рыбак.
Холодно и одиноко ему нынче, как розе в снегу.
Шекспирсинг
До отхода поезда оставалось полтора часа. На соседней лавке мужик рассказывал другому байку:
– Дружили два пацана, – говорил он. – С детства. Жили в деревне. В колхозе или как там теперь называется. Отслужили в армии, стали шоферами работать. Поженились. А жены жадюгами оказались, сквалыжными до невозможности. Так они, дружбаны эти придумали. Один говорит бабе своей:
– Я тут договорился с начальством, сено для нашей Буренки дают. Только надо именно завтра получить, иначе всё. Или завтра или не дадут совсем, а мне как назло срочно велено завтра с утра в райцентр ехать.
Ну, она, баба его: «Как же так, как же быть». А он: «Сам голову ломаю. Без сена-то как. Без него не перезимуем. Что делать?».
– А ты дружка, Гриню, попроси. Он на грузовике своем нам и привезет.
– Точно! – муж отвечает, – ну, ты голова! Я бы сам и не додумался. Только он за просто так не привезет. Ты ему бутылку хотя бы поставь.
– Да уж поставлю.
На душе было муторно. Торчать на вокзале, слушать объявления о прибывших и отходящих составах стало невмоготу. Вышел на улицу. Промозглый ветер после десятка шагов заставил задуматься о тепле. На другой стороне площади сверкали вывески. Витрины дышали теплом, уютом. Перешел туда. Подошел к ближайшей. Над входом иллюминировала, заманивала неизвестностью надпись «ШЕКСПИРСИНГ».
Толкнул огромную стеклянную пластину, служившую дверью. Вошел.
Полумрак слегка успокоил. Подскочил менеджер зала, дыхнул мятной жвачкой, ослепил улыбкой:
– Вам фантастически повезло! У нас только сегодня скидки 30 процентов! Только сегодня!
Не увидев на моем лице счастья, торговчик бархатным голосом проворковал:
– И от себя могу добавить 5 процентов. Итого получается целых 35 процентов!
Я выдохнул осеннюю сырость, вдохнул привычную бронезащиту от этих деятелей, хмыкнул, не оборачиваясь к двери, показал на улицу большим пальцем и произнес:
– А у тех, скидка 40 процентов.
– 40? – менеджер слегка растерялся, но тут же собрался и продолжил, – у нас 40 VIP клиентам. Но …
Лицо его снова осветило счастье:
– Но у меня есть для вас одна, личная карточка VIP клиента. – Он проглотил слюну, прильнул к моему уху и заговорщицки прошептал – И плюс от меня 5 процентов.
Я отстранился от настырного типа и менторским тоном сообщил:
– Главное не цена, главное качество! Это я вам как хирург говорю.
– Вот! – менеджер просиял, – именно качество! Вы совершенно правы. Качество это именно то, на что мы делаем особенный акцент. У нас самый высокий уровень качества. Предлагаю убедиться лично. Прошу!
С каждым словом, с каждой фразой он увлекал меня вглубь зала. Тепло и полумрак делали свое дело, и мы медленно, но удалялись от входной двери.
Мама в детстве нам с братом говорила: «Никогда не вступайте в разговор с политиками, цыганками и менеджерами торговых залов. Заболтают, загипнотизируют, обманут и вытянут деньги». Я развернулся, шагнул к выходу и путь к познанию «высокого уровня качества» снова удлинился. Но только на три шага. Девица на алых каблуках, преградила путь. Обойти не получалось. Вспомнилось о правилах прицеливания, о поправках, которые надо делать при расчете траектории, чтобы попасть в цель или наоборот не попасть во что не нужно. Показалось, что адское пламя плещется там, под этими каблуками. Пахнуло серой, хлороформом, операционной. Крашеная блондинка, огромные черные глаза пожирали, яркие в тон каблуков губки шептали в такт пламени:
– Попробуйте, всего лишь разок попробуйте.
Слова, не становясь звуками, проникали в сознание, гипнотизировали, словно дудочка заклинателя.
– Чего «попробуйте»?
– Ш-ш-ш-екс-с-с-пир-с-с-с-инг, – шептала, не моргая кобра в фирменном наряде, – ш-ш-ш-екс-с-с-пир-с-с-с-инг.
– Пятьдесят и еще пять лично от меня! – спасительно пахнуло мятой.
Издалека, из другого мира снова мелькнуло:
– Сынок, никогда не вступай в разговор с …, – и я вернулся в реальность.
Адское пламя сократилось до размеров люстры, отраженной в зеркальном полу. Не подозревая о расчетах траекторий, на меня глядело создание в форме младшего менеджера. Пахло пряными арабскими духами.
– Спасибо, – сказал я Спасителю в наряде менеджера и пожал его руку.
– Пятьдесят процентов как VIP и еще пять лично от меня! Это почти бесплатно! – повторил он, не поняв причины моей благодарности.
Девица зло блеснула глазами. Отвернулась от недотепы и, стуча такими же длинными, как ноги каблуками, обиженно ушла за стойку.
– Ш-ш-ш-екс-с-с-пир-с-с-с-инг, – напоследок прошелестели складки платья.
Я взглянул на часы. До посадки в вагон оставалось чуть больше получаса.
– А что это такое – шекспирсинг? – я решил, что хватит крутиться вокруг да около, что пора узнать.
– Шекспирсинг! О, шекспирсинг это …
Новый посетитель прервал объяснение. Менеджер, поняв, что от меня толку не будет, кинулся к нему.
– Вам фантастически повезло! У нас только сегодня скидки тридцать процентов! Только сегодня!
Не увидев на лице нового посетителя счастья, парень бархатным голосом проворковал:
– И от себя я могу добавить пять процентов. Итого получается целых тридцать пять процентов!
– Ты перед сном молился Дрозофила? – вошедший начал расстегивать куртку.
Обиженная девица за стойкой захихикала, предвкушая побоище, и подзадорила:
– Мужчина, как вы разговариваете в таком тоне с самым главным менеджером зала!
«Точно, кобра. Гадюка и есть», – подумал я.
А мужик уже тряс одной рукой за грудки менеджера, а другой продолжал расстегивать молнию на косухе. Под косухой была груда мышц синего от татуировок цвета.
– И от себя я могу добавить 5 процентов, – по инерции блеял продавец.
– Я тебе сейчас сам добавлю 100 процентов! – замахнулся качёк.
Электрошокеры охранников успокоили его и уложили на пол.
– Это Витек, – прокомментировал один из охранников второму, молоденькому. – Он тут рядом в тату салоне работал. Двери опять попутал. Их хозяин ему за два месяца денег задолжал, а когда Витек заявление на расчет принес, расплатился татуировками. Витек их терпеть не может. Вот такую подлянку тот кинул.
– А зачем этот татушки согласился делать? – спросил второй охранник.
Первый заржал:
– Хозяин, скотина, сперва напоил Витька, а когда тот ничего не соображал – разрисовал. Витек с тех пор не просыхает. Как дойдет до кондиции, к нему разбираться приходит. Ему в таком виде на соревнованиях в чемпионы не выбиться.
– Да …, – протянул молоденький, – чего только не бывает.
На полу раскинулось огромное красивое безобразно разрисованное татуировкой тело. Культурист похрапывал.
Охранники оттащили его подальше от входа, сказали «не на мороз же выставлять хорошего человека», ушли к двери перекурить. Выпускали в щелку дым и продолжили, наверное, нескончаемый треп.
– Мне тут на днях приятель, да ты его знаешь, Михаил, – начал тот который постарше.
– Малышев? – уточнил второй.
– Ага, – кивнул старший, – так вот, он на днях хохму рассказал. Мы оборжались.
– Ну? – заранее хихикнул второй.
– Дружили два пацана. С детства. Жили в деревне. Отслужили в десантуре. Поженились. А жены у обоих, не жены, а бензопилы «Дружба». И жадные, слов нет какие. Из карманов всё выгребают, до копейки. На пачку сигарет и то не оставят. А бутылку, никогда. Вообще никогда, понимаешь? Так они, друзья эти вот чего удумали:
Один своей дуре говорит:
– Не знаю как и быть! Дрова выписал, еле добился. Начальство еле уломал, только в ногах не валялся. Согласились, но сказали или завтра вывезешь или всё. Никогда.
– Да умница, – жена говорит, – будем теперь с дровами зимой. Не померзнем.
– Только вот заковыка какая, понимаешь, не знаю, как и быть, – пожимает плечами муж, – завтра велено в область везти с утра картошку, капусту и прочее на ярмарку. Так что чую, мерзнуть нам зимой придется.
– А ты своего дружка, Петьку, попроси. Он же на грузовике работает на нем и привезет.
– Точно! – муж отвечает, – какая ты сображучая! Я бы сам и не додумался. Только он за просто так не привезет. Ты ему бутылку хотя бы поставь.
– Да уж поставлю.
Потом, денька через два, другой своей гагаре чего-нибудь такое же навешает. Та тоже бутылку ставит.
А в выходные едут дружбаны на рыбалку, рыбки наловят, а вечерком костер разведут, ушицу поставят варить. Еду разложат, ну там помидорки, огурки, картошечку запекут, сальцо порежут. И две бутылки посредине! Сидят об жизни разговаривают, водочку попивают и над выдрами своими ржут.
– А у нас, если уж разговор про водяру зашел, мужики вот чего удумали – продолжил другой охранник, – подрядились они работать на заводе. Химическом. Чего-то там делали в лаборатории. Не то электропроводку меняли, не то стены кафелем обкладывали. Короче, увидали, что у начальника лаборатории в сейфе бутыль со спиртом стоит. Пятилитровая. Они и так и эдак, как коты вокруг сметаны, возле этого начальника кружатся, а он не наливает. Сейф вот он рядышком, но, как говорится, видит око, да зуб неймет. Неделю думали! И вот чего учудили. Сгондобили из стали поддон. Дождались вечером пока все уйдут, поставили в этот поддон сейф. Потом подняли, а он килограммов двести весил, и в этот поддон со всего маху бабах! Бутыль вдребезги, а спирт через щели в поддон вытек! Вот это мысль! Такое захочешь не придумаешь. Процедили и сутки потом гудели. Пять литров спирта, это же считай, двадцать пузырей водяры.
– А этот, начальник лаборатории, чего? – спросил первый охранник.
– Начальник? Не знаю, про него ничего мужики не говорили, – задумался рассказчик, – должно быть промолчал. Их не выгнали. Наверное, посмеялся. У нас инженерную мысль любят. А спирт, это так, сегодня есть, а завтра тю-тю.
В зал, растолкав охранников, вкатилась тетка.
– Девчаты, завтра с утра воду отключат. На полдня. До шестнадцати ноль-ноль. Будут врезаться в трубопровод. Подключать новый корпус. Запаситесь водой.
Девицы в зале стали возмущаться, потом спорить, кто пойдет покупать канистры, ведра.
Шелестящая кобра, младший менеджер, надула губки, поморгала ресницами и произнесла:
– Ужас, как можно так над людьми измываться. У меня дома в прошлом месяце на неделю горячую воду отключали. Просто не знаю, как выжили! Господи, ни умыться по человечески, ни ванну принять. Безобразие!
Остальные подхватили тему, закудахтали:
– Да, да, это какой-то кошмар. У нас тоже недавно в доме труба лопнула, весь вечер без воды были.
– А у нас летом экскаватор провода порвал, электричества не было. Часа четыре чинили. Господи, какой ужас. Фен не работает, телевизор не посмотреть и вообще.
Я поглядел на часы. Вернулся на вокзал, нашел свой поезд. Залез на верхнюю полку, проспал почти сутки. Вечером вышел на полустанке. Там ждали старые, раздолбанные «Жигули» с двумя молчаливыми парнями. За ночь по степным грейдерам перебрались на ту сторону. Потом ехали мимо сгоревшей подстанции с искореженным трансформатором, черной от гари водокачки, обезлюдевших деревень, закопченных пожарами мертвых пятиэтажек. Разрушенной снарядами котельной. На обочине, старухи, испуганные, онемевшие от страха детишки, стояли в очереди за водой у пыльной автоцистерны. Дорога петляла мимо воронок, разбитых витрин пустых магазинов, выжженных снарядами полей.
Под утро приехали. Седой парень в камуфляже поглядел документы, кивнул, сказал, что врач им очень даже пригодится. Сказал, что жилые дома постоянно обстреливают, что много раненых, а лечить некому.
– Нет, командир, я пришел сто первым. У меня тут брата убили. Прямо в больнице. Делал операцию и …
– Я знаю. Понял. Вы похожи. Он у жены моей в прошлом году роды принимал. Хороший врач.
– А где его похоронили.
Парень отвел глаза, тихо сказал:
– Там после взрыва эти пришли, – он кивнул головой в сторону откуда постоянно стреляли, – а когда мы отбили, после них остались только двухсотые. Но твоего брата среди них не было. Живых там вообще никого не нашли. Пусть земля им всем будет пухом.
– А я того же хочу тем, кто это сделал. Так что давай, если есть, весло и лифчик, – я, неожиданно для себя перешел на армейский жаргон, почти забытый за годы гражданки.
Парень мрачно сказал:
– СВД тебе будет, но хочу, чтобы знал – если схватят, живым сожгут. Или на куски порвут. Привяжут к БТРам и порвут.
– Если, – ухмыльнулся в ответ я и добавил, – коли так, для страховки за парочку Ф-1 и Стечкина особое спасибо скажу. Верну старшими офицерами.
– Найдем, – он кивнул. Пожал руку. Повторил, – всё найдем, этого добра хватает.
Через сутки, уже почти ночью, я начертил в маленьком блокнотике третий крест. За брата оставалось нарисовать семь. Так решил когда ехал в поезде. За остальных – сколько получится. У крестов ведь тоже есть братья. Тогда же подумал, что в той недавней жизни, может быть, я их лечил. Или мой брат, а теперь… Всё это похоже на бред, на этот самый бессмысленный непонятный магазинный шексприсинг.
А на следующий день в прицел увидел своего Толяна. Он перевязывал раненого. Сначала я подумал – показалось. Нет, не показалось, это был он, мой братишка! Вечером позвонил матери. Она долго молчала, потом сквозь слезы начала говорить:
– Сыночек, миленький, слава богу, живой! А Толя третьего дня тоже объявился. Говорил, что ему передали, будто тебя убили. Сказали, что в автобусе при взрыве. Сказал, что хочет за тебя мстить. Я еле отговорила. Он вроде бы послушался, а потом сказал, что все равно пойдет, но врачом. Слава богу, оба живые. Родненькие мои, возвращайтесь. Зачем всё это …
Каракульча
Амбалы надзиратели из уголовников, или по здешнему капо, вывели на помост двух беременных. В ярком свете прожекторов, лица женщин, будто вымазанные серым мелом, потеряно смотрели поверх толпы. Казалось, они не слышат рева охранников, не видят перекладин, под которыми стоят, не чувствуют холода зимней ночи.
Через неделю после прибытия, после каждодневных осмотров истеричными немками-медсестрами, после ежечасных, как те ехидно говорили, спортивных занятий, выматывающих и тело, и душу, из двадцати отобранных вначале, их осталось двое. Остальные, как ржали охранники, улетели в трубу. Беременные не знали, что это означает, не знали, что с ними будет. Понимали – ничего хорошего. Последние дни в лагерном лазарете они молились. Молились, чтобы успеть родить и чтобы их младенцы остались живы, пусть здесь, в лагере, но живы. Теперь, стоя под деревянными, свежевыструганными перекладинами, поняли – этого не будет, что их выбрали как самых крепких, для чего-то страшного. И что ничего уже не изменить. Что надо было сдохнуть раньше. Не терпеть, не надеяться на чудо, а сдохнуть.
По приказу коменданта, будто почуявшего их мысли, капо сорвали с беременных балахоны. Женщины, повинуясь инстинкту, закрылись руками, но в тот же миг поняли бессмысленность этого, опустили руки. Чтобы не смотреть на толпу подняли остриженные головы к черному, как мундиры охранников, небу. Тонкие полоски блеснули на щеках, поползли вниз и исчезли в лучах слепивших прожекторов.
Гауптштурмфюрер обожал эффекты. Пол года продумывал, подготавливал, лелеял в мыслях представление, и теперь должен быть его триумф.
Он медленно поднялся по ступеням, взметнул в приветствии руку. Толпа замолкла.
– Верные сыны фюрера! Сегодня праздник! Делайте ставки! Справа еврейка. Слева русская, ― он ткнул плеткой в женщин. В каждой шестимесячный ублюдок. Наш врач расскажет про них.
–Унтерштурмфюрер, как там у вас, у медиков, положено. Расскажите парням про этих шлюх.
Молоденький, только прибывший после ранения на замену из тринадцатого армейского корпуса SS врач, открыл карточки и дрожащим от волнения фальцетом растолковал, что срок беременности каждой одинаков, что каждая здорова, что вес у женщин один и размеры живота и бедер одинаковые.
– Юноша, не блейте, как пехотный лейтенантишка, скажите четко, что бабы одинаковые. Тютелька в тютельку. Я правильно понял?
– Так точно, господин комендант! ― Взвизгнул медик.
– Отлично! Так что быстренько ребята определяйтесь и делайте ставки! Через пять минут начинаем. ― Гауптштурмфюрер показно́ поглядел на часы, вроде как засекая время.
На плацу заорали, зашумели. Спорили, совещались, делали ставки. Выделенная для тотализатора обслуга из анвайзерок, записывала, брала деньги, выдавала листки, кто на которую и сколько поставил.
Когда утихли, комендант ткнул рукой в толпу и продекламировал собственноручно им переделанное для этого случая из Гёте:
Кипела кровь в твоей груди,
Кулак твой из свинца,
И богатырский мозг в кости,
И верность фюреру до конца!
Толпа заорала: «Хайль!»
Потом комендант скомандовал уголовникам:
– Поднимайте.
Громилы кивнули головами. Просунули широкие лямки подмышками женщин, перекинули через перекладины, потянули и закрепили так, что беременные повисли, чуть не доставая ступнями пола.
– Начинать только по удару барабана. Один раз барабан – один раз вы. Любое отклонение пятьдесят ударов плетью, а потом знаете куда. Живьем. У кого баба окажется второй – того тоже живьем в крематорий. ― Комендант заржал, ― Так что старайтесь идиоты. Понятно!
Капо снова кивнули.
Комендант махнул плеткой. Бухнул барабан и громилы со всей силы ударили подвешенных в живот. Женщины завизжали от боли. Барабан снова ухнул и снова крик разорвал ночь.
Коменданту это не понравилось, он подошел к беременным хлестнул каждую плеткой и прошипел:
– Еще раз заорете, вырву язык, а рот зашью! Молчать! Понятно?
Снова загремел барабан, снова началось, но женщины уже не кричали, только стонали, только охали, только чуть слышно подвывали, а уголовники били и били. Били изо всех сил, сверху живота вниз, с оттяжкой, по бокам, сзади по печени, почкам, вкладывая в каждый удар всю силу, весь страх за собственную шкуру, за спасение от смерти.
Толпа жадно следила за действом, упивалась им, громогласно считала удары барабана, удары громил, снова барабана и снова удары, удары. Снова и снова. Беременные давно замолкли и только лямки в такт ударам скрипели, будто сама смерть раскачивалась на качелях и подпевала: «Жизнь-смерть, жизнь – смерть, ух-ух, ух-ух».
Вдруг жуткий вопль разорвал плац. Одна из женщин очнулась, истошно закричала, из нее хлынула кровь. Она извивалась, дергала ногами, билась, выла, рыдала. Кровь хлестала на помост, ползла вниз к толпе. Гауптштурмфюрер подскочил, начал избивать плеткой, впал в истерику, орал, визжал от удовольствия, смаковал каждый удар, и добился. Из несчастной выпал младенец и повис на пуповине. Женщина дернулась, обвисла. Её ступни коснулись помоста, почти встали на него. Толпа замерла. На секунду наступила тишина. Потом плац сотряс вой восторга выигравших, сделавших ставку на ту, на другую. Эти ликовали. Обнимались. Бежали получать выигрыш. Нет, им не столько нужны были деньги. Они жаждали победы. И получили. Другие, которым она не досталась, поплелись в бордель заливать проигрыш шнапсом.
Капо сняли женщин. Положили на пол. Унтерштурмфюрер, винивший в своем ранении и других бедах номер своего, разбитого русскими корпуса, пнул каждую ногой, констатировал смерть обоих. Потом ухмыльнулся и сказал коменданту, что та, вторая, умерла гораздо раньше. Должно быть, после нескольких первых ударов. Так что, выигрыш победителей весьма сомнителен. Мертвые не рожают.
– Господин врач, держите язык за зубами, если не хотите опять на восточный фронт, ― прошипел гауптштурмфюрер, помолчал секунду и примирительно добавил, ― такой вариант я не предусмотрел. Подумайте, как его исключить в другой раз.
Медик вытянулся, кивнул, щелкнул каблуками и подумал, что не всё в его судьбе потеряно, что еще можно выслужиться, сделать карьеру, что комендант, хоть и на очень маленьком, но все-таки крючке у него, и при удачном раскладе может подвиснуть, как эти су́чки. И он, унтерштурмфюрер, тогда решит, в какую сторону качнуть маятник.
Гауптштурмфюрер посмотрел на него подозрительно, потом глянул на уголовников и почти неслышно добавил:
– А этих, унтерштурмфюрер, обоих в расход. Немедленно, пока не разболтали чего не нужно.
Начал было спускаться по ступенькам с помоста, но вернулся, похлопал каждого уголовника по щекам, сказал:
– Ладно, сукины дети, прощаю обоих. Становитесь на колени и молитесь – я дарую сегодня вам жизнь.
Те плюхнулись на помост, начали бормотать.
Комендант зашел им за спину, неслышно достал из кобуры «Вальтер» и пристрелил в затылок.
– Так-то оно, пожалуй, будет вернее.
Потом аккуратно убрал пистолет и медленно направился к себе, по дороге ворча на штурмфюрера из мусульманской дивизии Waffen-SS, рассказавшего ему с полгода назад, что шкурки самого ценного каракуля – каракульчи делают из выкидышей беременных овец.
– А откуда столько выкидышей берется? ― Недоверчиво спросил тогда комендант.
– Да очень просто! ― Заржал азиат, ― хлещут овец кнутами, пока не понесут.
Ирочка
1
Ирочка давно хотела перерезать горло своему мужу. Но не было удобного случая. То отношения налаживались, то дочка хворала, то не было денег на еду, то, наоборот, муж приносил хорошую зарплату. Хотя перерезать ему горло или задушить ночью подушкой Ирочка давно решила.
Потому, что муж был сволочью. По ночам он опрыскивал ее, Ирочку, дочку и даже кота какой-то гадостью, и когда они, одурманенные этим опрыскиванием, засыпали, приводил в дом любовницу и сношался с ней до утра.
Она просила мужа не трогать хотя бы ребенка. Не отравлять его этими опрыскиваниями, но муж орал на нее, говорил, что у нее крыша уехала, крутил пальцем у виска. А один раз, когда она, заступаясь за здоровье ребенка, пыталась поколотить этого подонка, чтобы он наконец понял, что не надо их мучить, даже поколотил ее. Ударил два раза.
Ирочка тогда и решила, что такой негодяй не должен жить.
Каждое утро, когда она видела, как зевает сонный кот, как не хочет просыпаться дочка, Ирочка повторяла про себя: «Ничего, подонок, скоро ты сдохнешь».
Ирочка завязывала на ночь дверь веревкой, подставляла к входной двери шкаф для одежды, чтобы не допустить проникновение в дом любовницы. Но муж умудрялся веревки развязать, шкаф отодвинуть и впустить ее. А утром выпустить из дома, веревку завязать и пододвинуть шкаф к двери так, как будто никто не заходил в дом.
Но Ирочка замечала некоторые тонкости и знала, что муж по ночам запускает в дом любовницу, а их с дочкой и котом опрыскивает.
Ирочке было не понятно только одно: как этому подонку удается находить и периодически менять любовниц, которые ночью по темным улицам невесть откуда не боятся идти к ним в дом, а потом под утро возвращаться назад к себе.
Ирочке было не понятно, чем он их приманивает. Зарплата у него маленькая, сам лысый, пузатый и в сексе не очень. Вдобавок изо рта у него воняет гнилым зубом. Ответ на этот вопрос не давал Ирочке покоя, и она, чтобы ответить на него, для себя решила, что этот ответ очень прост – муж ПОДОНОК.
Сдерживало Ирочку только одно. Дочка очень любила отца и в их ссорах была на его стороне. Хотя Ирочку дочка тоже сильно любила и просила не ругаться с отцом, а жить мирно и дружно.
Вчера дочка уехала в спортивный лагерь на все лето, и надо было срочно действовать.
Ирочка продумала все до мелочей.
Мужу и соседям сказала, что уезжает на несколько дней к своей матери, действительно оделась так, чтобы все видели, поехала.
В троллейбусе Ирочка нарочно, чтобы кондукторша ее запомнила, протянула за билет сто рублей, сказав, что мелочи у нее нет. Кондукторша долго ворчала, собирая сдачу, и, набрав, отдала Ирочке целую горсть мелочи. Ирочка тоже поворчала для отвода глаз и вышла из троллейбуса возле дома матери.
Поздно вечером, угостив мать тортом и подмешав к заварке снотворного, Ирочка дождалась, когда мать заснет, и, переодевшись в темно-серое, неприметного вида платье, отправилась обратно домой.
С собой Ирочка захватила тряпичную сумку, в которую положила нож, завернутый в полиэтиленовый пакет и еще, сверху, в тряпку. Нож этот Ирочка нашла месяц назад. Когда нашла, то сообразила, что это послание Господнее, знак и пора действовать. Она осторожно, чтобы не оставить своих отпечатков, подняла нож с асфальта так, как видела в кино про следователей и бандитов, – взяв его рукой, засунутой в полиэтиленовый пакет. Ирочка была уверена, что на ноже остались отпечатки руки того, кто потерял этот нож, и думала, что при таком варианте ее никогда не найдут и даже не заподозрят. Про потерявшего ножик она и не думала.
Отойдя от дома матери два квартала, Ирочка остановила машину и попросила довезти ее, но адрес указала не свой, а тоже в двух кварталах за своим домом.
Пробиралась к дому Ирочка очень осторожно. Шла по той стороне улицы, где не было фонарей, и как только вдали появлялся какой-нибудь прохожий, пряталась в тень. В подъезд Ирочка вошла только тогда, когда оттуда вышли все полуночничавшие малолетки и алкаши, когда убедилась, что все спят и никто ее не увидит. Дверь Ирочка закрыла за собой тоже осторожно, чтобы не стукнула пружина, не заскрипели петли. Тихонько на цыпочках она прошла все три этажа и остановилась у родной двери. Прислонила к ней ухо. За дверью было тихо.
2
Муж у Ирочки тоже был не дурак. Когда он узнал, что жена отправилась на неделю к матери, то почувствовал редкостное облегчение от своей скандальной жизни и решил расслабиться. Отправился в магазин, купил три литра пива, леща холодного копчения, хлеба и на всякий случай чекушку водки.
Пиво муж поставил в холодильник, а рюмку из чекушки выпил. После сделанного он окончательно почувствовал вкус свободы и позвонил дружку:
– Витюля, я пивко уже в холодильник поставил. Пока ты подойдешь, оно дойдет до нужного градуса.
– А где твоя?
– Моя ненаглядная, в смысле глаза бы ее не видели, укатила к своей матери на неделю.
– К какой матери? – переспросил Витюля, обладавший тонким чувством юмора. Оба довольно засмеялись.
Через полчаса Витюля действительно прибыл. Вместе с ним прибыл его дружок Коля и три поллитровых бутылки самопальной водки, которую Коля добывал почти бесплатно у соседки, приторговывавшей этим зельем. Кроме водки ностальгически настроенный Коля принес трехлитровую банку томатного сока. То ли вспомнил времена юности, когда пил «Кровавую Мэри», то ли просто стащил в магазине.
Нехватку закуски компенсировали обилием выпивки и вскоре, разомлев от августовской жары, задремали.
Проснувшись в пятом часу вечера, отправили Колю за добавкой и, приняв еще по стольку же, разошлись по домам. Причем Ирочкин муж, вместе с Витюлей отправились к Витюле, а Коля остался отдохнуть.
3
И отдохнул.
Когда Ирочка прокрадывалась в собственную квартиру, открывала дверь, бесшумно проворачивая ключ в скважине, притворяла, но не запирала, чтобы не шуметь, входную дверь и, сняв туфли, пробиралась в спальню, обнажив, извините за каламбур, нож, Коля проснулся от страшной жажды и, нащупав банку с остатками томатного сока, присосался к ней. Свет в комнате приятели забыли выключить, однако Коля не открывал глаза, чтобы не раздражать и без того измученное зрение. После второго глотка он захлебнулся, вылил на себя содержимое банки и в отчаянии заснул.
Ирочка, просунув голову в спальню, увидела кровать и в ней мужа, залитого кровью.
От ужаса супруга заверезжала трудно повторяемым, но страшным в звучании тембром. Визг длился минут десять. К этому времени соседи успели проснуться, выскочить на лестничную площадку и, увидев незапертую дверь Ирочкиной квартиры, в порыве отчаянной храбрости, возникшей, наверное, под воздействием визга, ворваться в квартиру и вбежать в спальню.
Посредине спальни, размахивая ножом, визжала Ирочка, а в кровати лежал вовсе не Ирочкин муж, а чужой мужик с перерезанным горлом, залитый кровью.
Бдительные соседи заломили руки, выхватили нож, связали Ирочку, выволокли ее на кухню, закрыли, чтобы не затоптать следы, дверь в спальню и вызвали милицию.
Ирочка перешла с визга на рыдание, а затем на членораздельную речь, чередующуюся с всхлипываниями.
Ее монолог сводился к одной многократно повторенной фразе и звучал примерно так:
– Это не я его зарезала, я его не убивала, он был такой, он сам зарезался!
Милиция прибыла на редкость быстро.
На вопрос «в чем дело?» соседи рассказали про убийство, задержание и сообщение в милицию. Милиционеры, молодые ребята-практиканты, мельком заглянули в спальню, увидели окровавленное тело на кровати, сказали «понятно» и сообщили по постоянно шипящей рации об убийстве на бытовой почве, задержании подозреваемой и необходимости приезда бригады следователей.
Получив команду ждать, они закрыли дверь в спальню, прошли на кухню, переписав соседей, отпустили их в свои квартиры досыпать, а сами, на двух табуретах, остались ждать более опытных соратников по борьбе с криминалом. Ирочка, всхлипывая и повторяя, что она ни в чем не виновата и никого не убивала, сидела на третьем табурете. Ее голос убаюкивал стражей порядка.
В это время Коля, переполненный продуктами переработки выпитого, проснулся. Обматерил пролитый томатный сок, вымазанные простыни, все остальное, что попалось на глаза, и отправился в туалет.
Ирочка вторично заверезжала. Милиционеры проснулись. Соседи выскочили из квартир.
Коля сопротивлялся, как мог, но одолеть молодых и вдобавок трезвых милиционеров не сумел. Его скрутили и приступили к допросу.
Коля выбрал гениальную тактику защиты. Он утверждал, что был пьян, ничего не помнит и не знает. На вопрос первого милиционера, за что он убил Ирочкиного мужа, ответил, что никого не убивал.
А на вопрос второго, кто же тогда убил, показал не моргнув глазом на Ирочку.
Прибывшая в это время оперативная группа труп не обнаружила. Обескураженные милиционеры заявили, что в то время, пока они проводили первичное дознание, Ирочка, их отвлекла, а ее сообщник перепрятал труп с целью его сокрытия, но они, бдительные слуги закона, сумели его задержать.
– Чего? – опроверг их Коля. Но его голос услышан не был.
Убедившись в отсутствии трупа, профессионалы впали в особый раж. Они начали проводить следственные действия с особым пристрастием, а именно: обыскали все закоулки квартиры и балкон.
В процессе обыска была найдена бутылка водки, породившая в мозгу Ирочки и Коли одну и ту же мысль, не принятую говорить о покойниках: «Заныкал, сволочь!!!»
Кроме того, было найдено двести рублей, старых, ныне не действующих, запрятанных Ирочкой давно от мужа и потом забытых, и её же золотое кольцо, года два назад подаренное Ирочкиным мужем любовницам, но, как теперь оказалось, утерянное самой Ирочкой. Муж за кольцо был презираем и бит. Тогда же у Ирочки впервые возникла мысль перерезать ему горло.
Труп обнаружить не удалось.
Коле в коридоре долбанули под дых и шепотом спросили:
– Куда, гад, дел труп?
Коля заорал, не столько от боли, сколько для того, чтобы все слышали, как милиция пытает невинных граждан. От него отвязались, но надели наручники и поставили с широко расставленными ногами, лбом уперев в стену комнаты.
В это время в квартиру вошел эксперт-криминалист, замешкавшийся с приездом на место преступления по причине небольшого перекуса.
– Ну, – спросил он людей в погонах, – улики все затоптали или, по недоразумению, что-то осталось?
– Ничего не трогали, только сделали обыск.
– Ну-ну, ― обреченно вздохнул он.
– Мы место преступления не трогали, – оправдался старший.
– А где место-то?
– Кровать. Вся в крови. К ней не приближались.
– Ну-ну, – примирительно ответил словоохотливый криминалист и подошел к грязной и скомканной постели.
Сначала его лицо выражало внимание, потом процесс осмысления, затем недоумения и, наконец, презрения к коллегам.
– Идиоты, это томатный сок. Пожрать толком не дали.
Эксперт сам приступил к допросу, в процессе которого выяснил, где теперь может находиться Ирочкин муж.
Коля вспомнил номер телефона Витюли, тому позвонили, и после пятиминутного гудения трубка голосом хозяина ответила.
Эксперт представился, попросил разбудить Ирочкиного мужа и, когда тот взял трубку, велел срочно вернуться домой, пригрозив в случае задержки арестом. Законопослушный муж через мгновение был дома.
Убедившись, что все живы, убитых, зарезанных, покалеченных нет, милиция составила протокол и уехала. Соседи тоже разошлись. Ирочка осталась на кухне одна. Муж, не до конца понявший, что произошло, походил по комнате, поворчал и тоже пришел на кухню.
Ирочка посмотрела на него и зарыдала. Она плакала сначала просто потому, что началась истерика, потом из-за того, что хотела зарезать своего дурака, да не сумела. Потом плакала потому, что любила его, любила, несмотря на вечное безденежье. Плакала из-за неудавшейся жизни, из-за того, что осенние сапоги прохудились, а купить новые нету денег. Плакала из-за того, что надо помогать дочке, только начинавшей самостоятельную жизнь, но нечем. Муж обнял ее, начал успокаивать, гладить по голове и говорить, что все пройдет, образуется, что будет хорошо.
А Ирочка сидела и заливалась слезами, уткнувшись в его мягкий живот, в майку, высунувшуюся из-под байковой рубашки с оторванной пуговицей, и плакала от счастья, что не зарезала его, такого родного и любимого.
21 километр от …
1
Деньги выдавали один раз в месяц. Часам к двенадцати из райцентра приезжал тупомордый темно-зеленый «уазик». Из него, кряхтя, вылезала Таисия Анисимовна. В руке держала запечатанный пломбой брезентовый банковский мешок. Очередь затихала. Потом говорила ей:
– Здравствуйте, Таисия Анисимовна. Как добрались?
Сорокавосьмилетняя Таисия отдувалась, кривилась, махала рукой, мол, безобразно доехала, хуже не бывает, только не померла от вашего бездорожья. Потом поправляла ремень с брезентовой кобурой на темно-синем необъятном, но еле сходившемся на ее телесах почтальонском фирменном ватнике. Шла несколько шагов, переступала мокрую мешковину и, заляпав ступени сельсовета, специально вымытые по случаю выдачи пенсий, входила. Водитель глушил двигатель. Выпрыгивал из кабины, потягивался, расправлял плечи, подходил к сельсоветскому крыльцу, но оставался снаружи.
Таисия Анисимовна кивком здоровалась с бывшим председателем бывшего сельсовета.
Потом отведывала пирожок с ежевичным вареньем, запивала сливками из литровой крыночки. Принимала подарок из четырех десятков огромных, раза в полтора больших, чем в городе, двужелтковых яиц, длинной нитки с крупными, отобранными специально для неё сушеными боровиками, пузатой трехлитровой банки сметаны и банок поменьше с солеными волнушками и вареньем. Вытаскивала из наружного кармана тряпичную сумку. Аккуратно складывала подарки. Ворчала, что яйца мелковатые, сметана жидкая. Вздыхала, опускала туго набитую сумку под стол. Отодвигала подальше и прислоняла к потемневшей, покрашенной под дуб фанерной тумбочке. Поднимала глаза. Смотрела на стол, на старый, черный, никуда не подключенный телефон, на пятна от фиолетовых чернил, снова вздыхала и переводила взгляд на бывшего председателя сельсовета. Тот почтительно улыбался, кивал и отступал к двери. Поправлял стоявшую возле косяка табуретку и усаживался на неё.
Таисия Анисимовна распечатывала привезенный мешок. Печать бросала на выскобленный с утра пол. Доставала ведомость, две ручки и неспешно раскладывала на столе. Простенькую клала подальше от себя на противоположный край стола.
Долго читала список. Потом приоткрывала мешок и на ощупь, ворча и вздыхая, доставала оттуда упакованную в полосатую бумажную ленту пачку денег. Разрывала ленту, скомкивала её и бросала под стол. Пересчитывала купюры. Снова собирала в пачку. Подравнивала, аккуратно постукивая торцом по столу, и откладывала вправо от себя. Опять брала ведомость и пальцем подзывала председателя. Тот вскакивал, семенил к столу и брал ручку. Таисия Анисимовна ставила своей красивой ручкой в ведомости галочку и говорила:
– Расписывайся, Петр Федорыч.
Председатель ставил подпись. Таисия Анисимовна проверяла, потом отсчитывала точно. Петр Федорович говорил «спасибо», складывал бумажки пополам, прятал во внутренний карман пиджака. Монеты клал в наружный и возвращался на прежнее место. Остальным мелочь не выдавали.
Таисия Анисимовна снова брала ведомость и негромко говорила:
– Алимова.
Председатель вскакивал с табурета, приоткрывал дверь и шепотом сообщал шоферу:
– Алимова.
Тот громко кричал:
– Алимова, входи!
Старушка протискивалась сквозь очередь, подбегала к крыльцу, вытирала парадные, блестящие черным лаком резиновые сапоги о тряпку и входила.
Очередь полушепотом возмущалась, что опять вызывают не по очереди, а по алфавиту. Водитель прикрикивал, чтобы не мешали работать, и народ замолкал.
Через час все заканчивалось. Водитель заводил машину, разворачивался, Таисия Анисимовна загружалась в «уазик» и отбывала.
2
В этот раз Таисия Анисимовна не приехала. Муж её после недели запоя попросил денег на опохмел, она не дала. Жалко стало. Он в драку. Таисия Анисимовна женщина крепкая, так саданула, что муженек улетел аж к двери. А там, на случай защиты от воров, топор возле стенки. Василий схватил его и Таисию Анисимовну со всей пьяной дури. Тая даже не охнула, коленки подогнулись и на пол. Это углядела в окно соседка. Вызвала участкового. Участковый пришел. Оглядел место происшествия. Потрогал пульс. Разбудил мужа. Посадил на диван. Вызвал опергруппу и остался ждать.
Василий хлопал глазами. Соображал, что случилось. Попросил закурить.
Курили долго. Участковый рассматривал комнату. Обыкновенную комнату, только с лежащей на полу Таисией Анисимовной. Крови было мало. Почти не было. Только на волосах и половике, там, где упала. Череп разошелся, и в трещине виднелся розовато-серый мозг. На пожелтевшей руке выделялась маленькая бледно-голубая татуировка «Вася», сделанная, когда ее ненаглядный ушел в армию.
Василий молчал. Молчал, чего-то соображал, потом с надеждой сказал:
– Кузьмич, это не я. На хрена мне Тайку-то убивать? Работала в основном одна она в доме. Мне смыслу нету никакого. Я спал. Тайка мне съездила, я и отрубился.
Участковый выпустил дым. Стряхнул пепел с сигареты. Вздохнул:
– Ты, Вася. Катерина, соседка ваша, в окно видала.
Оба вздохнули.
– Кто мне теперь на опохмел даст? – спросил у себя Василий.
Участковый Николай Кузьмич хотел ему ответить, но приехали из райотдела. Начали фотографировать, снимать отпечатки с топора, писать протокол.
Один допрашивал соседку Катерину, другой пошел в соседнюю комнату и начал шарить в шифоньере, в столе. Шарил бессовестно шумно, без опаски. Участковый хотел было пристыдить, но капитан, писавший протокол, велел сидеть на месте.
Появилась врачиха. Обругала капитана, что тот отрывает ее от больных, что бумаги можно написать и в поликлинике. Капитан сказал, что так положено.
Прибежала дочка Таисии. Заголосила, схватилась за сердце и упала в обморок.
Участковый тихо сказал:
– Хватит, Лидка, комедию ломать. Ты у мужа прописана. Здесь не прописана. Отца сейчас увезут, дверь мы опечатаем. Сюда не скоро теперь попадешь. Так что забери, что надо.
Капитан зло поглядел на пожилого участкового, окликнул сержанта. Тот вернулся. А Лидия пошла в спальню лазить по тем же местам.
Протокол составили. Понятые подписали. Сержант скомандовал Василию: «Встать!» Снял с него наручники, отдал участковому, велел: «Руки за спину!» Надел свои новенькие наручники и повел в «уазик».
В доме остались участковый и Лидка.
– Нашла чего полезного? – спросил участковый Николай Кузьмич. – Не все этот архаровец выгреб.
– Нашла, Николай Кузьмич. Мать от отца научилась прятать, не то что от… – Лидка хотела сказать «ментов», но сообразила, что участковый хоть и хороший человек, тоже служит в милиции, и сказала «от воров».
– Ну, и ладненько, – понял её Кузьмич.
Лидка благодарно рассказала ему, что деньги и сберкнижку мать прятала под половиком, на котором стоит кресло. А для отвода глаз сотен шесть держала в шифоньере в старой шкатулке под простынями.
– А в шкатулке осталось чего?
– Двести, ― усмехнулась Лидка, – да бог с ними, пусть подавятся.
Потом захлюпала носом и не показно, а по-настоящему заревела:
– Что бате то, дурному, теперь будет?
Участковый Николай Кузьмич снова закурил и начал объяснять Лидке:
– Если хорошего, толкового адвоката наймешь и докажете, что отец был в состоянии аффекта, то есть нахлынуло на него в тот момент и невменяем стал из-за того, что Таисия над ним издевалась, оскорбляла, била, ну, и рассудок у него от всего этого помутился, то года три дадут.
– А если без адвоката?
– Без? Без – от шести и до пятнадцати. Скорее всего, лет восемь, десять дадут.
Лидка вздохнула. Стала соображать, чего лучше. То ли отца от смерти в тюрьме спасти и потом с ним, алкашом и без денег самой мучиться, то ли наплевать на пересуды соседок и сродственников. На материны деньги купить новую мебель, холодильник. Здесь ремонт сделать. Самой приодеться. Сына одеть и обуть. От мужа, такого же алкаша, как батяня, в материн дом перебраться, а там, глядишь, и снова за порядочного человека замуж выйти. А их с мужем трехкомнатную разменять. Ему однокомнатную, а то и подселение оставить, а себе с сыном… Но участковый сказал выходить, и полет ее мысли оборвался, так и не определившись ни с судьбой отца, ни с собственной.
Назавтра ситуация резко изменилась. На топоре не было отпечатков Василия. Другие, неизвестно чьи, были, а его – не было. Да и сам он твердил, что напился, заснул, проснулся, когда участковый вошел в дом, и жену свою Таисию Анисимовну не убивал. Говорил, что теперь без нее, единственной кормилицы, ему лучше в тюрьму, чем на воле с голоду подыхать. Но убивать ее никогда и ни за что не стал бы. Говорил, что соседка не могла в окно ничего видеть, потому что окно у них занавешено тюлью и шторами, давно не мыто и видеть сквозь него ничего невозможно. Проверили. На самом деле, даже штору и тюль сняли. И без них не видно. Только тени да контуры. Соседка, которая утверждала, что все видела, плечами пожимала и говорила, что, может, показалось, что, может, и не Ваську вовсе видела, а кого другого. А просто подумала, что видела его. А кого еще, если это его дом-то, Васькин.
В общем, Василия еще день продержали, а потом выпустили за отсутствием улик.
Таисию Анисимовну похоронили. Столяр вместе с шофером сколотил гроб. Обили красным ситцем со старых флагов. Сгондобили из брусьев крест. Покрасили вонючим паркетным лаком. На почте выделили машину. Ту же, на которой она возила пенсию.
На кладбище почтальонская бухгалтерша сказала про то, как Таисия пришла на почту молоденькой девчонкой и со временем превратилась в незаменимого и безотказного работника. Вернулись домой. Выпили. Закусили. Василий молчал. Было ему неловко, что остальные косятся, думают, будто убил Таисию он. Под конец напился. Рассказал про то, что не убивал, что милиция это установила. Заплакал, кинулся драться. Получил от столяра в лоб и заснул.
Лидия, пользуясь случаем, подсела к начальнику почты. Попросилась работать на место матери. Тот сказал, что место уже занято. Кем, не сказал, но Лидка и так поняла, малолетней вертихвосткой Веркой.
Муж у Лидки тоже напился. Сама она не ревела. В черной кофте, юбке, с полоской косынки на голове вместе с двумя также одетыми почтальоншами, наливала в тарелки щи, накладывала гуляш с гречкой, подливала компот. Вздыхала. Молчала. Глаза были красными. Планы о новой жизни ушли. Впереди была понятная безысходность. Безденежье и два обрыдлых мужика. Отец и муж.
В голове было мелькнуло: «Уж лучше бы это батя мать убил», но Лидка перекрестилась и прогнала глупую мысль.
3
В бывшем колхозе «Восход» три дня собирались возле бывшего сельсовета. Ждали пенсию. Сначала говорили, что машина сломалась. На другой день – что пенсию задержали. Потом – что захворала Тайка. На четвертый решили: если завтра не приедет, надо самим идти в район на почту, узнавать на месте.
На пятый – приехал «уазик» и водитель объявил, что Таисию убили. Новая почтальонша возить пенсию не будет, и сами пенсионеры пускай приходят получать на почту с паспортами. С 8.00 до 17.00. Перерыв с 13 до 14.
Старушки загалдели. Сначала пожалели Таисию. Потом сказали, что о покойниках плохо не говорят и припомнили, что та никогда не возвращала банки после сметаны и не выдавала мелочь от пенсий. Что вела себя как цаца, вызывала по алфавиту, а не по очереди и вообще пачкала и хамила зло и нарочно. Потом начали ругаться на почтовое и пенсионное начальство, и все это вылилось на водителя. Шофер обиделся, завел свой драндулет, хлопнул дверью и было газанул, но бывший председатель сельсовета, рассудительный и опытный человек, Петр Федорович Бобков остановил галдеж, сказал женщинам, что поедет в райцентр разбираться. Сел рядом с водителем, и они уехали.
По дороге Бобков узнал, что начальник почты теперь другой, не тот, с которым Петр Федорович хорошо знаком. С тем он договорился бы легко и быстро. Но, увы, два месяца назад старый начальник заболел, его положили в госпиталь для ветеранов, а оттуда торжественно выпроводили на пенсию. Назначили молоденького родственничка жены главы администрации района.
На вопрос, какой он человек, водитель хмыкнул и сквозь зубы процедил:
– Никакой. – Потом помолчал и добавил: – Я ему говорю: «Люди там, в смысле у вас, волнуются, надо поехать пенсию отвезти и предупредить, если больше возить не будем», а он плечами пожимает и молчит. Даже не отвечает. Ну, я не выдержал, сам без приказа поехал. Может, еще и уволит. Ну и хрен с ним, водилы везде нужны. Я-то себе работу найду. А вот он на такие гроши крутить баранку никого не найдет!
– Понятно. – Настроение у Петра Федоровича сникло, и он задумался, какие найти доводы, чтобы уговорить, чтобы пронять этого никакого начальничка-родственничка привозить пенсию к ним в бывший передовой колхоз.
А шофера прорвало, и он начал рассказывать про почтовую жизнь:
– Новый, Виктор Андреевич, Витек, как назначили, ремонт в кабинете заделал. Стены и потолки обили, на полу ламинат настлали, это теперь так паркет иностранный называют. Окна сделали пластиковые. И двери поменял. Наворовал с этого ремонта на ремонт своей квартиры. Старый начальник никогда такого не позволял. А когда я попросил денег на ремонт двигателя, «нету средств», говорит, «сам выкручивайся».
Председатель сочувственно кивал, и водитель продолжал:
– Сроду на вшивой районной почте у начальников секретарш не было, а этот, как Таисии не стало, на ее место не почтальоншу взял, а Верку шалопутную и своей секретаретуткой сделал. А остальным почтальоншам Таисин участок поделил. Работы у них больше стало, а зарплату ту же оставил.
Постепенно для Бобкова положение дел прояснилось и теперь казалось совсем плохим. Гораздо худшим, чем когда он сел в машину.
В райцентр приехали как раз в 13.00. В перерыв. Начальника почты уже не было, и Петру Федоровичу пришлось час прогуливаться по давно изученной центральной улице имени Ленина. Он вспомнил, как внук, услышав такое сочетание, спросил:
– Имени Ленина, значит, улица Володи?
Но теперь Петра Федоровича это не рассмешило. Когда все было имени Володи, ему не пришлось бы ехать в райцентр и неизвестно кого и неизвестно как упрашивать. А как упрашивать? Денег на взятки у него нету. Колхоз развалился. Молодежь уехала. Доживают как раз на привозимую Таисией Анисимовной пенсию старики, ветераны, алкаши да приватизировавшие сельмаг продавщица с мужем. Нету колхоза. Нету сил сопротивляться жизненным переменам. И подладиться к новой жизни тоже не выходит.
Бывший председатель заходил в магазины. Рассматривал красивые двухкамерные холодильники, блестящие черным лаком плоские и недоступные телевизоры, подошел он и к бывшему райкому КПСС, а ныне администрации района, но заходить не стал. Мысленно сказал «спасибо» водителю за «информацию». Заходить туда, жаловаться главе на его родственника было бы глупо и даже вредно для дела. Настроение Петра Федоровича ухудшалось. Он видел тупик и безысходность.
Петр Федорович всю жизнь прожил в деревне. Отсюда ушел в армию. Служил механиком-водителем на «тридцать четверке». В 56-м попал в Венгрию. Вел себя достойно. Но на сверхсрочную и курсы младших лейтенантов, как предлагали, не остался. Вернулся домой. Человеком был проверенным и благонадежным. Но всегда в его голове сидело непонимание. С одной стороны он любил свою деревню, лес, землю, колхоз, район и вообще Родину СССР, а с другой ничего хорошего от нее, от власти, руководившей этой любимой Родиной, не ждал. Всегда от них, от властей, для людей и его деревни только вред или дурь получалась. В войну, когда хлеб вывозили для фронта, было понятно. Жили впроголодь потому, что «все для фронта все для победы». Но начальству было мало. Прислали из соседнего колхоза злого на весь белый свет за отмороженную на финской войне кисть руки объездчика, и тот гонялся за ними, пацанами, на лошади. Отнимал подобранные возле дороги в пыли просыпанные из мешков зерна, высыпал и злорадствовал, мол, пусть сгниют, но никому не достанутся!
Такое и всякое похожее было постоянно. В пятидесятых Хрущ увидел, что колхозники яблоками и грушами на базарах торгуют, и ввел налог на плодовые деревья. Денег платить этот налог ни у кого не было. Петр помнил, как с матерью плакали и спиливали любимые груши. Ну, кому лучше от этого стало? Эх, власти, власти! И народ, и друг дружку ненавидели. Хрущев пришел – Сталина обгадил. Брежнев пришел – Хрущева. Над Брежневым после смерти кто только не изгалялся. А этот пустомеля Горбачев! А нынешние!
В четверть третьего почта открылась. В 14.40 пришел начальник, но секретарша к нему Бобкова не пропустила.
Сказала: «Подождите, Виктор Андреевич занят». Потом вскипятила в новеньком пластмассовом электрическом чайнике воду и отнесла в кабинет чашку кофе. Когда открывала дверь, Бобков слышал, как начальник болтал по телефону, рассказывал о прошлых выходных, приглашал кого-то на рыбалку. Слышал, как Верка повизгивала, говорила: «Ну, Виктор Андреевич, не надо, неудобно, а вдруг кто войдет». И ждал. Слышал, как дверь с той стороны заперли на ключ. Минут через двадцать Верка вышла. Простукала на каблуках мимо председателя, уселась за секретарский стол с компьютером. Сказала «ждите», достала зеркало и стала подкрашивать губы. Петру Федоровичу было ото всего этого не понятно как. Он не знал, как себя теперь вести. Что делать. Не понимал. Сидел. Опустив голову, сжал кулаки. Было противно посмотреть на ссыкуху Верку, наверное только окончившую школу.
В душе закипала ненависть на эту сытую, ничего не умеющую, паразитирующую на тысячах таких, как он, гниль, пролезшую во власть.
«Когда же это гадство закончится? Когда же эта сволочь сгинет!» – уже кипел Петр Федорович. И вдруг впервые сообразил: только когда он, именно он поставит их на место. Задавит «гидру контрреволюции на конкретном рабочем месте», как говорили в старом кино про гражданскую войну.
Верка сказала «входите», и Петр Федорович вошел.
Его решимость задавить эту расплодившуюся и отравлявшую жизнь плесень перехлестывала. Старик еле сдерживался. Прошел через длинный кабинет. Сел, не дожидаясь приглашения, за приставной стол. Развернулся, чтобы смотреть в лицо начальнику, и объяснял сквозь зубы вдруг возникшую по прихоти этого самого двадцатисемилетнего Виктора Андреевича проблему своей маленькой, почти сгинувшей деревушки. Между ним и почтмейстером простирался огромный стол, накрытый толстым стеклом со списком телефонов районного начальства и несоразмерно помпезным, сталинских времен, чернильным прибором из натурального камня, выставленным, видимо, для хохмы перед приятелями.
Начальник скучающим взглядом поглядел на него и зевнул. Петра Федоровича качнуло. Он замолчал, медленно взял ближнюю к себе, здоровенную, как основание памятника, серую гранитную чернильницу. Аккуратно снял и положил на подставку литую медную крышку, потом привстал и со всей силы саданул по стеклу. Стекло разбилось вдрызг, а Петр Федорович хрипло, багровея от ненависти, заорал в суслиноподобную мордочку начальника почты:
– Если ты завтра же не привезешь пенсию моим старухам-ветеранам, пеняй на себя. Понял?
Тот побледнел, испугался и стал подниматься.
– Понял? – Петр Федорович тоже встал и начал поднимать кулак с намертво зажатой чернильницей.
– Понял, понял, привезем, привезем, ― почти беззвучно шелестел губами и кивал почтмейстер.
– Ну, вот и ладно, – уже тише, но четко обозначив каждое слово, говорил председатель. ― Завтра и каждый месяц. Без задержек.
Он положил на разбитое стекло чернильницу. Снова поглядел на начальничка, сменил тему и заговорил, как с неразумным дитем, по-отечески:
– А что чернильный набор на столе оставил, правильно. И дальше пусть тут будет. Не выкидывай. Сохраняй. Как память.
Потом показал пальцем на полированный кубик, сам не зная зачем, сказал: «чернильница – орудие бюрократа» и закончил:
– Некогда мне тут рассиживаться, бывай, Витя, и помни. Не отрывайся от народа.
– До свидания, – проблеял начальник почты.
Петр Федорович походкой хозяина вышел. Хлопнул дверью.
Витек с полчаса приходил в себя. Потом позвонил дядюшке и попросился срочно к нему. В районе шла проверка, времени не было. Глава помолчал и велел прийти прямо сейчас.
Племянничек обрисовал ситуацию. Себя выставил героем, но на всякий случай объяснил, что не хватает у него денег на бензин, машины разваливаются, нет охраны для сопровождения почтальонш и, вообще, обнаглели эти ветераны.
В другое время дядюшка поддержал бы, но теперь, когда выискивали и вынюхивали, задумался. Между прочим, походя, намекнули и на отсутствие контроля за расходом бюджетных средств при ремонте кабинета начальника почты. Дело это было совсем не его, и районный глава только усмехнулся, сообразив, что компромата на него серьезного, видимо, нет. Понять, чего хотят проверяльщики, он не мог. Дружок, зам. главного милиционера области, пожимал плечами. Районный прокурор тоже ничего не знал. Не то хотели убрать и посадить на его место кого своего, не то вымогали деньги. А тут какие-то пенсии для ветеранов. Глава мыслил широко, потому и сидел на должности третий срок.
«Пенсии, ветераны, – соображал он, ища подвоха в каждой происходящей в районе мелочи, и сообразил: – Это же политика! Это социальное обеспечение ветеранов! На этом можно так погореть, что мало не покажется, что никогда после такого не отмоешься!»
Нервы у дядюшки сдали, и он заорал на Витька. Стучал по столу, требовал, чтобы тот делом занимался, и если надо, то возил пенсию всем, кому положено.
– Это политика! – кричал он. – Понимать надо, а не сопли жевать. Покуда в районе есть хоть один ветеран, будешь возить ему пенсию. Машины сломаются, самого пешкодралом заставлю доставлять. Пошел вон!
Виктор Андреевич выскочил из кабинета. Ничего он не понял, но сообразил, что выпендриваться себе дороже. Если какой-то зачуханный колхозник на него наорал, разбил стекло, самого чуть не прибил, а потом и дядюшка добавил, значит, дело это очень важное. Может, даже под контролем самого губернатора и даже президента.
А Петр Федорович сгоряча решил прогуляться и пешком отправился домой. Часа полтора шел и мысленно продолжал разговор с начальником почты, потом с главой района, потом непонятно с кем про мизерные пенсии, уничтоженный колхоз, порезанных и проданных за бесценок коров. Шел он быстрым шагом, почти как в армии на марше, и прошел почти половину пути. Но вдруг задохнулся от боли в голове. Как будто пробило пулей. В глазах стало темно. Затошнило, ноги подкосились, и председатель упал. Мимо проезжали в построенные около деревни коттеджи редкие иномарки. Может, не замечали лежавшего на обочине старика, может, не хотели связываться. То ли пьяный бомж, то ли не понятно кто. Петр Федорович очнулся, встать не смог, лежал, уткнувшись лицом в землю, и плакал. Почти стемнело, когда его заметила продавщица магазина. Выскочила из «газели», вместе с мужем подняли Петра Федоровича, все поняли. Положили в машину на мешки с крупой, сахаром, хлебом. Повернули назад в город, в больницу. Не отходили. Ждали, покуда председателя поместят в палату. И только потом уехали в деревню.
Когда через день привезли пенсию, его уже не было.
Мир натуральных тканей
Обшарпанный вход в подвал не вязался с вывеской «Мир натуральных тканей», зачем-то повторенной по-английски. Я скептически хмыкнул, но стал спускаться по щербатым ступеням. Жена мечтала ко дню рождения о льняной занавеске с голубыми ромашками. Вдруг тут окажутся. Хотя вряд ли.
На дне заваленной окурками площадки рыжела некрашеная полуоткрытая железная дверь. За ней в конце длинного коридора тускло свисала с потолка лампочка, – висит груша, нельзя скушать.
Коридор оказался еще длиннее. Минут через пять понял, что надо поворачивать назад. Какие тут васильковые ромашки? Какой лен? Вонь и помойка. Да возвращаться жалко. Гулко громыхало эхо шагов, капало из дырявой канализации.
Дошел. Справа от лампочки поразила белизной красивая заграничная дверь и надпись над висячим замком: «Welcome».
Зря перся! Голубые ромашки!
– Козлы! – В сердцах пнул по обитому латунью порогу.
Дужка замка открылась, замок выскользнул из проушин и свалился на ногу.
Дверь распахнулась, оттуда выскочил всклокоченный менеджер и стал притворно причитать:
– Господи, как же это случилось! Только бы не перелом. Не беспокойтесь, фирма все оплатит. Только бы не ампутировать.
Я глядел на идиота. Он хватал мою ногу, расшнуровывал ботинок, усаживал в кресло, без передыху ойкал, суетился.
А нога между тем начинала ныть. Я снял носок. Здоровенная ссадина пересекала ступню. Она синела. Нога пухла, раздувалась, превращалась в розово-желто-лиловую, втрое больше обычной. Засунуть назад в ботинок уже не получалось.
– Только бы не ампутировать! – продолжал стенать продавец, заглядывая мне в глаза. – Только бы не резать!
В руке его мелькнул скальпель.
– Э, мужик, а в лобешник не хочешь? – заорал я, схватил замок и треснул шустряка по башке.
– Фирма сделает все, даже протезы! – И, теряя сознание, почти неслышно дошептал: – Но до этого, я уверен, не дойдет…
– Я тебе сам оплачу протезы, Мересьев недоделанный.
Надо мной прозвучало:
– Федор Лукич! Главный менеджер зала, – и щелкнули каблуки полуботинок. – Чем могу быть полезен?
– Вы что, офицером в штабе служили, что щелкаете шпорами? – Я поднял голову и увидел близнеца тюкнутого мной Мересьева.
– Никак нет. Я служил в действующей армии.
– И где же она действовала?
– В боевой обстановке, – уклонился от ответа главный менеджер, натужно улыбнулся и всадил в толстую вспухшую ногу шприц.
В глазах у меня поплыло. Ослепил операционный свет. Далеко-далеко падали в лоток отработанные зажимы, пинцеты, медленно летела красная вата, пахло медициной. Еще дальше переговаривались близнецы, совсем далеко висела на окне в кухне льняная занавеска с голубыми ромашками и улыбалась жена.
– Да, – рассуждал главный менеджер, – уже метастазы пошли. С этой штуковиной ему месяца четыре жить, не больше.
– Ой, не больше, – поддакивал второй.
Потом «штуковина», наверное, отрéзалась и я услышал шлепок какого-то куска своей плоти о дно помойного ведра.
– А с этим года три, а то и четыре протянул бы.
– Да, да, четыре.
– А вот с этим, а с этим… – главный задумался.
– С этим лет двенадцать, – оценил младшенький очередную часть моего нутра.
– Пожалуй.
Шлепков было много.
– Все предопределено, – философствовал главный менеджер.
– Да, да, как вы, братец, правы, все указывает на это, – поддакивал другой.
«А как же про то, что все внезапно смертны?» – прошептало в моей голове.
– А вот это вы, батенька, бросьте! – возмутился Федор Лукич. – Этот ваш Булгаков хоть и был врачом, да, видать, не очень-то сильно соображал в медицине. Иначе не стал бы такое говорить.
– Не говорить, Федя, а писать, – впервые поправил младший.
– Не в том суть, «говорить, писать», все одно излагать, – разошелся главный. – Возьмите эпизод про того же Вагнера.
– Берлиоза, Феденька, там Вагнера не было.
– Ну, Берлиоза, какая разница! – согласился Федор. – Так вот, совсем у него не внезапная и тем более не случайная смерть. Это же очевидно. Случайность там одна, пролитое подсолнечное масло, всего-то одна сотая процента, а все остальные девяносто девять и девяносто девять сотых, извините меня, цепь закономерностей.
Мой лоб, наверное, скептически сморщился потому, что Федор Лукич фыркнул и стал объяснять:
– Во-первых, не заметил масло, значит, нарушение зрительного аппарата, скорее всего близорукость, что для редактора просто очевидно. Во-вторых, споткнулся и упал – нарушение координации опорно-двигательной системы, вероятнее всего из-за артрита, радикулита, да и вообще сидячий образ жизни приводит к атрофии мышц. В-третьих, погибший не смог вскочить, увернуться от трамвая, в конце концов отползти, а это следствие заторможенных реакций, что уж точно результат склероза головного мозга. Эт цетэра, эт цетэра. И все перечисленное есть закономерный результат образа жизни вашего Вагнера или, как его там, Берлиоза. Так о каких случайностях вы говорите, молодой человек? – победно завершил главный менеджер.




















