Читать онлайн В сторону (от) текста. Мотивы и мотивации бесплатно
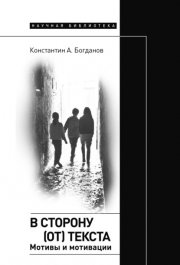
© К. Богданов, 2023
© И. Дик, дизайн обложки, 2023
© OOO «Новое литературное обозрение», 2023
Сходства различий
Вместо предисловия
Я не сразу придумал название этой книжки – и не уверен, что придумал наилучшее, – чтобы объединить статьи, посвященные, казалось бы, разным темам, но общие в исходном для них соображении о том, что примеры из истории социальной и культурной жизни, как и примеры из литературы и других видов искусства, вызывают определенные «внетекстовые» эмоции, но тем самым мотивируют появление новых текстов. Слова, вынесенные в название, – понятия гуманитарных наук, но, как и другие гуманитарные термины, они остаются словами, допускающими их уточнение и переозначивание. Примером тому служит и сама история понятий как научная дисциплина (Begriffsgeschichte), подтверждающая давнее наблюдение, что научные понятия не только обозначают собою нечто, но и работают как инструмент коммуникативного согласия на их использование в том или ином определенном значении. А это значение меняется в зависимости от разных обстоятельств, и прежде всего – от конвергенции и дивергенции самих научных дисциплин, осложняющих одни и те же, казалось бы, понятия различными смысловыми связями в зависимости от технических и, в частности, риторических задач – констатации или, наоборот, вопроса, сомнения или объяснения и т. д.
Свою задачу я видел в проблематизации различного как сходного. Чем определяется внимание к разному и память о разном? Что связывает разное – разные тексты, разные явления, разные события? Чем в этих случаях мотивированы интеллектуальные и эмоциональные предпочтения? Если предположить, что интерес к чему бы то ни было имеет смысл, то у него должны быть свои причины и следствия. В конечном счете характер любой интерпретации предопределяется ее прагматическим целесообразием – а значит, усилиями, не исключающими сторонних альтернатив. Поэтому в своем исследовании фактов, событий, произведений и биографий я интуитивно ориентировался на то, что определяет мою собственную память и рефлексию о прошлом и посильную заботу о настоящем – в науке, быту, мире социальных (реальных и воображаемых) отношений.
Большинство статей, составивших эту книгу, уже печатались, но для настоящего издания все они были существенно отредактированы и дополнены новым материалом.
Как и прежде, я глубоко признателен Ирине Прохоровой за возможность издания очередной книги в любимом «НЛО». Я благодарю Татьяну Тимакову и Ольгу Панайотти за внимательную и вдумчивую редактуру текста. Я не называю здесь всех тех, кто помогал мне советами, критикой и подсказками – это был бы длинный список. Всем им, моим друзьям и коллегам, искреннее спасибо!
Прагматика мотива и антропология «Жизненного мира»
…есть нечто, что всегда движет движущееся.
Аристотель. Метафизика
Мотив vs мотивация?
Русский язык разводит понятия мотива и мотивации. Первое чаще встречается в филологии, искусствознании, музыковедении, биологии, второе – в психологии, социологии, экономике и праве, но этимологически и содержательно эти понятия связаны (оба происходят от лат. movere – двигать, побуждать), обозначая собою основание или обстоятельства какого-то действия в ситуациях речи, письма, рисунка, звука, процессе биологической эволюции или в выборе социально-психологической позиции. Можно было бы заметить, что понятие «мотивация» преимущественно (то есть в тех дисциплинах, где оно употребляется терминологически чаще и коммуникативно привычнее, чем слово «мотив») обозначает причину или сцепление причин для какого-то действия, а мотив – прежде всего в филологии и искусствоведении – некоторый «факт», элемент, деталь текста или изображения. Но строгого различения в этих случаях, впрочем, нет (как это имеет место, например, в английском языке: motif vs. motive/motivation), иногда «мотив» синонимичен «мотивации» (так же – в немецком и французском языках) – и это как раз тот случай, который заставляет нелишний раз задуматься о неслучайности их синонимии.
В разных дисциплинах оба эти понятия традиционно подразумевают определенную «простоту» своих формальных признаков – но они же дают повод к уточнению их ситуативного и контекстуального обособления. В результате арсенал терминов, дополняющих сегодня эти понятия, непрестанно множится и уже по одному этому демонстрирует разнообразие возможных критериев, а лучше сказать – ориентиров в понимании того целого, деталями которого они являются. Говоря иначе: мотив и мотивация – это, с одной стороны, то, что останавливает внимание в пространстве подвижной действительности, то, что придает умозрительному и/или очевидному беспорядку причинно-следственную определенность, наделенную структурным и/или смысловым значением. А с другой – то, что высвечивает подвижное соотношение детали и целого.
Основной проблемой в этих случаях является соотношение формальных и содержательных примет. Но что считать критерием, формально достаточным для того, чтобы увидеть в нем и нечто содержательно необходимое? Каковы границы мотива и/или мотивации? Отвлекаясь от психологических аргументов в размышлении о таких границах (например, от того факта, что эмоции имеют зонную структуру и уже потому затрудняют разговор об однозначности тех слов, которыми мы обозначаем и сами эти эмоции)[1], мне, как филологу, здесь удобнее сослаться на работы, специально посвященные каталогизации мотивов в литературе и фольклоре. Грандиозным собранием такого рода в последнем случае остается шеститомный «Указатель мотивов народной литературы» Стита Томпсона (1955–1958), в котором под мотивами понимаются и ситуации, и действия, и отдельные персонажи, и предметы – все то, что подразумевает традиционно связываемые с ними истории. Сам Томпсон признавал, что применительно к повествовательной традиции понятие мотива всегда используется «в очень вольном смысле», поскольку «включает в себя любые элементы повествовательной структуры»[2]. Критикуя Указатель Томпсона, исследователи настаивали на необходимости более четкого определения. Ведь, и в самом деле, если мы имеем дело с «любыми» элементами повествовательной структуры, то что считать такими элементами – тему, рему, фонетические особенности текста, знаки препинания или, может быть, числа? Интересно, что в размышлении о собственно сказочных мотивах Томпсон был более категоричен: мотив в данном случае определялся им как «наименьший элемент в рассказе, имеющий силу сохраниться в традиции. Чтобы иметь такую силу, в нем должно быть что-то необычное и поразительное»[3]. На первый взгляд, такое определение лучше соотносится с изучением мотивов, как своеобразных «атомов» текста, но на поверку и оно противоречиво: получается, что единственное, что объединяет мотивы, – это их формальная атомарность, но при этом они содержательно различны, поскольку каждый из них необычен и поразителен «чем-то», то есть необычен и поразителен по-разному.
Меньшее, что можно сказать о мотиве, с этой точки зрения, сводится к тавтологии: мотив мотивирован тем, что он может быть выделенным. Но пассивная конструкция обратима к активной: выделение мотива мотивирует к обнажению приемов, обстоятельств, контекстов, которые могут быть воспроизведены как условие его выделения и (пере)повторения. Ситуация такого выделения становится еще более парадоксальной, если учесть, что применительно к той же фольклорной традиции «мотив» может только подразумеваться, но не называться в качестве какого-то одного повторяющегося слова или словосочетания. В замечательной книжке Георгия Мальцева, посвященной традиционным формулам русской народной необрядовой лирики, это убедительно показано на примере формул (которые здесь синонимичны мотивам) «рано», «у реки», «у окна», «сад», «прощание с милым», «пойду с горя в (поле, лес)», «взойду (сяду) на гору», «разгуляться», «смерть» и др. Опознаваемость всех этих мотивов условна, но так или иначе иллюстративна к эстетическому канону русской песенной лирики[4].
Последнее суждение открыто для критики, поскольку «вычитывание» мотивов оказывается и чем-то вроде их «вчитывания» в традицию и связываемые с нею тексты. Фольклористика, как и любая гуманитарная дисциплина, напоминает в этом случае не только о том, что она нестрогая наука, но и о том, что процедура подобного «вычитывания» и «вчитывания» определяется не только формальными особенностями текста, но и его исследовательской – рефлексивной и эмоциональной – герменевтикой[5].
Пунктуация как мотив. Многоточие и тире
Об эвристических перспективах подобного понимания можно судить и по литературоведческим работам. Так, например, в работах Юрия Чумакова о поэтике «Евгения Онегина» одним из существенных элементов пушкинского текста объявлялись «пропущенные строфы» и стихи, отмеченные в первом случае прибавлением одной или нескольких цифр к номеру существующей строфы и (выборочно) тройным рядом отточий, а во втором – многоточиями, соответствующими числу пропущенных строк. Читателю, по мнению исследователя, следует считаться с наличием этих пустот как указанием на «существование вероятностного текста ЕО» и, соответственно, безмерную глубину самого романа – ведь «знак неизвестного текста семантически весомее, чем его словесное раскрытие»[6].
Стремление видеть в «пропущенных» строфах и стихах «Евгения Онегина» структурно значимую особенность пушкинского произведения, а фактически – один из его мотивов, обнаруживает между тем парадоксы не столько авторской интенции, сколько читательской рецепции – поскольку известно, что почти все «вакантные» строки последнего прижизненного издания романа 1837 года восстанавливаются на основании отдельно (и тоже прижизненно) изданных четвертой и пятой глав «Евгения Онегина» (1828) и ставших позднее доступными черновых рукописей. Таким образом, из всех типографически «отсутствующих» 294 стихов издания 1837 года современному читателю неизвестны только четыре строфы, или 56 стихов[7]. Отсутствие этих строф (39–41‐й строфы 1‐й главы и 39‐й строфы 7‐й главы) расценивается комментаторами, соответственно, так:
Не исключено, что пропущенные строфы есть фикция, несущая некоторую мелодическую нагрузку – это обманная задумчивость, придуманный трепет сердца, мираж моря чувств, ложное многоточие ложной недосказанности, возможно, ложный пропуск, имитирующий пропуск автором потока банальных впечатлений (Владимир Набоков)[8], пропуск имеет структурно-композиционный смысл, создавая, с одной стороны, временной промежуток, необходимый для обоснования изменений в характере героя, а с другой – эффект противоречивого сочетания подробного повествования («болтовни», по определению Пушкина) и фрагментарности, сдвоенный номер строфы не означает реального пропуска каких-либо стихов – он создает некое временное пространство, поскольку между временем данной строфы и предшествующей прошел «час-другой» (Юрий Лотман)[9].
Стоит заметить, что сама возможность в объяснении тех причин, которыми руководствовался Пушкин, обозначавший стихотворные «пропуски» в издании своего романа, определяется прежде всего тем, что последние оформлены типографически – это пропуски в последовательности цифровой нумерации строф и сопутствующий им знак многоточия. Остается удивляться, что ни в одном из комментариев этому обстоятельству не уделяется сколь-либо отдельного внимания; между тем вопрос о правилах пунктуации имел ко времени написания пушкинского текста не только научно-педагогическую, но и эмоционально-стилистическую и собственно литературную предысторию. Сам Пушкин не без иронии упоминал о «пропущенных» строфах своего романа в предисловии к отдельному изданию 8‐й главы (1832 года, перепечатанном в издании 1837 года): «Пропущенные строфы подавали неоднократно повод к порицанию и насмешкам (впрочем весьма справедливым и остроумным)». Два примера таких «порицаний» приводит Лотман – отрывок из письма Александра Грибоедова к Фаддею Булгарину и пародию Павла Яковлева, в которых иронически обыгрывалась латинская нумерация отсутствующих строф и глав[10]. Многоточие в этих примерах не упоминается, но его присутствие в тексте «Евгения Онегина» вполне могло давать повод к такому же «порицанию», недвусмысленно отсылая к традиции литературного сентиментализма.
К 1810‐м годам эта традиция – в ретроспективе уже сравнительно многочисленных произведений сентиментального жанра – все еще остается на пике читательского спроса[11], но по мере нарастающей инерции сюжетных и стилистических повторений становится все более опознаваемой и привычной мишенью для критики и пародирования[12]. Интересно, что одной из примет этой критики выступает критика сентиментальной пунктуации – нагромождение знаков препинания, призванных графически передать эмоциональный спектр, который к этому времени привычно связывается с эстетикой и этикой сентиментализма – необоримой меланхолией, слезливостью, экзальтацией и недостаточностью слов для выражения чувств и мимолетных мыслей[13]. Для современников Пушкина эталонным образцом русского литературного сентиментализма была «Бедная Лиза» Николая Карамзина (1792), давшая старт многочисленным подражаниям и переподражаниям, в которых горестные истории о несчастной любви, сердечной верности и коварстве графически пестрели прежде всего тире и многоточиями.
У Карамзина использование этих знаков видится осознанным приемом литературного стиля – стремлением придать тексту силу переживания, не укладывающегося в границы синтаксиса, формализующего высказывание его логическим завершением[14]. История «Бедной Лизы» – история равно рассказанная и недосказанная: читатель, вынужденный останавливаться по ходу авторского изложения, волен только догадываться обо всем, что произошло за текстом, – и это произошедшее, конечно, значительнее всего того, что можно было бы о нем сказать. Само чтение литературы оказывается при этом таким чтением, которое подразумевает жизнь героев за границами текста и вместе с тем олитературивает саму жизнь, наделяет ее литературными темами и мотивами[15].
Интересно, что лапидарность прозы Карамзина и его последователей позднее будет оцениваться как оборотная сторона необязательного многословия: так, например, по мнению Константина Аксакова, проза Карамзина и его литературных единомышленников «является какой-то бесконечной плетеницей, слова подбираются нужные и ненужные к слову ближайшему, и Карамзинский писатель мог бы, кажется, говорить или вести речь целый век, если бы его не остановили или бы сам он не думал остановиться. Конца в составе речи Карамзинской нет»[16]. Недоброжелательное суждение Аксакова примечательно тем, что оно высказано тогда (в 1848 году), когда в русской литературе снова появляются тексты, несопоставимо более обширные и громоздкие, чем короткие тексты Карамзина. Длинноты текстов видятся отныне иными: современная Аксакову литература призвана проговаривать то, о чем сентиментальная литература только обещает сказать, но никогда не говорит достаточно. Нарративная краткость оказывается дискурсивно (и коммуникативно) бесконечной.
Трудно сказать, на кого именно ориентировался Карамзин в выработке своего литературного стиля (помимо общего контекста европейского сентиментализма, объединявшего таких разных, но важных для него авторов, как Сэмюэл Ричардсон, Лоренс Стерн, Жан-Жак Руссо, Соломон Гесснер, графиня де Жанлис)[17]. В использовании тире он вполне мог следовать Ричардсону – страницы книг которого «Памела, или Вознагражденная добродетель» (1740) и «Кларисса, или История молодой леди» (1749) выделялись непривычным обилием тире. В еще большей степени это относится к Стерну: изощренная пунктуация в «Тристраме Шенди» (1759–1767) – длинные многократные тире, надстрочные звездочки, «пропущенные» главы, обозначенные римскими цифрами, разноцветные страницы типографского текста – стала приметой новаторского эксперимента, радикально изменившего представление о визуальной стилистике литературного повествования[18].
Страницы первого издания романа Лоренса Стерна «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентельмена» (London, 1759–1767).
Карамзин, не устававший возносить похвалы Стерну, едва ли прошел мимо этих нововведений[19]. Но в содержательном следовании правилам русской пунктуации он также мог опираться на лекции и наставления своего университетского профессора (чрезвычайно чтимого им и близко с ним общавшегося) Антона Барсова[20]. Рукописная «Российская грамматика» Барсова (1788) стала первым языковедческим руководством, в котором тире (называемое здесь «молчанка» или pausa) получило пунктуационно-семантическую и пунктуационно-произносительную нормативизацию. На письме «молчанка» длиннее, чем знак переноса («черта единитная иди единительная»)[21].
Молчанка (Pausa) начатую речь прерывает, либо совсем, либо на малое время, для выражения жестокой страсти, либо для приготовления читателя к какому-нибудь чрезвычайному и неожиданному слову или действию впоследствии, но больше всего служит она к разделению лиц разговаривающих, чтоб не иметь нужды именовать их при каждой перемене их в продолжающемся разговоре.
При чтении вслух «молчанка», по Барсову, требует более долгой задержки речи, чем точка (обязывающая читателя сделать паузу, достаточную, чтобы сосчитать до четырех)[22].
У Карамзина тире используется во всех перечисленных Барсовым значениях – но на письме и типографически он его еще более усложняет, делая его не только одиночным, но и двойным и даже тройным. В ряду знаков препинания Барсов не упоминает о многоточии, но Карамзин его также использует – в близком к тире значении пунктуационной эмфазы, как знак внезапного перерыва речи, недоговоренности и задумчивости. Количество точек в многоточии при этом варьирует, но обнаруживает и некоторую формализацию, когда оно (как и тире) связывается с междометием «Ах» и восклицательным знаком (междометие «ах!» – еще один графический и произносительный элемент «Бедной Лизы»: на 39 крупношрифтных страницах малого формата первой публикации повести оно употреблено 29 раз)[23].
На фоне предшествующей русской литературной традиции работа Карамзина над текстом повести предстает реализацией принципа, который можно равно считать графическим и поэтическим: «зрительный» образ текста – избыточно оформленный вспомогательными знаками препинания – поддерживается обособлением фразовых фрагментов, которые уже тем самым наделяются неким дополнительным экспрессивным смыслом. Историко-лингвистический анализ поддерживает это впечатление, обнаруживая новаторство Карамзина не только в отборе и порядке используемых им слов, но и в преобразовании самих грамматических конструкций, подчиненных их предполагаемой соразмерности в границах того или иного текстового сегмента – будь это слова или фразы, составляющие абзац[24]. В целом особенности пунктуационной графики в «Бедной Лизе» Карамзина создают эффект содержательно «открытого», недосказанного повествования, связанного синтаксисом, который нарочито акцентирует выделение обращений, энергичное перечисление последовательных действий, обособление причастных и деепричастных оборотов, кульминационные паузы главных периодов – и уже поэтому придает самому повествованию ритмико-интонационный характер, схожий с выразительностью поэтического текста[25].
Если учитывать при этом, что чтение литературных произведений вслух было более привычным для эпохи конца XVIII и первых десятилетий XIX века, чем чтение «про себя»[26], то поэтическая выразительность чтения вслух повести Карамзина предстает еще более значимой, как пример поэтики и риторики, выражающей особенности непосредственной коммуникации – силу эмоционального взаимодействия, устанавливаемого между автором и его аудиторией, а также достижение сопереживания, которое, собственно, и определяло собою эстетику и этику сентиментализма – право на искренность чувств и «голос» сердца[27].
Для читателей «Бедной Лизы» стилистические и пунктуационные предпочтения Карамзина были особенно непривычны в сравнении с уже имевшимися к тому времени в русской литературе большими, часто многотомными, романами, отличавшимися исключительно подробным изложением приключенческого и/или любовного сюжета[28]. Те же предпочтения резко контрастировали с традицией торжественных од и поэтических панегириков, изобиловавших восклицательными («удивительными», по выражению Ломоносова)[29]знаками, но никак не многоточиями и тире[30]. Много лет спустя Николай Греч будет вспоминать о своем детстве в эпоху павловского правления и первом наставнике в изучении языков:
Литературные познания моего учителя, Дмитрия Михайловича Кудлая, франта и модника, были очень ограничены. Он читал с восторгом «Бедную Лизу» и любил везде ставить тире, в подражание модному тогда Карамзину[31].
В подражание Карамзину ревнители связываемого с ним «нового слога» утрировали как лексику, так и стилистику сентиментализма – и, в частности, его пунктуационные приметы. Издатель журнала «Цветник» Александр Измайлов в 1810 году характерно иронизировал на его страницах над «сентиментально-плаксивыми писателями», для которых «нет ничего легче [чем] ставить тире», и пародийно описывал кабинет одного из таких писателей с реестром «разных сочинений, которые он намерен выдать в свет» – одно из них: «Рассуждение о точках и тиретах»[32]. Пристрастию к тире и многоточиям верен также герой сатирической «Исповеди бедного стихотворца» (1814), приписываемой юному Пушкину:
- Там можешь, батюшка, прочесть на каждой строчке
- «Увы!», и «се», и «ах», «мой Бог!», тире да точки[33].
Идиллия «Ручей» Дезульер в издании Oeuvres de Madame des Houlieres (Paris: Desray, 1798) и ее перевод в сборнике: Идиллии госпожи Дезульер / Переведены А. Мерзляковым (М., 1807)
Язвительные насмешки по адресу сентиментального лексикона вкупе с сопутствующей ему пунктуацией остаются актуальными и в последующие годы – пока и сам этот лексикон остается востребованным у читателей, воспитанных на Карамзине. Епископ Евгений (Евфимий Болховитинов) неслучайно пенял Державину, едва ли не единственному из поэтов старой школы, кто приветствовал карамзинское направление, что тот злоупотребляет тире[34]. Еще более оправданно те же упреки могли быть адресованы Алексею Мерзлякову – популярному поэту и профессору-словеснику, одному из самых деятельных членов Общества любителей российской словесности при Московском университете, – многочисленные произведения которого не обходились без постраничных тире и многоточия. О принципиальности такой пунктуации для самого Мерзлякова можно судить по его переводам античной поэзии и особенно «идиллий госпожи Дезульер» (Antoinette Des Houlières), изданных отдельным сборником (1807), который буквально изобилует экспрессивной пунктуацией, отсутствующей в оригинальном тексте[35].
Михаил Погодин, прочитавший в 1820 году торжественную оду юного ученика Мерзлякова Федора Тютчева «Урания», оставил дневниковую запись от прочитанного:
Каждый стих отдельно хорош, а все вместе составляют такую бестолковщину, какой примера редко найти можно. Я вспомнил слова Кубарева: Если у [… ] наших поэтов отнять было право ставить тиреты и точки во множестве, то у нас по крайней мере в пятеро было бы менее стихотворений. Нет ничего справедливее этого. Теперь поставят несколько [… ] точек, потом совсем другая мысль без всякого отношения к предыдущей, и ничего сказать нельзя против, потому что не понимаешь[36].
Основания для критики у Погодина были: на 194 стиха «Урании» насчитывается 26 многоточий и 39 тире. Новомодная пунктуация раздражала и Александра Шишкова, давнишнего оппонента Карамзина и его литературных единомышленников. В 1821 году в письме к И. И. Дмитриеву он критикует перевод Вергилия, выполненный Семеном Раичем (который, как и Мерзляков, был университетским наставником Тютчева), и особенно негодует на встречающиеся в нем тире: «Черточки (тире) есть также новое изобретение, показующее больше упадок, нежели возвышение ума. Оне, сколько их не наставь, не прибавляют ничего к ясности смысла и силе выражения»[37].
В вышедшем в том же году «Словаре древней и новой поэзии» Николая Остолопова понятие «Удержание» (Reticentia, Aposiopesis) объяснялось как пропуск («выпуск»), обозначенный на письме многоточием, «одного или многих слов, необходимых в предложении по словосочинению». «У новейших наших стихотворцев, – замечалось здесь же, – фигура сия в большом употреблении». «Однако ж надлежит наблюдать, чтобы такие выпуски не затмевали смысла»[38].
Литературно-поэтическая практика в употреблении многоточия и тире со временем уравновешивается их ученой нормативизацией. В 1820–1830‐е годы об их надлежащем употреблении пишут филологи Евграф Филомафитский (расценивавший тире как наименее значимый и малообязательный знак препинания, а многоточие – как знак вообще лишний и подлежащий исключению из грамматики)[39], Александр Востоков (определявший многоточие как знак «пресекательный», а тире – как знак «мыслеотделительный»)[40] и упоминавшийся выше Николай Греч, полагавший оба эти знака «вспомогательными» «в случае недостаточности прочих знаков» – с тем, впрочем, различием, что многоточием «означается неожиданное прерывание речи», а тире – «между периодами, окончанными точкою, для показания, что они не состоят в логической между собою связи» и «при всяком неожиданном переходе в предложении»[41].
Обращение к пунктуации во всех этих случаях интересно в том отношении, что и многоточие, и тире указывают на эмфатические особенности текста – на логические сбои в синтагматической последовательности, содержательные разрывы и остановки в повествовании. Но, как выясняется, и такие графические приемы, отсылающие прежде всего к умолчаниям и недосказанности, могут восприниматься как знаки эмоционально значимых мотивов и/или мотиваций. В этих случаях они схожи с синкопами в музыке и стихосложении, когда несовпадение ритма и метра, «выпадение» ожидаемого элемента может наделять произведение еще большим суггестивным потенциалом. Одним из примеров такого рода может служить стихотворение Тютчева «Silentium!» (1830), где ритмический сбой в стихах «Пускай в душевной глубине / Встают и захóдят оне» может пониматься как мотив бессильности слов, произносимых о молчании[42].
Чтение как проблема
Понятно, что в разбросе мнений о «границах» и признаках выделения мотивов ученые следовали и следуют задачам своих собственных исследований. Если для одних важным признаком в определении мотива служит его формальная (лексико-синтаксическая, морфологическая или фонетическая) «атомарность» и повторяемость, то для других – его оригинальность и единичность[43]. В последнем случае, говоря на языке лексикографии, единожды сказанное, гапакс (Hapax legomenon) – это тоже мотив[44].
Средневековые схоласты полагали, что «форма дает вещи существование» (forma dat esse rei) – парадокс, заставляющий считаться с тем, что фактически любой формальный компонент, коль скоро он выделяется в качестве такового, наделяется существованием, а значит, и возможным смыслом[45]. Понимание «мотива», с этой точки зрения, оправдывает не столько его логические дефиниции (а также их структуральные детализации)[46], сколько представление о нем как о звуке и/или образе, – недаром и сам этот термин первоначально появился и использовался применительно к музыке[47]. Звуковое «очертание» музыкального мотива полиморфно и зависит от предметности слухового восприятия. Само это восприятие к тому же определяется разными факторами – от «непосредственной» предрасположенности слушателя к тем или иным звукам до эмоциональной «убедительности» тех музыкальных инструментов, которые традиционно связываются с тем или иным образом (в своей дидактической простоте примерами такого убеждения могут служить, в частности, пояснения нарратора в симфонической сказке Сергея Прокофьева «Петя и волк» (1936), где флейта обозначает птичку, гобой – утку, кларнет – кошку, валторны – волка, фагот – старого дедушку, а литавры и барабан – выстрелы охотников)[48]. История изобразительного искусства и кинематографа также дает наглядные примеры мотивов, визуальная убедительность которых не свободна от традиции их воспроизведения (в истории кино такими условно «универсальными» мотивами, по мнению Реймонда Даргнета, могут считаться, в частности, мотивы слепоты, карнавала, рынка, цветов, зеркал, железнодорожных вокзалов, витрин, скульптур, подводного мира)[49]. В таком – равно формальном и образном – определении мотив, говоря словами Бориса Гаспарова, это «любое смысловое „пятно“»[50]. Легко представить такое «пятно» не метафорически, а буквально – например, как чернильное пятно: труднее решить, что здесь предшествует чему – «пятно» смыслу или смысл «пятну»[51].
Важно заметить вместе с тем, что в любом случае «смысл» мотива предвосхищает его припоминание, а оно, в свою очередь, привязано к мелочам – к таким деталям прошлого и настоящего, реального и воображаемого, случайного и закономерного, из которых, как в игре puzzle, складывается картинка опознаваемой в них «реальности». Антропологизация фольклористики и литературоведения еще более осложняет представление о мотиве как аналитической единице текста. Любое литературное произведение, как на этом настаивали уже представители констанцской школы рецептивной эстетики Вольфганг Изер, Ханс Роберт Яусс и их единомышленники, в ретроспективе предстает своего рода абстракцией, исходной для множества его потенциальных содержательных интерпретаций. Даже если слушатель или читатель отталкивается от подсказок, которые связываются с тем или иным текстом в опыте его предыдущих прочтений, в нем могут обнаруживаться смыслы, такими подсказками не предусмотренные, – синтаксические, лексические и иные «странности», «пробелы», «умолчания», которые приходится комментировать, полагаясь на связываемые с ним в процессе чтения приемы «эстетического воздействия» (Wirkungsästhetik) и особенности его читательской рецепции («горизонт ожидания», Erwartungshorizont) и т. д.[52]
Теоретической проблемой в этом случае остается то, на чем Изер и Яусс не акцентировали внимания: а чем, собственно, определяется «горизонт» читательской компетенции в процессе чтения? Чем читатель, сколь бы образованным он ни был, руководствуется в своем представлении о связи конкретного произведения с другими произведениями той же эпохи, о приемах поэтики и риторики, о границах воображаемого и мыслимого в качестве реального и т. д.? Чем древнее тексты, чем дальше отстоят от нас те или иные события – тем сложнее их интерпретация. Насколько «объективно» наше знание о том, какие именно мотивы считать определяющими для тех или иных текстов, которые были адресованы, по меньшей мере, не нам? Какие мотивации определяли характер происходящего тогда и там, где нас по меньшей мере не было?
В той степени, в какой культура поддерживает представления об обществе как целом, нам не избежать конструирования таких интерпретаций, которые говорят «сами за себя», но остаются мало определенными в своей модальности. Аналогией к такому положению вещей может служить изучение языка, согласно которому минимальной единицей человеческой коммуникации полагается высказывание, а не то (как это акцентируется в теории речевых актов), чем – какой интенцией – оно порождается. Но целостность и системность – вменяются ли они языку или литературе – дробятся и фрагментируются, если язык и литература детализуются в коммуникативных проекциях. В каждом конкретном случае это открытые вопросы о контекстах, оправдывающих ту или иную интерпретацию[53]. Можно надеяться, что антидотом от произвольных интерпретаций в этих случаях служит опора на традиционные практики верификации и фальсифицируемости, историко-сравнительный анализ и филологическую критику текста.
Но важно – и это следует подчеркнуть – что вопросы о многообразии связей, которые могут быть обнаружены внутри текста, между текстом и другими текстами, между текстом (а также текстом и другими текстами) и любыми жизненными обстоятельствами, которые допускают свою «текстуализацию» – придание тем или иным событиям, фактам, домыслам, чувствам и т. п. статуса предположительно возможного текста, – могут быть поставлены как прагматически разные. В одних случаях это вопросы текстологии, в других – филологии, истории, социологии и т. д. Ведь даже внутренняя связь (или, в лингвистической терминологии, когерентность) текста «проявляется одновременно в виде структурной, смысловой и коммуникативной целостности, которые соотносятся между собой как форма, содержание и функция»[54]. Говоря иначе: понимание текста подразумевает внимание к различным аспектам его актуализации.
Ясно одно: не только разные, но одни и те же тексты читаются по-разному. Владимир Набоков, большой любитель bons mots, не без вызова наставлял своих студентов, что «книгу вообще нельзя читать – ее можно только перечитывать»[55]. Старый афоризм Августа Бека, что суть филологической работы состоит в «познании познанного» (Erkennen des Erkannten), оказывается в этом случае справедливым как в теоретическом, так и в собственно прагматическом отношении – любой текст содержателен лишь постольку, поскольку он открыт к новому прочтению[56].
Мотив как выбор
Давние споры о том, насколько исследователь независим от себя самого при анализе историко-культурного материала, насколько он «вписывает» себя в собственную интерпретацию, остаются эвристически полезными по сей день: увлекательными – если эта проблема осознается исследователем (и, конечно, бесполезными и тоскливыми – если она им не осознается). Показательно, что в арсенале уже ранней герменевтики среди приемов надлежащего понимания приводились этические и эстетические категории: вера/доверие, радушие/доброта (benignitas), надежда, справедливость, красота и т. д. Текст, а шире – мир, открывает себя в ситуации коммуникативного «отклика» на нечто значимое – и потому как бы уже «понятное» (что в теоретической ретроспективе придает проблеме «герменевтического круга» не логический, но эмпирический смысл, обнаруживающий силу «предпонимания» – эмпатии, не требующей дополнительных доказательств)[57].
В теории информации подобная ситуация рисуется как результат выбора, который – пусть он даже видится психологически интуитивным – ретроспективно структурирует связываемые с ним события[58]. При всем пафосе и радикализме давних суждений Жака Деррида о том, что «не существует вне-текста» (il n’y a pas de hors-texte)[59], они остаются поучительными в том отношении, что позволяют задаться вопросом, какими текстами, а значит – какими мотивами, мы руководствуемся (не удержусь от каламбура: мотивируемся) в представлении о самой этой реальности. Реальность каждого – это реальность его «жизненного мира», предстает ли он результатом уже имеющегося «текста» или причиной к созданию нового «текста» (а если мыслить его буквально – то и новых текстов). Понятие «жизненного мира», возводимое в своем инструментальном значении к Эдмунду Гуссерлю (Lebenswelt) и подробно разработанное в работах Альфреда Шютца и Томаса Лукмана[60], уместно здесь тем более, что оно позволяет соотнести феноменологическое описание повседневности с неспециализированным представлением о том, что восприятие действительности опосредовано содержательными характеристиками «своего» и «чужого», рефлексивной и эмоциональной локализацией себя в границах некоторого воображаемого пространства (собственно, и само местоимение «я» в индоевропейских языках, как утверждал уже Карл Бругман, этимологически связано с указанием на местоположение «здесь»)[61].
Взаимосвязь мотивов, позволяющих определиться с ориентацией в пространстве «жизненного мира», субъективна по определению. Прежде всего она многослойна и разновалентна, определяясь разными «источниками» – событиями, эмоциями, текстами, «картинками» и т. д. Опыт их восприятия так или иначе заставляет считаться с мозаичностью, фрактальностью любой соразмерности. Важное уже для Гуссерля понятие «пробела» (Leerstelle) стало отправной точкой в рассуждениях Шютца о том, что «опредмечивание» реальности всегда подразумевает наличие феноменологических «пустот» (vacancies), требующих своего восполнения/дополнения/означивания в смысловой структуре социального мира. Именно они, по рассуждению Шютца (оставившего наброски к «теории» таких пустот), и определяют собою характер повседневного знания о мире, персонально конструируемого – в опыте актуального переживания и переосмысления – в череде эпистемологических релевантностей, устанавливаемых между сознанием и реальностью[62].
Отвлекаясь от собственно философской проблематики работ в области антропологической феноменологии, стоит заметить, что графическим знаком для обозначения «пробелов» Гуссерля и «пустот» Шютца могли бы послужить тире и многоточия. Именно они адекватно соответствуют тому, что Роман Ингарден, еще один последователь Гуссерля, называл «местами неопределенности» (Unbestimmtheitsstelle), сопутствующими представлению о любой социокультурной предметности – является ли она при этом материальной или только воображаемой[63]. Понятие «мотива» в том же контексте уместно как указание на приемы и способы ориентации в пространстве такой предметности. Ими формируется и поддерживается взаимосвязь – тематизируемых или нет – фрагментов восприятия, определяющих в конечном счете нашу интенциональную действительность. Природа такой действительности коммуникативна, будь это коммуникация с другими или внутриличностная коммуникация, аутокоммуникация, изначально определяющая собою мотивационные основания «жизненного мира»[64]. Кроме того – она трансформативна: давно замечено, что воспоминания о детстве одних и тех же людей разнятся в зависимости от ситуации и времени, реальной или подразумеваемой аудитории, психологического состояния самого мемуариста и т. д. Воспоминания об «одном и том же» на поверку оказываются воспоминаниями «о разном». И дело здесь, конечно, не только в меняющихся обстоятельствах социального (и субъективно «терапевтического») спроса/предложения,[65] но именно в том, что память предлагает считаться с вариативным набором всех тех мелочей, которые определяют саму возможность текста/рассказа о чем бы то ни было.
Рискованно спорить с тем, что под таким углом зрения список мотивов будет едва ли не безграничным. Фактически это словарь, открытый к дополнению. Дидактической версией такого словаря можно было бы счесть античную практику «хрий» (от греч. χpεία – польза, упражнение) – составление различного рода тематических высказываний, навык остроумных и нравоучительных изречений (γνώμη, αποφθέγμα), напоминаний и примеров (aπομνημóνευμα), преследующих как идеологически наставительные, так и формально обучающие (прежде всего – грамматические и риторические) цели[66]. Выразительные рассказы о знаменательных персонажах и событиях, поступках и памятных афоризмах обретали свою дидактическую целесообразность в повторении и надлежащей интерпретации. Их наставительность могла граничить с анекдотом (будь то, например, напоминания о Диогене Синопском, который днем с фонарем искал честного человека, или о философе Кратете, пришившем к своему плащу заплату из овечьей шкуры, демонстрируя таким образом свое безразличие), а формальные особенности соответствующего рассказывания – с коммуникативным абсурдом (когда ученик должен был повторять одно и то же высказывание, но при этом менять его грамматическую форму – падеж, число, наклонение, время; сегодня это выглядело бы так: мама мыла раму, мамы моют рамы, о мамах, вымывших раму, и т. д.). Но польза таковых высказываний, если следовать их греческому названию, состояла в них самих: повторение, которое, по старому латинскому правилу, служит матерью научения (repetitio mater studiorum est), прививает мысль о роли постоянства и вариативности тех способов, какими может быть «схвачена» и выражена реальность. Риторическая формализация хрий, авторитетно обоснованная уже Квинтилианом[67], а затем дополненная сонмом его почитателей, может быть понята, с этой точки зрения, как попытка определиться, с одной стороны, с практиками соотнесения высказывания и действия, а с другой – с дидактической апроприацией «знания» и «мнения» о чем бы то ни было.
История мотивов/мотиваций вписывается в ту же традицию – это также упоминания о чем-то, что вызвало чей-то интерес, что может быть как-то названо или обозначено и о чем может быть рассказано. Если не ставить перед собою задачу структурного анализа некоторого предсказуемого целого, то значение мотивов оказывается важным прежде всего в их связи с сопутствующими им обстоятельствами «внешнего» свойства – культурой, историей, традицией, идеологией и другими факторами, определяющими их актуальное присутствие в таком виртуальном словаре как для нас самих, так и «для кого-то». Хорошим примером на этот счет может служить давняя критика Леви-Стросса функциональной модели Владимира Проппа. Пропп, как известно, описал структуру волшебных сказок в виде синтагматической линейной последовательности 31‐й повествовательной функции. Такие функции, по Проппу, первичны к сказочным мотивам, которые при всем своем возможном многообразии подчинены общей схеме сказочного нарратива. Но, задается вопросом Леви-Стросс, что нам, как читателям сказок, дает такая схематизация? «С этого момента проблема объяснения лишь ставится. До формализма мы, несомненно, не знали, что общего имеют сказки. После него мы полностью лишились возможности понять, чем они различаются»[68]. Между тем, как показывает Леви-Стросс, даже элементарное внимание к семантике сказочных персонажей открывает возможность для выстраивания функционально непредусмотренных оппозиций. Так, например: «в сказке ‘король’ – это не только король, а ‘пастушка’ – пастушка; эти слова и их обозначаемые становятся осязаемыми способами для построения понятийной системы, образованной оппозициями мужской/женский (по отношению к природе) и высокий/низкий (по отношению к культуре) и всеми возможными сочетаниями этих шести термов»[69]. Но более того: сами термы функциональной схемы у Проппа теряют свою определенность, если заметить, что «многие из различаемых» Проппом функций «представляются сводимыми или уподобляемыми одной и той же функции, появляющейся в разные моменты повествования и подвергнутой при этом одной или нескольким трансформациям». Так, «ложный герой может быть трансформацией вредителя, трудная задача – трансформация испытанием и т. д.»[70]. Иными словами: восприятие, а значит и «смысл» сказки, диктуется мотивирующими его внешними контекстами, как собственно этнографическими («обеспеченными ритуалом, религиозными верованиями, суевериями и позитивным знанием»)[71], так и исследовательскими, зависимыми от своих теоретических (и, как выясняется, даже терминологических) предпосылок[72].
Мотивный анализ сказочного материала обязывает, таким образом, учитывать прежде всего семантическое многообразие самих мотивов и их возможные комбинации, как внутри одного текста, так и между разными текстами предположительно связываемой с ними традиции. Однако и в том и в другом случае приходится считаться с тем, что такая комбинаторика имеет под собою не только формальные, но и антропологические основания. Пропп, раздраженно и неубедительно отвечавший Леви-Строссу, подчеркивал, что в своем анализе он опирался прежде всего на поступки персонажей: «под функцией понимается поступок действующего лица, определяемый с точки зрения его значения для хода действия»[73]. Функция в этом определении – условный термин, используемый безотносительно к семантике сказочных мотивов (например, безразличный к тому, как и на чем/ком герой преодолел расстояние, чтобы добраться к месту, где находится предмет поисков). Размышление Леви-Стросса о том, что, если не ограничивать восприятие сказки (и мифа) только исследовательской абстракцией завершенного сюжетного действия, легко заметить, что понимание сказочных функций предельно осложняется семантическими характеристиками самих сказочных персонажей (так, например, «в одной и той же функции орел появляется днем, а сова ночью <…>, а это означает, что постоянной здесь является оппозиция дня и ночи <…>, противопоставленные друг другу по линии день ночь, вместе [они] противопоставлены ворону как грабителю, сборщику падали; утка же противопоставлена всем троим в рамках новой оппозиции между парой небо/земля и парой небо/вода»)[74], осталось у Проппа не прокомментированным. Синтагматическую достаточность выделенных им функций для понимания сказочного сюжета Пропп аргументирует так:
Для народной эстетики сюжет как таковой составляет содержание произведения. Содержание сказки о Жар-птице для народа состоит в рассказе том, как огненная птица прилетела в сад короля и стала воровать золотые яблоки, как царевич отправился ее искать и вернулся не только с Жар-птицей, но и с конем и красивой невестой. В том, что случилось, и состоит весь интерес[75].
Аподиктические ссылки Проппа на «народную эстетику» и «народ» в этом заявлении, на мой взгляд, только подчеркивают правоту Леви-Стросса: «сказка не вполне поддается структурному анализу»[76]. В изложении Проппа такой анализ выглядит и вовсе абстрактным, поскольку игнорирует всю семантическую значимость таких мотивов, как Жар-птица, золотые яблоки, королевский сад и т. д. Схема имманентных функций дает при этом очевидный сбой и в том отношении, что обязывает к внешней рецепции. По Проппу, эта рецепция ограничена сюжетом, но практика этнографических исследований показывает, что это не так. Сказка интересна не только тем, чем она заканчивается, но и тем, о ком в ней говорится, как и когда она рассказывается, кто ее рассказывает и кому ее рассказывают[77]. Сказочные мотивы в этом случае подразумевают свою контекстуализацию вне и помимо «собственно» сказочного текста.
Мотив(ация) как метод
Схожим образом, как я думаю, обстоит дело и в тех случаях, когда «мотивы» понимаются в неспециализированных контекстах, конструирующих представление о границах и природе «жизненного мира». Если «жизненный мир», согласно Шютцу, является результатом сложных причинно-следственных мотиваций («мотивации-потому-что» и «мотивации-для-того-чтобы»), определяющих собою поведение субъекта в ситуации социального взаимодействия, то что мешает думать, что в ряду таких мотиваций есть место и для мотивов в их, условно говоря, филологическом значении – информационных и эмоциональных мотивов культуры и социального опыта. Историческими прецедентами таких мотивов могут служить – в контексте религиозной и/или фольклорной традиции – восходящие к средневековью понятия «легенда» (лат. gerundivum от legere, то есть буквально то, что нужно читать) и «exemplum» – «пример», короткий (как правило анонимный) рассказ о каком-либо достославном и нравоучительном событии[78]. Дидактика легенд и «exempla» рассчитана на аудиторию, призванную вынести из этого чтения эмоциональные и морально-нравственные выводы и тем самым придать самим текстам социально-проективную ценность. И они, и содержащиеся в них мотивы определяют, говоря словами Шютца, «мотивацию-для-того-чтобы».
Молитвы и заговоры демонстрируют ту же прагматику мотивов еще более непосредственно – при этом совсем необязательно, чтобы такие мотивы были общепонятны в своем лексическом значении (что особенно наглядно в случае абракадабр)[79]. И в том и в другом случае важнее контекст и связываемое с ним функциональное целесообразие. Лексико-грамматический разброс мотивов – от слов, словосочетаний и связных предложений до сигнификативных «пустот» (будь это «пропущенные главы» в «Евгении Онегине» или семантически неопределенные лексемы – так называемые «имена с нулевым денотатом», «пустые классы языковых названий»)[80] – релевантен разбросу образных и дискурсивных примет «жизненного мира».
Мотивный анализ такого мира аналогичен мотивному анализу текста, как его понимает, например, Борис Гаспаров:
Сущность мотивного анализа состоит в том, что он не стремится к устойчивой фиксации элементов и их соотношений, но представляет их в качестве непрерывно растекающейся «мотивной работы»: движущейся инфраструктуры мотивов, каждое новое соположение которых изменяет облик всего целого и в свою очередь отражается на вычленении и осмыслении мотивных ингредиентов в составе этого целого.
Мотивный анализ способен вместить любой объем и любое разнообразие информации, поступающей в оборот мысли в процессе смысловой работы с данным сообщением, и в то же время остаться на почве этого сообщения как некоего языкового артефакта, который смыслообразующая мысль в каждый момент своего движения стремится охватить и ощутить как целое[81].
Психолингвистические наблюдения также подтверждают потенциальную связь семантически разрозненных лексем в границах подразумеваемого ими целостного высказывания. Даже на уровне так называемых «текстов-примитивов» (то есть «текстовых структур небольших размеров с полным (или почти полным) отсутствием привычных для нормы специальных средств связности» – например, отдельных слов в речи детей и иностранцев, плохо знающих чужой язык, в речи больных афазией, в разговорных репликах в диалоге или даже просто в кратких письменных «памятках» для себя о планируемых покупках и встречах) их восприятие оказывается цельным, поскольку оно диктуется аффективными и ассоциативными обстоятельствами. В объяснении Леонида Сахарного смысл высказывания в этих случаях напрямую зависит от психологических возможностей семантической структуризации текста:
Развертывание тема-рематической структуры при построении текста есть актуализация компонентов цельности, т. е. перевод их из подсознательного, диффузного, континуального в нечто более «сознательное», четкое, дискретное и связывание каждой из этих актуализированных субцельностей с каким-то текстом (фрагментом текста), простым или сложным. При этом каждый такой компонент, в свою очередь, – это не элементарный мир, а сложное синкретическое образование, которое в принципе также может быть дополнительно расчленено, структурировано (и следовательно – представлено при дальнейшем развертывании текста) и т. д., теоретически – без конца[82].
Важно и то, что коммуникативная взаимосвязь различных компонентов текста является также результатом его коммуникативной модальности – опознается ли стоящее за ним высказывание как констатация или вопрос, приказание или извинение и т. д.[83] Говоря иначе: понятый в качестве речевого акта, любой текст представляет собою действие, значение которого осциллирует на границе исходной для него интенции и внешней рецепции. Тем же действием наделены и его компоненты. Если полагать, что какими-то из них являются мотивы, то их роль в тексте состоит также и в том, что они выступают в роли по меньшей мере «косвенных перформативов»[84]. Они указывают, называют, обозначают нечто, но уже тем самым удостоверяют свое присутствие в тексте как иллокутивно обусловленное его автором и/или реципиентом[85].
Я думаю, что связь дистантных мотивов в речи и тексте соотносима с возможной связью мотивов «жизненного мира». Одна из напрашивающихся здесь аналогий – давнее наставление Михаила Ломоносова о «совоображении» и уместности «приисканных идей»:
Сочинитель слова тем обильнейшими изобретениями оное обогатить может, чем быстрейшую имеет силу совоображения, которая есть душевное дарование с одною вещию, в уме представленною, купно воображать другие, как-нибудь с нею сопряженные. <…> Должно смотреть, чтобы приисканные идеи приличны были к самой теме, однако не надлежит всегда тех отбрасывать, которые кажутся от темы далековаты, ибо оне иногда, будучи сопряжены по правилам следующия главы, могут составить изрядные и к теме приличные сложенные идеи[86].
«Сопряжение далековатых идей», как резюмирует ломоносовское рассуждение Юрий Тынянов[87], обнадеживает эвристической контекстуализацией. Особенностью высказывания, риторически объединяющего в себе, казалось бы, независимые друг от друга мотивы, является его содержательная непредсказуемость. Такое высказывание наделено заведомо «отложенным», незавершенным смыслом, открытым к его «будущему» истолкованию. Такова, в частности, поэтическая традиция японских хокку, в которых синтагматические компоненты текста подаются как разрозненные мотивы высказывания, связывающего их только в силу жанра и формальной метрической схемы (три строки: первая – из пяти, вторая – из семи и третья – из пяти слогов). Единственные связи, которые в этом случае предполагаются, ассоциативны, но соподчинительно необязательны. Ролан Барт расценивал хокку как пример текста, противостоящего привычным для европейского читателя «дешифрующим, формализующим или тавтологичным путям интерпретации»[88]. Хокку, по его мнению, оставляют читателя в состоянии «смысловой подвешенности, которая кажется нам наиболее странной, ибо она делает невозможным самое обычное упражнение нашей речи, а именно комментарий»[89]. Занятно, впрочем, что сам Барт от такого комментария не удерживается, оправданно связывая традицию хокку с практикой дзэн – достижением Сатори – «пробуждением перед фактом, схватыванием вещи как события, а не как субстанции»[90].
В объяснении специалистов по японской поэзии собственно формальными приемами хокку служат правила, рассчитанные на создание так называемого «избыточного чувства» (ёдзё), то есть чувства, «оставшегося за пределами стихотворения», – введение в стихотворение тропов, лишь очень опосредованно связанных с «основным» содержанием стихотворения, но уже тем самым расширяющих его семантическое и эмоциональное поле. Фактически это отдельные мотивы, которые, предваряя собою все стихотворение (макура-котоба – «слово-изголовье»), «способствуют созданию эффекта столкновения разноплановых слов и соответствующих реалий»[91].
При всем разнообразии гуманитарных методов и концепций, само представление о мотивах подразумевает, что для понимания уже сказанного требуются дополнительные усилия по выделению и учету таких особенностей текста, которые в той или иной степени наделяются предписывающим значением, – то есть позволяют сказать об этом тексте что-то еще. Порядок таких предписаний, как показывает история филологии, не бывает абсолютным, но он так или иначе подразумевает иерархию признаков, призванных подсказать, что считать в тексте важным, а что второстепенным или случайным. Исследовательский интерес в этих случаях сродни любопытству и, в определенном смысле, конспирологии – интересу к тому, что в старинных риториках именовалось «изумлением, порождаемым незнанием причин»[92]. Если мотивы заведомо предвосхищают их припоминание, то и само припоминание (или, точнее, сама способность к такому припоминанию) заставляет интерпретатора опираться на какие-то мотивы, позволяющие этому припоминанию состояться; то есть мотивы являются как формальными (структурными), так и содержательными элементами потенциальной само/интерпретации[93]. В социолингвистической терминологии аналогией такому пониманию мотива может служить понятие contextualization cues – намеки/сигналы контекстуализации, создающие предпосылки той или иной коммуникативной ситуации[94]. Даже если это аутокоммуникация – она может быть понята как столкновение или по меньшей мере взаимосвязь разных мотивов в ситуации некоторого обозначающего их экзистенциального опыта.
Значение мотивов, относящихся к разным текстам и разным жизненным ситуациям, видится мне при этом близким к тому, что напоминает о давнем словосочетании «мозаичная культура». Ставшее широко используемым и едва ли не публицистическим благодаря Абрааму Молю, оно, благодаря ему же, приобрело негативные коннотации. По мнению Моля, «мозаичность» современной культуры – результат информационного переизбытка и медийно-технологического разнообразия, несопоставимого с теми условиями, в которых существовала и воспринималась культура прошлого, якобы отличающаяся более логичной и иерархичной структурой познания[95]. В своих суждениях о бедах «мозаичной культуры» Моль тиражировал противопоставление организованного и неорганизованного мышления, но не уделял внимания тому обстоятельству, что культура и мышление – это не одно и то же. Но и то, что их связывает, не сводится к познанию и тем более к образованию: и мышление, и культура – это конгломерат не только некоторых знаний, но и эмоций, которые с этим знанием могут быть связаны очень опосредованно. «Организованное» по/знание представимо только в границах соотносимой с ним инстанции социального контроля – «надлежащим» воспитанием, образованием и, в конечной счете, властью, в чем бы она себя ни проявляла. Но вся история культуры – если понимать под нею не историю подчинения, а историю относительной свободы – свидетельствует, что «мозаичность» является как раз таки ее сущностным качеством: человек и общество свободны в выборе связей, придающих разрозненным фрагментам интеллектуального и эмоционального опыта некоторую прагматическую целесообразность. Другое дело, что ретроспективное установление таких связей обязывает к определенной работе по прояснению их характера – близости идей, психологических ассоциаций, временных и/или пространственных отношений.
Моль справедливо настаивал, что сама динамика «мозаичной культуры» (а я скажу: любой культуры) подразумевает комбинаторику создающих ее компонентов, а именно – некоторых элементов информации, «опорных слов мышления», использование и назначение которых определяется коммуникацией. Такие «атомы культуры» (или, иначе, как их называет Моль, «культуремы») понимаются им как сообщения и, соответственно, обязывают считаться с правилами их опознания и понимания, но он нигде не говорит, чем диктуются эти правила (кроме общих для них законов «орфографии», «грамматики», «синтаксиса» и т. д.)[96]. Не говорит он и о том, как опознаются эти самые элементарные факты культуры (хотя и упоминает попутно Проппа и Леви-Стросса). Я думаю, что понятие «мотива» в этом контексте уместно как сравнительно конкретная историко-культурная аналогия, подразумевающая внимание к динамическим, то есть мотивационным (например, эмоционально-языковым), аспектам коммуникативных трансформаций, наблюдаемых в культуре и обществе.
Еще одной – и тоже социологической – теорией, которая, как мне представляется, была бы полезной при обсуждении мотива как мотивации, является концепция «силы слабых связей». Марк Грановеттер, давший научную жизнь этому словосочетанию, был далек от размышлений о литературе и культуре. В центре его внимания были люди и социально-теоретическая (социально-метрическая) проблематика соотношения макроуровня (социальная мобильность, организация сообществ и политических структур) и микроуровня (межличностные взаимодействия внутри малых групп), позволяющая задаться вопросом, в чем выражается воздействие на индивидов тех звеньев социальных сетей, что не находятся в сфере их индивидуального и коллективного контроля. Гипотезой, которую сам Грановеттер считал «разведывательной» (exploratory), стало парадоксальное предположение, что слабые связи в большей степени, чем сильные, способствуют индивидуальным возможностям – социальной мобильности, распространению и получению информации, интеграции в другие сообщества и созданию социальной сплоченности[97].
Полвека спустя – попутно активному обсуждению концепции Грановеттера социологами – возможностей ее расширительного истолкования коснулись теоретики культуры. Установление «слабых связей» в истории культуры с опорой на мотивный (или мотивационный) анализ по меньшей мере усложняет представления о самой этой истории, вписываясь в уже широкий ряд исследовательских методик, которые ставят своей целью изучение истории идей, эмоций, телесных практик, традиций и способов коммуникации и т. д.[98] Акторы культурного пространства в этих случаях приравниваются к акторам социальных сетей – жанровые, стилистические, поведенческие, вкусовые и иные атрибуты («культурные объекты и их связи») рассматриваются как элементы коммуникативного взаимодействия, порождающего те или иные психологические и дискурсивные эффекты[99]. Я думаю, что интервенция в область социальной теории может быть продуктивной и здесь – хотя бы в том отношении, что она позволяет задуматься о характере мотивов и мотиваций, предопределяющих опыт само/наблюдения и воображения. Что и почему делает что-то настолько важным, чтобы о нем вспоминать – хотя бы иногда?
Пока же повторюсь в своем главном методологическом тезисе: мотивы – это не только самоочевидные «факты» текста или аудиовизуальных медиа, но и термины проективной антропологизации социального и культурного опыта.
Фауна морали. Русские классики и русские зайцы
У меня была только синяя краска; но, несмотря на это, я затеял нарисовать охоту. Очень живо изобразив синего мальчика верхом на синей лошади и синих собак, я не знал наверное, можно ли нарисовать синего зайца, и побежал к папа в кабинет посоветоваться об этом. Папа читал что-то и на вопрос мой: «Бывают ли синие зайцы?», не поднимая головы, отвечал: «Бывают, мой друг, бывают».
Л. Н. Толстой. «Детство», 1852
Заяц ослушивается, вздыбливая глядит и слушает кругом.
В. И. Даль. «Словарь живого великорусского языка», 1865
Текст этой главы представляет расширенную версию доклада, прочитанного в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук (Санкт-Петербург) на междисциплинарной научной конференции «Философия зайца: неожиданные перспективы гуманитарных исследований» (19–21 июня 2014). Невольным инициатором этой конференции стал тогдашний министр культуры В. Р. Мединский, за год до того запальчиво заявивший в эфире радиостанции «Business FM», что ему известен целый институт, входящий в систему Российской академии наук, сотрудники которого в течение нескольких лет на бюджетные деньги занимались изучением «философии зайца»: «Я вам называю тему конкретной научной работы, я не могу понять, что в ней кроется, называется она „Философия зайца“, и в течение пяти лет люди под это дело получали финансирование!» (Чесноков И. Заяц против министра // Эксперт. 2014. 26 июня (expert.ru/russian_reporter/2014/24/zayats-protiv-ministra). Что скрывалось под «конкретной научной работой», министр не уточнил, но сами эти слова, как и многие другие его заявления, прозвучали в атмосфере дискуссий вокруг уже определившейся позиции Министерства культуры о будущем подведомственных ему институтов – в частности, петербургского Института истории искусств (Зубовского института), переживавшего в это время административную и кадровую лихорадку, вызванную командными решениями министерских чиновников по «оптимизации сети учреждений культуры». «Оптимизация» петербургского института завершилась в конечном счете массовыми увольнениями его сотрудников и местным торжеством бюрократического контроля над учеными, а объявленный в конце июня того же года курс на реформу Российской академии наук придал произошедшему в Зубовском институте характер наглядного примера, чем на практике оборачивается властная «оптимизация» российской науки. Загадочные и, по видимости, ернические слова Мединского о «философии зайца» запомнились при этом столь же показательно – как симптом заведомой и легко предсказуемой критики ученых-гуманитариев, растрачивающих бюджетные средства на занятия бесполезной чепухой. Любопытствующее желание последних прояснить утверждение министра о «философии зайца» не заставило себя ждать, и быстро обнаружилось, что поводом к нему могло послужить обширное стихотворение научного сотрудника Института культурологии В. Л. Рабиновича «Трансмутация зайца», предпосланное дополненному переизданию его монографии «Алхимия как феномен средневековой культуры» (Рабинович В. Л. Алхимия как феномен средневековой культуры [1979]. 2‐е изд. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2012).
В этом стихотворении автор (умерший осенью 2013 года) выразительно сравнивал самого себя с «заполошным зайцем», дрожащим на цыпочках перед Левиафаном. Оценил ли эту образность Мединский, остается гадать, но анекдотически вероятная ситуация не меняет ее удручающего контекста – убеждения высокопоставленного чиновника в том, что наука без руководства власти только мешает «оптимизации» этой самой науки. Организация и проведение конференции, состоявшейся в Институте русской литературы, стали в этом случае своеобразным флешмобом – протестной акцией исследователей, изучающих историю культуры и полагающих, что тематика и методология такого изучения подлежат экспертной и перспективной оценке не со стороны чиновников, а изнутри научного сообщества. Можно заведомо иронизировать над «несерьезностью» «заячьей темы» в истории культуры – но, в отвлечении от министерски связываемой с зайцами «философии», как не считаться с тем простым фактом, что «присутствие» зайцев в литературе, живописи, фольклоре, звуковых и визуальных медиа исключительно обширно, разнообразно и значимо? В анонсе к конференции Андрей Костин напоминал, что заяц – «один из наиболее прочно вошедших в культурный обиход современного человека бестиарных образов. Мы слушаем в детстве сказки о ледяной и лубяной избушках и о теремке; танцуем с бутафорскими ушами на утреннике в детском саду; с увлечением читаем в школе стихи о сердобольном деде Мазае и прыгаем с Алисой в нору за Белым Кроликом навстречу Мартовскому Зайцу; мы узнаем потом, что соломинкой в пучине русского бунта может оказаться заячий тулупчик, а фотографии самых красивых девушек можно найти под обложкой с ушастым профилем; в веселой компании одной из тех немногих песен, слова которой будут помнить все, окажется партизанский гимн косящих траву зайцев… Ряд этот можно продолжать бесконечно: значимые зайцы найдутся в любой сфере человеческой культуры во все времена. Образы эти имеют право быть исследованы, поскольку в гуманитарной науке нет такой мелочи, изучение которой не привело бы в конечном счете к открытию закономерностей и внятному уяснению нашей истории и нас самих» («Философия зайца»: Неожиданные перспективы гуманитарных исследований: Программа междисциплинарной научной конференции. Санкт-Петербург, 19–21 июня 2014 года // www.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=FxymI9xIprU%3D&). Заключительные слова в этой цитате заслуживают того, чтобы подчеркнуть их. В качестве мыслительного эксперимента достаточно поставить на место «зайца» любую другую гуманитарную тему, чтобы представить ее заведомое неприятие теми, кто рассуждает о приоритетах практики над теорией, о государственной пользе и общественном благе. Вопрос, который ставился в этом случае как «вопрос о зайцах», для организаторов конференции был принципиально важен как гораздо более общий вопрос о том, чем определяется социальная роль гуманитарного знания в современном обществе и в чем состоит ответственность тех, кто обеспечивает социальное взаимодействие между институтами культуры, науки и власти. История вокруг конференции, само название которой быстро стало своеобразным «мемом» сетевого сообщества, получила широкий отклик в средствах массовой информации. Реакция Мединского на состоявшуюся конференцию в письме-«приветствии», адресованном ее организаторам, только подтвердила правомерность ее проведения: ученым-гуманитариям министр противопоставил «рядовых налогоплательщиков» (позабыв при этом, что ученые являются такими же рядовыми налогоплательщиками): «Убежден, что затрагиваемые на симпозиуме вопросы особенно важны и актуальны для миллионов рядовых налогоплательщиков, которые в конечном счете и оплатили рабочее время участников конференции, обладающих высокими научными степенями и званиями, лучших научных сотрудников и преподавателей государственных бюджетных учреждений и институтов». (Фотокопию письма с подписью Мединского см. в материале: Мединский ответил на «Философию зайца» // Lenta.ru. 2014. 20 июня (lenta.ru/news/2014/06/20/zzaetz).) Увы, искрометная ирония приснопамятного министра в очередной раз обнаружила конфликтное противостояние общества и власти – на этот раз особенно показательное потому, что оно развернулось вокруг темы, казалось бы декларативно далекой от приоритетов «социальной пользы», но символически указывающей на экспертное право ученых и общества интересоваться тем, что представляется важным в силу иных, непонятных чиновникам обстоятельств. Одним из попутных следствий того же противостояния стало создание сетевого сообщества под названием «Философия зайца». За время его существования участники и гости этого сайта опубликовали тысячи постов с изобразительными и текстовыми материалами, которые, с одной стороны, очевидно иллюстрируют немаловажную «роль зайца» в мировой культуре, а с другой – свидетельствуют о значимости «мемически» маркированной социальной коммуникации. Вослед конференции «заяц» стал очередным мемом, прямо или опосредованно выразившим стремление к просвещенному знанию и общению, которое самоценно как таковое и по меньшей мере безразлично к тем, кто претендует выступать глашатаями науки в терминах прикладного или государственного утилитаризма.
* * *
Зайцы врываются в русскую литературу с поэзией Г. Р. Державина. На фоне предшествующей традиции торжественного красноречия и возвышенных од упоминания о зайцах у Державина вписываются в стилистические контексты иной изобразительности – это не парадный, но суверенный мир личной жизни, персонального опыта и повседневного быта. Такие упоминания важны в этих случаях своей новизной – именно тем, что поэтическое вдохновение поэта нисходит до малозначимых ранее мелочей, но уже тем самым наделяет их поэтической значимостью. Точность наблюдения и остроумие стихотворных зарисовок достаточны при этом как признаки поэтики, призванной к тому, чтобы не только восславить великое, но и не забыть о малом – уметь увидеть то, что незаметно для самодовольного ума и равнодушного взора. Давно и справедливо замечено, что лирическое умозрение Державина, сколь бы барочно-аллегорическим оно ни было, – это декларативный навык зрения, возрождение горацианской «поэзии картин» (Ut pictura poesis), репрезентация визуального[100]. Поэт видит, как гонимый охотниками «В опушке заяц быстроногий, / Как колпик поседев, лежит» («Осень во время осады Очакова», 1788), как счастливый сельский житель зимою по снегу «зайца гонит, травит псами» («Похвала сельской жизни», 1798), и описывает свой собственный охотничий досуг:
- Иль в лодке вдоль реки, по брегу пеш, верхом,
- Качусь на дрожках я соседей с вереницей;
- То рыбу удами, то дичь громим свинцом,
- То зайцев ловим псов станицей.
Житейские впечатления разнообразятся мелочами, но внимание к деталям обнаруживает не только поэтическую, но и вероучительную мораль: ведь все существующее под солнцем есть результат Божьего творения и, соответственно, природной взаимосвязи и целостности. «Лестница существ», как ее описывал, например, европейски прославленный современник Державина Шарль Бонне в трактате «Созерцание природы» (вослед многочисленным изданиям на европейских языках его русскоязычные переводы появятся в 1792–1796 и 1804 гг.)[101], представлялась поступательной последовательностью, в которой за камнями и кораллами следовали растения, животные, ангелы и архангелы. В этом ряду зайцы были на своем месте и, как подсказывали западноевропейские и русскоязычные переводы псалма Давида о сотворении мира, Господь неслучайно отвел им, как и прочим робким и беззащитным созданиям, свое пристанище: «высокие горы – сернам; каменные утесы – убежище зайцам» (Пс. 103: 18)[102]. Занятно, что в еврейском тексте Библии речь при этом шла не о зайце, а о дамане (евр. «шафан») – небольшом травоядном млекопитающем, внешне схожем с бесхвостыми сурками или морскими свинками. Греческие и латинские переводчики древнееврейского текста о даманах знали понаслышке и поэтому в греческом и латинском текстах соответствующего псалма неведомое животное нашло для себя не менее диковинных родственников в дикобразе (chyrogryllius), еже (ericus) и зайце (lepus и молодой заяц: lepusculus)[103]. Церковнославянский перевод выбрал из них зайца, вполне соответствующего как «страноведческому», так и дидактическому контексту библейского пассажа, обретавшего символическое, но зато и общепонятное прочтение. В истолковании этого псалма в проповеди на Фомину неделю Стефан Яворский объяснял его смысл следующим образом:
Нападут ловцы на бедного зверя, выпустят псов гонящих, которые уже отверстым гортанием бедное животное гонят и хотят поглотити. Прибегает бедный заец с страхом и трепетом под камень какой великой, либо в разселину каменную впадет. О щастливый, который таким образом от страха избавляется! Камень прибежище заяцем <…> Камень же бе Христос, который ныне язвы свои дражайшыя аки разселины каменные показует, да быхом в них имели прибежище и сокровение[104].
Об этом же псалме вспоминал протопоп Аввакум, обличая пагубу Никоновских реформ:
камень [… —] церковь божия; зайцы – християне православныя. Яко зайчик под камень хоронится от совы и от серагуя и от псов, наветующих ему, тако и христианин, в церковь приходя, избывает душегубителя диавола и бесов. А ныне и во церквах тех, яко под камень заец бедной не уйдет, яко совы, пастыри тово и ищут, как бы христианина погубити. И не токмо совы, но и псы тово и нюхают, сиречь своя братия, мирстии, друг друга предают. Люто время пришло[105].
Державин поэтически переложил 103‐й псалом в оде «Величество Божие» (1789), попутно русифицировав и среду заячьего обитания, «переселив» их с ливанских возвышенностей в среднерусскую полосу:
- По высотам крутых холмов
- Ты прядать научил еленей,
- А зайцам средь кустов и теней
- Ты дал защиту и покров[106].
Интересно, что полувеком ранее М. В. Ломоносов, переложивший тот же псалом в середине 1740‐х годов, о зайцах не упоминал, оставаясь верным избранному им «высокому» стилю поэтического обращения к Господу. Но он же упомянул зайцев в «Кратком руководстве к красноречию» (1743) – в пересказе смешной и потому стилистически сниженной «картины» Филострата Старшего (1, 6):
Чтобы сей заяц у нас не убежал, станем его ловить с купидинами. Смотри, он сидит еще под яблонью и ест упавшие яблоки, а иные не доевши оставляет. Смотри, как его купидины ловят: иные бьют в ладоши: иной кричит, иной полой машет; некоторые, с криком налетая, на него нападают; другие гонятся за ним следом; иной с великим стремлением на него бросается. Заяц в другую сторону повернулся, и один ухватил его за лапу, однако заяц из рук вырвался. И так все засмеявшись упали, иной ниц, иной набок, иной навзничь и разными своими положениями разные свои прошибки показывали[107].
Пьеро ди Козимо. Венера, Марс и купидон (деталь). 1490. Берлинская картинная галерея. Фото: Sailko, Wikimedia Commons, CC BY 3.0
Заецъ. Миниатюра из лицевого списка «Слова о рассечении человеческого естества» (XVIII в.). Ин-т русской литературы (Санкт-Петербург), кол. И. Н. Заволоко, № 257, л. 28
Для европейской литературы пересказываемый Ломоносовым пассаж отсылал к длительной традиции аллегорически развлекательных, но и моралистических назиданий, в которых зайцам довелось выступать, с одной стороны, в роли трусливо-робких и похотливо-плодовитых созданий (в искусстве Возрождения и барокко ассоциируемых с Афродитой-Венерой и эротами-купидонами), а с другой – служить примерами религиозного смирения и надежды на помощь Господа[108]. Отмеченная уже в раннехристианских «Физиологах» способность зайца из‐за коротких передних лап быстрее бежать в гору, чем с горы, и тем самым спасаться от своих преследователей, дала жизнь наставительному призыву следовать тем же способностям на пути веры и добродетели – устремляться помыслами вверх к Господу, а не вниз – к греховным соблазнам и злу[109].
Упование на Господа, как подсказывали те же аллегории, дает свои плоды – таков контекст распространенных в европейской церковной и светской живописи изображений зайцев, лакомящихся райским виноградом. В России традиция подобных аллегорий представлена скупее[110]. Один из ее литературных примеров – вирши Симеона Полоцкого из «Вертограда многоцветного» (1676–1680) о гонимом псами зайце, которого спасает «муж некто преподобный», здесь же излагающий мораль этого спасения своим спутникам:
- <…> Господь защищает
- И тако от демонов лютых избавляет.
- Яко же сей есть заяц нами избавленны
- Да будем и мы от тех Господем спасенны[111].
Ко времени Державина поучительные истории о зайцах разнообразились также басней о «рогатом зайце» – образе, встречающемся в европейской иконографии животных-химер, но занятно обыгранном в басне Лафонтена (на сюжет Габриэля Фаерна) «Заячьи рога», вольно переведенной А. П. Сумароковым в 1760‐е годы («Заяц»), а позже Н. А. Львовым («Львиный указ», 1775; ранее считалось, что басня переведена И. И. Хемницером). По сюжету этой басни лев принимает указ, изгоняющий из царства животных рогатый скот, а заяц, принявший тень от своих ушей за рога, в страхе удирает вместе с козлами, баранами, волами и оленями, полагая, что теперь его тоже сочтут рогатым. В. В. Капнист вспоминает об этой басне в комедии «Ябеда» (1793) в самохарактеристике Кривосудова – оправдывающего свое бездействие перед несправедливостью разумной осмотрительностью.
Ж.-Б. Удри. Иллюстрация в басне Лафонтена «Львиный указ». Gravure de Pieter Franciscus Martenisie d’après Jean-Baptiste Oudry, édition Desaint & Saillant, 1755–1759. Фото: gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France
- Кривосудов:
- Ты знаешь, ведь у нас
- И заячьи уши рогами назовут,
- То пойдут уши тпруши.
- Фекла:
- Вот трусость ты свою сам назвал пустяком,
- А в тот же самый миг явился русаком,
- Но, старое дитя, скажи мне, как не стыдно
- Вдруг струсить от того, что ложно очевидно?[112]
Позднее оригинальные и переводные басни И. И. Дмитриева («Заяц и перепелиха», 1795; «Ружье и заяц», 1803), Ю. А. Нелединова-Мелецкого («Заяц и лягушки») и И. А. Крылова («Олень и заяц», 1788; «Заяц на ловле», 1813) закрепят за зайцами узнаваемые амплуа трусливого либо равно трусливого и хвастливого персонажа. Исключения в этом ряду редки – хотя они и есть (так, например, в незавершенной басне Крылова «Осел и заяц» хвастуном выступает осел, уверяющий, что он может летать, «как орлиха», а заяц воплощает иронию и здравый смысл). Юный С. П. Жихарев, прочитав в 1805 году объявление об издании «Дамского журнала», главным предметом которого будет «нежная чувствительность, сопряженная с моралью», делает дневниковую запись о своем намерении «попасть в число почтенных российских поэтов», а для начала послать в журнал переведенные им куплеты из комической оперы «Братья-охотники». Судя по этим куплетам из не дошедшей до нас оперы, три братца спорят о том, на кого им сподручнее охотиться – на зайцев, уток или волков, но сговориться им сложно начиная с зайца:
- Заячьи ножки
- Больно востры,
- Все их дорожки
- Страх как пестры.
- Заяц больно чуток,
- Нам тут не клад…
Спорщиков – «милых дружочков» – примиряет кокетливая хозяйка постоялого двора, угостив каждого их них «вкусным кусочком» и налив им бражки. Автор дневника расценивает свое произведение как вполне соответствующее программе нового журнала: «Уж если тут мало нежной чувствительности, сопряженной с моралью, так где же искать ее более?»[113]
Таковы контексты, в которых намечены образы зайцев как литературных персонажей. Важно подчеркнуть вместе с тем, что заяц, как и другие животные в баснях и комедиях, указывает на характеры и ситуации, связанные с ним весьма условно. Пусть наблюдение за зайцами в природе и способно уверить нас в том, что зайцы трусливы, но увериться в том, что зайцы еще и хвастливы, возможно только с учетом их басенной персонификации. Средневековые физиологи, риторика анималистических аллегорий и, наконец, басни имеют в виду поведение не животных, но людей. Можно думать поэтому, что уже сам отход от традиции таких сопоставлений оставляет для зайцев в литературе лишь ту изобразительную роль, которая поддерживает не более – но и не менее, – чем убедительность творческого воспроизведения действительности, ее художественного подобия и социально приемлемого копирования.
Пример Державина показывает, что интерес не к аллегорическому, но именно к миметическому письму в этом случае может быть понят как принципиальный. Литературных предшественников у Державина в этом отношении не было, но были изобразительные – в складывающейся традиции живописного анимализма, освобождающегося в те же годы от назидательности барочного натюрморта. В России становление анималистического жанра связывается с именем немецкого художника Иоганна Фридриха Гроота, переехавшего в 1743 году Россию и вплоть до своей смерти в 1801 году остававшегося ведущим живописцем «по классу зверей и птиц». «Зверопись» Гроота, наследуя уже сложившейся традиции немецкой анималистической живописи, выделялась продуманностью композиции и тщательной прорисованностью деталей, но и изобразительной самодостаточностью животных персонажей. Охотничьи сцены, «портреты» мертвых и живых зверей были занимательны на его полотнах не аллегорическими ассоциациями (пусть таковые и могли традиционно усматриваться в инерции анималистических напоминаний vanitas vanitatis – о бренности живого, обманчивости надежд, бремени соблазнов, неотвратимости смерти), но прежде всего красотой самих изображений и увлекательностью прозреваемых за ними историй. Участниками таких историй у Гроота оказывались самые разные звери и птицы – попугаи и утки, пеликаны и цесарки, совы и журавли, соколы и павлины, леопард и ягненок, собаки и кабаны, рыси и зайцы[114]. Среди дошедших до нас заячьих сюжетов Гроота: «Заяц на рогоже» (1748), «Борзая за игрой / Собака с зайцем в зубах» (1755), «Кот и мертвый заяц» (1777), «Собака и заяц» (1782). Участь всех изображенных Гроотом зайцев плачевна, они либо уже мертвы, либо вот-вот окажутся таковыми – иллюстрация того привычного обстоятельства, что заяц – это дичь и охотничья добыча[115].
И. Ф. Гроот. Орел, поймавший зайца. 1779. Национальный музей, Стокгольм
В поэзии Державина неаллегорические и небасенные упоминания о зайцах обнаруживают схожую дидактику в сфере литературной поэтики, утверждающей ценность не монологического назидания, а миметического повествования, рассчитанного на то, что оно будет «считано» читателем не с оглядкой на повторяющиеся образцы жанра, а с опорой на собственную наблюдательность и житейский опыт.
Поэтические особенности лирики Державина нашли продолжение и развитие в творчестве А. С. Пушкина – обстоятельство, кажущееся из сегодняшнего дня тривиальным, но небезразличное для понимания той революционизирующей роли, которую сыграла новизна державинской поэтики в формировании и эволюции пушкинской поэзии. Дэвид Бетеа, специально и, на мой взгляд, справедливо подчеркивающий жизнестроительный потенциал «державинского мифа» в психологии Пушкина, не останавливается на лексико-стилистических нюансах, которые роднят их произведения[116]. Между тем уже восприятие современниками «Евгения Онегина» достаточно показывает, сколь непривычными в их глазах были такие особенности пушкинской лирики, которые являются равно характерными и для поэзии Державина. Таковыми прежде всего нужно счесть «прозаизмы», инкорпорируемые в контекст поэтического вдохновения (в примечаниях к своему роману Пушкин симптоматично иронизировал над критиками, возмущенными неуместно, по их мнению, возвышенными описаниями того, как «мальчишки катаются на коньках», а с другой стороны, неприличием слова «дева» по отношению к простой крестьянке, а «девчонки» – по отношению к благородным барышням). Поэтические упоминания о зайцах у Пушкина идут в том же ряду. Таково сравнение Фарлафа с зайцем в «Руслане и Людмиле» (1817–1822):
- Фарлаф, узнавши глас Рогдая,
- Со страха скорчась, обмирал
- И, верной смерти ожидая,
- Коня еще быстрее гнал.
- Так точно заяц торопливый,
- Прижавши уши боязливо,
- По кочкам, полем, сквозь леса
- Скачками мчится ото пса.
В другой стихотворной сказке – «Сказке о попе и о работнике его Балде» (1831) герой дурит с помощью зайцев бесенка. В конспективной записи Пушкина эта история излагается так:
У Балды были в мешке два зайца. Он одного пустил, бесенок, запыхавшись, обежал, а Балда гладит уже другого, приговаривая: «Устал ты, бедненький братец, три раза обежал около моря». Бесенок в отчаянье.
Как и Державин, Пушкин описывает свои деревенские досуги и также поэтизирует охоту на зайцев.
- Зима. Что делать нам в деревне? Я встречаю
- Слугу, несущего мне утром чашку чаю,
- Вопросами: тепло ль? утихла ли метель?
- Пороша есть иль нет? и можно ли постель
- Покинуть для седла, иль лучше до обеда
- Возиться с старыми журналами соседа?
- Пороша. Мы встаем, и тотчас на коня,
- И рысью по полю при первом свете дня;
- Арапники в руках, собаки вслед за нами;
- Глядим на бледный снег прилежными глазами;
- Кружимся, рыскаем и поздней уж порой,
- Двух зайцев протравив, являемся домой.
Однако в упоминаниях о такой охоте у Пушкина появляется и то новое, что у Державина отсутствует, и это новое – своего рода сатирическая нота. Даже в вышеприведенном стихотворении травля зайцев рисуется времяпрепровождением захватывающим, но и праздным, занятием «от скуки» и «от нечего делать»[117]. В неоконченной драме «Русалка» (1829–1832) мельник саркастически характеризует «труд» князей: «И что их труд? травить лисиц и зайцев, / Да пировать, да обижать соседей». В том же регистре упоминается охота с собаками на зайцев в «Барышне-крестьянке» (1830), «Истории села Горюхина» (1830) и «Дубровском» (1833).
Литературные примеры заячьих мотивов в творчестве Пушкина будут не полны, если не упомянуть о «заячьем тулупчике», который Петр Гринев, герой «Капитанской дочки» (1836), дарит Пугачеву на постоялом дворе и который в конечном счете спасает ему жизнь. Для любителей интертекста, распространяемого на биографию автора, мотив этого тулупчика открывает безбрежное пространство для догадок на тему, в какой мере его «спасительная» функция навеяна известной историей о том, как заяц, перебежавший суеверному Пушкину дорогу, когда он собирался ехать в Петербург, заставил его отложить поездку и тем самым спас его от участи приятелей-заговорщиков, участвовавших 14 декабря 1825 года в выступлении на Сенатской площади[118]. Оставшийся в Михайловском Пушкин пишет «Графа Нулина», который начинается с описания сборов на охоту, а заканчивается сценой, где нежданно вернувшийся с охоты муж Наташи не только неведомо для себя «спасает» ее от ухаживания графа, но и гостеприимно предлагает ему отобедать только что затравленным на охоте зайцем-русаком[119]. Дополнительным интертекстуальным штрихом к истории создания этой поэмы является то, что она была написана 13 и 14 декабря – то есть в те роковые дни, которые решили судьбу декабристов. Спустя пять лет Пушкин напишет «Заметку о графе Нулине», которая обрывается фразой «бывают странные сближения». Ю. М. Лотман объяснял ее с отсылкой к словам из известного Пушкину письма Л. Стерна, адресованного негру Игнасу Санчо: «Мелкие события, Санчо, сближаются столь же странно, как и великие». В интерпретации Лотмана, в ночь на 14 декабря 1825 года Пушкин «размышлял об исторических закономерностях и о том, что из‐за сцепления случайностей великое событие может не произойти»[120]. В этом утверждении Пушкину или по меньшей мере его читателю позволительно было быть суеверным. Событие, не случившееся с поэтом, совпало с созданием текста, в котором нарастающая интрига также обрывается происшествием, столь же ничтожным, сколь и многозначительным, и ключевое слово для этого происшествия: заяц.
А. С. Пушкин. Рисунок зайца в рукописи «Анчара». 1829. Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН
Литературный канон, который мы в ретроспективе связываем с эволюцией русской литературы XIX века, складывается не вдруг, и тем важнее оценить то новое, что привнесено Пушкиным в контекст массового чтения его современников. Последнее же, насколько можно судить, по тиражам сочинений других авторов, в разных социальных стратах определяется преимущественно спросом на приключенческие и исторические романы, мелодраматическую и дидактическую поэзию[121]. Литературный анимализм в этих случаях оставался подчиненным традиционной топике упоминаний, описаний, сравнений и уподоблений. Так, например, о травле зайцев упоминает популярный писатель и недоброжелатель Пушкина Фаддей Булгарин, описывая в своем широко читавшемся современниками романе «Иван Иванович Выжигин» (1829) застольную похвальбу досужих охотников:
Разговор был самый занимательный и жаркий. Каждый хвалил своих собак, лошадей, свои ружья и своих охотников, рассказывая любопытные анекдоты о травле зайцев и лисиц, о знаменитых победах, одержанных над волками и медведями[122].
Попутно басенной и фольклорной традиции с зайцами привычно сравниваются пугливые персонажи. В «Герое нашего времени» М. Ю. Лермонтова Грушницкий лживо похваляется тем, что он едва не схватил Печорина, тайно посещавшего княжну: но тот «вырвался и, как заяц, бросился в кусты», – эти слова слышит Печорин, и клевета стоит Грушницкому жизни. Его же поэма «Беглец» (1840) начинается с обидных для кавказцев строк:
- Гарун бежал быстрее лани,
- Быстрей, чем заяц от орла;
- Бежал он в страхе с поля брани,
- Где кровь черкесская текла[123].
Особняком по богатству анималистических мотивов в русской литературе стоит проза Н. В. Гоголя, искушающая к тому, чтобы искать – и, конечно, находить – в его сочинениях аллегории разной степени назидательности или (что кажется мне более верным) примеры языковой игры и жанровой травестии. В ряду таких примеров не обойдены и зайцы – помимо упоминаний об охоте на них, которая предстает у Гоголя чем-то вроде национально-самобытной страсти и вместе с тем времяпрепровождением, характерным для досужих дармоедов. В «Ревизоре» травля зайцев – любимое занятие судьи и городничего. В «Коляске» о такой охоте пекутся окружные помещики. В «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» (1835) первый из поименованных истцов сам ведет себя как заяц, когда спешит подать жалобу на своего недруга в миргородский суд. В «Мертвых душах» – поэме, как отмечалось уже ее первыми интерпретаторами, создающей местами впечатление намеренного анималистического ребуса – сцена разговора двух приятных дам, гадающих о тайном намерении Чичикова, вызывает образ русского барина, устремляющегося в конную погоню за зайцем. Ноздрев, показывающий Чичикову свое поместье, уверяет его в том, что «вот на этом поле <…> русаков такая гибель, что земли не видно», и что он «сам своими руками поймал одного за задние ноги» («„Ну, русака ты не поймаешь рукою!“ – заметил зять. „А вот же поймал, нарочно поймал!“ – отвечал Ноздрев»). Хлебосол Собакевич рисует перед Чичиковым устрашающую картину губернаторской кулинарии: «Ведь я знаю, что они на рынке покупают. Купит вон тот каналья повар, что выучился у француза, кота, обдерет его, да и подает на стол вместо зайца». (В юбилейном издании А. Ф. Маркса (СПб., 1901 года) восклицание Собакевича дополнено иллюстрацией художника Мечислава Михайловича Далькевича, на которой изображен зловещего вида повар, одной рукой держащий на весу за шкирку кота, а другой сжимающий здоровенный нож.)
М.М. Далькевич. Иллюстрации к книга Н.В. Гоголя «Мертвые души». Санкт-Петербург: Издание А.Ф.Маркса. 1901.
«Черный юмор» этого пассажа отсылает, может быть, к французской поговорке, гласящей, что для приготовления жаркого необходим заяц («Pour faire un civet prenez (=il faut) un lièvre») или по меньшей мере кот (мотивные примеры обыгрывания такой кулинарной подмены находим, в частности, у Алена Лесажа в «Истории Жиль Бласа из Сантильяны»)[124]. Но поварское злодеяние обнаруживает в этом случае и тот содержательный смысл, что это еще одно qui pro quo, еще одна подмена в семантике гоголевского повествования (и вообще гоголевских сюжетов, начиная с «Ревизора»), где смешиваются мертвые и живые, люди и животные, мечты и реальность, где из букв, чтение которых так завораживает Петрушку, «вечно выходит какое-нибудь слово, которое иной раз черт знает что и значит». Само многообразие анималистических метафор, которыми так богат текст «Мертвых душ», указывает в этих случаях не на однозначность неких характерологических соответствий[125], а на фантасмагоричность мира, в котором многое возможно: если уж Чичиков может оказаться Наполеоном, то заячье жаркое вполне может быть приготовленным из кота.
Спрос на реализм и «правду жизни», активно культивируемый в критике 1850–1870‐х годов, предсказуемо ограничил заячьи мотивы охотой и отчасти кулинарией. Дальше других в этом отношении пошел Сергей Тимофеевич Аксаков, посвятивший зайцам целую главу в «Записках ружейного охотника Оренбургской губернии» (1852). Описание Аксакова замечательно и как зоологической очерк, в котором различаются зайцы-русаки, беляки и тумаки, и как охотничий нарратив, и как сводка диалектизмов, и как своего рода историко-кулинарный документ, из которого выясняется, например, что автор еще помнит о тех временах, когда крестьяне Оренбургской и Симбирской губерний из предрассудка не употребляли зайцев в пищу, а теперь «начинают употреблять в пищу задки или почки, а передки бросают, говоря, что передок у зайца собачий»[126]. Интересно, что, подкрепляя свои наблюдения, Аксаков в тех же записках ссылался на мнение друзей, тоже заядлых охотников – А. С. Хомякова и Ю. Ф. Самарина[127]. В истории русской литературы круг писателей-охотников пополнится именами И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого, А. Ф. Писемского, И. И. Панаева, Н. А. Некрасова, А. А. Фета и многих других авторов, неожиданно обнаруживающих между собою то общее, что большинству из них довелось охотиться на зайцев[128].
Стоит заметить, что навык такой охоты объединял охотников и тем «общим» знанием, которое сегодня в существенной степени утеряно; в литературоведении осознание таких потерь служит поводом к комментарию, призванному приблизить читателя к мироощущению и опыту персональных переживаний автора. Но объяснить – не значит почувствовать, и нужно определенное усилие, чтобы осознать эту эмоциональную разницу. Что чувствовал, например, Сергей Львович Толстой (сын Л. Н. Толстого), когда в старости ностальгически вспоминал о такой охоте, как об одном из самых ярких и радостных эпизодов своей жизни?
С утра мы выезжали верхами с собаками на сворах и равнялись по полям, то есть ехали на некотором расстоянии друг от друга, с тем, чтобы «наехать» на зайца или на лисицу. В овражках с кустиками, в густой траве, в картофельных полях мы хлопали арапниками, чтобы поднять зайца, а когда он выскакивал, мы кричали «Ату его!» и скакали за ним. А когда удавалось «подозрить» зайца, то есть увидеть его на лежке, то надо было немного отъехать от него, чтобы не испугать, и, подняв арапник, протяжно кричать: «А-ту е-го». И только когда остальные охотники съезжались, зайца выпугивали, и начиналась травля <…> Обыкновенно, прежде чем поймать зайца, собаки делают ему угонки: какая-нибудь собака догонит зайца, хочет его схватить, а он увильнет в сторону, и она проносится мимо; зайца догоняет другая собака, он опять увиливает и т. д. <…> остальные собаки прискакивают и хватают зайца; вокруг него образуется кружок собак; он кричит, как ребенок. Я прискакиваю, спрыгиваю с лошади, отгоняю собак, закалываю зайца, отрезаю лапки (пазанки), бросаю их собакам, а зайца вторачиваю в седло. Странно, что при этом я не испытываю чувства жалости к зайцу, неприятно только слышать его крик[129].
«Национальная особенность русской охоты» на зайцев состояла при этом в ее безграничности. Счет убитых зайцев велся на десятки – ради самого счета. В воспоминаниях Афанасия Фета цитируются письма Тургенева, в которых русский писатель из немецкого далека (обосновавшись в середине 1860‐х годов в Баден-Бадене), скрупулезно отчитывался в своих охотничьих успехах:
Скажу вам, что я пока здоров и убил всего 162 штуки разной дичи: 103 куропатки, 46 зайцев, 9 фазанов и 4 перепела[130];
Охота идет помаленьку; погода только мешает. На днях был удачный день: мы убили 3‐х кабанов, 2‐х лисиц, 4‐х диких коз, 6 фазанов, 2‐х вальдшнепов, 2‐х куропаток и 58 зайцев. На мою долю пришлось: 1 дикая коза, 1 фазан, 1 куропатка и 7 зайцев[131].
Сам Фет, столь же заядлый охотник, что и Тургенев, вспоминал позднее, как оказавшись в юности в Германии (в Гессен-Дармштадте), познакомился «с немецкой охотой, о какой у нас в России не может быть и помину», а именно – с необходимостью считаться с правилами отстрела дичи. Отправившись со своим тамошним «образованным», «оживленным» и «приятным» знакомым – обер-форстратом Бауэром – пострелять куропаток, русский охотник привычно высматривает и зайцев тоже:
Когда мы вышли на картофельное поле, зайцы то и дело стали вскакивать из-под моих ног, и непривычный к таким сюрпризам, я как-то не вытерпел, выстрелил и убил зайца.
– Боже мой! Эти проклятые русские! – воскликнул Бауэр, – ведь я же вам толковал, что до осенней охоты нельзя стрелять зайцев под большим штрафом; ну что мы теперь будем делать с вашим зайцем![132]
На родине Фет привык к другому – к бесконтрольному отстрелу сотен зайцев и брутальности охотничьих навыков, приводя в тех же воспоминаниях эпизод, о котором, с его слов, «покойный Тургенев говорил, что он ни за что не решился бы его рассказывать, и даже в лицах представлял, как бы он заикался на слове заяц»:
Зная, что гонные зайцы выбирают в лесу дорожки и чистые поляны, на которых могут, прибавив бегу, успешнее уйти от набегающей стаи, я остановился на продолговатой поляне, вдоль прорезаемой лесною дорогою <…> Долго стоял я, прислушиваясь к отдаленному гону; но вот лай все громче и видимо приближается; я весь превратился в слух и через минуту увидал зайца <…> Подпустивши его на довольно близкое расстояние, я выстрелил, и заяц покатился через голову, взмахнув, очевидно, перебитою заднею ногою. Не успел я броситься к своей добыче, как заяц кинулся бежать прямо на меня; я приложился, чтобы добить его из левого ствола, но левый ствол дал осечку. Я решился прижать ружьем зайца к земле <…> но и тут я промахнулся. <…> В жару неудачной гимнастики я не заметил, что стая гончих с яростным лаем обскакала меня и шагах в пятнадцати по дороге от меня схватила закричавшего зайца. Зная, что через минуту от моего зайца не останется ни клочка, я <…> вырвал зайца у них из зубов; но если бы при этом я решился опустить зайца ниже своей головы, то никакие крики не помогли бы <…> Чтобы не держать в руках изувеченного зайца, я со словами «приколи его» передал зайца Жгуну (денщику, помогавшему на охоте. – К. Б.). Тот хладнокровно, доставши из голенища большой складной ножик, прямо отпазаничал зайца, т. е. отрезал ему по коленный сустав ноги.
– Подержите, сударь, – сказал он, подавая мне зайца обратно; но вместо того, чтобы хотя теперь отколоть зайца, Жгун стал разрывать лапки по суставам пальцев и кидать куски жадным гончим.
– Ах, Жгун, какие гадости ты делаешь! – воскликнул я и бросил зайца наземь. Каково же было мое удивление, когда заяц с отрезанными по суставы задними ногами пустился бежать и притом с такой быстротой, что мне нельзя было и помышлять догнать его. Но увидав бегущего, стая снова взревела, и через полминуты заяц опять был пойман и на этот раз отколон и уложен в бричку[133].
Упоминания о зайцах позволяют в этих случаях судить об охотничьем азарте, овладевавшем мемуаристами и писателями-охотниками (в том числе и теми, с кем принято связывать сегодня создание русского литературного канона), но и о некоторых нарративных особенностях, осложняющих или разнообразящих представление о самой русской литературе XIX века. Главной из них можно счесть кажущуюся «несерьезность» таких упоминаний: на фоне общественных, политических и морально-нравственных проблем, будораживших литературную критику второй половины XIX века, «заячьи» мотивы усложняют и разнообразят магистральные для нее темы «правды», социальной критики и общественной пользы дискурсивными «мелочами» бытового, юмористического и автобиографического плана. Изобразительной иллюстрацией такого отношения может служить картина Василия Перова «Охотники на привале» (1871, авторский повтор картины был сделан в 1877 году), воспринятая уже ее первыми зрителями как бытовой анекдот на тему «вранья», хвастовства и охотничьих баек, и вместе с тем – как отход художника от социальной тенденциозности периода «Проводов покойницы» (1865), «Тройки» (1866) и «Утопленницы» (1867)[134].
Образ зайца – робкого потешного ушастого зверька, вся защита которого состоит в быстрых лапах, – давал в этих случаях повод к своего рода анекдотической сентиментальности, которую, кажется сегодня, трудно соотнести с таким занятием, как охота. Так, например, в описании Аксакова лучшая охота на зайцев-беляков начинается весной
около больших и средних рек, на островах, залитых со всех сторон полою водою. Эта охота очень добычлива; на иной небольшой островок набежит зайцев множество, и они, взбуженные охотниками, бегают как угорелые взад и вперед, подобно испуганному, рассеянному стаду овец; некоторые от страха бросаются в воду и переплывают иногда немалое пространство. В это время стреляют их в большом количестве;
но, признается он здесь же, сам он «никогда не любил такой охоты, похожей на какую-то бойню загнанной в загородь скотины». Некрасов опишет ту же сцену в неоконченном романе «Тонкий человек» (1853–1855)[135] и положит ее в основу поэмы «Дедушка Мазай и зайцы» (1870). Герой последней, как мы помним со школьных лет, спасает зайцев во время паводка, возвращаясь в деревню – к потехе односельчан – в лодке, заполненной ушастыми пассажирами, и еще таща за собою бревно с ними же. Заметим вместе с тем, что анекдотичность и умилительность истории, вложенной Некрасовым в уста Мазая (а также юмористические иллюстрации, которыми обычно сопровождается эта поэма в книгах для детей), в целом сглаживает мрачную зарисовку ее начала, которое тоже способно стать поводом для суждений о нравах русского простонародья:
- В нашем болотистом, низменном крае
- Впятеро больше бы дичи велось,
- Кабы сетями ее не ловили,
- Кабы силками ее не давили;
- Зайцы вот тоже, – их жалко до слез!
- Только весенние воды нахлынут,
- И без того они сотнями гинут,
- – Нет! еще мало! бегут мужики,
- Ловят, и топят, и бьют их баграми.
- Где у них совесть?..[136]
«Несерьезность» «заячьих» мотивов не лишена, таким образом, своей дидактики и своего «охотничьего» этоса. Русская литература богата описаниями охоты, и в их контексте упоминания о зайцах многочисленны и местами художественно незаурядны – примерами такого рода могут служить стихотворения того же Некрасова.
- Но ловля, травля и стрельба
- Идут успешно: уж сразили
- Лисицу, волка и хорька,
- Вдобавок в сети заманили
- Недальновидного сурка
- И пару зайцев затравили. <…>
- Что ж делать нам?..
- Блаженные отцы
- И деды наши пировать любили,
- Весной садили лук и огурцы,
- Волков и зайцев осенью травили.
- Дорога моя забава,
- Да зато и веселит.
- Об моей охоте слава
- По губернии греми!
- Да зато как гаркнут «слушай!»
- Доезжачие в бору,
- И зальются вдруг тявкуши,
- Словно птицы поутру,
- Как кубарь, матерый заяц
- Чистым лугом подерет
- И ушами, как китаец,
- Хлопать в ужасе начнет.
- Пили псари – и угрюмо молчали,
- Лошади сено из стога жевали,
- И в обагренные кровью усы
- Зайцев лизали голодные псы.
- А охотничек покрикивал,
- В роги звонкие трубил,
- Чтобы серый зайка спрыгивал,
- В чисто поле выходил.
- Остановятся с ребятами:
- «Чьи такие господа?»
- – «Кашпирята с Зюзенятами…
- Заяц! вон гляди туда!»
- Всполошилися борзители:
- «Ай! а-ту его! а-ту!»
- Ну собачки! Ну губители!
- Подхватили на лету…
Короткий рассказ Николая Успенского «Охота на зайцев» (1860‐е годы) замечателен теми же деталями и, в частности, фразеологией, требующей из сегодняшнего дня специального охотоведческого и лингвистического комментария (поджидать зайца в засаде – «сидеть», «высиживать»; заяц, ищущий корм, «шишкольничает»; «выбили [зайцев] до шпенту» – всех зайцев, полностью), но вместе с тем повествует о том, что связано с этой охотой лишь косвенно[137]. История двух охотников, отправляющихся на пешую охоту (и без собак) в лютый мороз, их разговор с барином, у которого они служат, надежды на обильную добычу («Были бы зайцы, а то два воза привезем»), неудачные попытки выследить и подстеречь зайцев, постой в деревне у знакомого мужика и, наконец, завершение незадавшейся охоты в кабаке – вот и вся история: обыденная и, казалось бы, незначительная, но выразительная к узнаваемой «русской» действительности, на фоне которой она разворачивается, – жизни помещиков и крестьян, картинам природы и тем «фотографически бесстрастным» мелочам, которые во многом предопределят последующую поэтику литературного натурализма, Чехова и дореволюционного Бунина.
Сцена охоты, причем именно охоты на зайца, прочитанная, как принято говорить, всей читающей Россией, содержится во втором томе «Войны и мира» Л. Н. Толстого (1868). Азарт травли, овладевающий графом Николаем, Наташей, их дядей Никанором Михайловичем и Илагиным, описывается здесь как нечто самозабвенное и понятное, как можно думать, многим из современных Толстому читателей (но едва ли, замечу в скобках, понятное из собственного опыта теми, кто читает этот роман сегодня).
Алексей Писемский в романе «Люди сороковых годов» (1869) наделяет таким же азартом своего автобиографического героя – маленького барчука Пашу Вихрова, пытающегося вместе с дворовым мальчишкой затравить собаками зайца, – попытка, заканчивающаяся, в отличие от сцены в «Войне и мире», неудачей и разочарованием. Об охоте на зайцев упоминается и в романе Писемского «Масоны» (1880), один из героев которого, Тулузов, метким выстрелом по зайцу добивается лестной для него похвалы от предмета своего обожания, Катрин.
Афанасий Фет в единственном написанном им для детей (и посвященном сыну Л. Н. Толстого – Сергею) рассказе «Первый заяц» (1871) от лица тринадцатилетнего повествователя, так же как и в романе Писемского, наделенного автобиографическими чертами, любовно и детально описывает усадебную атмосферу тридцатилетней давности, сбор гостей на именины его матери, взаимоотношения с отцом и дядей, сбор на охоту и кульминационное событие – саму охоту, ставшую для героя своего рода посвящением в отрочество, инициацией, к которой писатель-мемуарист (идентичный герою и вместе с тем двоящийся с ним в хронологической ретроспективе – времени рассказа и времени разворачивающихся в нем событий) возвращается в заветных воспоминаниях о прошлом[138].
Занятно, что рассказанная Фетом история нашла пристрастного читателя в Толстом. Прочитав рассказ в рукописи, Лев Николаевич высоко его оценил, но в письме Фету выразил сомнение, что он будет понятен восьмилетнему Сереже. А четыре года спустя Толстой опубликовал собственную переработку рассказа Фета, включив ее в рассчитанную на детей «Первую русскую книгу для чтения» под названием «Как я в первый раз убил зайца» (1875). В общей канве рассказа Толстой следовал за Фетом, но посильно сократил свойственные тому детали, так что исходный девятистраничный текст превратился у него в текст объемом чуть более одной страницы. Единственным сюжетным изменением фетовского рассказа стало то, что повествователь Толстого участвует в охоте не с разрешения взрослых, а тайком от них (но также удостаивается их похвалы после своего меткого выстрела). «Реферативности» стиля сопутствовало и упрощение авторской речи, приближенной в нарочитом устном косноязычии – детскому восприятию, как его понимал автор[139].
Для Толстого, увлеченного в эти годы созданием литературы для детей, «заячьи мотивы» были уже не внове: в изданной в 1872 году «Азбуке» (и в ее дополненном издании «Новая азбука» 1875 года) содержались сразу три текста, в которых обыгрывалась басенная мораль, представительствуемая зайцами, – рассказы «Зайцы» (о том, как заяц всего боится, а создает впечатление у охотников, что он хитрит), «Еж и заяц» (переработка сказки братьев Гримм – о том, как еж с помощью «ежовой жены» обманул зайца и отучил его спорить, кто из них быстрее бегает), «Зайцы и лягушки» (пересказ басни Эзопа – о том, как запуганные зайцы-горемыки пришли топиться, но увидели прыгающих от них в воду лягушек и передумали, решив, что жизнь тех еще горше). Еще один рассказ о зайце – «Русак» – Толстой включит в вышедшую в том же 1875 году «Третью русскую книгу для чтения»: историю из жизни зайца, рассказанную таким образом, что все ее персонажи – зайцы, живущие возле деревни, деревенские мужики, лошади и собаки – уравнены в их событийности, природное и социальное сливаются воедино, и в общем не слишком ясно, что важнее в этом «описании» (как называет рассказ сам Толстой) – то, что у одного из двух разговаривающих стариков украли лошадь, или то, что зайцу, спасшемуся от преследования собаки, удается наконец «уложить на спине уши и заснуть с открытыми глазами».
Художественная избранность в этих и других случаях определяется, конечно, разными обстоятельствами. Так, например, для А. Н. Островского в комедии «На бойком месте» (1865) важна характеристика – в напоминание таких же оценок у Пушкина и Гоголя – охоты на зайцев с собаками как барской забавы[140]. А в его же волшебной сказке «Иван Царевич» (1868) заяц – это уже не реальный, а мифологический персонаж – один из стражей смерти Кощея Бессмертного, тайну которого здесь выведывает Царевна (за тридевять земель стоит дуб, на дубу – сундук, в сундуке – заяц, в зайце – утка, в утке – яйцо, в яйце – смерть). В последнем случае Островский пересказывает сказку из сборника Афанасьева о Кощее Бессмертном[141], выход которого (восемь выпусков с 1855‐го по 1863 год) вкупе с его же трехтомным исследованием «Поэтические воззрения славян на природу» (1865–1869) сильно поспособствовал моде (дожившей до наших дней) на мифологические образы природных явлений и зверей – в том числе и зайца, описание которого у Афанасьева, подкреплявшего свои построения смелыми ссылками на санскритские и славянские этимологические параллели, буддийскую иконографию, упоминание в Ипатьевской летописи о «заячьем боге» литовцев, связанные с зайцем суеверные приметы (представление о том, что перебежавший дорогу заяц – к неудаче) и народные легенды об оборотничестве, наделяет его светозарной и вместе с тем хтонической силой устрашающего, но оттого и завораживающего свойства[142]. Изданные позднее Афанасьевым «Русские заветные сказки» (Женева, 1872) осложнили эти характеристики сексологической и обсценной семантикой[143].
Мера возможного мифологизаторства и дидактики применительно к собственно литературным текстам в этих случаях заведомо прихотлива и в большей степени зависит от читательской фантазии и знания фольклора. Так, в недописанной тем же Некрасовым сатирической «Трагедии в трех действиях, с эпилогом, с национальными песнями и плясками и великолепным бенгальским огнем» (1859) – появление зайца должно было дать толчок к «трагедийной» кульминации всего действия. Во время пляски одна из девушек наступает на притаившегося в кусту зайца. Заяц кидается в бегство, а за ним устремляются в погоню охотники. В общей суматохе один из охотников оставляет у стога сена недокуренную трубку, начинается пожар: «При великолепном бенгальском огне охотники уезжают, девки разбегаются»[144]. Некрасов здесь определенно следует за В. Далем: «Заяц по селенью бегает, к пожару»[145].
Другой сюжет, построенный вокруг заячьего мотива, мог войти в «Записки охотника» И. С. Тургенева, который в 1860 году в компании К. К. Случевского, П. В. Анненкова и С. С. Дудышкина рассказал произошедший с ним на охоте случай, когда на него с лету и вслепую наскочил на грудь громадный заяц, – случившееся стало дурным предзнаменованием для писателя в тот же день: бричка, в которой он возвращался с охоты, опрокинулась, и он сломал себе ключицу. По какой-то причине Тургенев оставил свой замысел нереализованным[146].
В тех же «Записках» находим замечательное описание живописных картин, увиденных им в сельской конторе («Контора», 1847):
На одной изображена была легавая собака с голубым ошейником и надписью: «Вот моя отрада»; у ног собаки текла река, а на противоположном берегу реки под сосною сидел заяц непомерной величины, с приподнятым ухом.
У него же один из героев рассказа «Бригадир» (1868) – подвыпивший «дьячок из заштатных» по прозвищу Огурец – поет шуточную песню про зайцев, которая была документально засвидетельствована уже в 1851 году как бытовавшая в Воронежской и Курской губерниях[147]:
- Лежит заяц под кустом;
- Ездят охотнички по пустом…
- Лежит заяц, еле дышит.
- Между тем он ухом слышит —
- Смерти ждет!
- Чем вам, охотнички, я досадил?
- Иль какую бедушку учинил?
- Я в капустах хоть бываю,
- По одному листу съедаю —
- И то не у вас!
- Да-с!
- Скакнул заяц в темный лес
- И охотничкам фост поднес.
- Вы, охотнички, простите,
- На мой фостик поглядите —
- Я не ваш!
- Ездили охотники до су-так…
- Разбирали заячий па-сту-пак…
- Меж собой всё толковали
- И друг дружку обругали:
- Заяц-то не наш!
- Косой обманул!!
В описании Тургенева,
первые два стиха каждого куплета Огурец пел протяжным голосом – остальные три, напротив, очень живо, причем щеголевато подпрыгивал и переступал ногами; по окончании же куплета откалывал «колено», то есть ударял самого себя пятками. Воскликнув во все горло: «Косой обманул!», он перекувырнулся…
Сюжет песни и ее дурашливое исполнение кажутся при этом символичными, травестийно утрируя будничную низменность атмосферы, в которой разворачивается история возвышенных чувств главного героя.
Зайцы не дают покоя Тургеневу и позже. Много лет спустя после первого издания «Записок охотника» писатель включит в их состав рассказ «Живые мощи» (1874), в котором разбитая параличом крестьянская девушка Лукерья расскажет о позабавившем ее случае, когда к ней в комнату вбежал заяц.
Заяц забежал, право! Собаки, что ли, за ним гнались, только он прямо в дверь как прикатит!.. Сел близехонько и долго таки сидел, всё носом водил и усами дергал – настоящий офицер! И на меня смотрел. Понял, значит, что я ему не страшна. Наконец встал, прыг-прыг к двери, на пороге оглянулся – да и был таков! Смешной такой!
По сюжету рассказа, в содержательном плане напоминающего о жанрах житийной литературы, заяц, предстающий перед Лукерьей, подчеркивает ее едва ли не святость – доброту и самозабвенное смирение перед судьбой: так представали животные перед Франциском Ассизским, святыми Власием и Серафимом Саровским, преподобным Павлом Комельским (Обнорским) и святой Февронией (в преданиях о которой упоминается прирученный ею заяц)[148]. Параллели в этих случаях едва ли выходят за рамки общей типологии, но само появление заячьего мотива (наряду с упоминаемой в том же рассказе убитой ласточкой) кажется символичным и в этом случае: зверек, традиционно обозначающий робость, а вместе с тем сексуальную витальность, контрастно оттеняет незавидный удел бывшей когда-то красавицей Лукерьи.
Еще позже в мрачном стихотворении в прозе Тургенев сравнит себя самого с зайцем, мечущимся от преследующей его отвратительной старухи с бельмами на глазах и искривленным в усмешке беззубым ртом – образа неотвратимо приближающейся смерти: «И куда я ни мечусь, как заяц на угонках… всё то же, то же!» («Старуха», 1878).
Непримиримый оппонент Тургенева Достоевский также не прошел мимо упоминаний о зайцах. Причем контексты, в которых такие упоминания содержатся, по ходу его творчества становятся все более эмфатическими не только в композиционно-риторическом, но и в идеологическом смысле. В романе «Бедные люди» (1846) неприятный и хамоватый богатей Быков, сватающийся к Варваре Алексеевне, трижды характеризуется как любитель охотиться на зайцев – такова одна из причин, по которой он хочет уехать из Петербурга в свою степную деревню. С зайцем, припавшим от страха к земле при звуке охоты, сравнивается Семен Иванович Прохарчин из одноименной повести (1847). В «Преступлении и наказании» (1866) о пословице «Пойдешь за несколькими зайцами разом, и ни одного не достигнешь» вспоминает Петр Петрович Лужин, разглагольствующий перед Разумихиным, Раскольниковым и Зосимовым о «научной» и «социально-экономической» оправданности эгоизма: «Наука же говорит: возлюби, прежде всех, одного себя, ибо всё на свете на личном интересе основано». В «Подростке» (1875) ту же пословицу повторяет Стебельков, имея в виду бесперспективность ухаживать за двумя дамами сразу, но по контексту также соотносящий ее с условностью морально-нравственных предписаний ввиду прагматических выгод:
– За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь, говорит народная, или, вернее, простонародная пословица. <…> За другим зайцем, то есть, в переводе на русский язык, за другой дамой погнался – и результатов никаких.
В «Зимних заметках о летних впечатлениях» (1863) Достоевский напоминает читателю: «Чтоб сделать рагу из зайца, надо прежде всего зайца» – с тем, чтобы критически развенчать девиз о «братстве» в идеологической триаде «Свобода. Равенство. И братство». Либералы и социалисты, проповедующие аксиомы рациональности и социального эгоизма, суть, по Достоевскому, буржуа, не способные понять коллективистских основ подлинной духовности – готовности к самопожертвованию «себя в пользу всех».
Социалист, видя, что нет братства, начинает уговаривать на братство. За неимением братства он хочет сделать, составить братство. Чтоб сделать рагу из зайца, надо прежде всего зайца. Но зайца не имеется, то есть не имеется натуры, способной к братству, натуры, верующей в братство, которую само собою тянет на братство.
Кулинарный афоризм, ставший французской поговоркой «Чтобы сделать (заячье) жаркое, нужен заяц», указывает на очевидное[149]. Такое очевидное в данном случае – это «потребность братской общины», которая выражала бы себя не на словах, а уже была «в натуре человека, чтоб он с тем и родился или усвоил себе такую привычку искони веков». Девять лет спустя Достоевский вспомнит об этой поговорке еще раз, еще более расширяя и вместе с тем радикализуя ее политико-теологическую метафорику. В «Бесах» (1872) Шатов с негодованием припоминает Ставрогину его «подлое выражение», в котором вера в бога приравнена к соусу из зайца. «Чтобы сделать соус из зайца, надо зайца, чтобы уверовать в бога, надо бога». А далее – в перекличку с «Мертвыми душами» Гоголя – Ставрогин уподобляется Ноздреву, похвалявшемуся тем, что он хочет ловить зайцев за задние ноги. «– Нет, – поправляет Шатова Ставрогин, – тот именно хвалился, что уж поймал его», насмешливо переадресовывая Шатову свое «подлое выражение» в качестве вопроса:
– …Позвольте однако же и вас обеспокоить вопросом, тем более, что я, мне кажется, имею на него теперь полное право. Скажите мне: ваш-то заяц пойман ли, аль еще бегает?
– Не смейте меня спрашивать такими словами, спрашивайте другими, другими! – весь вдруг задрожал Шатов.
– Извольте, другими, – сурово посмотрел на него Николай Всеволодович; – я хотел лишь узнать: веруете вы сами в бога или нет?
– Я верую в Россию, я верую в ее православие… Я верую в тело Христово… Я верую, что новое пришествие совершится в России… Я верую… – залепетал в исступлении Шатов.
– А в бога? В бога?
– Я… я буду веровать в бога[150].
Так, аналогия между добычей зайца и обретением бога эпатирует, но и характерно акцентирует одну из главных идей авторского повествования о драматическом конфликте между религиозным, морально-нравственным долгом и утопическим произволом социального утилитаризма. Ставрогин, утративший, по убеждению Шатова, способность к различению добра и зла, нуждается в боге, и Шатов обещает помочь ему в этом – обещает, мазохистски перефразируя его же слова, «достать» ему зайца. «Я достану вам зайца!» – говорит он Ставрогину (сама фамилия которого семантически – от греч. σταυρός – «крест» – указывает на грядущее искупление и покаяние): слова, которые в контексте романа можно счесть афористической кодой религиозного и национального возрождения России[151].
Иллюстрации М. Фольбаума к сказке «Мужик и заяц». Журнал «Родник». 1883. № 5. С. 442–443
Саркастический контекст сцены, в котором патетика чаемого Шатовым светлого будущего связывается с «заячьими» байками гоголевского Ноздрева, не ограничивается только этим. Для читателей, знакомых с уже упоминавшимся выше сборником сказок Афанасьева, та же сцена могла прочитываться с отсылкой к опубликованному в нем анекдоту о мужике и зайце. Рассказ лаконичен: бедный мужик видит под кустом зайца и предается мечтам о будущем. Фантазия обрастает деталями:
Вот когда заживу домком-то! Возьму этого зайца, убью плетью да продам за четыре алтына. На те деньги куплю свинушку. Она принесет мне двенадцать поросеночков. Поросятки вырастут, принесут еще по двенадцати. Я всех приколю, амбар мяса накоплю. Мясо продам, а на денежки дом заведу да сам женюсь. Жена-то родит мне двух сыновей: Ваську да Ваньку. Детки станут пашню пахать, а я буду под окном сидеть да порядки наводить»: «Эй вы, ребятки, – крикну, – Васька да Ванька! Шибко людей на работе не подгоняйте, видно, сами бедно не живали!»
Но будущее эфемерно.
Да так-то громко крикнул мужик, что заяц испугался и убежал, а дом со всем богатством, с женой и с детьми пропал[152].
В 1880‐е годы литературные контексты, в которых заяц выступает персонажем, призванным служить идеологической дидактике, пополнятся сатирическими «Сказками» тяжелобольного к тому времени М. Е. Салтыкова-Щедрина (1886) – сборником, содержащим сразу два текста, которые персонифицируют в зайцах обывателей, выдающих собственную трусость перед властью за благородство («Самоотверженный заяц») или рассудительное смирение («Здравомыслящий заяц»). Традиция таких персонификаций в истории русской литературы была положена И. И. Панаевым, печатно окрестившим «литературным зайцем» склонного к безудержному хвастовству и скабрезности беллетриста Леопольда Бранта в одноименном памфлете, напечатанном в 1846 году в «Отечественных записках» (№ 2). В данном случае аллегория басенных метафор понималась Щедриным обобщенно: главными объектами его критики были те, кто в атмосфере реакции начала правления Александра III, последовавшей за убийством Александра II, продолжал разделять царистские иллюзии.
Достигающие метафорического накала у Достоевского и Салтыкова-Щедрина «заячьи мотивы» теряют социально-проблемную ассоциативность со спадом литературного критицизма как такового. Наглядным примером такого рода может служить Чехов, в произведениях которого упоминания о зайцах появляются только как атрибут анекдотически-бытового или этнографического повествования: таковы описание охоты пьяных охотников, упускающих зайца из-под собственного носа в рассказе «Петров день» (1880), или воспоминание о покойном, о котором не много есть что вспомнить, кроме того, что он охотился на зайцев («Цветы запоздалые», 1880), или зарисовка рынка и разговор о полезности битья в очерке «В Москве на Трубной площади» (1883) с рассуждением о том, что «заяц, ежели его бить, спички может зажигать»[153]. Рассказ «Ночь перед судом» (1885) начинается с плохого предзнаменования:
– Быть, барин, беде! – сказал ямщик, оборачиваясь ко мне и указывая кнутом на зайца, перебегавшего нам дорогу.
Я и без зайца знал, что будущее мое отчаянное. Ехал я в С-ий окружной суд, где должен был сесть на скамью подсудимых за двоеженство. Погода была ужасная.
А рассказ «Не судьба» (1886) тем же предзнаменованием заканчивается:
Шилохвостов вдруг побледнел и вскочил, как ужаленный.
– Заяц! Заяц! – закричал он. – Заяц дорогу перебежал! Аа… чёрт подери, чтоб его разорвало!
Шилохвостов махнул рукой и опустил голову. Он помолчал немного, подумал и, проведя рукой по бледному, вспотевшему лбу, прошептал: «Не судьба, знать, мне 2 400 получать… Ворочай назад, Митька! Не судьба!»
(При этом по ходу сюжета, заяц, перебежавший герою дорогу, аналогичен священнику, несчастливо встретившемуся герою на пути в город ранее и ставшему ему плохой приметой на выборах участкового мирового судьи.) «Куцым дьяволом» называет зайца дед Ваньки Жукова («Ванька»), а в рассказе «Счастье» (1887) старик-пастух, поминая недобрым словом покойника, слывшего колдуном, вспоминает, как однажды он встретился ему на дороге во время страшной грозы и как им навстречу выскочил заяц. Этот заяц, божится рассказчик, остановился и сказал им «по-человечьи: „Здорово, мужики!“». У Чехова узнаем мы кое-что о меновой стоимости зайцев: в рассказе «Гусев» (1890) «Андрон с кремневым ружьем на плече несет убитого зайца, а за ним идет дряхлый жид Исайчик и предлагает ему променять зайца на кусок мыла»[154].
Еще одной культурной «средой обитания» зайцев в эти же годы является детская литература. Детский фольклор помнил о зайцах с давних пор, упоминая о зайчиках в сказках «Рукавичка» и «Колобок». В первой из них зайчик залезает в рукавичку с прочими зверьми, пока их не прогоняет собака деда, потерявшего рукавичку. Во втором заяц намеревается съесть Колобка, но, заслушавшись его похвальбой, остается ни с чем[155]. Теперь рассказы о зайцах полнятся новыми приключениями. Главным из них стало коротенькое стихотворение Ф. Б. Миллера, плодовитого поэта и переводчика, из цикла «Подписи к картинкам (для детей первого возраста)» (1851):
- Раз, два, три, четыре, пять,
- Вышел зайчик погулять;
- Вдруг охотник прибегает,
- Из ружья в него стреляет…
- Пиф-паф! ой, ой, ой!
- Умирает зайчик мой![156]
Возможно, что стихотворение Миллера (родившегося в немецкой семье и позднее преподававшего немецкий язык) было навеяно детским стихотворением Августа Генриха Гоффмана фон Фаллерслебена «Жалоба зайчика» (Häsleins Klage), включавшимся в сборники его «Детских песен», впервые изданных в 1840‐х годах и почти сразу снискавших широкую популярность среди детей и их родителей. Пять строф этого стихотворения – ламентация на тему печальной судьбы зайчика-сиротки и злых охотников, которые, несмотря на его слезы, стреляют в него, чтобы зажарить и съесть под выпивку. Четвертая строфа этого стихотворения особенно близка к русскому тексту:
- Mein Klagen aber wenig frommt.
- O weh, der böse Jäger kommt;
- Kaum daß er mich hat gesehen,
- Ist es schon um mich geschehen
- Und er schießt, piff, paff, puff.
(«Но моя жалоба мало полезна. / Увы, злой охотник приходит; / Как только он меня увидел, / то сразу со мною случилось / И он стреляет, пиф, паф, пуф»)[157].
Семантическое и лексическое сходство стихотворений Миллера и Гоффмана фон Фаллерслебена (несчастный зайчик, охотник, «пиф-паф») не меняет, впрочем, их важного различия: немецкий текст – это песенный текст, а русский – декламационный, текст-считалка (созвучный другим фольклорным считалкам с участием зайцев)[158]. Последующая традиция исполнения незамысловатого, но легко запоминающегося сочинения Миллера замечательна разнообразием и долголетием. Опубликованный в 1880 году во втором издании собрания стихотворений поэта стишок о невезучем зайце все еще обходится без сантиментов. Безжалостны и некоторые из его переделок:
- Пиф-паф-фок
- прямо зайку в левый бок (или: «прямо зайке пуля в лоб»),
- Драх-друх, а зайка – ух,
- полетел из зайки пух[159].
Но в поздних, преимущественно популярных вариантах история заканчивается благополучно:
- Принесли его домой —
- оказался он живой!
- Пиф-паф! ой-ой-ой!
- Убегает зайчик мой!
- Пиф-паф! Не попал.
- Серый зайчик ускакал![160]
Едва ли сам Миллер, «убивавший» зайку в адресованном детям стихотворении, задумывался, что со временем оно станет поводом для эмоциональной рефлексии и (само)терапии его читателей, но так или иначе это произошло: потешная гибель зайчика оказалось мнимой – к удовольствию тех, кто в этой гибели не увидел ничего потешного.
В середине 1890‐х годов Д. И. Мамин-Сибиряк – автор «Сказки про храброго зайца длинные уши, косые глаза, короткий хвост» (одной из цикла «Аленушкиных сказок», 1896) – напомнил о стародавней традиции басенного изображения ушастого зверька, но, вопреки той же традиции, придал ей не морализаторское наставничество, а доброжелательную иронию и житейскую снисходительность. Заяц в его сказке смертельно боится всего на свете, но самозабвенно похваляется перед сородичами своей храбростью. А когда эта похвальба чуть было не оборачивается для него бедой – перед пастью волка, – в страхе подпрыгивает и падает волку на голову, обращая того в бегство.
– Молодец, косой! – закричали все зайцы в один голос. – Ай да косой!.. Ловко ты напугал старого Волка. Спасибо, брат! А мы думали, что ты хвастаешь.
Храбрый Заяц сразу приободрился. Вылез из своей ямки, встряхнулся, прищурил глаза и проговорил:
– А вы бы как думали! Эх вы, трусы…
С этого дня храбрый Заяц начал сам верить, что действительно никого не боится[161].
А. Ф. Афанасьев. Илл. к сказке Д. И. Мамина-Сибиряка «Про храброго зайца длинные уши, косые глаза, короткий хвост» (Мамин-Сибиряк Д. И. Аленушкины сказки. М., 1903. С. 4)
К концу века популярности зайца как литературного и изобразительного персонажа способствует мода на европейскую пасхальную и рождественскую символику. В европейской культуре связь зайца с пасхальными яйцами гипотетически возводят к дохристианской традиции празднования весеннего плодородия (германскому культу богини Эостры/Остары (Eostre/Ostara) – имени, этимологически предшествующему названию самой пасхи – нем. Oster, англ. Easter)[162]. Зайцы и яйца могли пониматься при этом как символы фертильности. Из сочинения знаменитого ботаника и медика Георга Франка фон Франкенау «О пасхальных яйцах» (1682) известно, во всяком случае, что дети и простецы потешали разумных взрослых рассказами о зайцах, откладывающих и прячущих яйца в траве и кустах[163]. В XVIII веке образ «пасхального зайца» (Osterhase, Easter Hare / Bunny) становится общефольклорным как для католической, так и для протестантской традиции Европы и США (куда его завозят европейские переселенцы) – причем пасхальная символика в этих случаях дополняется рождественской[164]. В православном христианстве «пасхальный заяц» широкого распространения не получил (хотя в детском фольклоре шутливые намеки на семантическую связь зайца и откладываемых им яиц встречаются и здесь)[165], но не был обойден вниманием как характерный атрибут заграничной праздничной культуры. К началу XX века русские зайцы «европеизируются», появляясь в умилительном антураже детского празднования Пасхи и Рождества.
В 1903 году начинается история и самой популярной в России детской рождественской (а в советские годы – новогодней) песенки «В лесу родилась елочка» (слова – Раисы Кудашевой, положенные в 1905 году на музыку Леонидом Бекманом), давшей жизнь бессмертным строчкам: «Трусишка зайка серенький / Под ёлочкой скакал»[166]. Авторы книжек, ориентированных на детскую аудиторию, охотно приводят тексты о зайцах, которые обретают в этих контекстах и новую жизнь – в задушевных ассоциациях, позволяющих шить для детей шапочки с заячьими ушками и любоваться литографиями, изображающими детей (преимущественно девочек) с зайчиками[167].
Пасхальная открытка 1900‐х годов. Der Verlag Munk. M. M. Vienne
Трогательность таких сюжетов не минует и взрослую аудиторию: представленный Валентином Серовым на Таврической выставке 1905 года портрет Клеопатры Обнинской с зайчиком на руках (1904) станет прецедентным для тиражирования образности, в которой ласковая беззащитность пушистого зверька меньше всего напоминает об охотничьем и кулинарном искушении «достать зайца»[168].
За художниками следуют архитекторы: в начале XX столетия зайцы появляются в декоре зданий Санкт-Петербурга, странным образом связывая городской быт с традицией сентиментального и вместе с тем добродушного анимализма[169].
В. А. Серов. Портрет К. А. Обнинской с зайчиком. 1904. Картон, уголь, пастель, сангина. 54,5 × 46
Примеры заячьих мотивов в русской культуре XIX века можно умножить, но уже сказанного достаточно, чтобы подчеркнуть их общую функцию – функцию новизны и художественной выразительности. Уместность вышеприведенных упоминаний в литературных текстах, вероятно, первоначально осознавалась тем сильнее, чем сильнее осознавалась новизна оправдывающей их поэтики. Но к концу века такое оправдание уже было излишним. Отказ от изобразительной дидактики классицизма потребовал поэтики и нарративных приемов, кристаллизующихся в произведениях тех, кого впоследствии авторы хрестоматий назовут русскими классиками. Но будучи созданными, такая поэтика и такие приемы обратились собственной инерцией, ожидавшей преодоления, как покажет будущее, в декларациях новых художественных идеологий. В русской культуре таковыми стали поэтика символизма и различных форм авангарда первой четверти XX века. Новое время породит новых зайцев[170].
Барельф с бегущим зайчиком на одном из фронтонов особняка Демидова (1840. Арх. О. Монферран. Большая Морская ул., 43). Фото автора
Лев Толстой, Луи Пастер и бешеные собаки
Очерк христианской антрозоологии
Видел приятный сон: собаки лизали меня, любя.
Лев Толстой. Дневник. 1910
1
Лев Толстой любил собак. Очевидцы и собеседники согласно свидетельствуют о его интересе к тому, что мы сегодня назвали бы кинологией (собаковедением), а шире – антрозоологией – наукой о взаимоотношениях человека и животных[171]. Читатели Толстого легко вспомнят литературные доказательства такой любви и знания: авторские воспоминания о том, как в детстве он любил смотреть на резвящихся на лугу борзых, как они «летали с загнутыми на бок хвостами»[172], как, увлекшись в отрочестве пантеизмом, всерьез гадал о том, кем он был до рождения – лошадью, собакой или коровой[173], как он гулял с любимым Трезором («Трезор пришел и лизнул меня в нос. Я взял его за лапы и стал играть его лапами [фортепианные] фантазии»)[174], трогательные автобиографические рассказы о легавом Мильтоне и «мордашке» Бульке[175], детально выписанные сцены собачьей охоты в «Войне и мире» и «Анне Карениной». И. М. Ивакина Толстой уверял, что собаки не могут выдержать взгляд человека больше трех секунд, и он лично это проверял на Смоленском бульваре, глядя на огромных злобных псов через забор[176]. С. Н. Дурылин был свидетелем, как Толстой подробно объяснял своей знакомой, как лечить «что-то внутреннее» у ее охромевшей собаки[177]. Из записок Н. И. Тимковского узнаем о своеобразном юморе уже пожилого Толстого, когда он подражал лаю собак, «представлял, как лает мужицкая собака и как – господская»[178]. На фотографии А. Савельева, сделанной за несколько месяцев до смерти Толстого, мы видим писателя вместе с семейным любимцем – черным пуделем Маркизом[179], которого сам он замечательно выдрессировал, научив закрывать за собою дверь в кабинет[180].
В целом упоминания о собаках, встречающиеся в этих и других текстах Толстого и его окружения, могли бы составить обширный «кинологический» контекст его творческой и личной биографии. Меня, однако, будет занимать не сам этот контекст, но засвидетельствованный теми же текстами интерес писателя к проблеме собачьего бешенства – проблеме, которая в ретроспективе художественных и критических высказываний Толстого представляется мне устойчивым мотивом его размышлений о жизни, научном прогрессе, нравственности и вере.
2
Впервые упоминание о собачьем бешенстве встречается у писателя в качестве метафоры в 4‐м томе «Войны и мира» (1868). Катастрофическое отступление из России французских войск рисуется здесь как травля бешеной собаки ее здоровыми сородичами:
Прежде чем партизанская война была официально принята нашим правительством, уже тысячи людей неприятельской армии – отсталые мародеры, фуражиры – были истреблены казаками и мужиками, побивавшими этих людей так же бессознательно, как бессознательно собаки загрызают забеглую бешеную собаку[181].
Спустя три года Толстой вспомнит о действительных случаях собачьего бешенства. Хронологически первыми историями на эту тему стали рассказы Толстого для детей, включенные им во вторую и третью книгу «Азбуки» (1872). Во 2-ю книгу «Азбуки» Толстой включил рассказ «Бешеная собака» о щенке по имени Дружок, которого однажды покусала забежавшая во двор больная собака: «хвост у ней был опущен, рот был открыт и изо рта текли слюни». На десятый день у Дружка появляются те же признаки: «Глаза у него были мутные, изо рта текла слюна». Как ни любили Дружка барин с барыней и их дети, но теперь не оставалось сомнений, что их любимец болен и опасен. Дружка было решено убить. Сначала это попытался сделать барин, но, разнервничавшись, промахнулся и только ранил любимую собаку. «Тогда кликнули охотника, и охотник из другого ружья до смерти убил собаку и унес ее»[182].
Напечатанный в третьей книге «Азбуки» цикл историй о собаках Бульке и Мильтоне также заканчивается их смертью: Мильтона запорол кабан, а Бульку, как полагает рассказчик, укусил бешеный волк:
С ним сделалось то, что называют по-охотничьи – стечка. Говорят, что бешенство в том состоит, что у бешеного животного в горле делаются судороги. Бешеные животные хотят пить и не могут, потому что от воды судороги делаются сильнее. Тогда они от боли и от жажды выходят из себя и начинают кусать. Верно, у Бульки начинались эти судороги, когда он начинал лизать, а потом кусать мою руку и ножку стола. <…> Охотники говорят, что когда с умной собакой сделается стечка, то она убегает в поля или леса и там ищет травы, какой ей нужно, вываливается по росам и сама лечится. Видно, Булька, не мог вылечиться. Он не вернулся и пропал[183].
История про Дружка во второй книге «Азбуки» комментируется в Полном (так называемом «девяностотомном» и других изданиях, зависящих от него) собрании сочинений писателя как переработка одного эпизода из рассказа английской писательницы Гресы Гринвуд «Гектор, борзая собака», перевод которого был напечатан в журнале «Звездочка» еще в 1863 году[184]. Интересно, однако (и не отмечено комментаторами), что, включая через два года тот же рассказ во «Вторую русскую книгу для чтения» (1875), Толстой дал ему подзаголовок «быль», что, вероятно, должно было принципиально указывать юным читателям, что рассказанная им история не выдумана, а правдива. Булька и Мильтон – имена охотничьих собак самого Толстого, а истории о них – и в том числе историю о смерти Бульки – слышали разные собеседники писателя в качестве мемуарных, происшедших в бытность его службы на Кавказе[185].
Внося исправления в печатающиеся сборники «Новой русской азбуки» и «Русских книг для чтения» (1874–1875), Толстой в это же время работает над текстом «Анны Карениной», в рукописных вариантах которого есть сцена встречи Левина с бешеной собакой[186]. Читатели журнального издания третьей части романа в «Русском вестнике» (1875) могли оценить расширенную версию этой сцены, которая позднее была исключена из окончательной редакции романа, вышедшего отдельным книжным изданием в 1878 году (и печатающегося в этой редакции во всех последующих публикациях). В журнальном варианте интересующая нас сцена предваряет приезд к Левину смертельно больного брата Николая. Здесь ему предшествует рассказ о смерти жившего на пенсию Левина старика-слуги, которого он неохотно собирается навестить, но уже не застает в живых, и о его возвращении домой, когда по дороге ему навстречу приближается взбесившаяся накануне гончая по имени Помчишка:
Она лежала на почерневшей от мокроты куче соломы у конюшни, положив свою с белой проточиной голову на лапы, и смотрела на Левина, как ему показалось. Он, не останавливаясь, вгляделся в нее. В полутьме он не мог разобрать выражение ее лица.
– Помчишка, ффю, на! – свистнул он.
Собака поднялась шатаясь и двинулась к нему. «Пожалуй, и точно бешеная», – подумал он и прибавил шагу.
В сорока шагах впереди был дом приказчика, в двадцати шагах сзади была собака. Он опять оглянулся. Собака подвигалась к нему медленною рысью. На ходу он разглядел ее всю. Рот был открыт, хвост поджат, и она бежала, шатаясь из стороны в сторону, не разбирая дороги и брызгая лапами по лужам. Вся эта прежде ласковая, веселая собака имела странный, не собачий вид. Это была не собака, а какое-то неизвестное существо. Чем она более приближалась, тем менее она была похожа на себя и тем яснее было то новое существо, которое, приняв на себя вид собаки, приближалось к нему.
Ужас, какого никогда не испытывал Левин, охватил его, он бросился бежать своими сильными, быстрыми ногами что было духа. Ужас, который он испытывал, казалось, не мог быть сильнее; но в ту минуту, как он побежал, ужас еще усилился. Как сумасшедший, он влетел в двери сеней управляющего и, не в силах ответить на вопросы жены приказчика, выбежавшей к нему в сени, долго не мог отдышаться[187].
Почему Толстой (фактически передоверивший корректуру и редактуру книжного издания Н. Н. Страхову)[188], отказался от сцены встречи Левина с бешеной собакой, остается судить предположительно. Возможно, она была избыточна для характеристики личности Левина и ослабляла общую динамику сюжета в обрисовке других персонажей романа, возможно, появившиеся в печати на протяжении трех лет три разножанровых текста, в которых были рассказы о собачьем бешенстве, ранее напечатанные в «Азбуке» и «Русских книгах для чтения», показались Толстому (или Страхову) ненужно диссонирующими романному повествованию.
Как бы то ни было, читатель книжного издания лишился сцены, которая в оптике журнального – то есть не целостного, а «сериального» – восприятия была наделена тем содержательным смыслом, что она сталкивала Левина – между сценой смерти старого слуги и разговором с безнадежно больным братом – со смертельной опасностью, которая теперь неожиданно угрожала ему самому: вопреки возрасту, вопреки здоровью, а только в силу, казалось бы, нелепой случайности, способной оборвать его собственную жизнь. Майкл Холквист полагал возможным говорить о присутствии сверхъестественного в событийном пространстве «Анны Карениной», обнаруживающем себя в сцеплении скрытых причин и видимых последствий. Действительности событий предшествуют и сопутствуют здесь – как, впрочем, и в других текстах Толстого, – непреднамеренные ассоциации и странные совпадения, иносказания, которые a posteriori могут о/казаться намеками и предупреждениями[189].
Все, что существует и происходит, обязано «естественному порядку» вещей, пусть последний и видится извне случайным и «бессознательным» (как «бессознательно» в «Войне и мире» поведение казаков и мужиков по отношению к отступающей французской армии, схожее с «бессознательной» грызней здоровых собак с бешеной). Все, что существует и происходит, не описывается в терминах социальной и психологической детерминации. Нежданная и никак непредусмотренная встреча Левина с бешеной, а еще недавно доброй и ласковой собакой – лишнее свидетельство неприятно напоминающей о себе истины, что человек предполагает, а Бог располагает. Рационализм расчета и нерациональность случая равно подчинены здесь предопределению, противостоящему уверенности человека в том, что произойти может только то, что должно произойти. Интересно и то, что сам Левин спасается от бешеного пса, уподобляясь умалишенному (параллель, усиленная сравнением Левина, идущего на дворню, с «мокрой собакой»): смерть от бешенства приравнивается к сумасшедшему стремлению жить, превращение собаки в «неизвестное существо» способствует такому же превращению (на этот раз) спасающегося от нее героя («Как сумасшедший, он влетел в двери»). Совсем недавно, нехотя перекрещиваясь при выходе из комнаты покойного («ему совестно было за то, что он перекрестился, как и всегда совестно бывало, когда он делал то, во что не верил»)[190], Левин думал о предстоящих делах и отъезде, и вдруг он же спустя какие-то минуты оказывается лицом к лицу (заметим и то, что собачью морду Толстой называет лицом) с тем, что пугающе напоминает о неизбежности собственной смерти.
3
Собачье бешенство было на слуху и на виду у современников Толстого. Десять лет спустя после появления журнального текста «Анны Карениной», когда в России уже открылись пять пастеровских станций для предохранительных прививок и число умерших существенно сократилось (из общего числа привитых пациентов, несомненно укушенных бешеными животными, с 1886 по 1890 год умирало около 2,5 процента)[191], показатели смертности по России от бешенства (по очень приблизительным данным), по материалам с 1887 по 1914 год, в среднем составляли все еще около тысячи человек в год[192]. В «довакцинный» период эта цифра была, несомненно, значительно выше. В разные годы в Европе и России нападения больных животных на людей приобретали характер эпизоотий, сея массовую панику и заставляя жителей опасаться не только волков (в России XIX века из всех зафиксированных случаев собачьего бешенства примерно 15 процентов приходилось на волков), но и любой собаки[193].
Собственно, и помимо бешенства страх перед собаками и особенно волками можно назвать характерной темой умонастроений российского общества или, если прибегнуть к удачному термину Барбары Розенвейн[194], российского «эмоционального сообщества» XIX века. Не только сельское, но и городское население России было вынуждено считаться с фактом поистине поразительного количества волков, которые обитали не только в глухих лесах, но и возле больших городов. По подсчетам В. М. Лазаревского, министерски уполномоченного в начале 1870‐х годов исследовать так называемый «волчий вопрос», то есть экономический урон, наносимый волками в европейской части России, численность волков составляла здесь 180–200 тысяч. В 70-страничном отчете, опубликованном им в 1876 году в приложении к «Правительственному вестнику», количество только крупного домашнего скота, погибшего в одном 1873 году от нападения волков в 45 европейских губерниях России равнялось 179 тысячам голов, денежная цифра сельхозпотерь исчислялась 7,5 миллионами рублей. Сам Лазаревский предлагал, следуя французскому опыту, истреблять волков стрихнином (во Франции такая практика к этому времени существовала уже более полувека)[195]. В рецензии на отчет Лазаревского зоолог и знаменитый охотовед Л. П. Сабанеев отчасти корректировал его статистические выводы, но подчеркивал, что «Францию нельзя ставить в параллель с Россией» и «на таком громадном пространстве, как Восточная Европа <…> волки еще долго будут жесточайшим врагом человека». Волков, по Сабанееву, следует не только травить, но неотложно и посильно истреблять «всяким способом»[196]. Нападения волков на людей еще более способствовали коллективным страхам перед многочисленным зверем, вменяя ему не просто пугающий, но пугающе-демонический характер. Иллюстративным и равно символическим примером такой демонизации может служить картина Карла Венига «Дедушка, спаси!» (1902).
На таком дискурсивном и эмоциональном фоне слухи и документальные свидетельства о жертвах бешенства представали тем более пугающими, что умирание зараженных людей было особенно мучительным, сопровождаясь сильнейшими судорогами и спазмами, жаром, обильным слюнотечением, невозможностью пить и даже видеть воду (поэтому бешенство повсеместно именовалось также гидрофобией или водобоязнью), помутнением сознания, слуховыми и зрительными галлюцинациями, приступами необоримого страха и агрессии по отношению к окружающим и – в последней стадии болезни – развитием параличей конечностей и языка, глазных мышц, мышц глотки и гортани.
Этиология и патогенез бешенства оставались при этом неизвестными. Понимание их осложнялось и тем обстоятельством, что не каждый укушенный бешеным животным заболевал[197]. Способы лечения от укусов больных животных искались наугад и включали как стародавние, применявшиеся уже в античности средства врачевания (самым распространенным из которых было прижигание ранки раскаленным металлом), так и различного рода медицинские и фармакологические открытия последующих столетий[198]. В России первым опытом научно-медицинского изучения бешенства стало исследование учившегося в Лейдене (и получившего степень доктора медицины) Данилы Самойловича «Нынешний способ лечения с наставлением как можно простому народу лечиться от угрызения бешеной собаки и от уязвления змеи» (1780, второе изд. – 1783)[199]. Приводя примеры из известной ему литературы и дополняя их собственными наблюдениями, Самойлович полагал бешенство заразным заболеванием, инкубационный период которого может длиться от 30 дней до нескольких лет, при этом источником заражения может явиться не только укус, но и другие предметы, на которые попала ядовитая слюна бешеного животного. Неотложным способом помощи больному он считал отсасывание из раны яда, «дабы не допустить ему с соками соединиться», а лучшим лечением – употребление меркурия или каломеля (хлорида ртути) внутрь и обрабатывание ран ртутной мазью. В те же годы адъюнкт естественной истории Петербургской академии наук (а впоследствии академик и директор Кунсткамеры) Николай Яковлевич Озерецковский знакомил отечественного читателя с опытом фармакологического лечения укусов бешеных животных[200]. В 1810‐е годы изучением бешенства занимался академик Петр Андреевич Загорский, настаивавший, что спасительным средством, предупреждающим развитие болезни, является кровопускание[201].
В 1820‐е годы не только в России, но в Европе широким доверием пользуется метод лечения, предложенный хирургом московской Голицынской больницы, а позднее доктором Санкт-Петербургского театрального училища Михаилом Петровичем Марокетти. Он считал, что у пациентов, укушенных бешеными животными, на слизистой оболочке под языком образуются водянистые пузырьки (куда, как он полагал, на недолгое время переносится яд бешенства). Еще до Марокетти в медицинской печати на появление таких пузырьков указывал штаб-лекарь 45‐го егерского полка, а позднее ординатор Кутаисского военного госпиталя Василий Листов, ссылавшийся при этом на опыт народного врачевания и предлагавший вскрывать такие прыщи (boutons) с тем, чтобы удалить содержащуюся в них заразу[202]. Как и Листов, Марокетти считал, что тем из укушенных, у кого появляются подобные пузыри, их необходимо неотложно вскрыть с последующим прижиганием, а в качестве питья и полоскания использовать декокт из отвара дрока красильного (decoctum summitatum et florum genistae lutiae tinctoriae)[203]. Марокетти также ссылался на то, что метод свой он позаимствовал на Украине у какого-то местного знахаря, когда ему довелось видеть, как тот лечил 15 укушенных крестьян, вылечив из них 14, а потом и сам с поразительным успехом применил тот же метод в Подолии, когда ему пришлось выхаживать 26 человек, искусанных бешеной собакой. В последующие годы, пользуясь тем же методом, Марокетти, по его словам, исцелил еще 10 пациентов[204].
Проходит несколько лет, и в эффективность нового метода – как и самому Марокетти – верят уже немногие. Первые сомнения в обоснованности нового способа лечения высказал авторитетный французский врач А.-Ж. Мажистель (A.‐J. L. Magistel), которому он был предложен к специальному изучению распоряжением медицинского начальства[205]. Позднее А. П. Лей от имени общества русских врачей в «Медицинском лексиконе» 1842 года пишет о способе Марокетти как о предмете, «о котором приятнее было бы молчать, чем говорить; но так как он наделал много шуму и дал повод к ошибочным заключениям и неправильным способам лечения водобоязни, то для отвращения будущих несчастий и жертв долг от нас требует выставить предмет в надлежащем виде»[206]. Подытоживая свой разбор, Лей заключает, что способ лечения Марокетти оказался недействительным, а появляющиеся у некоторых пациентов подъязычные и подчелюстные пузырьки объясняются другими причинами и, возможно, являются следствием употребления того же отвара дрока красильного, как и других лекарств, прописываемых при водобоязни и возбуждающих деятельность слюнных желез (например, каломеля и красавки)[207].
В суждениях о других способах лечения водобоязни автор, впрочем, также далек от оптимизма:
Сравнивая результаты употребления этих средств, видим, что они часто противоположны, что нет специфически общего средства против водобоязни <…> На вопрос, знаем ли мы во всяком данном случае те обстоятельства, при которых то или иное средство может спасти больного, должны отвечать: нет, несмотря на то, что болезнь эту лечат уже тысячу лет и жертвою ее сделалось больше миллиону людей[208].
Вопреки (или благодаря) безуспешности всех имеющихся средств лечения водобоязни, поиск благословенной панацеи полнится новыми находками[209]. Наиболее авторитетным руководством по лечению собачьего бешенства в 1830–1840‐е годы считалось ее описание в «Частной терапии» гёттингенского хирурга и терапевта Августа Готтлиба Рихтера. Русскоязычное издание всех десяти томов этого сочинения увидело свет в 1828–1833 годах. В восьмом томе (1828) детальному описанию водобоязни и надлежащих средств лечения отводилось 165 страниц[210].
В 1855 году в «Военно-медицинском журнале» был опубликован подробный отчет главного лекаря Могилевского военного госпиталя Н. И. Скоковского о случае десятилетней давности, когда ему, в то время штаб-лекарю и ординатору того же госпиталя, на протяжении трех месяцев довелось лечить 23 тяжело пострадавших человека (10 мужчин и 8 женщин из деревни Палыкович Могилевской губернии и 5 квартировавших в этой деревне рядовых Охотского егерского полка), искусанных утром 17 января 1844 года бешеным волком. Раны на лице прижигались азотнокислым серебром, на конечностях – раскаленным докрасна железом, а там, где этого нельзя было сделать, – раствором едкого калия, всем было дано на прием по 24 грана порошка водяного шильника[211], сделаны холодные примочки и кровопускания, назначено питье уксуса с водой и камфорой. В раздумьях о том, какие еще средства он может прописать больным (один из которых от полученных ран умер уже на второй день), лекарь перечисляет те, что
рекомендуются против водобоязни разными журналами и писателями, как-то: щитовку цветостороннюю (scutellaria lateriflora), луговую руту (thalictum flavum), печать соломонову (poligonatum), глухую татарскую траву (leonurus), тис обыкновенный (taxus), гулявицу (achillea ptarmica), красильную серпуху (serratula tinctoria), корень шиповника (radix cynosbati), бобы святого Игнатия (faba sti Ignatii), табак (nicotiana), волчий корень (scorzonera), обыкновенную руту (ruta graveolens), красные кораллы (coralia rubra), ясень (fraxinus excelsus), корень таволги илемни (radix spiraeae ulmariae), сокольный перелет (gentia cruciata), лишай червеценосный (lichen cinereus), чемеричник вшеморный (sabadilla) и т. п.[212]
Сам он отдает предпочтение листьям белладонны, порошком из которой посыпаются раны на конечностях, а настойкой – обливаются раны на голове и лице. Кроме того, всем больным предписан отвар из травы и цветов дрока (herba et flores genistae luteo tinctoriae) пополам с лядвенцем (lotus corniculatus), к ранам на головных покровах приложена хлористая сурьма и присыпка из порошка шпанских мух. После смерти еще двух пациенток – одной с очевидными симптомами бешенства, а другой с признаками «нервной горячки» – белладонна была оставлена, велено топить ежедневно баню («так как паровые бани у нас в России почти в народном употреблении против бешенства <…>, притом же они одобрены некоторыми нашими знаменитыми соотечественниками»)[213] и прописаны шпанские мухи, майские жуки, дурман, курослеп, аммиак и меркурий (каломель). Некоторым из больных Скоковский также прижигает раскаленным прутиком появившиеся у них подъязычные и подчелюстные пузырьки («марокеттиевы пузырьки»), а также поддерживает нагноение в местах укусов (считалось, что это уменьшает всасывание яда). Все эти средства также не принесли результата, больным стало хуже от головокружения, болей при мочеиспускании, кровотечения из носа, общей слабости. Через неделю умерла еще одна пациентка со всеми признаками водобоязни, а еще через неделю с теми же признаками – пять других. Оставшимся пациентам снова был прописан порошок из шпанских мух с винным уксусом. После смерти еще одного больного и появления кровавой мочи у других шпанские мухи были оставлены. «Потерявши всю надежду на спасение остальных крестьян», лекарь решается привить одному из крестьян сифилис, «предполагая животный яд уничтожить ядом другого»[214].
В это время по распоряжению помещика Ладомирского был прислан из другого его имения старик, который славился тем, что умел лечить от бешенства. Лечение его заключалось в воде, которую он привез с собою. Воду эту он брал в рот и потом переливал ее из своего рта в рот укушенного, повторяя эти переливания три раза в день и нашептывая всякий раз неизвестные мне слова. Вода, по его словам, была взята из трех Святых мест[215].
Все оставшиеся в живых крестьяне, включая и того, кому был привит сифилис, выжили и через несколько дней были отправлены по домам. Из пяти пострадавших солдат от водобоязни скончался один. Таким образом, из 23 человек умерло 11, из них 9 со всеми признаками водобоязни.
Подытоживая отчет, Скоковский признается, что, случись ему снова столкнуться с необходимостью лечения бешенства, он отказался бы от всех использованных им средств и методов (в том числе и прижигания «марокеттиевых пузырьков», «потому что их нигде не было до употребления шпанских мух, сонной одури и вообще всех сильно действующих средств»)[216], но, может быть, возложил надежду на другие, появившиеся недавно или неизвестные ему раньше, таковы: хинин, гашиш, анэстезический эфир Виггерса, хлороформ, гуако, дождевик (scleroderma verrucosum), душистый чернобыльник (artemisia dracunculus), золотые жуки (aitonia aurata), завалец (scrophularia nodosa)[217], а также специально высушенная в печи берцовая бычья кость, кусочки которой предлагается класть на рану, предварительно вымачивая их в кислом молоке[218].
В том же году на страницах «Военно-медицинского журнала» публикуется и перепечатывается еще тремя журналами сообщение А. И. Козлова о новом способе лечения водобоязни, которым на этот раз назначался отвар из высушенных листьев дурнишника колючего (или игольчатого: xanthium spinosum) и раствор медного купороса. Отвар предписывается пить, а раствор употреблять под язык. Обнародуемое средство аттестовывалось здесь же как «секретное», которое употреблялось «с совершенным успехом» «в продолжении 50 лет сряду членами одного мещанского семейства» и «сделалось известным только в прошлом году»[219]. «Рассекреченное» средство себя не оправдало, но «секретные» способы исцеления от водобоязни останутся и впредь обнадеживающими потенциальных жертв бешеных животных. Так, уже у Н. В. Гоголя в отрывках из «малороссийской повести» «Страшный кабан» (1831) «почтенный педагог имел необъятные для простолюдина сведения, из которых иные держал под секретом, как-то: составление лекарства против укушения бешеных собак»[220]. У Д. В. Григоровича в рассказе «Бобыль» (1847) подобным же «секретом» владеет помещица, рассказывающая о нем в знак приязни своей приятельнице-соседке, намедни вылечившей, по ее словам, укушенного бешеной собакой кучерского сына присыпками мышьяка и питьем из подорожника:
Напрасно вы это делали, только лишняя потрата вам… Если хотите, я вам скажу другое средство… и гораздо дешевле; мне передала его по секрету одна дама… <…> Как у вас придется еще такой случай: укусит кого-нибудь бешеная собака, вы возьмите просто корку хлеба, так-таки просто-напросто корку хлеба, напишите на ней чернилами или все равно, чем хотите, три слова: Озия, Азия и Ельзозия, да и дайте больному-то съесть эту корку-то: все как рукой снимет.
– Неужели правда? – воскликнула помещица, всплеснув руками.
– Да вот как, – отвечала скороговоркою Софья Ивановна, – та, которая передала мне этот секрет, сказывала, что пятерых сряду вылечила этим средством[221].
4
Между тем угрозы нападений – и действительные нападения – больных животных наводили ужас на жителей не только деревень и сел, но даже больших городов. Одним из таких событий стало появление ранним утром 7 ноября 1854 года на улицах Петербурга бешеного волка, который, по официальным данным, искусал около 35 человек[222]. Схожие случаи отмечаются ежегодно, а их освещение в прессе вполне показывает отчаянье врачей и стремление как городских, так и сельских жителей вверяться любым средствам врачевания – от предписанных профессиональными медиками до молитв, заговоров, знахарских снадобий и магических манипуляций. Так, в 1860 году в «Московских ведомостях» напоминалось о ранее напечатанном письме о появлении в одной из деревень Можайского уезда бешеного волка, перекусавшего многих жителей, и приводились присланные в редакцию простонародные средства от укушения бешеными животными. Публикация сопровождалась скептическим примечанием, что сами по себе такие средства «могут быть удовлетворительны, а иногда вредны и бессмысленны», но их публикация оправдывается не медицинской полезностью, а «как любопытные факты из нашего народного быта». В качестве примера «необъяснимого логикой» средства здесь же приводилось лекарство, состоящее «в лепешке, которую следует замесить без соли на воде и высушить в печи, а потом нарисовать на той же лепешке чернилами крест и слова: дон, стути, дон, калиром (три раза), фелоктион». Другое средство, которое, по сообщению приславшего его корреспондента, лично при нем «многократно и с несомненною пользою» употреблял его покойный отец, также напоминало о лечебном «секрете» из рассказа Д. В. Григоровича, включая манипуляции с абракадабрической надписью:
При укушении бешеною собакою или зверем он давал кошке, собаке и т. п. вылакать или вливал в горло в случае начинавшейся уже водобоязни молоко, которое наливал в тарелку, написав прежде чернилами на оной нижеследующие слова: Aron, Aaron, Linor, Kaplinor, Kakaplinor, Defin Deus. Людям же на корочке, намазанной коровьим маслом, начертав эти слова по маслу (думаю, что и просто начертанные эти слова могут быть также действительны), давал съесть укушенному, и оный излечивался[223].
«Член многих ученых обществ» Измаил Ковалевский прислал сообщение о целителе из Бердичева мещанине Анфиме Костюкове, «давно известном в соседних губерниях всегда успешным лечением от водобоязни людей и животных, даже таких, у которых уже обнаруживались признаки бешенства». Средство Костюкова – растение Megicago fulcata L., «желтый буркун, как называют в Ставропольской губ., или бурундук в простанародье в Екатерин[бургской] губернии; что дается оно в порошке больным с водкой или чаем»[224]. Некто Петр Горохов из Москвы предлагал в качестве целебного средства «обмывание ран укушенных людей кровью убитого бешеного животного». Житель города Епифань Петр Протопопов напомнил о письме, напечатанном в 6‐м номере «Морского сборника» за 1857 год, сообщавшем об удивительном излечении многих людей с помощью средства покойного Андрея Никитича Левашова, владельца села Пехлец Рязанской губернии Ряжского уезда, передавшего знание своему родственнику Андрею Федоровичу Левашову. Далее следовала перепечатка письма из «Морского сборника», автор письма Владимир Доргобужинов «по поручению г. заведующего морской частью в Николаеве» сообщал о случае, происшедшем с мичманом 14‐го флотского экипажа Николаем Антоновичем Иванченко, который был укушен в кисть руки бешеной собакой. Больному прижгли рану железом, и он был отправлен в Рязанскую губернию к Левашову. Здесь же приводился рассказ, записанный автором письма со слов самого Иванченко:
Первым делом врача было испытание довольно болезненное, но необходимое для убеждения в присутствии водобоязненного яда в язве: он сильно сжал укушенную руку и тем вызвал первый приступ болезни. У субъекта потемнело в глазах от боли; через минуту боль прошла, но сознание отупело; началась тоска; помнит он как во сне, что окружающих стал он бояться, ожидая от каждого чего-то недоброго, чего именно больной определить не мог; тоска, беспокойство и страх росли с каждой минутою; явилась тошнота, а за нею и полная потеря сознания на 30 с лишним часов. В этот период беспамятства, но не бесчувствия больной, по словам курьера, был постоянно беспокоен, взгляд имел испуганный и на приближавшихся к нему плевал. Все прописанное оказалось точным повторением симптомов первого периода водобоязни, предшествующих исступлению и вполне известных врачу, из многолетней специальной его практики.
По убеждению в свойстве недуга, г. Левашов приступил к лечению. Средствами его были пилюли и порошки. Пилюли величиною в малую картечную пулю, темноватые, с сильным своеобразным запахом, непротивные вкусу и обонянию, – делаются из трав, секрет которых потомственно передается в роде Левашовых. Порошки зеленовато-серые, принимаются в воде и в лечении имеют характер только вспомогательный. После первой пилюли больной заснул; проспал непрерывно четыре часа; проснулся уже в совершенном сознании, почувствовал легкую испарину и тотчас же попросил лекарства. Затем лечение пошло нормальным ходом; весь процесс его кончился приемом четвертой пилюли; но уже с первой больной находился в полном выздоровлении: припадки не возобновлялись, тоски не было, все жизненные отправления шли, как у здорового человека[225].
Уезжая от своего благодетеля, Иванченко
вписал имя свое в книге излеченных г. Левашовым от бешенства под № 1791 и получил от него наставления о всей важности строжайшего соблюдения диеты, довольно впрочем легкой, так как требуется только не курить в течение двух недель и воздерживаться целый год от употребления вина, водки, кофе, пряностей, слишком питательного мяса и вообще всего горячительного.
Иванченко рассказывал также о виденном им излечении дьякона, укушенного бешеным волком.
Несчастный был уже в полном исступлении: ревел как зверь и рвал себе грудь ногтями, запуская их с такой силою, что за ногтями и концы пальцев уходили в разорванное тело. Скованного по ногам и рукам, уложили страдальца на постель, развели зубы ножом, вложили пилюлю в рот и протолкнули ее через горло…
Действие лекарства было столь же чудотворным, что и в случае с Иванченко: больной заснул и затем пошел на поправку, «через несколько дней дьякон, совершенно здоровый, отправился домой». Но этого мало: «Не довольствуясь спасением людей, А. Н. Левашов также успешно лечит от бешенства животных» (приводится рассказ об излечении бешеной собаки, перекусавшей гончую стаю, и заразившихся от нее гончих). При всем своем искусстве врачевания Левашов не берет денег за чудесные исцеления:
Желающие делают вклады в приходскую церковь села Пехлец. Всем прибегающим к нему за помощью, даже по переписке, высылает он, разумеется безвозмездно, пилюли и порошки, с наставлением к их употреблению; но пилюли действительны только в течение одной недели от дня, когда сделаны.
В примечании к перепечатанной статье говорилось, что «при таком бескорыстии г. Левашова, остается только желать, чтобы он не держал в тайне своего способа лечения». Желанию этому не суждено было оправдаться: человеколюбие владельца села Пехлец Ряжского уезда Рязанской губернии не подвигло его к тому, чтобы обнародовать рецептуру своих чудесных пилюль, о которых мы только и знаем, что они были «темноватые, с сильным своеобразным запахом, непротивные вкусу и обонянию»[226].
Известные к началу 1860‐х годов способы лечения водобоязни обобщил гомеопат Василий Дерикер в статье (изданной позже отдельной брошюрой) «Секретные и несекретные средства от водобоязни и покусов бешеных собак» (1863). Руководствуясь просветительским стремлением указать на ненадежность многих из таких средств, Дерикер обращался к публике с напоминанием о том, что часто новые лекарства рекламируются только из своекорыстных побуждений, и призывал знахарей честно делиться своими тайными знаниями[227]. Анонимный рецензент работы Дерикера в «Журнале гомеопатического лечения» подчеркивал ее медицинскую и социальную актуальность:
Предмет этот до чрезвычайности важен: несчастные случаи от покусов бешеными собаками встречаются очень часто и повсеместно, но от всех хваленых лекарств толку мало. В Петербурге со днем год уже толкуют в газетах о том, как бы или истребить всех собак на улицах или понадевать на всех намордники, чтобы не кусались. <…> Но не только по городам и селам, по мелким городам полиции с этим не управиться. Притом намордник не прекратит собачьего бешенства <…> да и помешает ли это заболевшей искусать своих хозяев? Конечно нет[228].
Но значение работы Дерикера рецензент видел также в том, что неудовлетворительность имеющихся средств против водобоязни однозначно указывает, что современная аллопатическая медицина не в состоянии справиться с болезнью: «Вот еще и еще раз оказывается, как бесплодна эта знаменитая, научностью удобренная почва! „Вот вам признаки собачьего бешенства, изучите их – и будьте осторожны! <…> Если вы укушены – вы неизбежно приговорены к смерти“». Автор рецензии не сомневался, что «самое лучшее средство от покуса бешеною собакой» найдут гомеопаты[229].
В 1866 году Дерикер посвятил отдельное сочинение народным средствам врачевания бешенства, в ряду которых читатель узнавал, что в Петербургской губернии от водобоязни используют кровь самого бешеного животного, а на Украине теплую кровь то ли утки-широконоски (Anas clypeata), то ли выхухоля. Помимо подобной фармакопеи, простое население повсеместно верило в силу заговоров и заклинаний, противодействующих водобоязни[230]. А. Н. Энгельгардт, изнутри наблюдавший жизнь русской деревни в Смоленской губернии в 1870–1880‐е годы, в одном из своих «писем», датируемых тем же 1875 годом, когда печатается третья часть журнального издания «Анны Карениной», включавшая сцену встречи Левина с бешеной собакой, сообщал о появившемся в окрестностях бешеном волке, перекусавшем насмерть несколько человек:
Спасся только один, который, будучи легко ранен, прибежал тотчас к нам в деревню – я его видел и никогда выражения испуга на его лице не забуду, да и как не испугаться, зная, что через несколько дней взбесишься? – к старику-пруднику Андриану, чтобы тот заговорил рану. Хотя Андриан и отказался заговорить, объяснив, что он может заговаривать только от укушения бешеной собаки, но от укушения бешеного зверя не может, силы ему такой не дано, однако указал другого старика, который успел заговорить вовремя, и мужик остался жив[231].
5
Таким был ближайший контекст сведений, которые мог знать Толстой о собачьем бешенстве и способах его лечения. Можно быть уверенным, что контекст этот в той или иной степени Толстого интересовал. Упоминание в «Войне и мире» о бешеной собаке, которую травят ее здоровые сородичи, показывает кинологический интерес и нетривиальную осведомленность писателя в собачьих повадках. Помимо истории со взбесившейся Булькой, писатель рассказывал собеседникам о происшествии, случившемся с ним во время службы на Кавказе, когда ему самому довелось счастливым образом избежать нападения бешеного волка. По воспоминаниям А. Б. Гольденвейзера, однажды за ужином, когда «говорили что-то о бешеных собаках», Толстой
рассказал, как накануне его отъезда с Кавказа он сидел поздно вечером с ребятишками, которые его очень любили. Вдруг в станицу забежал бешеный волк. Л. Н. побежал в хату за ружьем, а офицер, бывший тут, сказал, что ружье не заряжено. Л. Н. возразил, что в одном стволе есть заряд. Он перегнулся через забор и наткнулся прямо на волка. Л. Н. нажал курок, но офицер оказался прав: ружье было не заряжено и не выстрелило. К счастью, волк убежал[232].
Запомнившиеся мемуаристам воспоминания писателя о Бульке и о происшествии, в котором он сам едва не стал жертвой бешеного волка, были, несомненно, автобиографически важны для Толстого. По свидетельству Д. П. Маковицкого, Толстой рассказывал также о том, как однажды «на Козловке (Козловой Засеке, ближайшей к Ясной Поляне станции Московско-Курской железной дороги, где Толстые часто встречали гостей. – К. Б.) бешеный волк искусал урядника и мужика и как они оба взбесились», другая история была известна ему от очевидцев нападения бешеного волка на деревенских жителей, когда зверя остановила женщина: «баба, на сына которой этот волк кинулся, задушила его; баба эта живет до сих пор. Она всунула волку руку почти по локоть в пасть. Волк искусал ее, но она осталась жива»[233].
Историю про бабу, задушившую волка, Маковицкий услышал от Толстого в 1905 году, между тем писатель вспоминал происшествие двадцатилетней давности. В 1885 году оно послужило основой рассказа «Бешеный волк», написанного его своячницей Т. А. Кузминской (урожденной Берс) и присланного ею ему еще в рукописи с просьбой о редактировании. Из писем Толстого известно, что полученную рукопись он «тотчас же прочел и одобрил» (хотя и сожалел, что некоторые социально-психологические детали Кузминская выпустила: о притеснениях урядника, приказе закопать волка и перебить собак) и охотно вызвался рассказ поправить (оговорившись, впрочем, что «кажется, поправлять придется очень мало: рассказ очень интересный и просто написанный»)[234]. Обещания Толстой не сдержал, и рассказ был напечатан без его исправлений в журнале «Вестник Европы» (1886, № 6), но, судя по дневнику того же Маковицкого, историю, пересказанную Кузминской, Толстой запомнил и ценил[235].
Значимость персональных воспоминаний во всех этих случаях представляется тем более важной, что с середины 1880‐х годов как самим Толстым, так и его собеседниками они воспринимались в контексте мировой сенсации – сообщений о полученной Луи Пастером и Эмилем Ру в 1885 году антирабической (от лат. rabies – бешенство) вакцины. Работа Пастера широко освещалась в прессе, а в рекламе новой вакцины не последнюю роль играл сам ученый, вынужденный с нажимом отстаивать свое научное и медицинское открытие в исключительно парадоксальной ситуации, когда рекомендуемое лечение подразумевало уничтожение возбудителя бешенства, который при этом оставался невидимым. Пастер был убежден, что бешенство вызывается бактериями, недоступными микроскопическому наблюдению, но это не препятствует борьбе с ними. Способ такой борьбы Пастер и Ру видели в вакцинации, материалом для которой, после многочисленных экспериментов, стало высушивание зараженных тканей спинного мозга бешеного животного в атмосфере едкого калия при +23–25 °C и получение путем последовательного перепрививания (пассирования) полученной на их основе эмульсии вакцины ослабленного яда. Первые опыты прививания были продемонстрированы Пастером в 1884 году комиссии Французской академии наук на собаках. Результат эксперимента оказался ошеломительным: яд бешенства был привит 23 собакам из 42 подопытных, затем все собаки были поставлены в условия, когда они могли быть заражены бешенством. В результате все непривитые собаки были поражены болезнью, а привитые остались здоровыми.
На следующий, 1885 год, Пастер решился сделать прививку девятилетнему мальчику Жозефу Мейстеру, двумя днями ранее искусанному предположительно бешеной собакой. Двухнедельная вакцинация завершилась благополучно: ребенок выздоровел, а известие об этом стало национальным событием. В том же году в Париже открылась первая антирабическая станция, и уже через год число привитых пациентов, обнадеженных успехами нового метода, достигло более полутора тысяч человек. Российская известность к Пастеру пришла в 1886 году благодаря событиям, которые не только послужили его научной славе, но и стали стимулом к созданию в том же году антирабических станций в Одессе, Самаре, Варшаве, Петербурге, Москве; в 1887 году к ним добавились станции в Харькове, Киеве, Тифлисе и Иркутске[236].
Одним из них стало происшествие, случившееся в ноябре 1885 года, когда взбесившейся собакой был искусан офицер лейб-гвардии Конного полка, входившего в Гвардейский корпус, которым командовал принц А. П. Ольденбургский. Принц, серьезно интересовавшийся медицинскими и биологическими исследованиями и уже известный к тому времени широкой благотворительностью в области просвещения и здравоохранения[237], распорядился отправить раненого офицера в сопровождении военного врача Н. А. Круглевского в Париж для лечения у Пастера, а труп бешеной собаки передать в ветеринарный лазарет лейб-гвардии Конного полка (в Санкт-Петербурге, в здании на углу Конногвардейского бульвара и Благовещенской площади) врачу Х. И. Гельману для перевивки ее бешенства на кроликов и, таким образом, путем последовательных пассажей сохранить на них возбудитель до возвращения Круглевского, на которого возлагалась обязанность узнать от Пастера и его коллег о процессе изготовления вакцины.
Лечение прошло успешно, а вернувшийся в январе 1886 года из Парижа Н. А. Круглевский[238] и Х. И. Гельман стали руководителями основанной на собственные средства принцем Ольденбургским Петербургской антирабической лаборатории и, позднее, прививочной станции[239]. Пастер безвозмездно делился своим методом вакцинации с приезжавшими и стажировавшимися у него российскими врачами (Н. Ф. Гамалеей, И. И. Мечниковым, Н. М. Унковским, П. Ф. Петерманом), передав им сразу несколько партий обновленного прививочного материала – теперь, как это предполагалось и принцем Ольденбургским, таким материалом стали живые кролики, зараженные устойчивым вирусом бешенства.
Эксперименты Пастера по лечению водобоязни. Wellcome Collection gallery. CC-BY-4.0
Опыты вакцинации укушенных собаками и волками широко освещались в столичной и провинциальной прессе. Дополнительным поводом к такому освещению стало событие, случившееся ранним утром 17 февраля 1886 года в городе Белом Бельского уезда Смоленской губернии и его окрестностях, где бешеный волк искусал 19 человек. Благодаря настоянию одного из них – престарелого священника Николаевской церкви дьякона Василия Ершова – и хлопотам местных уездных и губернских властей Пастеру были отправлены две телеграммы с просьбой принять пострадавших, на которые тот ответил незамедлительным согласием (по знаменательному совпадению, в тот же самый день Пастер торжественно докладывал на расширенном заседании Французской академии наук, на котором присутствовали также члены правительства и премьер-министр Франции, об успешном антирабическом лечении по его методу первых 350 пациентов).
Происшествие в Белом и ответ Пастера каким-то образом дошли до К. П. Победоносцева (скорее всего, благодаря сообщению его давнего друга и конфидента С. А. Рачинского[240], бывшего профессора ботаники Московского университета, вернувшегося к тому времени в родовое имение Татево того же Бельского уезда и выступавшего в работе уездного собрания в выборной роли «гласного»), а через него – до великого князя Владимира Александровича и его брата императора Александра III. Наконец, 24 февраля по распоряжению императора за счет казны и на личные пожертвования (из почти 4000 собранных рублей 700 были пожертвованы императором) 18 пострадавших были отправлены поездом в Париж, куда они прибыли 1 марта (отец Василий приехал в Париж за несколько дней до этого самостоятельно)[241]. Об истории последующего лечения российские газеты сообщали почти ежедневно – сама необычность появления в Париже 19 человек из провинциальной России служила источником не только медицинских, но и этнографических подробностей. Французы удивлялись овчинным полушубкам русских мужиков и умилялись их желанию поесть черного хлеба и соленых огурцов (каковые им не без труда, как сообщалось, раздобыл-таки на улице Капуцинов сердобольный французский врач, посетивший их в больнице Отель-Дьё). Пастер, не имевший к тому времени опыта лечения укусов волка, приступил к вакцинации пострадавших только на четырнадцатый день после происшествия. 9 марта, девять дней спустя после начала лечения, один из пациентов, пожарный Матвей Кожеуров, умер (при вскрытии черепа в теменной области умершего был найден обломанный волчий зуб, но причиной его смерти, как было установлено, послужило удушье, указывающее на развитие болезни), 21 марта умер еще один больной, крестьянин Владимир Афиногенов, с глубокой раной на шее, доходившей до подчелюстных слюнных желез, и явными признаками водобоязни, а еще через несколько дней – третий, 21-летний мещанин Петр Головинский, наиболее тяжело пострадавший от волчьих укусов (которых только в области головы насчитывалось более пятидесяти). Однако остальные пациенты явно шли на поправку, и после получения трех курсов прививок (в общей сложности каждый получил по 35 прививок) – спустя месяц после начала лечения – 16 выживших смолян отбыли в Россию[242].
Смоляне в Париже. Фотография на обложке журнала L’ Illustration, 27 марта 1886
История смолян была не единственной, в которой Пастер выступал в роли спасителя русских. В марте того же 1886 года в Самаре бешеной собакой был искусан трехлетний мальчик Дима Калябин. Новости об этом событии всколыхнули весь город, и пострадавший ребенок, благодаря общественной поддержке, в сопровождении отца и двух врачей Самарской губернской земской больницы В. Н. Хардина и В. А. Паршенского был также отправлен в Париж в клинику Пастера. Курс вакцинации продолжался почти месяц и завершился выздоровлением мальчика. Между тем в Париж в сопровождении врачей той же самарской больницы В. Родзевича и Н. Шаровского были доставлены еще пять искусанных бешеным волком крестьян – на этот раз из Ставропольской губернии. Ко времени приезда у одного из них уже развились признаки водобоязни, и он вскоре умер, но четверо других выжили[243].
В глазах широкого российского читателя 1886 год стал годом если не научного, то общественного триумфа Пастера. Из газетных сообщений читатель узнавал, что в знак благодарности за спасение жертв бешеного волка правительство пожертвовало Институту Пастера в Париже 100 тысяч франков (равных по курсу 40 тысячам рублей), а сам Пастер был удостоен орденом Анны I степени с бриллиантами.
6
Общественное внимание к Пастеру, новым методам лечения и самой проблеме собачьего бешенства множит литературные, а шире – риторические возможности темы. В 1886 году публикуется вышеупомянутый рассказ Т. А. Кузминской «Бешеный волк». Тем же годом датируется стихотворение ценимого Толстым Алексея Жемчужникова, где выразительное описание встречи с бешеной собакой послужило поводом к тому, чтобы вспомнить об известном публицисте (под которым современники легко угадывали М. Н. Каткова):
- Я летом посетил немало деревень,
- Где слышать мне пришлось едва ль не каждый день
- О грозном бедствии в быту крестьян убогом
- От бешеных собак, бродящих по дорогам.
- Такую видел я собаку сам вблизи.
- Навстречу мне она, худая, вся в грязи,
- Шла, пробираяся по кочкам поля топким,
- С опущенным хвостом, со взглядом злобно-робким,
- Следящим, как шпион разгаданный, за мной,
- И с длинной, до земли, тягучею слюной.
- Я, в сторону свернув, ей уступил дорогу
- И с нею без беды расстался, слава богу.
- Меж тем она мой ум – опасность чуть прошла —
- На любопытное сближенье навела.
- Не стану разбирать, счастливо ли и кстати ль, —
- Мне вспомнился один наш публицист-писатель.
- А раз он вспомнился, то ясно почему, —
- Едва лишь только мысль представится уму
- О псах, блюющих смерть из пастей ядовитых, —
- И ряд его статей я вспомню знаменитых[244].
В том же 1886 году молодой А. П. Чехов за подписью Чехонте опубликовал два по видимости анекдотичных рассказа – «Водобоязнь» (в поздней редакции – «Волк») и «В Париж!» – в которых тематизация собачьего бешенства хотя и иронично, но не без грустного сарказма напоминала читателю о роли случайностей и житейской непредсказуемости. В рассказе «Водобоязнь» тревожное сообщение о появлении поблизости бешеного волка, пугающе детальные разговоры приятелей-охотников о страшной болезни и безнадежности ее лечения предваряют действительную схватку одного из них с волком. Не растерявшемуся и физически сильному герою – помещику Нилову, председателю мирового съезда, – удалось руками на весу удерживать зверя, пока не подоспела помощь, но все-таки не удалось избежать глубокой раны, и следующие дни становятся для него психической пыткой: он мечется между знахарями и врачами, готов заплатить 50 тысяч любому, кто ему поможет (то есть больше, чем российское правительство пожертвовало институту Пастера в Париже), пока, наконец, не утешается обнадеживающими объяснениями доктора, что не всякий укус заканчивается водобоязнью (здесь Чехов демонстрирует свою медицинскую выучку и приводит сравнительно верную статистику заболеваний: 30 случаев из 100). У героя было сильное кровотечение, и это значит, что даже если яд попал в рану, он вытек вместе с кровью, а самое важное – неизвестно, был ли вообще напавший на него волк бешеным. В итоге, хотя и успокоенный врачом, Нилов, поседевший и психологически надломленный, впадает в «мистицизм» и черствеет сердцем к окружающим[245].
Рассказ «В Париж!» в большей степени комичен, но тоже напоминал читателю о недавней истории смолян и их лечении у Пастера. Два приятеля – секретарь земской управы Грязнов и учитель уездного училища Лампадкин – возвращаются навеселе из гостей и попутно раззадоривают встретившуюся им дворняжку. Дворняжка кусает одного из них за палец (в написанном за два года до того рассказе «Хамелеон» (1884) дворняжка так же кусает подвыпившего «золотых дел мастера Хрюкина»), а другого – за икру. История не остается неизвестной: уездное общество встревожено и снаряжает укушенных отправиться в Париж. Те отправляются – один охотно, а другой нехотя и негодуя («Пусть лучше сбешусь, чем к пастору (то есть к Пастеру. – К. Б.) ехать!»), но четыре дня спустя один из них возвращается обратно: выясняется, что добрались они только до Курска, где после очередной попойки лишились всех собранных им на дорогу денег[246].
Первый из этих рассказов нравился Толстому. Судя по записи в дневнике Д. П. Маковицкого, в 1905 году Толстой читал его вслух ему и В. Н. Тенишеву в новой редакции – по публикации в журнале «Русская мысль» под названием «Волк» (в этой, значительно сокращенной и печатающейся в последующих собраниях сочинений Чехова, редакции рассказа главный герой в итоге изображен более привлекательным и добродушно-жизнелюбивым)[247]. Затем писатель вспоминал известные ему истории о бешеных собаках и решительно заявил, что сам он не верит в прививки Пастера и, доведись ему быть укушенным, не стал бы обращаться к медицинской помощи:
– Я не верю в прививку Пастера, – сказал Л. Н.
Одна яснополянская крестьянка рассказывала мне, что, когда ее корову искусала бешеная собака, она боялась, что заразилась от этой коровы бешенством, и решила ехать в Москву на освидетельствование врачей. Л. Н. сказал ей: «Напрасно ты едешь. Меня бы хоть три собаки укусили, я бы не поехал»[248].
О неверии в эффективность вакцинации Толстой говорил и раньше. В 1894 году В. Ф. Лазурский записал в дневнике, как Толстой «задирал» посетивших его студента-медика и врача-ординатора заявлениями о социальной несправедливости медицины (впрочем, «медицинская помощь и для богатых классов уж не так благодетельна, как кажется, и что, в общем, процент выздоровления без медицинской помощи такой же, как с медицинской помощью») и бесполезности пастеровских прививок («Он следил за статистическими таблицами и в них находил подтверждение своего мнения»)[249]. Менее категоричным в оценке открытий Пастера Толстой был в разговорах с лечившим его в том же году доктором Н. А. Белоголовым, но оставался при своем убеждении, что методика вакцинации еще не оправдала себя и кажется спорной[250]. Пятнадцатью годами позже И. И. Мечников (бывший к тому времени заместителем директора Парижского института Пастера), посетивший Ясную Поляну в 1909 году, за год до смерти писателя, убедится, что Толстой так и «не оценил сделавших переворот в медицине открытий Пастера»[251].
Вместе с тем основания для сомнений у Толстого были. Несмотря на широко обнародованные успехи в борьбе с собачьим бешенством, метод Пастера не внушал всеобщего доверия уже в силу того обстоятельства, что всемирно прославленный ученый был по образованию не врачом, но химиком, и при этом боролся с тем, чего он не видел (о том, что возбудителем болезни является не микроб, а фильтрующийся вирус, станет известно только в 1903 году, уже после смерти Пастера, – это установит Пьер Ремленже). Странным было и то, что вакцина прививалась пациентам после начала предполагаемой у них болезни, а не до ее возникновения, как это практиковалось, например, при прививках оспы. Но и это не гарантировало выздоровления (первой трагедией, продемонстрировавшей, что позднее введение вакцины является бесполезным, стала смерть в ноябре 1885 года 10-летней Луизы Пеллетье, лечение которой Пастер начал только 37 дней спустя после полученных ею страшных укусов)[252]. Наконец, статистика, призванная показать успешность нового метода, оставалась малодоказательной по той причине, что привитые Пастером пациенты могли быть равно объявлены как излечившимися, так и не заболевшими[253].
Особенно непримиримыми критиками Пастера были английские и немецкие медики (в последнем случае аргументы собственно научного характера окрашивались политической антипатией немецких и французских ученых после Франко-прусской войны 1870–1871 года). Но единодушного одобрения нового метода не было ни во Франции, ни в России[254]. Претензии к Пастеру – то, что он химик, а не врач, то, что приводимая им статистика выздоровлений не поддается проверке ввиду ее тенденциозности (неопределенности того, насколько спасительными являются прививки, при учете сомнительной болезни животного и возможности выздоровления непривитого пациента), усугублялись поведенческой стратегией самого исследователя, эффектно позиционировавшего себя в качестве непогрешимого экспериментатора и страстного патриота, добившегося беспрецедентной финансовой поддержки со стороны французского правительства. Скрупулезное исследование Джеральда Гейсона лабораторных записей и конфиденциальной переписки Пастера показывает, что следование подобной стратегии не было этически бесконфликтным, сопровождалось подтасовкой фактов, ложной саморекламой и выдачей желаемого за действительное[255].
Принятая Пастером роль «спасителя человечества» раздражала многих. В пылу полемики недоброжелатели исследователя утверждали, что и сама болезнь, называемая водобоязнью, преимущественно есть болезнь воображаемая (Lyssophobia, Hydrophobia imaginaria), вызываемая самовнушением – страхом безумия и мучительной смерти от укусов животных, что бешеные животные встречаются исключительно редко, а то, что в прошлом считалось смертью от бешенства, должно объяснять смертью от столбняка (tetanus) или других неврологических расстройств, которые, возможно, также вызываются инфекциями (истерия, эпилепсия). Наконец, кульминацией антипастеровских высказываний стали конспирологические (и по закону жанра часто взаимоисключающие) обвинения в неблаговидных и даже преступных поступках исследователя – от якобы присвоенного им метода вакцинации[256] до намеренного сокрытия гибели пациентов ради почета и наживы[257].
Более сдержанной позицией отличались те критики Пастера, которые, признавая за изобретенным им методом вакцинации предохранительный и терапевтический характер, настаивали, что эффект его применения не универсален, поскольку заболевание бешенством не обнаруживает сколь-либо доказанной повторяемости: в каждом конкретном случае восприимчивость человека к заражению оказывается индивидуальной, причины появления болезни остаются неясными и зависят от множества условий, не позволяющих составить ее общую симптоматику. Поэтому в каких-то отдельных случаях прививки Пастера могут быть полезны, а в каких-то – бесполезны и даже опасны[258].
Одновременно с надеждами на научную медицину в популярной прессе тех же лет русскому читателю сообщалось как о старых методах лечения водобоязни вроде чеснока и бани[259], так и о новооткрытых «секретных» средствах – например, о предотвращении собачьего бешенства употреблением садовой жужелицы (первое сообщение об этом чудодейственном методе со ссылкой на безымянного монаха Гелатского монастыря появилось в газете «Новое время» 14 марта 1886 года, то есть тогда, когда искусанные волком смоляне уже две недели как лечились у Пастера). В ответ на просьбу редакции газеты «Врач» и Калужского общества врачей настоятель Гелатского монастыря архимандрит Серапион прислал разъяснение, согласно которому жужелицу следует съесть в два приема, после чего помочиться: это выводит из организма пострадавшего маленьких щенков. Без этого средства щенки подрастают в животе у больного, начинают двигаться, и он впадает в бешенство. Разъяснение Серапиона, напечатанное в газете «Врач» в качестве примера массового невежества, в том же году, но уже вполне сочувственно растиражировали «Тамбовские епархиальные ведомости», негодуя попутно, что это «важное открытие» «не сделалось достоянием всего мира, а известно лишь на далекой окраине России»[260].
Широкие слои сельского населения продолжали – и еще долго будут продолжать – прибегать к помощи знахарей и отказываться от медицинского лечения[261]. Что-то об этом знал и Толстой. В дневниковой записи писателя от 1889 года упоминается о его разговоре с местными мужиками о заговорах от бешенства[262].
7
Неясно, насколько подробно вникал Толстой в критику методов Пастера, но в общем виде, как о том свидетельствует дневниковая запись В. Ф. Лазурского и мемуары Н. А. Белоголового, она была ему известна и мировоззренчески небезразлична. В контексте публицистических дискуссий конца XIX – начала XX века имена великого русского писателя и великого французского исследователя нередко сопоставлялись по характеру их культурной и социальной значимости – литературно-выразительной и учительно-морализаторской – в первом случае, и научно-медицинской, терапевтически-прагматической – во втором. Вероятно, в своем отношению к Пастеру Толстой руководствовался и теми общественными ожиданиями, которые позволяли ему выступать в роли морального наставника, декларативно судить об обществе и истории, литературе и науке, искусстве и религии, авторитетах прошлого и настоящего – будь то Шекспир, Веласкес, Рембрандт, Наполеон или Вагнер. С этой точки зрения интересно письмо Толстого к Э. Г. Линецкому, касающееся кишеневского погрома 1903 года. Отправленное адресату послание Толстой начинал не без нарочитого самоуничижения:
Требовать от меня публичного выражения мнения о современных событиях так же неосновательно, как требовать этого от какого бы то ни было специалиста, пользующегося некоторою известностью.
Леон Бонна. Луи Пастер со своей внучкой Камиллой Валери-Радо. 1886. Иллюстрация из книги: W. Walton Chefs-d’oeuvre de l’Exposition universelle de Paris, 1889
Но в известной по черновику первоначальной редакции того же письма Толстой, проговариваясь, сравнивал себя с Пастером и Гельмгольцем:
Требовать от меня публичного выражения мнения о современных событиях все равно, что требовать этого от Пастёра или Гельмгольца[263].
По записи М. В. Нестерова от 1907 года, из современных ему художников «Лев Николаевич лучшим портретистом считал француза [Леона] Бонна, написавшего портрет „Пастера с внучкой“» (1886)[264].
Гольденвейзер вспоминал, что Толстой охотно слушал посетившего его в 1909 году И. И. Мечникова, когда тот «очень интересно» рассказывал про Пастера, Ру и Эмиля Беринга (создателя противодифтерийной сыворотки)[265], хотя, по воспоминаниям об этой встрече самого Мечникова, Толстой никак не разделял его пристрастий[266].
Общую методологическую основу расхождения Толстого и Пастера можно увидеть в конфликте между монокаузальным и конвенциональным описанием собачьего бешенства и способов его лечения. Критики Пастера, как мы видели выше, также акцентировали эту проблему: бактериальное объяснение собачьего бешенства Пастером следовало логике такого понимания болезни, которое характеризуется не сложным симптомокомплексом инфекционного процесса, но наличием его специфического, пусть и невидимого, возбудителя – микроба (или, как выяснится позднее, вируса), активность которого надлежало подавить за счет «обгоняющей» его вакцинации. Принципиально противоположным такому убеждению было представление о множественности и разнообразии природных, физиологических и психических факторов, достаточных или необходимых для того, чтобы запустить механизм интоксикации[267]. Диагностирование собачьего бешенства представало при таком подходе не только результатом сложной этиологии, несводимой к сумме общих причин и единообразных следствий, но и придавало ему терапевтически гадательное направление. Перебор возможных способов лечения или отказ от таковых в этих случаях были содержательно фатальными. Человек, подвергшийся нападению животного, не знает наверное, здоровое оно или бешеное, он может заболеть или не заболеть, лечение может оказаться целебным, а может и нет.
Сомнения Толстого в эффективности пастеровской вакцины представляются в этом отношении последовательными и предсказуемыми. Пастер и его приверженцы претендуют на то, чтобы подчинить сложнейший – «сверхъестественный» – конвенционализм действительности ее рациональному упорядочиванию. Но такой порядок – диктуется ли он законами науки, медицины, цивилизации, истории и прогресса – не более чем синоним человеческой самонадеянности. По дневниковым записям Маковицкого известен его разговор с Толстым о брошюре Д. С. Щеткина «Сомнительная прочность некоторых современных верований в медицине» (Пенза, 1908):
В ней он пишет, что прошло 40 лет после того, как Пастер провозгласил: «Нет брожения без низших организмов», а теперь премии Тидемана, а затем Нобеля присуждены Э. Бухнеру за его работы, которыми он доказал, что брожение основывается не на действии живых существ, а что это есть чисто физический процесс. Та же самая премия Тидемана была раньше присуждена Р. Коху, Эрлиху, Берингу, т. е. тем ученым, которые своими работами доказывают как раз обратное. И так теория болезней паразитного происхождения разрушена.
Л. Н.: Мне это очень интересно. Мне всегда бросалось в глаза, что с тех пор, как существует человечество, то, что было научной истиной в предшествующем поколении, оказывалось заблуждением в следующем поколении. Неужели то, что в наше время считается наукой, все правда?
Что правда и что неправда в науке, он не знает, но знает, что все не может быть правдой[268].
На следующий день Толстой вернулся к обсуждению книжки Щеткина, чтобы подчеркнуть в ней «описание лечения бешенства со многими смертельными исходами»[269].
8
Не так давно Бруно Латур интересно сопоставил имена Пастера и Толстого, с тем чтобы подчеркнуть различие их эпистемологических и, в конечном счете, социальных стратегий. В то время как Пастер делает центром своей деятельности лабораторию, в стерильном пространстве которой происходит своего рода «конструирование» и культивирование какой-либо одной (микро)органической причины того или иного заболевания, для Толстого болезнь – как, собственно, и все то, что происходит в жизни, – есть результат сцепления многоразличных и, по внешнему впечатлению, разнозначащих обстоятельств. В позиции Толстого Латур усмотрел обнадеживающую методологическую свободу – образец такого описания социальных и, в частности, научных феноменов, которое сводится не к их идеологической контекстуализации, но выражается в динамике взаимоотношений различных «акторов» как «человеческой», так и «нечеловеческой природы»[270].
Теоретические симпатии к Толстому высказывал и Карло Гинзбург, также увидевший в нем мыслителя и писателя, в романах которого история – это повествование о симбиозе частной и общественной жизни, индивидуальных и коллективных усилий, надежд, достижений, ошибок, случайностей, правил и исключений; кроме того, это повествование, которое складывается из наших заведомо фрагментарных и искаженных знаний об этой самой истории[271].
Записывая себя в «методологические» последователи Толстого, Латур и Гинзбург не упоминают отдельно о провиденциализме Толстого. Между тем уверенность в том, что история движется в предназначенном для нее русле Провидения, с одной стороны, осложняет разделяемый ими тезис о Толстом как авторе, делающем основной упор на значимость, казалось бы, несводимых друг к другу причин и следствий («связей, соединявших насморк Наполеона перед Бородинским сражением, диспозицию войск и жизнь всех участников сражения до самого незаметного солдата»)[272], а с другой – объясняет эту значимость тем проще, что подчиняет ее не логически доказательному, но вероучительному (само)наставлению. «Искусное переплетение слабых связей», принципиально определяющее, по Латуру, главные силы событий «Войны и мира»[273], с этой (моей) точки зрения, диктуется не стремлением Толстого к объяснению этих событий, а тем уроком, который мог бы быть из них извлечен. Если бахтинское обвинение Толстого в монологизме где-то и оправданно, так именно здесь: это не отсутствие диалога/диалогичности в текстах Толстого[274], а его подозрение (позднее переросшее в уверенность), что любой диалог – это не более чем слова, подменяющие знание истины. Говоря проще: монологичны не тексты Толстого, а сам Толстой.
В определенном смысле это внерациональный монолог – внутреннее понимание вещей, существующих вне и помимо слов. Так, еще в 1878 году в одном из писем к Страхову Толстой пояснял, как он понимает слова Сократа о собственном незнании:
Я говорю, что человек, который, как Сократ, говорит, что он ничего не знает, говорит только то, что на пути логического разумного знания ничего нельзя знать, а никак не то, что он ничего не знает[275].
«Сократовское» незнание самого Толстого о научной правде, в частности незнание единственно надежных методов лечения гидрофобии, обратимо к этической свободе и честности перед самим собою[276]. Парадоксом в этом случае является то, что возможная смерть от укуса в принципе оказывается релевантной неизбежности смерти как таковой, осознание которой возвышает человека над условностями и предрассудками общества. По воспоминаниям Е. М. Лопатиной (писательницы, выступавшей под псевдонимом К. Ельцева), известным в пересказе И. А. Бунина, она была свидетельницей важного в нашем контексте разговора Толстого с зоологом С. А. Усовым, состоявшегося в 1884 или 1885 году в доме графа Олсуфьева:
Поздоровавшись с графиней и со всеми прочими, он тотчас же обратился к профессору (естественнику) Усову:
– Я вот все хотел спросить вас, Сергей Алексеевич, правда ли, что если укусит бешеная собака, то человек наверное умрет через шесть недель?
Усов ответил:
– Бывает, что умирают через шесть недель, бывает, что через несколько месяцев и через год, а говорят, и через много лет. Но можно и совсем не умереть. Далеко не все укушенные умирают.
– Ах, как это жалко, – с упрямым оживлением сказал Толстой. – Мне ужасно нравилась мысль, что умирают, это удивительно хорошо. Укусит собака, и знаешь наверное, что через шесть недель непременно умрешь, и руби всем правду в глаза, делай, что хочешь… А вы наверное знаете, что это не так? – упрямо спрашивал он. <…>
У Олсуфьевых как раз в это лето был переполох: бегала бешеная собака. Собаку никак не могли поймать, – успокоились только тогда, когда, наконец, явился однажды урядник, и, вытянувшись и взяв под козырек, отрапортовал: «Имею честь доложить вашему сиятельству, что собака проследовала к станции Подсолнечной». А до того олсуфьевские мужики оставались совершенно равнодушны к собаке и не думали о том, чтобы поймать и убить ее.
– И прекрасно делали! – сказал Толстой[277].
Вызывающее «собаколюбие» Толстого в этой сцене подразумевает фатализм в признании такого порядка вещей, в котором причинно-следственные связи по меньшей мере сложны и неочевидны. Последнее обстоятельство равнозначно описанию драматического разнообразия действительной жизни, а не утопическим надеждам на лучшее (замечу в скобках, что под таким углом зрения первая фраза «Анны Карениной» – «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему» – прочитывается не как житейское наблюдение над многообразием семейных неурядиц, а как отказ от романтического самообмана в понимании конкретных человеческих судеб). Записанный А. Б. Гольденвейзером рассказ Толстого о том, как он счастливо избежал на Кавказе нападения бешеного волка, в том же контексте интересно перекликается со сценой встречи Левина с бешеной собакой: и там, и здесь потенциально смертельная угроза диктуется и отменяется случайностью (в автобиографическом рассказе Толстого тем более ощутимой, что, понадеявшись на свое ружье, он допускает оплошность, которая могла стать роковой). Рассчитанное течение жизни оказывается фатально ненадежным перед тем, что может ее пресечь, и то, что орудием такого фатализма может стать собака или волк, обесценивает надежды именно на человеческий расчет. Человеку в этих случаях противостоит непредсказуемая, «сверхъестественная» природа самого мира, изначально первичного к человеческим усилиям по его рациональному одомашниванию.




















