Читать онлайн Изумрудная Марта бесплатно
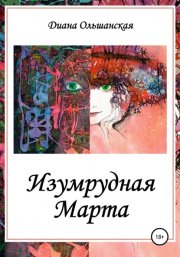
Глава I
– Положи, пожалуйста, нож…
– Я так больше не могу. Просто не могу. Сколько еще будет длиться этот кошмар? Я хочу проснуться! Я не хочу так жить!
– Думаю, что в таком состоянии не стоит принимать никаких решений. Надо просто подышать. Попробуем вместе? Вдох-выдох. Только положи, пожалуйста, нож.
– И та книга… Я не могу разгадать ее тайну. Ведь читал же он что-то дни напролет?!
– Мы не можем воспроизвести события такими, какими они были в действительности. Слишком много составляющих, которые каждый раз соединяются немного иначе.
– …?
– Я о ложных воспоминаниях. Той книги могло и не быть.
– Тогда пусть память сложит все части таким образом, чтобы я не вспоминала последние годы! Я больше не могу ждать. Столько лет ничего не меняется. И я просто задыхаюсь в этом кошмаре… Где ваши яды? Куда вы их все время прячете? Думали, я не замечаю? Думали, не найду? Я и без ножа обойдусь!
– Марта, Марта, послушай меня, послушай. Сядь. Закрой глаза, сделай глубокий вдох. Вот так. Хорошо. Никаких мыслей. Я досчитаю до трех. Закрой глаза. Все внимание только на мой голос. Когда ты его слышишь – тело расслабляется. Дыши. Хорошо… Мысли исчезли…
Ты погружаешься в сон. Глубже… Еще глубже. Только тихий, спокойный сон. Ты в своем саду. Раз… В безопасности. Два… Среди любимых роз. Три.
* * *
Сад Марты располагался за домом и был немного кривоват. Тропинки пролегали между косыми пригорками и приводили прямо к большому розарию, где находилась теплица. Когда-то в ней выращивали овощи и душистые травы, но уже давно она превратилась в комнату, стеклянные стены которой с внешней стороны укрывали высокие кусты роз. В саду Марты росли разные. Нежно-розовые на гибкой ножке, полыхающие желтые, карминовые с коническим бутоном, пионовидные, мускусные, густомахровые шоколадные, чайные акварельные и, конечно же, белые. Розы были повсюду, создавая красоту этого Сада – Дома Марты.
Она хорошо знала, что у каждого цветка свой характер. Эти розы, к примеру, не любят палящего солнца, а тем – только того и надо. Эти – нуждаются в опоре, а те – чтобы их просто не трогали. При посадке не всегда попадаешь в правильное место, приходится пересаживать, ждать, когда растение приживется и снова обретет силу. Так что вся эта цветочная мозаика находилась в движении, пока каждый находил себе идеальное место на отведенном участке земли.
Пространство дополняли вросшие в землю большие зеркала в потрескавшихся рамах. Они сверкали под солнцем зеленой патиной – плесень давно раскинула по ним свою сеть. До них розы тоже добрались, оплетая их неспешно, год за годом, как и почти все вокруг.
Марта старалась давать саду максимальную свободу, и тот благодарно разрастался. Дикий виноград покрыл собой замшелый кирпичный забор и даже часть калитки, пряча Марту от внешнего мира. Теплица, где Марта жила большую часть года, тоже была увита этим чудесным растением. Особенно красиво это выглядело с лицевой части: лиственный занавес, прихваченный по бокам, который растягивался в улыбке, открывая вход в обитель Марты. Бывшая теплица была небольшой и обустроена довольно уютно. Высокий торшер, украшенный гирляндой из лампочек, круглый стол со старым проигрывателем, матрас, заменяющий кровать, кресло-качалка и напольная ваза для свежесрезанных роз.
В июне они переживали первый пик цветения, и Марта обрезала их на грани увядания, формируя кусты и не отказывая себе в наслаждении любоваться этими удивительными созданиями до последнего момента их жизни, пусть даже в вазе.
У Марты было много секретов, один из которых хранился в подвале ее телицы: она спускалась туда каждый день и выходила через полчаса просветленной, будто бы пообщалась с Богом. Но Марта не верила в Бога, а верила в природу, которая дарила ей красоту ее маленького мира, возделанного своими руками.
Розы отвечали на ее заботу крупными душистыми цветами. Их аромат разносился по всему саду, подслащивая воздух и вдохновляя других обитателей. Дружно жужжали пчелы, порхали пестрые бабочки, пели птицы, грузно взлетали жуки, прогудев возле самого уха и переливаясь на солнце всеми оттенками зеленого. Марта никогда не пыталась их поймать, а лишь рассматривала. «Зачем ловить такую красоту? Бессмыслица и жестокость». В дальнем углу сада сохранился нетронутый кусочек леса. Там над маленьким ручейком муравьи иногда делали мостик: цеплялись друг за друга и составляли цепь, по которой на другой берег могло переправиться целое войско.
Из всех конструкций этого пространства больше всего Марта любила Виноградную арку – металлический каркас, на котором некогда крепился цветной гамак, со временем уступивший место обожаемым ею качелям – сделанным руками папы, очень надежным и необычным. К сиденью и спинке папа прикрепил кожаные ремни, которыми можно было пристегнуться и немного полетать. Разумеется, арку тоже увил вездесущий виноград. Необыкновенно красив он становился по осени, когда зрелые цвета красно-желтых оттенков сменяли то, что до этого было зеленым.
Все в саду Марты находилось в полном согласии друг с другом. Все, кроме старого дома, который занимал противоположный конец участка и где когда-то они жили всей семьей. Мама, папа и Марта.
Старый Дом не просто обветшал, он превратился в одну большую емкость для хранения мусора.
Когда-то это был светлый дом с просторными комнатами: гостиной, спальнями, кабинетом и библиотекой. Теперь же, открыв входную дверь, Марта еле протискивалась между горками, а то и огромными кучами прессованного мусора, который запрещалось выносить за пределы дома. Так решила мама. В тот самый день, который Марта помнила лишь фрагментами. Самый страшный день ее жизни. Она увидела маму крайне растерянной, а потом разъяренной, и началось то необратимое, что происходило по сей день, то, что выгнало Марту из дома и поселило в саду. То, что для Марты стало кошмаром наяву. Хорошо маме, у нее нет обоняния. Но Марта ужасно мучилась и по возможности не появлялась в доме; она уходила в свой сад, где пахло не мусором, а цветущими розами, от которых невозможно было оторвать взгляд.
Время показало, что правильно спрессованный мусор не гниет – при условии, что в нем не содержится органики. Не должно быть овощей, фруктов и многого другого, тем более что питаться консервами проще, как и утилизировать упаковку. Первым заполнился верхний этаж: обе спальни родителей, комната Марты, коридор и даже лестница. Потом гостиная и почти вся кухня. От нее остался крохотный островок с проходом в кабинет папы, где зимовала Марта, и в библиотеку, где жила мама.
К пищевому мусору вскоре присоединился и информационный. Вырезки из журналов и газет, маленькие и большие, короткие и длинные, касательно всего, что только может понадобиться в жизни. Систематизируя и дополняя энциклопедии, справочники и даже книги, мама создавала собственную «информационную библиотеку», как она это называла; для этого в ее кармане всегда были ножницы. Вдобавок дом наполнился еще и бумажной пылью, от которой Марта задыхалась не меньше, чем от мусора. Она ходила в повязке с хвойной отдушкой, прикрывая нос и рот; это помогало ей не сойти с ума. Ее огромные изумрудные глаза над повязкой становились «устрашающе космическими», как однажды сказала мама.
Глаза у Марты и правда были очень большие. Вздернутые внешние уголки придавали ее взгляду вечную задумчивость, а в зеленом цвете радужки прожилки напоминали то ли кораллы, то ли звезды, то ли камни на дне моря. Людей это отвлекало от насущного: смотря в глаза Марты, они словно попадали в другой мир, забывали, о чем хотели сказать, и не понимали, как выбраться. Наконец Марта улыбалась и так прерывала сеанс погружения. Очевидцы утверждали: такие глаза «могут быть только у ведьмы, что тут непонятного!» Но Марта не обращала внимания на разговоры.
Когда становилось совсем холодно, Марта перебиралась в отцовский кабинет, предварительно укрыв в саду своих питомцев. По весне их ждало чудесное пробуждение, и она предвкушала этот момент. Снегопады в их краях случались редко, и Марта всегда ему радовалась: снег согревал розы.
За зимние месяцы Марта, как правило, проходила всю учебную программу и в школе появлялась дважды: осенью, в начале учебного года и весной, во время экзаменов. Еще в начальной школе в отличие от одноклассников, которые писали сочинения о домашних питомцах или увлечениях, Марта писала о том, что ее действительно волновало.
«…Я бы хотела жить в усовершенствованном мире. Там, где все люди живут согласно своим внутренним желаниям и делают то, к чему лежит сердце. Где человек никогда не думает о своем существовании. У него есть еда и кров. Есть все, чтобы просто жить и созидать. Осмыслять и переосмыслять. Мировое сообщество в состоянии дать это людям. Исключить единоличие и принять единство. Ресурсов нашей планеты достаточно для их распределения таким образом, чтобы все жили в своих домах, были сыты и просто творили. Ведь для творца самое важное – это процесс: именно он ведет к результату. Чтобы каждый делал то, что он любит делать, и развивался, становясь мастером, передавая опыт…»
Так писала Марта, смущая учителей: «О чем пишет эта девочка? Сколько ей лет? Вы смеетесь?!»
Когда одноклассники Марты писали о том, как кто-то кого-то спас по доброте душевной, Марта продолжала смущать педагогов, излагая свои мысли:
«…Человеку не обязательно быть добрым по своей природе. Думаю, что достаточно принять добро как способ жизни и один из инструментов для ее проживания. Добро помогает преодолеть сомнения эго. Я не верю в ад или в рай, для меня это слишком плоские картинки. Как и Бог не может быть субъектом со своей историей, именем или религией. И тем более со своими чувствами. Религия наделяет Бога чертами человека. Например, гневом, описывая его как мстительное существо, которое обязательно покарает за грехи. Но разве Бог – это человек?
Я думаю, что Бог – это все что есть, включая нас, бесконечные вселенные, и иные миры, которые мы даже не можем себе представить. А добро – в числе других высших инструментов, таких как любовь и принятие, – помогает проживать человеку жизнь более гармонично. Ведь если все конечно, а это именно так, то зачем испытывать неприятные чувства вроде ненависти и злобы, разрушая жизнь собственными руками? Такой человек “застревает” в своей обиде на весь мир, а это лишено практического смысла. Прощать и созидать – удобнее…»
Марта искренне верила в то, что писала; об этом прямо или косвенно свидетельствовала почти вся эзотерическая литература отца, которую она изучила вдоль и поперек. Поэтому сама Марта никогда не злилась, ни с кем не спорила, ничего не отстаивала, никому ничего не доказывала, не повышала голос, да и вообще мало говорила. Когда ее спрашивали: «Почему ты все время молчишь?» – она отвечала: «Зачем говорить, если это не изменит тишину к лучшему?»
То, что Марта практически не посещала школу, стало спасением для учителей, иначе рано или поздно коса нашла бы на камень. Их школьное болотце было вполне комфортным. Зачем им белая ворона? Сдала все экзамены? Молодец! До встречи в следующем году!
По программе она могла ответить на любой вопрос (за все годы учебы никто так и не узнал, что стоило ей прочитать книгу, и она запоминала ее слово в слово). С экзаменами не возникало никаких сложностей. Кроме того, многие учебники были ей не только интересны, но и помогали в реальной жизни. Конечно, Ботаника. И обязательно Физика. Химия тоже помогала. Геометрия и математика – без них, как поняла Марта, жить вообще очень сложно.
Чтобы посещение школы не было слишком уж удручающим, Марта дала всем педагогам и одноклассникам прозвища и разыгрывала в своем воображении целые цветочные спектакли. Петунья – педагог по химии, Герань – физики, Рододендрон – директор школы. Крапива – завуч. Истеричная Гортензия – педагог по математике. Ирисами были почти все мальчики в ее классе. Кроме двух. Одного, непригожего увальня с большими ушами, она прозвала Лопухом. Другого – худощавого мальчика, с копной кучерявых волос золотистого цвета – Одуваном. Лопух и Одуван дружили и всегда ошивались вместе. В ее воображаемых спектаклях они играли роль дуралеев. Девочки были похожи на Клематисы. Шишкой стал школьный сторож, и не только потому, что однажды мама сказала про него «больно важная шишка». Он действительно напоминал раскрывшуюся шишку: из карманов у него вечно торчали какие-то тряпки, он постоянно что-то ронял, злился и вымещал зло на опоздавших детей. В реальной жизни все его боялись, но придуманные Мартой персонажи-цветы не воспринимали Шишку всерьез и одерживали над ним свою цветочную победу.
Годовую программу Марта осваивала за три месяца, и можно было снова погрузиться в свой сад. По весне его приходилось деликатно пробуждать. Почти оживлять. Она ежедневно подстригала и поливала, подкапывала и подвязывала, подкрашивала и удобряла, а раз в месяц ходила в лес за витаминами: специальный травяной сбор она настаивала на водяной бане и потом поливала свои необыкновенные цветы.
Сад – это не учебник. Учебник ты можешь читать, а можешь и не читать. Сад не оставлял выбора: он требовал к себе большой любви и еще большей заботы. У Марты не было времени на посиделки с друзьями, да и друзей у нее не было. Ее больше интересовало то, что происходит в саду, чем то, что происходит со сверстниками.
Но кроме забот у Марты были в саду свои развлечения. Утро начиналось с трелей птиц. Робко чирикая на рассвете, они начинали громко петь, когда солнечный свет касался макушек деревьев. Открыв глаза, Марта некоторое время нежилась под одеялом, потом надевала садовую обувь на босу ногу и шла к своим питомцам. Осматривала каждое растение, проходила по каждой тропинке, проверяя все ли хорошо в ее царстве; здоровалась с цветами, перешептывалась с ними, гладила листья кончиками пальцев. Это доставляло ей необыкновенную радость, чувство понимания себя и своего места в этом мире. Трели птиц смешивалась с ветром и стряхивали с цветов сладковатый запах, унося его далеко за пределы сада, привлекая гостей в этот маленький рай, обнесенный замшелым кирпичным забором. Слетались птицы, бабочки и стрекозы, между прохладных корней деревьев пробегали ящерицы.
Марта знала, что у всего на свете существует своя мелодия. Не только у живых существ, но и у абстрактных понятий. Существовала даже мелодия света и мелодия тьмы. Но больше всего ее интересовали мелодии цветов. У каждого цветка она была своя. Марта отчетливо ее слышала. Впервые это произошло, когда роза, подаренная папой, дала бутон, и его мелодию Марта запомнила на всю жизнь. Потом она вырастила собственный сад и была бесконечно счастлива, слушая эти струящиеся цветочные переливы… Именно звуки роз были ей наиболее понятны: насыщенные цветом, яркие и необыкновенные. Марте нравилось слушать их вечерами, когда к ним присоединялись цикады. А в августе над садом зависал не один рой стрекоз, и в лучах заката, который золотил сотни еле уловимых взглядом крылышек, эти насекомые создавали неповторимый шелест, на фоне которого особенно хорошо звучала музыка любимых роз.
Когда в саду сгущались сумерки, Марта зажигала свечи. Ей нравилось то, как живой огонь, а не электрическая лампа освещает ее стеклянное пространство изнутри. Возникало ощущение большого чудесного фонаря, в котором жила она – не ведьма, как ее называли, а волшебница Марта. Впрочем, Марта была уверена, что и у волшебницы, и у ведьмы должны быть длинные волосы, а не коротко стриженные, как у нее. Она всегда проводила по ним рукой, ото лба до затылка, по шее, до самых плеч и ниже, словно на ее груди лежала коса. И хотя ее косы не стало много лет назад, вечерами Марта садилась в кресло-качалку, расчесывала несуществующие волосы гребнем и наблюдала, как ночные мотыльки собираются к ней на огонек. Разглядывая их изнутри теплицы, Марта чувствовала себя частью ночной природы. В отражении прыгающих огней она и сама становилась бабочкой, только могущественной, которая управляла огнем и даже светом. Об этом было приятно думать. Когда все стекла покрывалась трепещущими крыльями ночных мотыльков, она открывала стеклянную дверь, чтобы посмотреть, как огромное порхающее облако разлеталось в разные стороны.
Ночью небо было усыпано бриллиантами, на которые Марта смотрела, лежа в постели. И пусть они не в ювелирной оправе, зато им нет цены. Звезды – вечны.
Ночуя в доме, она видела кошмары, в саду же ей снились дивные сны. Особенно в полнолуние, когда свет заливал теплицу, и в августе, когда звезды светили так близко, почти как лампочки на торшере, и навевали чудесные мысли. В этих снах ее розы оживали, и начинался бал цветов. Марта – королева, сидела на троне и правила этим балом, а в финале ей надо выбрать лучшую розу.
По утрам она рассказывала всем участникам, как они танцевали на балу, обсуждала с ними все интриги. Однажды, к примеру, Генерал Секатор рассердился на заносчивую розу Аврору и уже было угрожающе щелкнул над ее нежной головкой, но тут, как всегда, вмешались галантные Садовые Перчатки и развели сгущающиеся тучи. После такого сна Марта всегда задумывалась: а что же снится ее розам?
Но даже в теплице Марта видела не только прекрасные сны. Один и тот же повторяющий кошмар неизменно приходил в преддверии Страшного Дня. Этот день случился уже очень давно, как будто в прошлой жизни, и с тех пор сложился ужасный ритуал, к которому Марта готовилась, каждый раз почти умирая…
Глава II
Мира никогда не думала, что когда-нибудь у нее будет свой дом и тем более что однажды она превратит его в «Мусорный». Зато она всегда была уверена, что детей у нее точно не будет. А если и будет, то только не девочка, ведь девочкам достается больше всего, она это точно знала, потому что за малейшую провинность должна была лечь животом отцу на колени, и он долго стегал ее ремнем по оголенному заду. Было больно и очень обидно, но, по словам папы, наказание воспитывало в ней женскую покорность, без которой все встанет с ног на голову. «Скажешь спасибо», – приговаривал он. И хотя Мира никогда не понимала, за что должна его благодарить и почему без этого все встанет с ног на голову, после наказания она через силу произносила это отвратительное спасибо, и папа благодушно кивал: «Так-то лучше». Потом она шла в свою комнату и кромсала украденной бритвой резиновые зады своих кукол: «Пусть им будет больно, как и мне», – думала она, пытаясь унять дрожь в коленках. Всхлипывая, она поглядывала в сторону кухни, каждый раз надеясь, что мама вступится за нее, но этого так никогда и не произошло. Мама наблюдала за поркой полными слез глазами, но ничего не могла поделать. «Воспитание ребенка – тяжелый труд. Женщине не справиться», – повторял ей муж. Провинность – удар ремнем, даже если это было что-то незначительное: не расслышала вопрос, разбила тарелку, не вовремя пошла спать – каждая мелочь приравнивалась к тяжелому проступку и степень порки всегда ему соответствовала.
Однажды после очередной порки Мира не стала запираться в своей комнате и случайно застала странную сцену. Родители вели себя как чужие. И если папе это явно нравилось, то лицо мамы было искажено болезненной гримасой. Он подошел к матери со спины, схватил ее за волосы, наклонил вперед и, пока расстегивал ремень на штанах, приказал: «Стой смирно! Опять наврала мне? Думала, я не считаю дни и тебе это сойдет с рук? Я лучше знаю, когда начинаются твои дела! Плохо тебя воспитали. Сейчас мы это исправим. Стой смирно, тупая дура. Только попробуй пикнуть…». Окончание фразы Мира частично услышала, но не поняла ее смысла: «Пока не захлебнешься…». После этого случая она раз и навсегда поняла, что мама ей не поможет. Более того, Мира заметила, что чаще всего именно после порки папа воспитывал маму.
Мира не хотела в этом разбираться. Она записывалась на все дополнительные занятия в школе, лишь бы подольше не возвращаться домой. В числе прочих занятий стала посещать и кружок игры на фортепьяно, а через год ее приняли в музыкальную школу – на счастье, у нее оказался абсолютный музыкальный слух. И если детей помладше водили на занятия с уговорами, она шла с огромной радостью: не только потому, что педагог по музыке была славной женщиной, но и потому, что любые занятия вне дома были для нее жизненно необходимы. Кроме того, Мира обнаружила, что мир музыки не менее увлекателен, чем мир книг. В звуках растворялась горечь ее печальной участи.
Мира усердно трудилась, разучивала гаммы, этюды, сонаты и делала большие успехи, пройдя трехлетнюю программу за год. Для выпускного концерта педагог предложила ей разучить Элегию. Мира, послушав ее, как обычно они это делали с каждым новым произведением, поняла, что хочет играть именно ее и ничто другое. Эта необыкновенная Элегия выражала всю боль Миры, все ее волнения и переживания, она была наполнена ее лучшими книжными фантазиями. Мира играла ее каждый день, занимаясь усердно, как никогда прежде. Возможно, в первый раз в жизни ей захотелось рассказать всему свету о том, как ей больно, и она могла это сделать с помощью музыкального произведения. В последние дни перед концертом Мира самозабвенно проигрывала Элегию в актовом зале, где и предстояло выступать. Педагог говорила, что к инструменту необходимо привыкнуть, а Мира была уверена, что и инструмент должен привыкнуть к играющему. Она приходила к нему каждый день, гладила его и делилась мечтой с его помощью поведать миру свою историю; она уже представляла, как наконец-то говорит с людьми и те ее понимают, а быть может, кто-то услышит крик ее души и спасет…
До выступления оставалась неделя. Мира вернулась домой, встретила знакомый взгляд отца, означавший неминуемое наказание, и впервые почувствовала, что у нее появились силы противостоять. Отец начал вынимать ремень, мама ушла на кухню, а Мира попыталась объяснить отцу, что согласно графику ее занятий она не опоздала ни на минуту. Тогда впервые в жизни он не стал ее пороть, но ударил по пояснице с такой силой, что Мира еще несколько месяцев ходила под себя как маленькая. Благо учебный год закончился, и ей не пришлось позориться.
Мира так и не сыграла на выпускном концерте свою Элегию, которая, как ей казалось, может ее спасти. Не сыграла даже не потому, что опасалась недержания (она готова была сутками ничего не пить, лишь бы исключить конфуз, и даже специально тренировалась). Накануне концерта Мира снова в чем-то провинилась, и отец снова не стал ее пороть, а заставил сделать триста приседаний. Наутро она не могла дойти даже до туалета.
– Ну что? На концерт-то свой идешь? А то опоздаешь. Хочешь, я провожу? Мать возьмем да и пойдем всей семьей, школа вон близко. Не каждый день дочь может показать себя на сцене, так ведь, мать? Сколько ты бренчала эту Элегию, а? И теперь всем надо показать, что ты там за год набренчала? Разве так я тебя воспитывал? Вот пойдешь работать, будешь год копить деньги и купишь мне машину. А то, что ты год пробренчала выставлять напоказ!? Н-е-е-т, я не дам себя позорить! Не дам! – крикнул он, уходя в спальню, где уже скрипнула дверка шкафа, на которой висели ремни.
Со временем непроизвольное мочеиспускание прошло, но порки продолжались. Даже когда Мира повзрослела, получила образование и стала работать школьным библиотекарем, отец продолжал наказывать ее за проступки, все чаще выдуманные: «Не так посмотрела, не тем тоном ответила». Любой повод использовался для ее же блага. Видя знакомый взгляд отца, полный желания воспитать женскую покорность, она не сопротивлялась, а молча оголяла зад, ложилась на его колени и беззвучно плакала от хлестких ударов. Мира давно усвоила: ни в коем случае нельзя плакать и вообще проявлять эмоции. Это делало отца еще более жестоким.
* * *
Когда-то Мира услышала разговор между мамой и бабушкой – матерью отца. Бабушка рассуждала «о той последней капле», которая окончательно перевернула сознание ее сына и сделала таким, каким он стал. «Ты не думай, милая, никто не виноват, просто времена были тяжелые, а голод многое прощает…» – говорила бабушка, рассказывая о послевоенных годах, когда еды не хватало, выдавали по граммам на человека. В семье росло трое детей, отец Миры был старшим. Прокормить их было очень сложно, но бабушка старалась как могла. Причем еда должна была быть вкусной, потому что муж ненавидел пресную пищу. И в зависимости от его настроения она удостаивалась либо скупого «Молодец», либо: «Кто тебя учил так стряпать? Мать твоя потаскуха оставила тебя с бабкой и сбежала к другому. Понятное дело – дочь шлюхи кухаркой стать не сможет. Угораздило же меня на тебе жениться!»
Правда состояла в том, что бабушкина мать не была шлюхой: она вышла замуж по любви, но спустя год после трагической кончины мужа не смогла жить в доме свекрови, ужасной, невероятно властной женщины, а дочь оставила на ее попечение. Свекровь так и не полюбила внучку за проступок невестки: «Кто может бросить собственного ребенка? Только шлюха!» – назидательно повторяла она ей всю жизнь. Но, не смотря на все невзгоды, бабушка Миры не озлобилась, а выросла нежной и ранимой, любила детей и потому решила стать педагогом. Кто бы мог подумать, что именно призвание приговорит ее к пожизненным мучениям…
С мужем они познакомились там, куда она приехала по распределению после пединститута. Мечта многих девочек и светлая жизнь впереди: волевой, работящий мужчина, немного старше начал за ней ухаживать, но спустя некоторое время изнасиловал. Она забеременела. В те времена, чтобы избежать позора, ничего другого не оставалось, кроме как выйти за него замуж. Она надеялась, что после декретного отпуска устроится на работу и уйдет от этого деспота. Но только подходило время, как она снова оказывалась беременной, пока не родились все трое, и она уже никуда не могла уйти. Да и как? Он нашел бы ее и убил – она это точно знала. Самым показательным стал случай, когда она была беременна уже младшенькой. Собираясь на работу, он спросил:
– Завернула мне бутерброды?
– Не успела…
Он набросился на нее, стал бить кулаком по лицу, по груди, а она умоляла: «Только не по животу, только не по животу…». Он внял ее мольбам, но не из сострадания: «Я не буду растить калеку – проще утопить». По животу бить не стал, но изуродовал так, что она месяц не могла выйти на работу, а там уже и роды подошли, хоть и раньше срока, но, слава богу, родилась нормальная девочка.
Они жили в доме на окраине города. Однажды муж принес щенка, и дети выбежали во двор: «Отец принес нам подарок!» Настоящего друга, с которым можно играть, обучать приносить палку и выполнять другие команды. Но отец привязал его во дворе и запретил подходить: «Пса мне не портить! Кто его тронет, сам сядет на цепь!» Он стал регулярно «воспитывать» щенка палкой и другими изощренными способами, делая его все более злобным. И все это время соседи жаловались на ужасный визг и лай несчастного животного. Дети стали бояться пса, потому что он отчаянно лаял на них и норовил сорваться с цепи. Смирным становился только при виде отца, а на маму не лаял, но злобно рычал – и то лишь потому, что она его кормила. Если раньше в отсутствие отца к ним во двор приходили поиграть соседские дети, то теперь все обходили их дом стороной. Ему даже не посмели дать кличку. «Пес – он и есть пес», – припечатал отец.
В тот вечер дети ждали ужина. Мама с большим трудом смогла достать кусок мяса – огромная редкость по тем временам, и варила кашу. Наверное, самую вкусную кашу в мире – потому что с кусочками мяса. Дети все время крутились возле нее, аромат раздирал им нутро. Все смотрели на настенные часы: надо было дождаться отца, который как назло задерживался на заводе. Наконец послышался лай пса, возвещающий его приход. Но теперь дети должны были дождаться, когда он поест. Отец неторопливо жевал, пока дети молча глотали слюни; оторвавшись от еды, он спросил:
– Пса кормила?
«Господи, не успела…» – с ужасом подумала она, да и когда ей было, если трое детей и на плечах не только целый класс, но и почти вся школа (недавно она согласилась стать завучем под предлогом повышения зарплаты, а на самом деле – чтобы сбегать из дома по уважительной причине; что угодно, лишь бы не дома).
– Я… не успела…
Тогда он подошел к плите, взял кастрюлю с кашей, вышел во двор и вывалил все в миску псу. Тот, не веря своему счастью, поглощал их ужин, чавкая от удовольствия, а дети наблюдали за этой страшной картиной со слезами на глазах и даже всхлипнуть не посмели.
Как старшему, отцу Миры доставалось больше всех. Выходки отца он сносил молча, плакать тот его отучил довольно рано, называя размазней, при этом ненависть к матери росла с каждым днем. Спустя годы он стал воспитывать в своей дочери «женскую покорность», хотя именно за нее и ненавидел свою мать, а позже и жену. Он знал, что нормальная мать должна была их защитить, приготовить другой ужин, что угодно, но накормить своих детей. Она этого не сделала. Она ничего не сделала ни в тот вечер, ни когда-либо еще.
Он так и не простил ей ту кашу, постоянно хамил и огрызался, делал все назло, подавая пример младшим детям, и со временем те тоже стали презирать мать. Пока он был подростком, она списывала все на возраст: «Ничего, вырастет – пройдет, надо просто подождать». Он тоже ждал, когда вырастет, но не для того, чтобы у него «все прошло», он жаждал мести. Пока отец был жив, он ограничивался крепкими словами в адрес матери, а когда тот умер, регулярно приезжал к ней и бил железной линейкой или ремнем. Ведь с возрастом обида не исчезла, а продолжала душить его, с годами перерастая в бронхиальную астму.
Когда он ее хлестал, каждый раз надеялся, что мать все-таки даст ему отпор. Но женщина, у которой с детства была подавлена воля, никакого отпора дать не могла, тем более в пожилом возрасте и тем более сыну. Так она и сносила эти побои, очень обидные, но терпимые. Всё лучше, чем люди узнают, что ее бьет сын…
Повзрослев, Мира перестала резать своих кукол, все больше уходя в мир книг и фантазий, где она была смелой и решительной, любила и была любимой. Там ее никто не мог пороть, унижать и использовать, там она была хозяйкой своего положения. А в жизни она предпочитала не привлекать к себе внимания, в первую очередь внимание отца, носила скромную одежду и ужасные очки, чтобы спрятать за ними большие глаза. За такой ширмой ей было легче. Мира стала библиотекарем в своей школе, где все ее знали с детства, и где не было необходимости в дополнительном общении: «Чем могу помочь? Читательский билет. Распишитесь». Мира вполне обходилась этим набором вопросов и все уже давно знали, что она предпочитает обществу книги. С детства библиотека оставалась самым безопасным местом, где она пряталась от того, что происходило в доме. Там она могла наконец побыть в тишине, погружаясь в захватывающие дух приключения. Читая о человеческих судьбах, Мира пусть ненадолго, но чувствовала себя свободной, почти как те героини, которые могли мечтать, громко смеяться, дерзить и даже драться. В книгах для нее все было по-настоящему. Она искренне сопереживала, радовалась и плакала, мысленно дополняя ту или иную сюжетную канву своим присутствием. Ей нравилось спасать собачку, которую топил глухонемой хозяин, освобождать узника замка или останавливать войну, развязанную великим полководцем. Мира, дарящая Мир всему Миру. «МММ».
Ей нравилась эта аббревиатура, которую она прорисовывала в уголках своих тетрадей и дневников. Даже при получении паспорта она расписалась этой монограммой, хотя и понимала, что будет за это выпорота – чем не повод, но не сдалась, а, стиснув зубы, впервые в жизни сознательно расплатилась болью за то, чего действительно хотела: подошла к отцу, показала паспорт, легла на его колени, зажмурилась и приняла порку.
* * *
Все это продолжалось до тех пор, пока она не вышла замуж за Марка – единственного, кто стал за ней ухаживать или, скорее, взял измором. Он приходил в библиотеку каждый вечер, брал книгу, читал и ждал, пока Мира закончит работу. Потом провожал ее до дома, по дороге почти не говорил, только иногда задавал вопросы, внимательно выслушивал ответы и продолжал идти рядом. Позже Мира узнала, что он приехал из другого города в гости к своей матери, но решил задержаться и даже успел найти работу по специальности.
– Ты бы мог поехать в любой город, почему именно сюда?
– Из-за мамы. Я по ней очень скучал.
– Хорошо, когда такие теплые отношения с родителями, особенно с мамой.
Марк подумал, что на самом деле он никогда не находил в сердце матери отклика любви. Да и откуда ей было взяться, если его родная бабушка, мать матери – трагически погибла, когда маме было всего пять. Женщина утонула, когда они всей семьей плыли на теплоходе. Поскользнувшись, она упала в воду, а когда ее достали, было уже слишком поздно. Так дед – отец матери – остался с четырьмя детьми на руках, но спустя какое-то время встретил Марию, женщину моложе него на полжизни. Она не была красавицей, но его это не смущало, на своем веку он повидал много красавиц. Будучи невероятно обаятельным, он умел заговорить любую так, что на него гроздьями вешались женщины, включая юных особ, даже когда ему было за семьдесят. Ему не мешали ни возраст, ни лысина, ни даже его не работающая левая рука. Он много шутил, в первую очередь над собой, был обходителен, галантен и любвеобилен. Мария была счастлива. Она считала его заботу о ней и ее страстную влюбленность отличным фундаментом для семьи. И сразу взяла на себя такую обузу – четырех чужих детей. Ради него она была готова на любую жертву. Своих детей так и не родила – было некогда, она едва успевала исполнять обязанности няни-гувернантки: еда, занятия, сон, прогулки – все по расписанию и никакой любви. Нежности хватало только на мужа.
Прелесть материнства Мария поняла, только когда младшая дочь, родив, оставила ей Марка и уехала в другой город. К тому времени все дети повзрослели, разлетелись кто куда, и малыш привнес много радости в ее оскудевшую жизнь. «Если я смогла вырастить четырех детей, то почему не смогу стать младенцу настоящей матерью?» – размышляла Мария, в сердце которой с каждым днем росла необыкновенная нежность к этому хрупкому созданию, которое так нуждалось в ее заботе.
Марку было всего два месяца, когда он остался на руках чужой, но очень хорошей женщины, в чьем сердце было так много нереализованной любви, что поначалу он от нее просто задыхался. Со временем он стал ее ребенком и ничьим больше. Она его баловала, как могла: покупала лакомства, на которые могла потратить недельное сбережение, перешивала выходные брюки мужа в брючки для Марика, а однажды продала дорогую брошь, чтобы купить игрушечную железную дорогу:
– Мария, ты сошла с ума?!
– Может, он станет инженером, тебе жалко для родного внука? У ребенка и так никого нет, мы его родители, и я требую к нему особого отношения! Я всю жизнь растила твоих детей, так дай же мне вырастить своего!
Одержимость сыном-внуком принимала угрожающие масштабы, и муж качал головой: «Лучше бы ты родила своего, Мария… Это было бы правильнее».
Так Марк и рос с приемной мамой-бабушкой, для которой он стал светом души и смыслом жизни. На счастье Марии, дочь не рвалась навещать малыша.
Маркуша рос смышленым ребенком, довольно рано начал говорить, был окружен любовью и заботой. Вот только звонки матери выбивали из его колеи: он нервничал, плакал и спрашивал, когда же приедет мама. Услышав длинные междугородние звонки, Марк несся через всю квартиру к телефону: «Мамочка звонит!» – но Мария незаметно выключала аппарат из розетки, снимала трубку и с грустью сообщала: «Звонок сорвался, Маркуша. Мама перезвонит позже». Она была готова на любую ложь, на что угодно, лишь бы его у нее не забрали.
А Марк каждый день ждал звонка матери, мечтал услышать ее голос. Ему казалось, что через трубку он может даже услышать запах этой невероятно красивой женщины с зелеными глазами, его настоящей мамы. Свою морщинистую бабушку он, безусловно, любил, но все равно всем сердцем тянулся к той, которая навещала их в лучшем случае раз в год. Марк спрятал у себя фотографию матери из семейного альбома, каждый раз доставал ее перед сном и, пожелав спокойной ночи, засыпал. В один из ее приездов он даже выкрал из чемодана тонкий темный шарф, который многие годы любил надевать на голову. Пропитанный ее духами, шарф обрамлял лицо, словно длинные волосы, и Марк становился похожим на маму как две капли воды. Он смотрелся в зеркало и говорил: «Здравствуй, Марик. Как дела? Мама тебя очень любит».
Повзрослев, он привык. Привык к всепоглощающей любви бабушки и к тому, что мама была далеко и всегда занята любимой работой.
Став постарше, Марк начал внимательно приглядываться к своему дедушке-отцу. Инженер-нефтяник, статный человек, умный и находчивый, невероятно общительный, на его коленках пересидели почти все знакомые бабушки, от соседок до подруг, и даже некоторые учительницы из его школы, включая преподавательницу музыки, которая приходила к ним домой. Все это Марк видел своими глазами, и все отрочество копировал с деда фасон мужчины, которого все любят и все хотят. Ему это более чем удалось, за исключением главного: дед был человек благородный и никогда не пересекал тонкую черту дозволенного как обществом, так и законом и традициями, в любой ситуации держался с достоинством. У него имелись влиятельные друзья, его большая записная книжка хранила телефоны литераторов, режиссеров, артистов, врачей, юристов, людей в погонах и других нужных людей, с которыми он умел дружить и которые никогда и ни в чем ему не отказывали. Каждое утро он начинал с того, что открывал блокнот, где были записаны все дни рождения, и не забывал поздравить ни одного именинника. Он был эрудитом, умел себя правильно преподнести, своевременно пошутить и своевременно обсудить дела.
Марк же, обладая множеством талантов – он великолепно играл на гитаре, имел склонность к языкам, мог сконструировать из спичек целый дом, – учиться не любил и стал заурядным хулиганом, который неоднократно попадал в серьезные передряги и только благодаря деду не побывал в тюрьме. «Ну что ж? С кем не бывает?» – говорила бабушка разъяренному мужу, который каждый раз с огромным трудом заминал проступки внука.
В отношениях с женщинами он до деда тоже недотягивал: ему не хватало благородства. В основном он манипулировал бабушкой, выпрашивая у нее все что угодно: от украшений для очередной девочки, на которой «собирался жениться», до денег на выдуманные похороны друга. Врал нещадно, в школьные годы прибегал к немыслимым уловкам; например, незаметно вешал над головой бабушки текст стихотворения, которое надо было выучить наизусть, и читал с листа, а она потом недоумевала при виде двойки. Марк же говорил: «Растерялся. С кем не бывает? Не говори, пожалуйста, дедушке». И Мария скрывала от мужа все, что только могла, однажды даже тайком воспользовалась его записной книжкой и договорилась с врачом об аборте для юной девушки, которую Маркуша разлюбил. «С кем не бывает?»
В женском кругу Марк частенько доставал из кармана фотографию мамы, которую всегда носил с собой, со словами: «Опоздали, милые мои, я женат. Посмотрите, какая она красавица. Просто царица. Но если вас это не смущает…» Зачастую девушек это действительно не смущало. Провести ночь с таким интересным и неординарным мужчиной доводилось не каждый день: «Ну, женат, ну и что? С кем не бывает?»
Так шли годы его лихой юности и распутной молодости. Марк поступил на инженера-строителя, и связи дедушки кое-как дотащили его до последнего курса. «Жениться бы тебе, может, тогда поумнеешь?» – говорил дед, но бабушка была не согласна: «Куда торопиться? Ему же не рожать, пусть нагуляется вдоволь, а потом найдет себе счастливицу».
И однажды Марк действительно встретил ее: девушка была невероятно похожа на его мать. Знакомство он начал так: «Значит, это вашу фотографию я храню всю жизнь возле самого сердца? Отдать не могу, зато мы можем сделать новую! Предлагаю сразу в костюме жениха и в платье невесты». Девушка рассмеялась, поразившись очевидному сходству, но что бы Марк ни делал, какие бы сумасшедшие поступки ради нее не совершал, он так и не смог завоевать ее сердце. Он точно знал, что нравится ей, и сходил с ума – не только из-за их схожести с матерью, но и из-за ее недоступности. Целомудренная, она ему не давалась и будто мстила за все разбитые им сердца. «Мне нужен мужчина, на которого я могу положиться, а шлейф из твоих женщин настолько длинный, что я просто тебе не верю».
Марк тяжело и долго переживал эту неудачу; он хотел жениться немедленно, хотя дед болел и было не до свадеб. Бабушка точно бы его поддержала, если бы девушка согласилась… Именно тогда он впервые задумался о том, сколько совершил ошибок, сколько судеб покалечил, с легкостью бросая очередную жертву своей любви. К своим сорока годам он устал и от переживаний, и от прежних связей. Но тут он встретил Миру… Марку очень нравилась невинность ее взглядов на разные вещи, какая-то странная чистота помыслов и суждений. Она была такой хорошей, что его это даже настораживало. Но, вглядываясь в будущее, Марк представлял, каким он сам мог бы стать рядом с такой женщиной; она была на несколько ступеней выше всех, кого он знал, причем, что важно, она туда даже не стремилась. Она просто там была. Потому что сама по себе была светлой. Именно это его и привлекало. Ведь опытного Марка невозможно было обмануть, а светлые люди для него вообще были загадкой. Так ли это на самом деле? Настолько ли они светлы по своей сути? И что, никаких масок и ни капли лжи?
В том, что Мира не врет, не было сомнений. Никакого лицемерия или лукавства. Ни в чем. Ей было уже за тридцать, и он не мог понять, как она сохранила свою наивность, которая так его притягивала. Ему захотелось отбросить свое прошлое и наконец построить будущее. После смерти дедушки и бабушки его больше ничто не связывало с тем местом, где он прожил всю жизнь. А тут новый город, новые люди, знакомства, долгожданное воссоединение с матерью и встреча с Мирой…
Каково же было его удивление, когда Мира не задумываясь, согласилась на его предложение выйти за него замуж. Она не ждала от него слов любви, восхищения, страсти, ничего, что обычно требуют женщины. Не хитрила, не манипулировала, не просила, не делала ничего, что было ему так привычно. Впервые в жизни он не понимал, что делать с женщиной, которая так отличалась от других, и которой он предложил вступить в брак, хотя они ни разу даже не поцеловались. Да, Мира была выше всех, и ему очень хотелось встать рядом с ней на пьедестал, куда он же ее и водрузил.
Его ухаживания длились до тех пор, пока однажды Мира зашла домой и увидела сидящих за столом отца и Марка. Они уже обо всем договорились. Мире было за тридцать и было все равно. Она не хотела замуж, но очень хотела уйти из отчего дома. В конце концов, начальная буква его имени вписывалась в ее монограмму…
Регистрацию брака завершил тихий семейный ужин. Поднимая рюмку за новобрачных, отец напоследок посмотрел на Миру до боли знакомым взглядом и, выпив залпом, сначала поморщился, а потом растерянно произнес: «Хорошую жену я воспитал… И вот на тебе, отдаю в чужие руки…»
Глава III
Руки Марка почти всегда были холодными. Сказывалось наследственное плохое кровообращение. Он был среднестатистическим инженером, человеком заурядной внешности, в котором, пожалуй, не было ничего примечательного, кроме больших зеленых глаз. Единственный ребенок интеллигентной семьи: мать – в прошлом художник по костюмам в театре, отец – военный журналист, которого сослали во время репрессий. Марк еще не родился, когда молодая женщина получила весть о кончине мужа. Вопреки совету своего отца, она все-таки назвала сына в честь покойного, оставила ребенка родителям и уехала в другой город; не раз побывала замужем, но детей больше не родила. Она могла вернуться в отчий дом, однако не стала этого делать. За последние сорок лет она побывала там всего несколько раз, и всегда уезжала с неприятным осадком в душе, обещая себе больше там не появляться.
Ей не хотелось вспоминать обо всем, что там происходило, не хотелось видеть Марка, который вешался на нее с криками «мамочка вернулась!» или, еще хуже, бился в истерике, когда она уезжала. Ей просто хотелось жить, исключив даже из собственных воспоминаний бурную, яркую, но короткую главу своей жизни с мужчиной, от которого она родила сына.
Уйдя из театра, она жила размеренной жизнью в пригороде, в собственном доме, с мужчиной, который в отличие от отца Марка пережил репрессии, но навсегда остался душевным калекой с целым набором страхов. Страх остаться голодным – он бесконечно подбирал со стола крошки и отправлял их в рот; страх отравления химикатами в овощах и фруктах – свекровь наняла строителей, и они соорудили на участке небольшую теплицу, а в саду посадили плодовые деревья. Но страхи на этом не заканчивались. До дрожи он боялся насекомых, а также любых грызунов – разносчиков болезней. Обморок от залетевшей в дом бабочки.
Пока Марка растили и воспитывали бабушка с дедушкой, свекровь Миры жила в свое удовольствие, не обращая внимания на странности мужа: «Мало ли кто чего боится?» А когда наконец похоронила «бедного калеку» – забросила и теплицу, и сад, и ловушки для грызунов и насекомых (которых давно уже не было, и это странно, потому что при жизни мужа они как назло лезли из всех щелей).
Когда Марк подрос, он сам иногда приезжал к матери, но быстро понял, что в ее размеренной жизни ему места нет. Она не гнала его, но и не особо радовалась приезду. Потакала мужу в его фобиях; этот странный мужчина, невзрачный и молчаливый, смущал Марка, но еще больше его занимал вопрос, почему мама вышла именно за него.
– Почему он?
– А почему нет?
– Но ведь у тебя всегда было много вариантов.
– Может быть, те варианты меня не устраивали.
– Но почему?
– Потому что я не хотела пылких чувств и волнений.
– Ты боишься чувств?
– Не хочу быть привязанной к кому бы то ни было, тем более к мужчине.
– А мой отец… К нему ты испытывала чувства?
– Именно поэтому и не хотела больше ничего подобного. В конечном итоге все это бессмысленно.
– Но почему?
– Отмечу, что это твое третье и последнее на сегодня «почему».
– Хорошо, ответь, пожалуйста.
– Ну а что бы я сейчас делала? Старилась на его глазах?
– Ты и так старишься…
– Да, но на глазах мужчины, который мне безразличен. Это важное обстоятельство.
– Ты не перестаешь меня удивлять, мама.
– Тоже неплохо.
* * *
На взгляд Миры, свекровь была несколько эксцентричной. В прошлом она создавала образы актеров к каждому спектаклю, руководила костюмерами, которые шили наряды, сообразные эпохе произведения, была внимательна к деталям и очень строга. Если хоть один шов или элемент одежды не совпадал с ее эскизом, заставляла перешивать весь костюм. А если приходилось снова что-то переделывать, то без сомнений увольняла виноватого. Она старалась расширять свой кругозор, в поисках источников вдохновения посещала музеи и театры, считая, что профессионал всегда должен находить время для развития и оттачивания своих навыков. С ней работали мастера своего дела, но изготовление корон и украшений она доверяла только настоящим ювелирам. Свекровь обожала эпоху барокко, могла говорить о ней часами, но любила ее не из-за важных исторических событий, а именно из-за украшений.
Она рассказывала, что в юности познакомилась с театральным режиссером и он предложил ей сыграть в новой постановке молодую королеву. Она согласилась, несмотря на протесты отца, и стала заниматься в студии, осваивая новую профессию. Благодаря своей блестящей памяти, текст она выучила за один день, и вскоре начала репетировать на сцене. Сам по себе спектакль получился интересным, но главной задумкой режиссера и гвоздем программы должны были стать украшения королевы, в частности корона – точная копия той, что находилась в городском музее. И если простые зрители могли увидеть только копию, хоть и изготовленную лучшими ювелирами, то высший свет, включая членов правительства, те, кто был готов заплатить за билеты в три, а то и в пять раз больше, насладились бы созерцанием оригинала. Режиссер многие месяцы обивал пороги всевозможных учреждений, подключил все свои связи и все-таки договорился о единственном спектакле для сливок общества: корону привезут вооруженные конвоиры и будут охранять ее с первой и до последней секунды. До премьеры оставалось несколько дней, когда находчивый режиссер предложил свекрови Миры подменить корону, доступ к которой будет только у нее. Разговор происходил в доме ее отца, тот случайно их подслушал и тут же заявил на режиссера, разоблачив его преступный замысел.
«Я думала, что мне несказанно повезло, я оказалась в нужном месте, в нужное время, и стану примой после нашего спектакля. В конце концов, я считала себя талантливой! Но чего только не нафантазируешь по молодости…». После громкого скандала свекровь повстречала отца Марка и вышла за него замуж по большой любви. Но ей и тут не повезло. Узнав о кончине мужа, через месяц после родов она оставила Марка родителям, уехав из этого треклятого города. Получила образование и стала работать в театрах, в каком-то смысле реализуя несбывшиеся мечты о карьере актрисы и, конечно же, о короне.
За сорок лет работы под ее руководством были созданы десятки корон, венцов, тиар и диадем, большая часть которых со временем оказалась у нее дома. Там, где она каждый день могла ухаживать за ними: чистить разнокалиберными щеточками, протирать специальным раствором, поддерживая блеск и величие своих чудесных творений.
В ее двухэтажном доме царили идеальная чистота и порядок. Одним из самых важных элементов этого пространства служили зеркала. Они были развешаны повсюду, ведь «как еще можно почувствовать величие, если не носить эту красоту», – говорила она, каждый день меняя короны. Ставила пластинку любимого композитора (это, пожалуй, единственное, в чем они с Мирой были единодушны, ведь когда-то Мира сама играла его Элегию) и неспешно, всегда с прямой спиной расхаживала по дому. Конечно, это был всего лишь утренний ритуал, но и потом что бы она ни делала – пила кофе, курила или раскладывала пасьянс – в ней сохранялось это величие.
Из всех живых существ (кроме себя, разумеется) она любила только свой бонсай – карликовое дерево, привезенное ей когда-то очень давно. Его пропорции были такими же, как и у большого дерева, хотя росло оно в крохотном горшке уже около ста лет и было донельзя капризным. Свекровь его называла «мой малыш». Возилась с ним как с питомцем, перенося с места на место в течение дня, чтобы он все время находился в светлом помещении, но не под прямыми лучами солнца, ни в коем случае не на сквозняке, бережно опрыскивала каждый листочек, пожелтевшие удаляла пинцетом, сухие веточки подрезала, приговаривая: «Вот так, малыш, вот так. Ну что ты, мой золотой, не капризничай. Ну что ты обижаешься? Я очень аккуратно, только уберу ненужное…». Казалось, что в нем она реализовала всю заботу, на которую только была способна.
Со временем все плодовые деревья в саду погибли: одних одолели болезни, другие пали жертвами жуков-короедов. И пока рабочие спиливали их и выкорчевывали пни, она умилялась своему бонсаю. Она поставила его на подоконник, и со второго этажа они вместе наблюдали за этой казнью: «Смотри, малыш, эти великаны не стоят даже твоего листочка. Ни одной твоей веточки. И что толку от их могучих ветвей? Забавно, правда? Давай я тебя лучше покормлю. Мы уже давно тебя не удобряли».
* * *
Миру устраивало то, что они с Марком жили в крохотной квартирке в центре города, вдали от свекрови и тем более от отчего дома.
Марк был спокойным человеком: никогда не повышал голос, любил научную фантастику и эзотерическую литературу. Странные предпочтения, на взгляд Миры, и все же хорошо, что у них есть что-то общее – интерес к книгам. Каждый раз во время их непродолжительной близости, Мира зажмуривала глаза – как детстве, когда ждала порки. Отец частенько начинал этот ритуал с того, что приводил ее в спальню, открывал дверцу шкафа и рассматривал висящие на перекладине ремни. Он выбирал один из них, складывал его пополам, держась за два конца, и вдруг резко разводил руки: рождался хлесткий звук шлепка. Отец предвкушал наказание и заставлял Миру предвкушать страх боли, что было хуже самой боли. Она зажмуривалась так сильно, как только могла, чтобы перед глазами начали проплывать белые узоры: когда она их откроет, узоры сменятся роем черных точек, которые вскоре исчезнут, и тогда…
В противоположность отцу Марк не был жестоким, грубым или даже настойчивым, вообще вполне терпимым. Вечерами он начинал зачитывать ей отрывки из книг, и Мира понимала, к чему дело клонится. Так выглядели его ухаживания, предвещая брачный танец. Лежа в постели, Мира размышляла над смыслом супружеской близости, да и вообще интимной близости, если мужчина неизбежно получает удовольствие, а женщина – совсем не обязательно. И все же она терпеливо ждала и даже постанывала ради приличия, пока Марк совершал поступательные движения. Мира думала о том дне, когда она почувствует, что хочет ребенка. Наверное, в этом и заключается суть семьи? Они даже договорились с Марком о том, какое слово Мира произнесет, когда будет готова. И она ждала.
Так прошла весна, и наступило лето. Мать Миры при каждой встрече задавала немой вопрос: «Ну что? Ты уже беременна?» – и на отрицательный ответ с грустью в глазах качала головой. Однажды увидев их безмолвный диалог, отец ухмыльнулся: «Кому нужна бесплодная корова? Если только родителям. Так ведь, дочь?» Эта фраза вызвала у Миры волну тошноты, засела в голове и пульсировала мерзким отголоском где-то в животе. Пока они с Марком возвращались домой, Мира молчала и думала о том, что будет, если она не забеременеет. Вдруг Марк откажется от их союза, и что тогда? Вернуться домой она не могла. Зациклившись на этой мысли, Мира стала читать тематическую литературу, погрузившись в нее с головой. Теперь на ее пути постоянно попадались беременные женщины и счастливые пары с детскими колясками. И если раньше она не обращала на них внимания, то сейчас ее по-своему умиляли эти мамочки с младенцами, крохотными созданиями, которые так нуждались в любви и заботе.
Однажды во время их близости Мира в первый и последний раз в жизни почувствовала, как внутри нее открылось нечто прохожее на врата, куда нужно было следовать немедленно, и она, повинуясь этому зову, открыла глаза, посмотрела на Марка и отчетливо произнесла: «Сейчас».
– Ты уверена?
– Сейчас, – повторила Мира и снова зажмурилась.
Погружаясь в состояние блаженства, Марк замер и впервые простонал в голос, а не просто окаменел в гримасе наслаждения. Услышав его стон, Мира почувствовала, как где-то там, глубоко внутри нее запульсировало удовольствие, впуская в себя новую жизнь.
Был июнь. Все цвело, и Мира тоже зацвела. Под предлогом беременности она прекратила эти, по ее словам, «бессмысленные встречи». Марк был не против. Он вообще никогда не был против и никогда не настаивал.
Счастливая Мира провела в библиотеке всю беременность, ходила на работу и с удовольствием засиживалась там допоздна, но теперь не из страха вернуться домой, а потому, что зачитывалась любимыми книгами. Теперь ее никто не унижал и не контролировал. Напротив, Марк и сам был рад одиночеству, тоже много читал, но любил делать это дома, сидя в своем кресле. Впрочем, вечерами он продолжал встречать Миру с работы, все так же шел рядом и почти не задавал вопросов, размышляя о чем-то своем.
* * *
Зима в тот год выдалась почти суровой, что случалось раз в столетие, и длилась дольше обычного. Как правило, в начале марта уже зацветали подснежники, но сейчас весна где-то задержалась, неторопливо готовясь к своему выходу. И город замер в ожидании любимого праздника. Его отмечали дарением друг другу подснежников. Но никто не срывал их и даже не выращивал на продажу. Люди сами их плели, шили, рисовали, лепили, вырезали из бумаги, скручивали из салфеток, отдавая дань традиции.
Марта родилась в чудесный день, когда появились первые подснежники и наконец наступила весна. «Конечно, Марта! Кто же еще?» – умилялся весь роддом.
Мира бесконечно радовалась подарку судьбы. Монограмма «МММ», которая Марку тоже нравилась, получила обновление. Появился союз трех «М», в который Мира поверила всем сердцем. Марта, Мира, Марк.
Марк зашел в палату. Мира была обессилена, но, улыбаясь, произнесла:
– У нас дочь…
– И такая красавица! – с восхищением произнесла медсестра, передавая ему в руки младенца.
Взглянув на дочь, Марк удивился: на него смотрели глаза его матери. Большие, зеленые, почти его глаза, только с вкраплениями желтых пятнышек на радужке, напоминающие звездочки.
– Какие-то космические глаза, – сказал он и улыбнулся. – Ну, привет, Марта. Мы тебя ждали.
Медсестры демонстрировали ее как эталонного ребенка, девочку с огромными изумрудными глазами и белоснежной кожей. Здоровая, без единого изъяна, она сама была похожа на подснежник, обожаемый всеми символ города. Была, пожалуй, лишь одна странность – взгляд, слишком проникновенный и осознанный для новорожденной, почти пугающий.
* * *
Со временем Марк стал участвовать в быту, с удовольствием помогал Мире, и вообще проявился как очень отзывчивый человек. Без долгих раздумий он откликался на просьбы и делал все, что было в его силах, как для близких, так и для малознакомых людей.
В выходные он посвящал чтению все свободное время – за исключением тех дней, когда они всей семьей навещали его мать в пригороде. Мира была не против, да и Марта любила бывать в доме Бабули. Особенно ей нравился сад, где она могла часами возиться в траве, играть с жучками и где висел большой цветной гамак, похожий на свернувшуюся радугу, – уютное полотно, в котором можно было лежать и смотреть на проплывающие облака, слушая шелест окружающего леса. Гамак висел на Виноградной арке – металлическом каркасе, увитом диким виноградом. Солнце всегда покрывало бликами это зеленое пространство, и Марта проводила там по многу часов. В младенчестве ее укачивали в этом гамаке, а став постарше, она сама заворачивалась в него как в кокон, оставляя непокрытой только голову, тожественно провозглашая: «Я – гусеничка!»
Марк раскачивал эту колыбель, отчего глаза дочери светились счастьем, и, все еще не выговаривая букву «р», она кричала в восторге на весь сад:
– Мама, я навейху! Я высоко! Я – с папой! Смотйи! – Бралась руками за края и махала большими радужными крыльями гамака: – Я уже бабочка!
– Будь осторожна, моя птичка! – отвечала ей Мира.
– Держись крепче, гусеничка, – улыбался Марк.
Пожалуй, это было одно из самых серьезных разногласий за все время их совместной жизни: Мира называла Марту «птичкой», а Марк – «гусеничкой», что, по мнению Миры, противоречило самой природе.
– Птичка ест гусеничку! – возмущалась она.
– Хорошо, Мира. Не шуми, – примирительно отвечал ей Марк.
Все же они были взрослыми интеллигентными людьми, которые всегда могли договориться.
* * *
Когда они приезжали в дом Бабули, Марта со всех ног неслась к ней и, падая в объятья, произносила: «Скучилась?» На что Бабуля, ставя ее обратно на ноги, произносила:
– Соблаговоли для начала поздороваться. Где твой реверанс?
Марта очень любила эту игру, тут же хватала полы платья и, игриво улыбаясь, склонялась перед Бабулей. И хоть та улыбчивой не была, Марте было достаточно блеска в ее глазах и ответного кивка.
– Хорошо, а теперь представься. Как тебя зовут?
– Майта!
– Скажи: Марта. Ррррррр…
– Йййййййййй…
Бабуля была недовольна, но Марту это не смущало.
– Мойно я пойду туда? – показывала Марта в сторону столовой, где в хрустальной вазочке всегда лежали ее любимые леденцы.
– А вежливость? Что я тебе говорила? О чем для начала можно завести нейтральный разговор с человеком?
– Сегодня дойдик! – бойко отвечала Марта.
– Нет, сегодня как раз солнце, и не надо так кричать. Пожалуйста, будь сдержаннее. Ты же не в деревне!
Но Марта уже неслась к обеденному столу, на котором, как правило, лежали ее любимые леденцы, и кричала оттуда что было сил:
– Мойно сосалку?
А Бабуля закатывала глаза, будто ее пронзала боль.
– Сколько раз тебе говорить, Марта? Нет такого слова «сосалка»! Есть мон-пан-сье!
Пока Марта с наслаждением посасывала конфетку, она честно пыталась произнести это странное слово, которое совсем не было похоже на вкусный леденец. Зато когда у нее получилось, она стала так называть бабушку – Бабуля Монпансье, уверенная в том, что это не иначе как титул высокопоставленной персоны, ведь Бабуля именно такая.
Но Марта не спешила учить правильные слова и фразы. Вместо «Я тебя люблю» она говорила «Я тебя лю-лю» и с утра до вечера напевала всему, что ее окружало, даже цветочкам на обоях и кухонным ножам: «Я тебя лю-лю-ю-ю…». И при этом расхаживала по дому, натянув на голову колготки, потому что так создавалась видимость длинных кос, о которых Марта мечтала.
Швабда – свадьба, чипихаха – черепаха, лякака – лошадка, черливый – червивый, жукашки – объединенные букашки и жуки: у Марты был свой словарь, который хорошо знали родители и которому умилялись другие взрослые. Марта любила повторять разные фразы, чаще всего не понимая их смысл, зато в точности передавая интонацию, с которой их произносили. Выглядело это довольно странно: милая девочка менялась в лице, глаза «стекленели», и она, например, произносила: «Я сказал, денег нет! Что ты хочешь?!» Однажды Марта взмолилась: «Не надо! Прошу, не надо!» – а через мгновение как ни в чем не бывало продолжала играть. «Она эти фразы просто поет», – со знанием дела говорила Бабуля, которая всю жизнь пела романсы.
Марта никогда не могла или не хотела объяснить, где услышала то или иное выражение. Марк был уверен, что по большей части дочь их выдумывает, однако у Миры не было сомнений, откуда они брались. Она поняла это после очередной поездки к своим родителям. Отец, дав оплеуху маме, обычно приговаривал: «Вот тебе!» Марта произнесла слово «Вот» как «Вад», и, сказанная много раз подряд, эта фраза превратилась в указание: «Тебе – в ад!»
Услышав это, Бабуля вздрогнула:
– Господь милосердный, чему вы ее там учите?
– Надо же как-то приобщать ребенка к религии, – отшутился Марк.
– Какой моветон! Но если ребенок одержим, то может покрестить ее на всякий случай? Не вызывать же экзорциста.
– Тебе виднее, мама, – ехидничал Марк.
– По крайней мере, можно не возить ее туда, где она набирается такой гадости.
* * *
Мира редко привозила ребенка к своим родителям, причем не только потому, что ненавидела отца, но и из страха снова в чем-то провиниться. А еще больше она боялась, что когда-нибудь провинится и Марта. Марк не догадывался о ее страхах, и всегда настаивал на поездке, хотя бы раз в месяц.
– Я не понимаю, Мира, это же твои родители.
– Знаю.
– Они тоже хотят видеть внучку, разве нет?
– Возможно.
– Тогда поехали.
– Не хочу.
– Ты можешь мне объяснить?
– Не могу.
– Но Марта их любит!
– Кого?
– Ну, бабушку…
Услышав свое имя, Марта, как правило, вмешивалась в разговор. Она называла родителей Миры Бабу и Дида, с ударением на последний слог, частенько соединяя их имена для удобства.
– Бабудида?
И начинала хлопать в ладоши. Март вообще-то было неважно, куда ехать, главное – вместе с родителями. А в случае поездки к Бабу она еще и предвкушала яства, которыми та всегда ее баловала. Марта любила Бабу. Она была очень родной и очень теплой. И очень занятой. Бабу тоже искренне любила Марту, но ей было просто некогда: дел всегда невпроворот. Муж – капризный астматик, все хозяйство на ней и в придачу школа, где она работала учителем вот уже сорок лет.
Перечислять заботы Бабу можно до бесконечности. Все лето она возилась с заготовками, от компотов и варений до всевозможных овощей и солений. Они жили в пятиэтажном доме, где, на их удачу, имелся небольшой подвал. Он лопался от изобилия запасов съестного, всего, что Бабу делала почти полгода, начиная с мая, заканчивая в октябре. Это было необходимо, потому что при том, что Дида болел, всегда лежал, тяжело дыша и жалуясь на свою астму, он почему-то ел шесть раз в день, и его надо было чем-то кормить. Помимо того, что он любил вкусно поесть, он еще и любил поесть много. Много еды на какое-то время заглушало его раздражительность.
– Кто-нибудь даст мне поесть?! – возмущенно орал он на всю квартиру.
И Бабу неслась со всех ног к нему с закуской. «Ну а там посмотрим. Если потом что еще захочет, то посмотрим…», – приговаривала она, а перед мужем появлялась огромная миска.
Марта с искренним восторгом наблюдала за тем, как дед сливал в эту посудину два литра сметаны, крошил туда хрустящий хлеб и медленно поедал содержимое, сидя, а чаще лежа перед телевизором. Марта до последней ложки не отрывала взгляд от деда. Смотрела с восхищением, завороженная, совершенно не понимая, как все это могло поместиться у него в животе.
– А де в твоем пузике ведейко? – спросила она однажды, все еще не выговаривая букву «р».
Обычно Марта молчала, и потому от неожиданности он поперхнулся, но отделался легким кашлем.
– Какое ведерко? – сурово спросил Дида.
– Де вот это все много-много лежит, – сказала Марта, указывая пальчиком на огромный живот деда, хлопая своими изумрудными глазами, искреннее восхищаясь таким фокусом. – А еще покажешь? Как в цийке!
Дед пристально посмотрел на Марту и разгневанно гаркнул в сторону кухни:
– Кто-нибудь принесите этой миску, пусть заткнется!
Не понимая значение слова «заткнется», Марта неожиданно расплакалась, чем расстроила деда еще больше: «В кои веки хотел поделиться. Уберите ее отсюда!»
Бабу поспешно увела Марту с собой, нежно причитая, что все будет хорошо.
– Воспитывать вас некому! – рявкнул напоследок Дида, и после этого больше никогда не предлагал ей поделиться. Шло время, но почему-то тот казус все еще печалил Марту. Находясь у них в гостях, она всегда искала повод поболтать с дедом, что-то ему сказать.
* * *
Но как бы Марта ни старалась, дед все время смотрел телевизор или спал. Попробовав однажды оторвать его своей болтовней от телевизора, она получила по губам удар тыльной стороной его ладони. Было не больно, но обидно. Правда, Марта не обижалась. Она впитывала. И размышляла о том, как же ей поговорить с дедом. Если его нельзя отрывать от телевизора, то остается только разбудить – ведь застать его в другом каком-нибудь состоянии у нее не получалось. Решение пришло само собой, тем более что у Марты был наглядный пример. Однажды трехлетняя Марта зашла в комнату и, поиграв возле спящего деда несколько минут и даже поговорив с ним о погоде, как учила Бабуля («А сегодня дойдик»), она с размаху залепила ему пощечину: «Вад тебе!»
Дида спросонья подскочил на месте и, увидев испуганную Марту (кто же знал, что от пощечины он так странно себя поведет, ведь Бабу никогда так не делала!), закричал: «Ах, ты!..» – и потащил ее в спальню.
Мира разговаривала с матерью на кухне, когда вдруг больно кольнуло в груди. Не раздумывая, она направилась в то единственное место, где ее душа уходила в пятки и где она испытывала жгучую Боль…
Она встала в дверях спальни как вкопанная, не в состоянии сойти с места и пыталась зажмуриться, наблюдая происходящее короткими вспышками: вот отец открыл дверцу платяного шкафа, вот щелкает выбранным ремнем, вот – занес руку над Мартой…
Зажмурившись, Мира набрала в легкие воздух и перестала дышать: «Нельзя проявлять эмоции. Ни за что нельзя. Будет только хуже». Ей показалось вечностью мгновенье, которое стало бы олицетворением Первого Наказания, первой жгучей Боли ее маленькой Марты, которая совсем не понимала, зачем ее привели в эту комнату и что ее ожидает. Миру мутило, ноги подкашивались, нутро сжалось в ожидании хлесткого шлепка – но прошло несколько секунд, а ужасного звука так и не последовало. Она открыла глаза и впервые в жизни увидела долгожданную картину, которую рисовала в своем воображении все свое детство: подоспевшая мама крепко держала отца за занесенную руку.
Миру вырвало прямо на ноги отца, и в доме воцарилась гробовая тишина. Отец посмотрел на нее с отвращением, хотел что-то сказать, но боль в запястье его отвлекла. Взглянув на жену, он вдруг увидел незнакомую женщину, которая смотрела на него с устрашающей решимостью дать отпор. Не поверив своим глазам, он прокричал:
– Эта сопля разбудила меня оплеухой!
– Я бы делала это вечность! – прошипела в ответ жена, и в эту минуту Мире показалась, что мама увеличилась в размерах, пытаясь заслонить их собой. Как птица, которая защищает своих птенцов.
– Не смей трогать ребенка! – приказала мама-птица, и отец-хищник впервые растерялся, не зная, как ему поступить. А Мира смотрела на мать и тихо плакала; каждой клеточкой тела и всей душой она источала благодарность, которая звучала в сердце гулким эхом непроизнесенных слов: «Спасибо, мама…»
Дверной звонок разорвал вакуум этого пространства и, вздрогнув от неожиданности, отец опустил руку. «Все с ног на голову, тупые дуры…» – прохрипел он, швырнул ремень в угол и пошел встречать Марка.
– Не надо так лю-лю! – захныкала ему вслед Марта, и ее огромные глаза налились слезами, превратившись в удивительные зеленые моря. Но это не остановило вспышку дикого страха Миры, которая начала приходить в себя.
– Марта, зачем ты ударила дедушку? А если бы он тебя… наказал!?
Марта, сложив руки на груди, исподлобья смотрела на мать, не понимая, почему ее ругают, но тут в комнату вошел Марк. «На ручки!» – Марта расплакалась, всем телом прижимаясь к отцу.
– Ну что ты, моя гусеничка, – проворковал Марк и, окинув присутствующих хмурым взглядом, вышел, унося с собой малышку.
Обычно Марк всегда умел успокоить дочь; он гладил ее по волосам и приговаривал: «Не плачь, гусеничка. Однажды ты станешь бабочкой». Но в этот день Марта никак не могла успокоиться, капризничала и даже не захотела слушать любимую сказку. Вдруг Марк увидел на туалетном столике расческу.
– Смотри, мы можем причесать тебя этим волшебным гребнем, и у тебя будут самые красивые волосы на свете, ни у кого таких не будет. Ты станешь настоящей Длинновлаской. Хочешь?
Марте понравилось слово «Длинновласка», и внимательно посмотрев на расческу, она уточнила:
– У меня буду во-о-от такие волосы?
– Обязательно.
Марта кивнула в знак согласия, и Марк стал неспешно расчесывать ей волосы, тихо напевая мелодию, отчего Марта наконец успокоилась и заснула.
Потом Мира объяснила мужу, что, вероятно, чем-то отравилась, а Марта просто испугалась. Но после того случая она стала привозить дочь к родителям еще реже. А в присутствии своего отца ни на секунду от нее не отходила. Мать тоже все время была начеку. Марта же как будто перестала замечать деда, даже если смотрела на него в упор. Непонятно, как это удавалось маленькому ребенку, но именно это обстоятельство положило начало негласному союзу трех женщин и заговору против насилия, потому что «Не надо так… лю-лю…».
Глава IV
Марк стал называть дочь Длинновлаской, что очень нравилось Марте, да и Мире это нравилось больше, чем гусеничка. После случая в доме Бабу это слово прочно засело у Марты в голове и почему-то всегда ее успокаивало. Стоило ей расшалиться, как Мира гладила ее по голове, произносила «моя Длинновласка» – и Марта успокаивалась.
Мира любила гладить дочь по волосам. Шелковистые, поначалу они переливались всеми оттенками спелой пшеницы, но когда Марте исполнилось два года, вдруг потемнели и превратились в каштановые с золотым переливом. Точь-в-точь как у свекрови в юности. Но Мире больше нравился период светлых волос дочери, особенно когда кончики завились в локоны. Нимб из золотых кудряшек создавал неповторимый образ ангелочка с огромными изумрудными глазами. Но как бы бережно ни ухаживала Мира за ее волосами, как бы аккуратно ни расчесывала, чтобы сохранить локоны, они все-таки выпрямились и теперь лежали по плечам длинными прядями. Мире частенько хотелось закопаться, запутаться в них, почти задохнувшись от счастья при одной только мысли, что у нее есть дочь. Когда Марта бежала ей навстречу, Мире казалось, что ее подхватывал ветер: только бы быстрее до нее «долететь» и прижаться теплой щекой к ее щеке… «В жирафиков!» – говорила Марта, изо всех сил вытягивая шею, а Мира вытягивала свою, и они обнимались, максимально прижимаясь шеями, как это делали жирафы. Когда Марта находила скрученные усики винограда или сросшиеся ягоды черешни, она радостно бежала к Мире: «Мамочка, смотри, жирафики!!!»
Иногда Марта подолгу стояла у окна, взглядом устремившись в себя, уйдя в свои мысли, и Мире отчего-то становилось страшно. Она обнимала ее за хрупкие плечи и чувствовала, что сердце начинает биться чаще, и в эти мгновенья между ними протягивалась почти осязаемая, прочнейшая нить, единственная, которая могла так связывать двух людей. Мира даже не думала, что это возможно. Испытывать такие чувства. Разве это могло сравниться с чем-нибудь еще?
Она начала вести «Дневник Марты», в котором, например, писала: «Не уходи от меня. Даже мыслью. Мир без тебя лишен смысла. Ты всегда будешь петь мне свои замысловатые песни и рассказывать небылицы. И нет ничего чудесней, чем смотреть на тебя, когда ты лопочешь не останавливаясь и говоришь, говоришь, говоришь… О чем? Я не знаю…»
Марта была невероятной выдумщицей и болтушкой. Когда Мира слушала дочь, в очень скором времени сосредоточенность ее улетучивалась и звуки растворялись друг в друге, превращаясь в единый поток детской фантазии. Все, чего Мире хотелось в тот момент, – это забыть об отце, о наказаниях, снова стать маленькой и остаться в невинной заводи этих грез навсегда. Она наконец нашла потерянную тропинку в мир другого детства, куда попадала, глядя на Марту, в ее необыкновенные глаза – изумрудные луга, колосящиеся полевыми цветами – островками в ее радужках. И каждый раз, не желая возвращаться, Мира думала: «Быть может, Марта Ангел?», – и продолжала записывать в свой дневник: «…Велико искушение взять в руки ножницы, выкованные из таких слов, как любовь и привязанность, и подрезать тебе крылья, чтобы ты навсегда осталась со мной…».
– Мамочка, я хочу красивое платье!
– Конечно, я тебе сошью, – говорила Мира и резала свои красивые блузы, которые дарила свекровь и которые не особенно-то были ей нужны: где их носить? в школьной библиотеке? Да и не привыкла она к таким фасонам. Свекровь всегда дарила наряды со словами: «Большое заблуждение, что скромность украшает женщину, Мира. Уж точно не в одежде», – и Мира принимала их с благодарностью, но убирала в дальний ящик. И вот они пригодились. На них всегда было много бисера, пайеток, воланов, оборок и вязаных цветочков, да и ткань была отменная: красивая, качественная, не осыпалась. В новом платье Марта кружилась по комнате в танце: шифон вздымался над туфельками, на расшитом поясе мерцал бисер, и Мира самозабвенно погружалась в теплые блики детского смеха, которые врассыпную убегали от повседневности, растворяясь в синем небе. «Мамочка, я тебя лю-лю!» – говорила Марта, падая ей в объятья. В эти минуты сердце Миры сжималось. Нарастало волнение при одной только мысли, сколько всего ей еще предстоит пережить. Ее маленькой Марте. И поздней ночью, укрывая ее одеялом, она целовала ее, преисполненная благодарностью ко всему и вся за то, что у нее есть дочь, чье детство она создавала своими руками каждый день, не допуская ни малейшей оплошности. Никаких криков, слез и наказаний.
«У меня есть ты, и большего счастья не надо… – писала она в дневнике. – Отдавая тебе свою весну, однажды я расскажу про осень, и ты не будешь плакать, потому что в ней тоже есть своя прелесть. Я отдам все, что у меня есть… Все богатство моей осени станет твоим весенним приданым. Я люблю тебя, моя девочка… Кто бы мог подумать, что в тяжелых муках, кажущихся бесконечными, рождаются такие ангелы, как ты?»
Марк тоже уделял дочери много времени и тоже любил ее волосы, особенно когда кудряшки сменились ровными густыми прядями. После того как волосы Марты выпрямились, Мире они словно не давались. А ему – давались легко. Он неспешно расчесывал их Марте каждый день. У Марка никогда не пригорал обед, он не нервничал по поводу грязной посуды, да и в принципе сердился довольно редко. На пределе своего терпения он произносил: «Не надо шуметь…» – и все умолкали.
* * *
За годы совместной жизни проявление эмоций Марка Мира увидела лишь однажды, когда умерла свекровь. Ее нашли в кровати с короной на голове, как и подобает истинной королеве. Малыш бонсай, который ночевал на прикроватной тумбочке, почему-то пожелтел, будто это его хватил удар во сне, а пока шли приготовления к похоронам и вовсе зачах, сбросив всю листву, хоть Мира и ухаживала за ним, опрыскивая дважды в день и удаляя сухие веточки.
Свекровь положили в гроб, водрузив на голову одну из корон, как она и просила в своем завещании, из которого также следовало, что ее дом достается в наследство Марте.
Переезд в дом свекрови дался нелегко. Уравновешенный и дружелюбный Марк превратился в раздраженного, поглощенного своими мыслями человека; он почти не разговаривал, переживая смерть матери, и пытался смириться с тем, как несправедливо мало было у них времени: она «Ну никак не должна была умереть в шестьдесят пять, ведь когда ушли ее родители, им было под девяносто». Впервые в жизни он почувствовал, что остался один и, вероятно, впервые искал поддержки и сочувствия. Но Мира не могла сочувствовать, потому что просто не знала, что это такое и как это выражать. Она очень переживала, когда Марта болела или разбивала коленки, но сочувствовать Марку… Мира не представляла, как это делается, и иногда просто молча гладила его по руке.
* * *
Несмотря на задор Марты («Едем к Бабуле Монпансье!»), Мира и Марк оставляли квартирку в центре города с тяжелым сердцем, хоть и понимали, что в доме всем будет удобнее. Особенно Марте, ведь она обожала сад, а кроме того, теперь у каждого будет своя комната, да еще и библиотека, в которой стояло старое пианино, на котором Марта любила «поиграть». Она барабанила по клавишам всеми пальцами одновременно, получая огромное удовольствие от этой какофонии, пока Бабуля не хваталась за голову.
– Ради всего святого угомоните этого бесенка, или я сойду с ума!
– Я смотрю, ты все глубже познаешь религию, мама. Бесы, святые… Не иначе как переосмысливаешь жизнь, – подтрунивал Марк.
– Религия – это моветон!
– Ну не надо скромничать, мама, ведь у тебя есть собственная религия, имя которой «эстетство», разве нет?
– И что в этом плохого?
– А что тебе это дало?
– А почему это должно что-то давать? Все, чего я хотела, – у меня и так всегда было.
– Вот и я о чем, мама. Только у тебя оно и было, – с грустью парировал Марк.
* * *
Когда они приехали в дом, Марта радостно взбежала по ступенькам веранды и устремилась к обеденному столу, но привычных леденцов там не оказалось. Это было очень странно. Накрытая платяной салфеткой вазочка на месте, но – пустая.
– Сегодня… солнышко, – немного растерявшись, крикнула Марта в сторону второго этажа, но в доме по-прежнему было тихо. Марк подошел к ней и присел на стул.
– А где Бабуля? – тихо спросила Марта. Марк молчал. На секунду он почувствовал, что его сердце сжалось в горошину и замер пульс. Он ничего не мог ей сказать. Тишина в доме становилась зловещей. Марта даже подумала, что взрослые нашли ее «стаканчик» – треснувший кобальтовый бокал, который она регулярно похищала из серванта, чтобы посмотреть сквозь него на солнце, но однажды не удержала в руках. Должно быть, это ужасно огорчило Бабулю и она обиделась. Хорошо бы так и было… Ведь Марта не станет больше шалить и будет очень-очень послушной. Но все было не так. Произошло что-то непоправимое, и Марта это чувствовала.
– Я больше не буду трогать стаканчик… – произнесла она, глядя на отца своими изумрудными полными слез глазами, почти глазами его матери. И Марк нырнул в них так глубоко, что чуть не захлебнулся от чувств, и еле сдержался, чтобы не разрыдаться. Всю жизнь он ждал, что однажды переедет в этот город и будет жить рядом с матерью. Но им отвели всего шесть лет, и это было несправедливо! И как бы он ни ехидничал и ни подтрунивал, отчасти ненавидя мать за то, что она его бросила, Марк все же любил ее и искал. Всегда и в каждой женщине. Его осенило: быть может, именно отстраненность Миры напоминала ему мать, и потому именно с ней он и создал свое будущее, свой «союз трех М»…
«Как же ты на нее похожа…» – подумал Марк, «пребывая» в глазах своей маленькой дочери, не в силах оторвать взгляд. Новая волна чувств подкатила к самому горлу, но Марк сдержался, взял себя в руки, откашлялся и тихо произнес:
– Бабули больше нет, Марта. Она умерла. Пойдем, я покажу твою новую комнату.
* * *
Большое пространство дома полностью себя оправдало. На втором этаже было три комнаты, в одной из них Мира наконец осуществила мечту о собственной спальне, а по соседству обустроила комнату Марты. У Марка тоже появилась своя комната, но большую часть времени он проводил в кабинете на первом этаже, где засиживался допоздна. Марта и раньше любила захаживать туда – в кабинет «смешного дедули», который боялся бабочек, и о котором она знала только по рассказам и фотографиям.
Марта не скоро поняла, что такое «умерла», и очень скучала по Бабуле. Ей не хватало ее нравоучений, странных разговоров о ее молодости и различных курьезах, будто бы Марта что-то могла понять. Но все равно слушать было очень интересно. Она до последнего слова впитывала эти рассказы, не перебивала, не шалила, не ерзала на стуле – только бы находиться рядом с этой царственной женщиной.
Бабуля любила пасьянсы, кофе и сигареты, и ей было все равно, что сидящая возле нее внучка дышит табачным дымом. И как когда-то Марта смотрела на Диду и его «ведерко», с таким же искренним изумлением она смотрела и на Бабулю, правда там уже был совсем другой фокус.
Дым сигарет ее завораживал: он водопадом струился из ноздрей, а потом вдруг превращался в струйку, выдуваемую изо рта, и водопад исчезал. Марта могла смотреть на это вечно.
– Сколько раз тебе повторять, что неприлично так пристально смотреть на человека! – и очнувшаяся Марта отводила взгляд.
– Тебе нет и четырех, и кто-то подумает, что глупо сейчас говорить с тобой на все эти темы. Да, ты многого не понимаешь, но запоминаешь. И я знаю, что ты все запомнишь. Потому что ты моя внучка. Ты – это я. А у меня блестящая память, и это потрясающий дар. Я бы могла сомневаться в тебе, если бы не глаза. Но тут и думать нечего. Это наши глаза. Значит, и дар наш. Правда, есть у тебя еще один дар – сострадание. Я вижу это в тебе. И зря. Дело это – неблагодарное, и в этом смысле ты будешь совершенно безоружной. Уж не знаю, где тебе пригодится этот дар, главное, помни, что за все в этой жизни приходится платить… или расплачиваться, – задумчиво произнесла Бабуля и закурила сигарету. – А вот руки у тебя всегда теплые! Не руки, а какие-то утюжки! Кровь так и бурлит в тебе! Наверное, в мать…
Эту игру Марта тоже очень любила. Когда она накрывала своими горячими ладошками сухие, холодные руки Бабули, та не могла скрыть благодати на лице, хотя и делала вид, что возмущается:
– Просто невозможные утюжки!..
Потом наступала минута тишины, когда Бабуля закрывала глаза и замирала в блаженстве, а Марта искрилась счастьем. Но вскоре все возвращалось на круги своя, и Бабуля продолжала.
– Я думала и волосами ты не в нас, но нет. Посмотри, какие они у тебя красивые. И, слава Богу, не кудрявые, как у простушки, а прямые волосы настоящей аристократки. И обязательно длинные волосы! Это одно из лучших украшений женщины, – поучала она Марту. Свои волосы она неизменно красила басмой, отчего они становились черными как вороново крыло.
– Ни одного белого волоска, Марта. Помни это.
Теперь Марта почти каждый день доставала любимую колоду карт Бабули и раскладывала ее за столом то по форме цветка, то домика, разглядывая лица королей и королев, вспоминая любимые «дымные разговоры».
– Молодость – это обмен энергиями, – говорила Бабуля. – Мы чувствуем себя богами, и нам кажется, что нам все по силам. Ярче, сильнее, быстрее. Мы садимся на эту карусель и несемся, отдавая направо и налево все, что у нас есть. Молодость, тело, бесценное время… На то она и молодость, чтобы так нещадно ее раздавать, – говорила Бабуля, выпуская изо рта струйку дыма.
– Ну а зрелость – это когда наконец понимаешь, что такое время. Тебе уже ничего не хочется отдавать, хочется все оставить себе. Ты чувствуешь, как энергии с каждым днем становится меньше. И однажды ты говоришь: довольно. Все, что у меня осталось, – мое и ничье больше. Вот тогда ты и стареешь. Парадокс в том, что, именно отдавая энергию, мы продлеваем свою молодость… Словом, природа несовершенна и мы не боги, но когда понимаем это, оказывается поздно что-либо менять…
Марта помнила, как впервые задумалась о несовершенстве природы. Разговор зашел о мальчике ее возраста, который жил со своими родителями в доме по соседству. Виделись они редко, но когда это случалось, любили побегать и побаловаться леденцами, которые Марта приносила ему без разрешения взрослых. Они мерились силой и ростом, а иногда вместе качались в ее любимом гамаке. Но однажды Бабуля, заметив отметку на косяке двери, сказала, что не стоит мериться с ним ростом, так как мальчик больше не вырастет – ни на «крылышко бабочки», как говорила Марта. Ее это очень огорчило:
– Но почему?
– Потому что он карлик и останется таким, как сейчас, даже в сто лет.
– Как гномик?
– Хуже. Руки, ноги – все останется гротескно маленьким, почти смехотворным.
– Даже сердце? – с недоумением спросила Марта, которая часто слышала от Бабу, что неважно как выглядит человек, главное, чтобы у него было «большое сердце».
– Сердце – это другой разговор. Тут, видишь ли, каждый решает сам, каков будет размер его сердца, – ответила Бабуля. – Но этот мальчик до большого своего сердца, скорее всего, просто не доживет, потому что он еще и болен. И не смотри на меня так, да еще и моими глазами! Излишнее сострадание тебя погубит! В этой жизни нет смысла к кому-либо привязываться, поверь мне и успокойся.
* * *
После смерти Бабули Марта вдруг обнаружила, что и дом по соседству опустел. Однажды она постучалась к ним, но, никого не застав, больше туда не ходила, хоть и вспоминала мальчика-гномика. Впрочем, вспоминала она его не так часто, ведь теперь своих дел у нее было предостаточно – почти весь дом оказался в ее распоряжении. Марта часами чем-то занималась, никому не мешая; в основном придумывала персонажей, разыгрывала сценки, перевоплощаясь во всех героев. У каждого героя – что-то свое, особенное. А еще ей отдали тот самый «стаканчик», сквозь который она так любила смотреть на окружающий мир. Теперь ничто не мешало ей наслаждаться этой кобальтовой синевой и часами смотреть на небо, на солнце, на деревья и дома… Смотреть и представлять, что она героиня сказки «Русалочка», а вокруг – ее подводное царство.
В доме Бабули была еще одна обожаемая диковина. Большая ракушка, которую использовали как пепельницу. После очередного курильщика, который не задумываясь тушил в ней сигарету, Марта бежала ее отмывать, причитая, как Бабу, и успокаивая ракушку, словно та могла обидеться. Все думали, что Марта растет внимательной, услужливой девочкой, но у нее были свои мотивы. Противный запах окурков и черные точки от затушенных сигарет ввергали ее в ужас. «Как можно портить такую красоту?» – искренне недоумевала она, но ничего не говорила, а только мыла и мыла любимую ракушку.
Марта не очень радовалась гостям, так как терпеть не могла, когда нарушался привычный порядок ее размеренной жизни. Правда, гости бывали нечасто, а кроме того, в их приходе были и положительные моменты. Мама сервировала стол фамильным серебром Бабули. Это важное дело всегда поручали Марте: ножи справа, вилки слева, под ножом салфетка, сложенная уголком. Она охотно помогала, предвкушая любимую игру. Когда гости расходились, на обеденном столе раскладывали уже вымытые приборы, и они сохли до утра, а прежде чем все убрать на место, ей поручали полировать их специальной тряпочкой. И пока Марту никто не видел, она раскладывала красивым узором вилки, ложки, ножи, лопатки и щипцы для пирожных, ложилась в центре стола, складывала на животе руки, пытаясь рассмотреть себя в стекле серванта: так ли выглядела Бабуля, когда умерла? И как будет выглядеть сама Марта, когда умрет?
* * *
Со временем Марк пришел в себя и стал привычным Марком, доброжелательным и участливым, только, пожалуй, стал дольше засиживаться в своем кабинете. Иногда просыпаясь ночью, Марта видела, что свет на первом этаже все еще горит.
Однажды она зашла в кабинет, где Марк читал книгу. Ее заинтересовала белая обложка, на которой был прорисован красивый цветок.
– Почитаешь мне эту сказку? – указала она пальчиком на книгу.
– Это для взрослых.
– А цветочек?
– Это роза.
– Книга про розу?
– Нет, и ты меня отвлекаешь.
Но Марта уже научилась складывать буквы в слова и прочитала надпись.
– Ма-ар-ки-из… Роза Маркиз! – радостно заключила она, но Марк отложил книгу.
– Иди, покачайся в гамаке.
Марта видела, что папа не сердится, но в его голосе чувствовалось какое-то напряжение, и взгляд стал строгим; ей стало неуютно. Она обожала свой гамак, но сейчас ей совсем не хотелось качаться, а хотелось, чтобы папа почитал ей Белую книгу. Она насупилась, сложив руки на груди, и стала оглядывать комнату в поисках повода не подчиниться. Повода не нашлось, и Марта погрустнела еще больше.
– Хочу сказку про розу.
– Я подарю тебе настоящую розу. Хочешь?
– Да.
– Тогда дай мне почитать.
Марта глубоко вздохнула и надула губки. Взгляд ее снова упал на книгу. То, что живая роза была лучше книги, сомнений не вызывало, но как же ей не хотелось уходить!
– Тогда я пойду как черепашка! – заявила Марта.
– Ладно. Как черепашка.
– Черепашки хорошие!
– Очень хорошие.
– А лошадки?
– И лошадки тоже.
Марта опять огорченно вздохнула. Темы были исчерпаны, и она направилась к двери («Как черепашка!»), волоча ноги и то и дело поглядывая на отца.
Когда она отошла на достаточное расстояние, Марк снова взял книгу, и Марта решила, что когда-нибудь обязательно разберется с этой Белой разлучницей.
Прихватив синий «стаканчик», она улеглась в гамак, грезя о подводном русалочьем царстве, хотя и в гамаке ей было почему-то неуютно. Посмотрев на свой синий дом, синий сад и даже синее солнце, Марта снова подумала о Белой книге. Роза Маркиз не давала покоя. «Вот бы посмотреть на нее через стаканчик», – думала она. Ей очень хотелось подержать в руках синюю розу, пусть даже на обложке. Но папа был занят, а Марта его отвлекала. Ее беспокоила эта мысль, и она решила рассказать маме о книге и о розе. Марта поспешно слезла с гамака, но зацепилась пряжкой туфельки за полотно и с треском упала прямо на кобальтовый бокал, который окончательно разбился и чуть не повредил ей глаз.
– Слава Богу, что только бровь рассекла! Марта, разве так можно?! – ругала ее Мира. А Марк пытался успокоить дочь: Марта увидела отражение своего залитого кровью лица, и от испуга у нее началась истерика. Треклятые зеркала!
Наутро бровь распухла, но Марта так и не увидела этого, потому что ночью Марк снял со стен все зеркала и убрал в сарай за домом.
– А где зеркальца? – спросила Марта.
– Они ушли на покой, а у меня к тебе есть предложение. Пойдем, мне нужна твоя помощь.
Позже Марта вспоминала этот день как один из лучших в своей жизни: папа снял с крепежей виноградной арки радужный гамак и вместо него повесил настоящие качели. Сначала они вместе искали подходящие дощечки, привязывали канаты, и папа их укорачивал, чтобы ноги Марты не касались земли: «Длинновласкам незачем портить свои туфельки». Потом он подхватил ее на руки и усадил на качели. Как самый настоящий принц из сказок, которые мама читала ей каждый день. Позже ради безопасности Марк закрепил на дощечках кожаные ремни, которыми можно было пристегнуть Марту и не бояться, что она упадет.
– Еще, еще! – радостно кричала Марта на весь двор, и Марк раскачивал ее до небес.
Но как ни нравились Марте качели, она не забыла обещание отца подарить ей настоящую розу, и в конце лета они поехали в питомник на окраине города, совсем не далеко от их дома.
– В питомнике тебя ждет лучшая роза!
– Она там живет?
– Да, в питомнике.
– А кто еще там живет?
– Живет? Женщина… Владелица питомника.
– Питомница?
– Пусть будет так. Да, едем к Питомнице за твоей розой, – улыбнулся Марк.
* * *
Пока папа стучал в дверь, Марта обошла дом и через большое, почти в пол окно увидела женщину с рыжей шевелюрой. Она подкладывала свечи в металлическую чашу, подогреваемую огнем. Потом аккуратно макнула в расплавленный воск корни какого-то растения, через несколько секунд достала их и опустила в чашу с водой. Остудив, закрепила корни на нитке, которая была протянута вдоль окна и на которой висело множество подобных растений. Марту почему-то ужаснула эта картина. Не дождавшись хозяйку возле двери, Марк обогнул дом, чтобы постучать в окно, а Марта, напротив, вернулась к двери, которая неожиданно распахнулась, чуть не сбив ее с ног. Увидев перед собой девочку, Питомница замерла. Они, не моргая, смотрели друг на друга, объединенные какой-то неведомой тайной, какой-то силой, пока Питомница приподняв брови, спросила Марту одним взглядом: «Что тебе, девочка?» – и завороженная Марта сказала то, что было у нее на уме.
– Нам нужна роза Маркиз, – тихо произнесла она, не в состоянии оторвать взгляд от светло-карих с желтыми прожилками глаз женщины.
– Как тебя зовут?
– Длинновласка, – ответила почему-то смущенная Марта.
– Ты уверена, что хочешь именно эту розу? – спросила она, погладив Марту по длинным волосам. – Может быть, тебе нужен Принц или Виконт?
– Я хочу Маркиза, – смутившись еще сильнее, сказала Марта.
Подоспевший папа вернул ее из этого странного плена, откуда хотелось поскорее сбежать.
– Нам нужна самая лучшая роза, что у вас есть. Самая крепкая, самая ароматная и самая красивая!
– Как на Белой книге, – почти шепотом поддержала его Марта.
Женщина посмотрела на Марка и жестом пригласила их следовать за собой, вглубь питомника. Вернее, ввысь, по пролетам старинных белоснежных ступеней. Она протянула Марте руку, и та почему-то сама за нее взялась. Они шли вдоль больших кустов роз, и Марк задержался возле одного из них – рассмотреть рисунок алых лепестков с белыми вкраплениями.
– Хочешь свою розу? – спросила Питомница.
Марта утвердительно кивнула.
– Самую красивую?
Марта снова кивнула.
– А хочешь, чтобы роза тебя любила?
Марта пожала плечами.
– Я хочу, чтобы меня любил папа…
– Хорошо, – улыбнулась Питомница.
Они подошли к кирпичному подиуму, на котором лежало несколько полотняных свертков. Женщина развернула один из них. Это был саженец с оголенными корнями, которые напоминали дерево, перевернутое вверх ногами.
– Разве это роза? – спросила удивленная Марта.
– Станет, если ты будешь любить ее и ухаживать за ней. Главное – это корни.
Она снова завернула саженец в полотно, протянула подошедшему Марку, посмотрела на него пристальным взглядом и повелительно, отчетливо произнесла:
– Держите. Крепко.
Марк взял сверток и на слове «крепко» механически сжал стебель розы, тихо ойкнул, уколовшись о шипы. Кровь мгновенно окропила полотно.
– Роза Маркиз. То, что вы искали.
– Колючая, – с досадой произнес Марк, пытаясь остановить кровь.
– Это не страшно, – ответила Питомница, посмотрев в глаза Марку. Взгляд этой женщины его смутил. От него невозможно было оторваться. Он протянул ей деньги.
– Это подарок.
– Спасибо…
Питомница жестом пригласила гостей к выходу.
В тот вечер они с папой выбрали место в саду и посадили розу. Марта была счастлива, как никогда. А Марк, расчесывая ей перед сном волосы, приговаривал: «Когда-нибудь ты разобьешь тут прекрасный сад, в нем будет много роз, каждая по-своему прекрасная. Но Маркиз навсегда останется твоей первой розой».
Глава V
Зима в том году выдалась теплой и на редкость снежной. Для Марты это была первая настоящая зима, где были санки, горки, снежки и, самое главное, лес, такой тихий, что у нее захватывало дух. Лишь иногда ели стряхивали со своих лап тяжелый снег: плюх – и снова тишина. А еще Марта любила запрокинуть голову и смотреть, как с неба на нее падают снежинки. Те, что попадали на лицо, мгновенно таяли, а те, что оседали на варежках или рукавах, были все как одна красивыми, но не похожими друг на друга. Это было зимнее волшебство.
Марк поставил в доме большую елку, и они с Мартой наряжали ее игрушками Бабули Монпансье – необыкновенно красивыми, сделанными ее руками. А Мира шила для дочери платье снежинки. И пока она шила, ей вспомнилось, как однажды в детстве она получила свой зимний подарок. Тогда отец сказал:
– Вот возьму и подарю что захочешь!
– Правда?
– Говори!
– Хочу платье принцессы.
– Хорошо!
– Правда?
– Конечно! Завтра жди под елкой!
В ту ночь Мира никак не могла уснуть и думала о том, что в зимний праздник обязательно случаются чудеса. И что с ней обязательно случится чудо. Она заснула только под утро, но уже через час вскочила как ужаленная и кинулась в столовую, где у телевизора стояла елка. Как же она обрадовалась коробке, что лежала под елкой, дожидаясь своего часа. Но трогать ее не полагалось. Надо было дождаться, когда встанет отец. Он всегда требовал, чтобы его подарки открывали при нем. Для него это было важно: «Ну? Каков подарок, а? Кто бы еще так сделал? Учитесь, дуры!» К его самовосхвалениям все уже привыкли, но в этот раз Мира была готова искренне воздать ему хвалу за воплощение ее мечты. Платье принцессы… Что может быть прекраснее? Ей было всего шесть лет, и больше ждать она не смогла. Открыв коробку, она не увидела ни шелкового, ни бархатного платья, ни тонких кружев, ни хотя бы ткани с красивым рисунком, ни даже обычного платья – она увидела детский медицинский набор, состоящий из чемоданчика и пластмассовых инструментов: градусник, ножницы, зажим, пинцет, шприц, даже игрушечные очки… Все что нужно врачу, но не Мире.
Тогда ее впервые вытошнило из-за переживаний. Прямо на подарок. Она представила, что ее ждет, когда проснется отец, и без сознания рухнула на пол. И все же в зимний праздник случаются чудеса: отец не стал ее пороть, но заставил за все просить прощения. Это было омерзительно, зато не больно, хотя и не отменяло отвращения к совершенной несправедливости.
Потому-то Мира всегда спрашивала у дочери: «Что бы ты хотела под елочку?» – и неизменно исполняла скромные желания Марты.
Но после переезда в дом Марта почти ни о чем не мечтала, даже платья перестала просить. И Мира решила сшить для дочери необыкновенный костюм снежинки. Она заблаговременно позаботилась о ткани – голубом атласе и о таких же атласных туфельках небесного цвета. Но ей хотелось большего. Она купила каркас для пышной юбки, капрон, который придавал легкости и много пластмассовых снежинок разного размера. Снежинки Мира опустила в крепкий соляной раствор, и к моменту, когда вода испарилась, в них уже въелась соль и они превратились в сверкающие кристаллы. Мира украсила ими платье, которое выглядело теперь как одна большая снежинка невероятной красоты. Марк принес из сарая самое большое зеркало, и когда к нему подвели наряженную Марту с одной из диадем Бабули на голове, все дружно ахнули. Марта еще долго не могла прийти в себя от красоты волшебных кристаллов, которые сверкали, переливаясь всеми цветами, и крутилась, крутилась перед зеркалом на радость родителям. Наконец она остановилась, склонилась в реверансе и торжественно произнесла: «Я – Марта Монпансье!»
* * *
Холодным февральским утром раздался телефонный звонок. Марк снял трубку и сразу помрачнел. Мира встревоженно спросила:
– Папа?
– Нет… Мама… Мне очень жаль…
Свекровь Миры умерла от инсульта, а мать – от инфаркта, что было почти предсказуемо. Странным казалось лишь то, что ее сердце вообще смогло вынести столько переживаний. Мира это понимала, но не могла знать, что накануне смерти мать увидела сон, который показал ей вариант проживания другой жизни, и даже проснувшись, она не хотела открывать глаза, пытаясь продлить эту чудесную грезу, ведь наяву она не могла об этом даже помыслить. В самом лучшем сне ее жизни муж наконец умер. И в предрассветной тишине, погрузившись в этот полусонный транс, она разрешила себе мечтать о самом сокровенном. Вот она поворачивается к нему лицом, а он холодный как лед. И наступает долгожданная свобода. Свобода от всего. Никогда еще она не испытывала такого счастья. В этом состоянии невероятной, почти волшебной легкости ей казалось, что она превратилась в чайку, которая парит над морем или летит навстречу потоку ветра и зависает над толщей воды. Как же это прекрасно! На мгновенье ей даже показалось, что это правда, уж больно тихо в комнате, хотя обычно дыхание ее мучителя было шумным и тяжелым даже во сне.
Резкий всхрап вернул ее к реальности: значит, ничего не поменяется, значит снова бесконечная готовка, от которой она устала донельзя, снова крик на всю квартиру («Кто-нибудь даст мне поесть?!»), снова оплеухи и насилие, снова, снова, снова…
От этих контрастных переживаний ее накрыла невыносимая боль, будто кто-то пробил ей грудную клетку. И вопреки инстинкту самосохранения она ничего не стала предпринимать. Нашла силы сдержать боль, принимая всем сердцем и такое развитие событий: если даже умрет она, это все равно будет освобождение от всего. Значит, так тому и быть. И в последние минуты жизни ей снова привиделось, как в потоке ветра она все-таки разворачивает свои крылья и улетает за горизонт.
Муж обнаружил ее еще теплой. Лицо покойницы было разглажено, морщины разом исчезли. Весь ее образ источал спокойствие и умиротворение, и впервые за много лет он вспомнил, какой она была, когда они познакомились. Красивой. Такой как сейчас. Недолго думая, он навалился на нее со словами «пока тепленькая – можно», да и как не соблазниться такой молодухой, в которую посмертно превратилась его жена. В то утро он еще не понимал, что на самом деле означала для него смерть жены.
Мира стояла возле гроба, думая о своих рухнувших планах на жизнь с мамой. О тех возможностях, которые были тщательно продуманы, но для этого отец должен был умереть первым. Мама бы от него отдохнула. Переехала бы к ним, и все было бы просто чудесно. Мама, Мира, Марта и Марк. Они бы счастливо жили в «М-квартете». По крайней мере, это казалось вполне созвучным. Спокойные, уравновешенные, самодостаточные… Им было бы хорошо вместе, но мама умерла.
В Мире всколыхнулись чувства, которые были замурованы отцом. Теперь она могла плакать, правда, только когда ее никто не видел, и горевать о том, что не было сказано при жизни и что могло бы многое объяснить. Раньше Мира могла месяцами не звонить и не навещать мать, но как только ее не стало, она поняла, что нестерпимо, ужасно по ней скучает… Она вспомнила, как храбро мама заступилась за Марту, вспомнила о соглашении трех женщин этого рода. Поправив цветы возле ее лица, Мира погладила ее по щеке, поцеловала в лоб и прошептала: «Спасибо, мама».
После похорон Мира навсегда закрыла дверь своего ненавистного отчего дома. И если бы у нее была возможность, она бы ее заколотила. Дверь в свое ужасное, невыносимое прошлое, исковерканное этим чудовищем.
– Наслаждайся! Ты ее сожрал! – сказала она отцу и хлопнула дверью.
Когда умерла Бабу, Марта через стенку слышала всхлипывания мамы и плакала вместе с ней, даже не понимая, зачем это делает, просто не могла иначе. Маме было больно, Марта это чувствовала и, содрогаясь всем телом, думала только об одном: «Как же ей помочь?» Так они и проводили вместе бессонные ночи, о чем Мира даже не догадывалась.
Не догадывалась Мира и о том, как символично попрощалась с отцом, потому что именно голод стал для него худшим наказанием при жизни. Без женщины бытовая необустроенность – в его возрасте и с его привычкой к неподвижности – была фатальной. Он годами лежал на диване, приказывая жене: дай воды, дай поесть, приготовь это, сделай то, пойди туда, и так до бесконечности. Но теперь отдавать приказы было некому. Поначалу он съел все, что было в закромах, потом попытался стряпать на скорую руку, но вскоре оказалось, что его пенсии едва хватает на хлеб и молоко – совсем не похоже на его привычное шестиразовое питание, и теперь он всегда был голодным. В своих ночных кошмарах он снова и снова видел мать, которая раскладывала по тарелкам ненавистную и одновременно такую желанную кашу с мясом и, просыпаясь, все еще слышал ее наваристый запах. Как в детстве, это раздирало его изнутри и сводило с ума. Ему постоянно было холодно, кружилась голова, дрожали руки, а он ходил от холодильника к телевизору и канючил, как маленький: «Ну, дайте же мне поесть…». Иногда он стучался к соседям, но те даже не открывали дверь, памятуя о криках и плаче, то и дело доносящихся из его квартиры.
Он умер через два года от мучительного приступа астмы.
Смерть отца не произвела на Миру никакого впечатления; на похоронах она только с удивлением отметила изможденное лицо, в разы уменьшившееся тело и все поняла, но для этого чудовища у нее не было ни одной слезинки. Мысль о том, чтобы прикоснуться к чучелу отца, отозвалась в Мире знакомой волной тошноты, и она запретила себе об этом думать. Пока люди прощались с покойником и думали о своем, Мира рассматривала его руки. Руки, которые калечили ее большую часть жизни. Теперь они были мертвыми. Миру передернуло от этого слова. Она жалела лишь об одном – что не увидела его смерти, не наблюдала за тем, как он задыхается. Кому как не ей было знать, что бронхиальная астма не просто болезнь, а собирательный образ женщины-мстительницы, которая наконец его задушила. За всех. Мира больше не хотела об этом думать. Не хотела о нем вспоминать. Никогда. Это причиняло ей боль, которая так крепко застряла между ребер, что иногда не давала дышать. Врач сказал, что это панические атаки и «хорошо бы обследоваться и назначить курс…», но Мира знала: достаточно просто забыть о существовании этого чудовища, тем более что его уже нет в живых.
А еще у нее было свое необыкновенное средство от душевной боли. Лучше любых лекарств. Стоило ей посмотреть в удивительные глаза Марты, и она мгновенно оказывалась в другом, «изумрудном детстве».
Спустя много лет, на похоронах отца своей давней знакомой Мира, оказавшись возле гроба, внезапно положила свои руки на руки покойника. Ничего холоднее в своей жизни она не трогала. Она смотрела на него и вспоминала все, что знала о нем сама и что рассказывала приятельница. Ее отец всю жизнь был ей другом и помощником. Он как ангел вел свою дочь по жизни, всегда был рядом и не давал в обиду. Достойный отец, муж и друг, которого действительно любили. Мира смотрела на другие руки другого отца, которые ни разу не поднимались на дочь, не причинили боли. Она представила, что и ее отец мог быть таким, и тогда все сложилось бы по-другому. Кем бы она стала? За кого бы вышла замуж? Как сложилась бы ее жизнь, если бы… Мира размышляла об этом под всхлипывания людей, пришедших проститься, и внезапно ее пронзило осознание, что ее отца не стало. Будто бы она не знала этого раньше. После стольких лет эта мысль вспрыгнула на Миру, как огромная склизкая жаба, и начала выдавливать сердце из грудной клетки. Кровь бешено застучала в ушах, пробивая барабанные перепонки, и неожиданно для самой себя она заплакала. Поначалу это были просто потоки слез, затем началась истерика, которая перешла в паническую атаку. Задыхающуюся Миру вывели из помещения. Приятельница была тронута и долго успокаивала Миру, но, конечно, она не подозревала, что в этот день Мира похоронила своего другого, никогда не существовавшего отца. Того, кто ни разу не поднял на нее руки и не давал в обиду ни ее, ни маму… Невосполнимая утрата иллюзии возможного счастья, потеря которого навсегда оставила ужасный след в душе осиротевшей дочери…




















