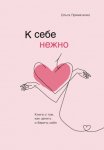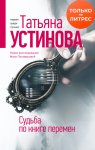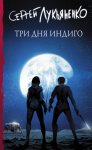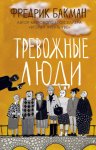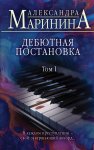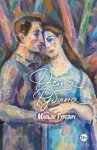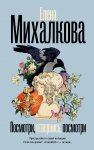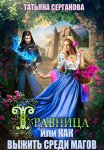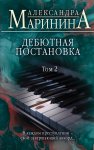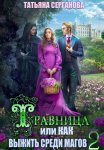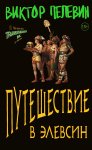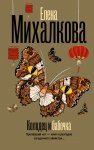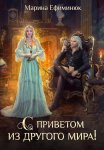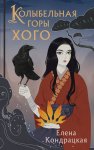Читать онлайн Посткапитализм и рождение персоналиата бесплатно
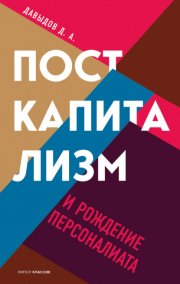
Введение
Посвящается моей жене Татьяне, чья сильная личность дает мне новые силы.
Посткапитализм близок, и слишком многие вещи указывают на это (а потому говорить о нем уже не зазорно1). Посткапитализм близок отчасти постольку, поскольку капитализм выглядит все более слабым. Капиталистическая экономика более не в состоянии поддерживать внятный экономический рост и социальное развитие. Рост ВВП во всех странах постепенно замедляется. Для США эти показатели сегодня находятся на уровне 1–3 %, в то время как до 70-х годов нормальным считался рост не менее 5 %. В 1950 году ВВП США вырос на 13,5 %, в 1965 на 8,5 %, в 1984 на 7,9 %. Дальше уже таких «пиков» на графике ежегодных показателей динамики ВВП ведущей капиталистической державы не найти. Рекорд последних двух десятилетий – 2003 год с 4,4 % роста2. А для многих европейских стран рост в 1 % считается большим успехом3. После экономической рецессии, последовавшей за 2008 годом, экономика развитых стран восстанавливалась вяло. Несмотря на значительное восстановление после кризиса, рост заработной платы в Соединенных Штатах не смог достичь темпов, достигнутых до кризиса, и в течение последнего десятилетия находился в состоянии стагнации. Фактически в реальном выражении средняя почасовая зарплата достигла максимума более чем сорок пять лет назад: ставка в 4,03 доллара в час, зафиксированная в январе 1973 года, имела такую же покупательную способность, что и 23,68 доллара в 2019 году4. Параллельно наблюдается рост социального неравенства. В 1980 году соотношение самых богатых 10 % населения к самым бедным 10 % в США составляло 9,1, а это означает, что домохозяйства в верхней части социальной пирамиды имели доходы, примерно в девять раз превышающие доходы домохозяйств в нижней части. Индекс Джинни рос в каждом десятилетии с 1980 года, достигнув 12,6 в 2018 году, то есть увеличившись на 39 %5. Рост экономического неравенства не является единственной проблемой США. Как было сказано в отчете Oxfam, опубликованном накануне открытия юбилейного, 50-го Всемирного экономического форума в Давосе, «2153 миллиардера в мире имеют больше богатства, чем 4,6 млрд человек (60 % населения планеты), а богатство 1 % самых состоятельных людей мира более чем в два раза превышает благосостояние 6,9 млрд жителей Земли… Почти половина человечества живет менее чем на 5,5 долларов в день»6.
Капитализм не просто не способен обеспечивать равенство и социальное процветание, но порождает (поскольку рыночная экономика ориентируется исключительно на логику извлечения максимальной прибыли) огромное количество глобальных проблем, среди которых все более обостряющаяся проблема загрязнения окружающей среды7. И даже тот экономический рост, который создает капиталистическая экономика, не является показателем роста благополучия. Показатель ВВП фиксирует рыночные стоимости (которые не учитывают многочисленные экстерналии) и упускает из виду огромное количество благ8, не покупающихся и не продающихся, но имеющих важнейшее значение для всего человечества (от чистоты воздуха и воды до всевозможных улучшающих жизнь изобретений и инноваций, общественных благ как результатов добровольной деятельности). Поэтому сегодня мы видим «вялый» экономический рост, который, если принять к сведению не учитываемые показателем ВВП издержки в виде планетарного экологического бедствия, долгосрочных негативных последствий неравенства (скажем, лихорадка Эбола или коронавирус SARS-Cov-2 как отчасти последствия крайней нищеты9) и т. п., еще не понятно, является ли свидетельством прогресса или упадка.
Соответственно, постепенно все больше людей со скепсисом смотрят на перспективы капитализма. В относительно недавнем исследовании Trust Barometer, к примеру, было опрошено тридцать четыре тысячи человек в двадцати восьми странах. Как оказалось, 56 % людей считают, что капитализм приносит больше вреда, чем пользы. При этом среди людей старшего возраста процент разочарованных в капитализме – 53 %, а среди молодежи и людей среднего возраста – выше (57 и 59 % соответственно). В десятку стран-лидеров по числу разочаровавшихся в капитализме вошли Таиланд (75 %), Индия (74 %), Франция (69 %), Малайзия (68 %), Индонезия (66 %), КНР (63 %), Италия (61 %), Испания (60 %), ОАЭ (60 %) и Нидерланды (59 %)10. Опросы молодежи даже в такой исконно по духу «буржуазной» стране, как США, показывают явную тенденцию в сторону поддержки левых идей. Данные поступают из многих источников. К примеру, итоги опроса общественного мнения, проведенного исследовательской службой Harris Poll, согласно результатам которого в США среди миллениалов и представителей поколения Z (люди, родившиеся в 1995 году и позже) почти половина – 49,6 % – хотели бы жить в социалистическом государстве (в целом по стране о таком желании заявили 37,2 % опрошенных)11, хотя еще нужно уточнять, что здесь подразумевается под социализмом.
На фоне углубляющихся противоречий капиталистической мир-системы прорисовываются образы зарождающегося посткапиталистического будущего. Многое свидетельствует о том, что капиталистический способ производства находится в системном («сущностном») кризисе. Основным источником потребительных ценностей12 в информационную или постиндустриальную эпоху13 становится творчество как основной генератор знаний и тех благ, которые плохо «встраиваются» в рыночную экономику (или вообще из нее полностью «исключаются»). Ключевым компонентом экономики знаний является более сильная зависимость от интеллектуальных способностей, чем от физических или природных ресурсов14. При этом многими исследователями уже неоднократно отмечалась «небуржуазная» сущность экономики знаний15. Знание, в отличие от материальных активов, неисчерпаемо, и чем больше его пытаются «потратить» (читая, копируя, цитируя и т. п.), тем сильнее оно прирастает. Знание и многие другие результаты творческой деятельности (вроде чертежей, электронных книг или изображений) могут бесконечно и почти бесплатно реплицироваться. Творчество, в свою очередь, не поддается точному измерению. Тейлористские принципы измеримости и алгоритмизации не работают, если речь идет об оплате труда, скажем, ученых16. Творчество даже не совсем правильно называть трудом, так как творческий процесс сильно зависит от самого общественного бытия, оно на глубинном уровне коллективно и в некоторых аспектах «бессознательно». Соответственно, возникают прямые ассоциации сложившейся ситуации с предсказанным К. Марксом приходом всеобщего труда17. Творчество скорее зависит от состояния общественной инфраструктуры, от наличия или отсутствия тех или иных общественных благ, нежели от «точечных» капитальных вливаний или инвестиций. В сущности, подлинная экономика знаний, как верно заметил А. Горц, это «коммунизм знаний»18. В капиталистической системе знание могут только искусственно присваивать, ограничивать к нему доступ. Но растущая доля интеллектуальной ренты – это свидетельство не столько всепроникающих буржуазных отношений, сколько их вырождения, отката назад к рентному состоянию19.
Растущая экономика знаний не просто порождает перспективу «коммунизма знаний». Индустрия высоких технологий способствует ускоряющейся автоматизации производства20, что отчасти приводит к тому, что c конца 1970-х в тех же США рост оплаты труда перестает соответствовать росту производительности. Корпорации «удешевляют» рабочую силу там, где она находится под угрозой автоматизации. В итоге с 1975 года оплата труда в ведущей капиталистической державе выросла всего приблизительно на 13 %, в то время как производительность труда – более чем на 150 %. Это сильно отличается от временного промежутка между 1948 и 1975 годами, когда графики роста оплаты труда и его производительности сливались в единую линию (в обоих случаях рост приблизительно в 100 %)21. Все это сильно бьет по социальным низам и представителям сужающегося «среднего класса». Сегодня речь идет не просто об экономике «без роста зарплат», но об экономике «нестабильных зарплат» (в частности, гиг-экономике22), в которой расширяется прослойка прекариата (людей без стабильного заработка и социальных гарантий)23. Но технологии не только угрожают, они также дают новые возможности. Технологическое изобилие все чаще вдохновляет различных авторов на попытки конструирования альтернатив капитализму. Автоматизация производства рано или поздно может освободить людей от необходимости работать вообще или слишком много. Возникают различные концепции посттрудового общества24. Бедных или нищих можно превратить в свободных творческих деятелей и активистов25, выплачивая всем без исключения гражданам безусловный базовый доход, который заменит громоздкие системы социальной помощи и обеспечит всех «правом на жизнь» – базовыми материальными благами26. Интернет, в свою очередь, связывает людей из разных точек планеты за считаные миллисекунды. Современные левые утопии проникнуты «анархистским» духом кооперации и самоорганизации, добровольной деятельности в духе DIY27.
Стало быть, в последние годы появляется все больше научной и научно-популярной литературы, посвященной тематике посткапитализма28. Сюда по традиции входит обширный пласт марксистской литературы, ибо сам марксизм переживает своеобразный ренессанс29. Но тематика посткапитализма все чаще выходит за узкие рамки марксизма (о каких бы его формах речь ни шла), включает в себя смелые дискурсы, сочетающие изучение передовых технологий с исследованием противоречивых тенденций современного общества30. Сам термин «посткапитализм» становится компромиссным, ибо больше ориентирует на внутренние трансформации капиталистической системы, постепенно перерождающейся в нечто иное, но пока еще не полностью выходящее за пределы имеющейся системы31.
Но что-то во всех этих оживленных дискуссиях о грядущем закате капитализма не складывается. Пандемия COVID-19 могла стать «последней каплей» (резкий экономический спад и небывалый рост безработицы). Она не просто раскрыла неспособность «либерального» буржуазного общества дисциплинированно справляться с глобальной бедой (опыт Китая оказался внушительным контрастом), но и окончательно подорвала веру в «американскую мечту». Казалось бы, нет лучшего времени для антисистемного социального взрыва или чего-то вроде «левого поворота». Но этого, по крайней мере пока (на момент написания этого текста), не происходит. На фоне рекордных показателей безработицы, колоссального социального неравенства и всех тех социальных проблем, которые ярко проявились в период пандемии COVID-19, в США вспыхивают протесты, обусловленные гибелью чернокожего от рук белого полицейского. И хотя левая повестка также присутствует в протестных выступлениях, пока она ограничивается неубедительными призывами распустить полицию или, скажем, поддержать бизнес черных32. До этих событий движения «желтых жилетов», казалось бы, показали всю мощь протеста против неолиберализма и капитализма как такового, но и здесь все закончилось, по сути, незначительными уступками. Сегодня борьба левых напоминает сопротивление, но никак не стремление выстроить что-то в институциональном плане принципиально новое.
Почему левая (не леволиберальная!) альтернатива, даже, казалось бы, в идеальных для нее условиях, не становится действующей? Мы можем, как обычно, допустить, что проблема в пресловутой «незрелости» общества. Технологии еще недостаточно развиты, чтобы обеспечить изобильное «посттрудовое» состояние, знания пока еще не стали главным фактором производства, а само общество все еще слишком сильно разделено на отчужденные группы (не существует «классового единства» притесняемых слоев населения и т. п.). Однако в 1917 году общество было куда беднее, а о таких вещах как «коммунизм знаний» тогда особо и не думали. Проблема, стало быть, не в технологической незрелости, а в революционном субъекте, который также еще не до конца «созрел»33. Но сегодня нет ни единого внятного свидетельства в пользу того, что в обозримом будущем появится некая сплоченная социальная сила, которая будет в состоянии объединить ту или иную страну (не говоря уже о мире в целом) под флагом равенства и справедливости. Скорее все указывает на продолжающийся распад единого общества на различные сегменты, меньшинства, сообщества, группы и группировки, «сборки» и т. п. Это вполне естественный процесс дифференциации, когда вслед за технологическим, экономическим и т. п. усложнением следует «усложнение» социального.
В данной книге произведена попытка посмотреть на ситуацию под другим углом зрения. Посткапитализм действительно близок. Но обязательно ли идея посткапиталистического общества должна отсылать к идеям равенства, единства и коллективности (или сообщественности), преодоления всех форм отчуждения, отсутствия общественных антагонизмов и т. п.? На этот вопрос можно попытаться ответить отрицательно. Уже давно прошли времена, когда можно было указать на сплоченную социальную силу, которая готова стать «классом для себя» во имя равенства, борьбы с отчуждением и высоких идеалов социализма. История левой политической мысли – это история разочарований в субъектах. И сегодня левые все еще сконцентрированы на поиске «линий разломов», структурных социальных противоречий. Идея пост-капиталистического общества все еще нераздельно связана с идеей «инициативы снизу» со стороны «страдающей» социальной прослойки, представители которой в борьбе против угнетения или эксплуатации ведут человечество к лучшему общественному устройству без всевластия капитала. Эта установка разделяется многими: от несдающихся «ортодоксальных» марксистов с их идеей никуда не исчезнувшего пролетариата34 до современных «новых» левых, делающих упор то на прекариат, то на прогрессивных интеллектуалов и работников умственного труда35, то на сетевую самоорганизацию абстрактных «граждан мира» или постмодернистские «сборки» или «множества»36. Однако есть основания полагать, что и эти ставки на «низовую» борьбу также вряд ли оправдают надежды. Сегодня наступает такой момент, когда нужно оглянуться назад и задаться вопросом: не является ли сам язык, на котором мы пытаемся говорить о посткапитализме, устаревшим и требующим радикального пересмотра? Не принимаем ли мы в качестве аксиом всякий раз, когда говорим о следующей за капиталистической общественной формации, такие теоретические посылы, которые при тщательном рассмотрении оказываются не просто недостаточно обоснованными, но и в корне ошибочными?
Данная книга представляет собой попытку скептического взгляда на ряд догм и «аксиом» в интеллектуальном дискурсе о посткапитализме. Для этого необходимо полностью сменить теоретическую оптику. Первоочередного пересмотра требуют такие «аксиомы», которые долгое время являлись неприкосновенными в левом интеллектуальном дискурсе. Прежде всего это представление о том, что вслед за капитализмом следует неантагонистическая общественная формация (зафиксированная в утопическом мышлении как бесклассовый коммунизм). Согласно данному представлению, если в («зрелом», «завершенном/ cформировавшемся» и т. д.) посткапиталистическом обществе и будут свои противоречия, то это: а) не имеет отношения к самому процессу перехода к пост-капиталистической стадии развития (то есть проявятся позже); б) они окажутся куда более «мягкими» и не будут относиться к категории «общественные антагонизмы» (как «разорванности» общества на враждующие социальные прослойки). Согласно другой «аксиоме», переход к посткапиталистическому обществу осуществляет «угнетаемая» социальная прослойка (в марксистской традиции рассматриваемая как эксплуатируемый класс), представители которой мгновенно или постепенно (через серию реформ) совершают «политически обусловленный» переход к следующей стадии развития. Собственно говоря, эти два фундаментальных для многих левых мыслителей положения тесно друг с другом связаны: если следующая стадия развития будет неантагонистической, то логично, что должен наблюдаться некий «уравнительный» порыв, который «разрешает» классовую борьбу в целом. Конечно, было бы преувеличением утверждать, что данные исходные посылы разделяются вообще всеми левыми теоретиками и практиками. Но очень часто сознательно или подсознательно вместе они составляют нечто вроде принимаемых на веру базовых допущений, которые мешают разглядеть в происходящих больших общественных трансформациях куда более сложную и неоднозначную картину.
Далее будет представлен оспаривающий существующие представления взгляд на перспективы посткапиталистического общества. При этом на вооружение будет взята общая методология марксистского материалистического понимания истории. Правда, под материалистическим пониманием истории здесь понимается не «завершенное» учение К. Маркса и его последователей, а открытая для критики и пересмотра совокупность методологических установок, ставящих во главу угла сферу производства (как в узком, так и в «широком» смысле) как то, что в конечном счете определяет пределы институционального «надстроечного» многообразия в рамках одного способа производства. К инструментарию, разработанному Марксом, будет предложено относиться именно как к научной методологии, которая, сталкиваясь с новыми фактами, требует пересмотра теорий и концепций, с помощью нее созданных. Это означает, что из ее «аксиоматики» стоит убрать все то, что так и не обрело научной доказательной базы: что основывалось на экстраполяциях, прогнозах, ставках или желаниях, но никак не на прочной фактологии или обращении к универсальным, повторяющимся закономерностям исторического развития. По иронии судьбы многое из того, чем сегодня знаменит и актуален Маркс не выводится из его же теоретических схем, а то и вовсе никогда не имело твердой научной основы и всегда находилось на уровне экстраполяций и смелых гипотез.
Работа состоит из трех разделов.
В первом разделе я попробую совершить ревизию ряда опорных принципов материалистического понимания истории. В частности, акцент будет сделан на попытке оживить во многом забытую теорию общественных формаций. Будет совершена попытка отбросить многие изжившие себя догмы и гипотетические утверждения, ранее принимавшиеся за беспрекословные аксиомы. Тем не менее главная цель – не пытаться уничтожить марксизм как таковой, а опереться на его наиболее фундаментальную и подкрепленную фактами часть. Я постараюсь показать, что марксизм дает большие эвристические возможности, но не как концепция, предсказывающая революцию рабочего класса и наступление коммунизма как неантагонистической стадии развития общества, а как набор аналитических инструментов, позволяющих выявлять универсальные механизмы исторического развития, а также объяснять это развитие, опираясь на фундаментальные трансформации средств производства. Эти аналитические инструменты сегодня нуждаются в существенном обновлении. Идея революции рабочего класса себя не оправдала. Однако эта идея всегда опиралась на смелые гипотезы и экстраполяции, а не последовательный и детальный исторический анализ, который скорее укажет на то, что полноценная социальная (ведущая к реальной и бесповоротной смене общественной формации) революция угнетенных была бы чистым историческим прецедентом, ибо до сих пор смены общественных формаций осуществлялись скорее элитами, а не борющимися социальными «низами». Соответственно, возможно парадоксы современности связаны с тем, что история во многом повторяется: мы действительно движемся к посткапитализму, но совершенно не факт, что движение это подразумевает нечто вроде постепенного всеобщего разотчуждения, обретения настоящего равенства, свободы, роста солидарности, относительной гармонизации общественных отношений, достижения всеобщего благополучия и т. п. Нашу исследовательскую оптику стоит радикально поменять: многие тенденции и факты указывают на то, что происходящая посткапиталистическая трансформация – это новый «синтез элит», характеризующийся появлением нового господствующего класса (персоналиат) и новым классовым расслоением (персоналиат/имперсоналиат). Такой теоретический поворот от угнетенных масс к элитам не означает низведения марксизма до чисто аналитической концепции. Это не значит также, что необходимо отбросить идею классовой борьбы. Однако роль и значение классовой борьбы должны быть уточнены, так как ее функционал может заключаться не столько в реализации перехода от одной стадии развития (формации) к другой (социальная революция), сколько в достижении равновесия интересов антагонистических классов, в попытках не допустить крайних форм угнетения и возможных социальных катастроф.
Во втором разделе речь непосредственно пойдет о процессах, свидетельствующих о возвышении персоналиата как в перспективе нового господствующего класса. При этом будет показано, что это возвышение связано как с появлением нового преобладающего источника потребительных ценностей (творчество), так и с постепенными изменениями в том, что и как производится (сдвиг от акцента на производстве материальных благ к производству личности). Данные трансформации также характеризует изменение ключевого дефицитного (ограниченного) ресурса: капитал постепенно теряет свое значение, и теперь для очень многих куда важнее завладеть другим стратегически важным ресурсом – вниманием, за которое разворачивается все более и более агрессивная и массовая борьба. Все это обусловливает рост политического влияния расширяющейся прослойки «людей, обладающих личностью» – тех, кто способен привлекать к своей яркой (или эпатажной) личности37 максимум общественного внимания и извлекать из этого те или иные выгоды. Свои аргументы я постараюсь выстроить как на данных эмпирических социологических, социально-психологических, культурологических и политологических исследований, так и на собственных результатах двухлетнего исследования социальных медиа (преимущественно YouTube), проведенного в общем методологическом ключе киберэтнографии38. Данный подход подразумевает, что те или иные социальные медиа имеют свою собственную культуру, лидеров мнений и специфические языки политического влияния. Соответственно, в своем глубинном погружении в онлайн-культуру я стремился увидеть и раскрыть то, что сегодня пока еще не для всех очевидно: бурно растущую область творческой самореализации в социальных медиа, где постоянно рождаются свои популярные лидеры мнений, обретающие все больше различных инструментов политического влияния и формирования политической повестки дня.
Наконец, в третьем разделе будет представлена попытка раскрыть неоднозначность происходящей посткапиталистической общественной трансформации. Если быть точнее, то я постараюсь показать: история повторяется в том смысле, что мы являемся наблюдателями зарождения новой антагонистической общественной формации. Персоналиат – это, условно говоря, новая «аристократия» со своим специфическим классовым этосом. Это этос стремления к свободе, к личностной независимости, к максимуму демократии и нонконформизму, что ведет к специфическим «левым» (антибуржуазным) утопическим дискурсам о посттрудовом обществе, безусловном доходе и сетевой самоорганизации. При этом я сосредоточусь скорее на критике этого этоса, на его разрушительном и даже губительном потенциале для всего общества. И, возвращаясь к идее классовой борьбы, я постараюсь показать, что общественно-необходимый труд все еще актуален. Более того, этот труд вполне может сочетаться с таким творчеством, которое, оставаясь преимущественно анонимным, все же может стать важнейшим источником смысла для тех, кто по тем или иным причинам не желает вступать в ожесточенную «борьбу за личность».
Раздел I
Что такое социальная революция?
Глава 1
Забытая и актуальная. Эвристический потенциал теории общественных формаций
Начать хотелось бы с наиболее общих и фундаментальных аспектов исследования больших формационных сдвигов, к которым можно отнести современный переход от капитализма к посткапитализму. Понять современную ситуацию мы сможет только в том случае, если отбросим из научных построений догмы и приведем в порядок наши представления о закономерностях исторического развития. За этот порядок в советские времена во многом отвечала теория общественных формаций (в рамках формационного подхода к изучению истории), творческий потенциал которой со всех сторон сковывал партийный догматизм. Сегодня теория общественных формаций – это маргинальная область концептуальных разработок, которая даже среди марксистов далеко не у всех пользуется почетом и уважением, не говоря уже о попытках подчеркнуть ее самостоятельный научный статус и развивать как нечто цельное и с научной точки зрения полезное. Тем не менее можно попробовать оспорить разделяемое многими исследователями мнение, что данная теория являлась исключительно идеологическим продуктом, созданным только лишь для оправдания господствовавшего в СССР политического режима. За догматическими шаблонными суждениями скрывались живые дискуссии, нацеленные на выяснение универсальных закономерностей общественного развития. Результаты этих дискуссий не теряют актуальности и сегодня, когда многие ученые вновь осмысляют перспективы посткапиталистического общества.
1.1. Теория общественных формаций и ее «фатальные» ошибки
Научное наследие К. Маркса и Ф. Энгельса по своим притязаниям на выявление и описание магистрального вектора развития человечества до сих пор не имеет аналогов. Разработанная советскими исследователями теория общественных формаций (здесь имеется в виду, что основоположники создали теорию формаций только в самых общих чертах, предложив формационную парадигму, которую затем развивали в основном советские ученые), в свою очередь, претендовала в странах советского блока на монопольное право делать научно обоснованные дальнесрочные прогнозы развития общества. Причем прогнозы эти, как предполагалось, должны были ориентироваться не на отдельные компоненты, не на те или иные черты или сферы общества, а на формирование образа будущего в его целостности. Основная функция теории общественных формаций заключалась в выявлении этапов исторического развития человечества (общественных формаций). Это давало возможность корректировать набор принципов, лежащих в основе материалистического понимания истории. Так, рассмотрение эволюции общественных формаций позволяло выяснить, какие конкретные процессы общественной жизни оказывают существенное влияние на историческое развитие (ведут к радикальным изменениям во всех сферах общества), а какие являются вторичными, несущественными.
Конечно, нужно учитывать, что теория общественных формаций как продукт советской науки – изобретение преимущественно идеологическое. (Впрочем, стоит отметить, что многие пришедшие на смену марксистскому истмату и заимствованные из зарубежной науки политологические (вроде концепций демократического транзита, «конца истории», теорий политической модернизации и т. п.) и экономические концепции (современная экономическая теория с ее «человеком экономическим») выполняли все ту же идеологическую роль, только в пользу противников марксизма и вообще «левой» картины мира.) Перед исследователями советского периода зачастую стояла задача «подгонять» факты под определенные теоретические клише. Тем не менее можно не согласиться с радикальным призывом отбросить всю советскую общественную науку как несостоятельную. За идеологической официальной ширмой скрывались весьма интересные и живые теоретические дискуссии, а сама теория общественных формаций, как мы увидим, зачастую не столько оправдывала существующий строй, сколько постепенно готовила теоретическую почву для «подрыва» самого идеологического над ней диктата. Моя цель – определить, насколько те «забытые» теоретические наработки современны, что из них сохранило эвристический потенциал применительно к изучению современности.
NB! Относительно скептического взгляда на научный статус теории общественных формаций можно привести цитату Ю. И. Семёнова:
«В России до революции и за рубежом и раньше и сейчас материалистическое понимание истории подвергалось критике. В СССР такая критика началась где-то… с 1989 г. и приобрела обвальный характер после августа 1991 г. Собственно, назвать все это критикой можно лишь с большой натяжкой. Это было настоящее гонение. И расправляться с историческим материализмом стали теми же самыми способами, какими его раньше защищали. Историкам в советские времена говорили: кто против материалистического понимания истории, тот не советский человек. Аргументация “демократов” была не менее проста: в советские времена существовал ГУЛАГ – значит, исторический материализм ложен от начала и до конца. Материалистическое понимание истории, как правило, не опровергали. Просто как о само собой разумеющемся говорили о его полнейшей научной несостоятельности. А те немногие, которые все же пытались его опровергать, действовали по отлаженной схеме: приписав историческому материализму заведомый вздор, доказывали, что это вздор, и торжествовали победу. Развернувшееся после августа 1991 г. наступление на материалистическое понимание истории было встречено многими историками с сочувствием. Некоторые из них даже активно включились в борьбу. Одна из причин неприязни немалого числа специалистов к историческому материализму состояла в том, что он навязывался им ранее в принудительном порядке. Это с неизбежностью порождало чувство протеста. Другая причина заключалась в том, что марксизм, став господствующей идеологией и средством оправдания существующих в нашей стране «социалистических» (в действительности же ничего общего с социализмом не имеющих) порядков, переродился: из стройной системы научных взглядов превратился в набор штампованных фраз, используемых в качестве заклинаний и лозунгов. Настоящий марксизм был замещен видимостью марксизма – псевдомарксизмом. <…> При этом не только превращались в мертвые схемы действительные положения материалистического понимания истории, но и выдавались за непреложные марксистские истины такие тезисы, которые никак не вытекали из исторического материализма. <…> Исторический материализм рассматривался как такой метод, который позволяет еще до начала исследования того или иного общества установить, что будет найдено в нем исследователем. Большую глупость придумать было трудно. В действительности материалистическое понимание истории не предваряет результаты исследования, оно лишь указывает, как нужно искать, чтобы понять сущность того или иного конкретного общества. Однако неверно было бы полагать, что для обратного превращения исторического материализма из шаблона, под который подгоняли факты, каким он у нас долгое время был, в подлинный метод исторического исследования достаточно вернуться к истокам, восстановить в правах все то, что когда-то было создано К. Марксом и Ф. Энгельсом. Материалистическое понимание истории нуждается в серьезном обновлении, которое предполагает не только внесение новых положений, которых не было у его основоположников, но и отказ от целого ряда их тезисов»39.
Сегодня актуальность марксизма, и в частности теории общественных формаций, растет, особенно в контексте современных дискуссий о движении человечества к посткапитализму. При этом стоит отметить, что здесь теория общественных формаций рассматривается как своего рода «аналитическая подпорка», теоретический инструмент в рамках материалистического понимания истории. Выделение по тому или иному критерию этапов развития общества позволяет выявлять и наглядно представлять механизмы воздействия экономического «базиса» на все остальные, «надстроечные», сферы общества. Это не означает, что общественные формации – нечто «объективно» существующее. Скорее общественные формации – продукт своеобразного абстрагирования, «логического упорядочивания» исследователем исторического процесса. Не исключено, что от результатов данного «упорядочивания» зависит успешность применения материалистического подхода к изучению глобальных политических, экономических и иных трансформаций современных обществ. Задача исследователя в данном случае – выявление наиболее значимых базисных (или, условно говоря, «фундаментальных абстрактных», позволяющих двигаться по пути к конкретному) факторов, влияющих на трансформацию общества и делящих историю на периоды (формации), в которых эти факторы наиболее действенны (влияют на все сферы общества и соответствующим образом выстраивают «социальную тотальность»). Разумеется, само материалистическое понимание истории необходимо рассматривать как один из возможных инструментов познания общества, не исключающий остальные (нацеленные на выявление культурных детерминант, описание своеобразия отдельных обществ и т. п.) и ориентированный на рассмотрение общества в определенном срезе, с помощью специфической «материалистической» методологической оптики.
Проблема заключается в том, что консенсус относительно критериев выделения общественных формаций так и не был достигнут. Теория общественных формаций в целом серьезно обесценилась в академическом сообществе, особенно после того как вместо предсказываемого ею перехода к коммунизму случилась реставрация капитализма. Другая крайность: многие современные исследователи утверждают, что никаких ошибок в основных положениях теории общественных формаций не было. Проблема якобы заключается в том, что изначальный посыл Маркса и Энгельса был искажен. Коммунизм стали строить в условиях недостаточно развитых производительных сил в отдельной стране, окруженной врагами и т. п. Иными словами, речь должна идти о том, что необходимо дождаться соответствующего развития производительных сил (дискурс об автоматизации и роботизации производства), и уже тогда можно вновь поставить вопрос о возобновлении целенаправленного движения к социализму/коммунизму. В конце концов, и капиталистическое общество возникло не сразу, происходили постоянные «откаты назад»40.
И все же, как я далее попытаюсь показать, ошибки были. Причем обусловлены они как раз отсутствием консенсуса относительно основного критерия выделения общественных формаций. В качестве такового пытались обозначить то преобладающие формы собственности, то исторические типы техники, то специфику производственных отношений. Все это попутно приводило к ряду трудностей, которые так и не были преодолены (не разрешены они и в современном марксизме). Моя цель – не только раскрыть те проблемы, которые имелись в теории общественных формаций, но также предложить новый принцип выделения исторических этапов развития человечества, опираясь на который можно было бы с иных позиций взглянуть на существующие представления о пределах капитализма и перспективах посткапиталистического общества.
***
В общем и целом, теоретический посыл, лежащий в основе материалистического понимания истории и теории общественных формаций, ясен. Он подразумевает, что существуют очень серьезные ограничения, накладываемые на конкретную историческую «форму» общества уровнем развития производительных сил. Этот посыл может иметь следующую формулировку: «Развитие экономики (понимаемой в самом широком смысле как производство и воспроизводство социального бытия), связанное с преобразующим характером предметной деятельности, ведет к развитию производительных сил, что на определенном этапе неизбежно вызывает необходимость изменения и производственных отношений. Но в силу того, что существующие производственные отношения закрепляются в регулятивных нормах надстройки, в какой-то момент надстройка перестает соответствовать уровню производства и становится тормозом развития общества. Нарождающийся новый базис в структурах еще существующей прежней общественной формы требует совершенно новых регулятивных механизмов (форм государства, права, морали), но этому препятствует старая надстройка, функции которой выполняют прежние господствующие классы. <…> Изменения, характеризующие прежде всего отношения производства, рано или поздно вступают в противоречие с устоявшимися социальными структурами, сформировавшимися на основе прежних форм производства; это создает условие для революции: новые формы производства и детерминированные ими отношения больше не могут уживаться со старыми формами государства и права»41. Такова в целом картина развития общества: одни способы производства приходят на смену другим, что влечет за собой закономерную ротацию надстроек. Погружаясь в конкретный контекст, мы можем опираться на эту идею, говоря об историчности тех или иных общественных структур, идеологий, представлений о человеке и т. д. Для этого и не нужен какой-то четкий универсальный критерий выделения общественных формаций. Маркс, говоря об общественных формациях, не создает никакой теории общественных формаций. Нужно помнить, что сам концепт «формация» в трудах Маркса и Энгельса являлся скорее метафорой. Для них главным было показать, что капитализм историчен, что он является всего-навсего определенным этапом развития человечества, на смену которому должно прийти что-то новое.
Поэтому необходимо иметь в виду, что теория (то есть нечто развернутое) общественных формаций42 является скорее результатом изысканий советских ученых-обществоведов, нежели масштабным явлением мировой науки43. В трудах классиков марксизма мы найдем лишь очень редкие разрозненные фрагменты (к примеру, в «Немецкой идеологии»44, в предисловии «К критике политической экономии»45, в третьем наброске ответа на письмо В. И. Засулич46 и др.), в которых тема исторического развития затрагивается максимально кратко, причем один фрагмент зачастую противоречит другому. В «Немецкой идеологии» Маркс и Энгельс рассматривают племенную, античную, феодальную, буржуазную формы собственности (заметим, форма собственности – это отнюдь не то же самое, что способ производства). В предисловии «К критике политической экономии» Маркс выделяет уже азиатский, античный, феодальный и буржуазный способы производства как «прогрессивные эпохи экономической общественной формации»47. В третьем наброске ответа на письмо В. И. Засулич Маркс говорит о трех больших общественных формациях – первичной, вторичной и третичной48. В «Капитале» и вовсе применяется неупорядоченный набор терминов, употребляющихся в разных значениях: «общественная формация», «общественно-экономическая формация», «формация общественного производства», «экономическая формация»49. Следует отметить, что для Маркса понятие «формация» во многом является попросту метафорой, взятой из геологии50. При этом во втором томе «Капитала» термин «формация» не упоминается вообще, а в третьем томе мы только в нескольких местах находим термины «общественная формация» и «экономическая формация общества» (например: «…с точки зрения более высокой экономической формации общества частная собственность отдельных индивидуумов на земной шар будет представляться не в меньшой степени нелепой, чем частная собственность одного человека на другого человека»51).
Сама по себе теория общественных формаций является, по сути, следствием творческой переработки того, что писали Маркс и Энгельс в своих сочинениях. Это было результатом систематического применения принципов материализма к изучению истории и анализу глобальных общественно-политических тенденций. И если Маркс и Энгельс обращались к термину «формация» довольно редко, то в Советском Союзе теория общественных формаций превращается в целую отрасль обществоведческих исследований. Думается, многочисленные дискуссии об общественных формациях свидетельствуют о довольно благородном побуждении – познать «логику» исторического развития52, не просто скользить по поверхности общественных явлений, но усматривать в человеческой истории закономерный глобальный процесс, которым можно в соответствии с познанной необходимостью пытаться управлять (или, по крайней мере, выстраивать долгосрочные прогнозы, осознавать необходимость тех или иных перемен). В то время как на Западе продолжали приветствовать в капиталистической экономике очищенную от традиции «правильную» на все времена систему с ее вечно молодым «человеком экономическим» (что тоже есть форма теоретического догматизма) или разрабатывали «социологические» концепции стадийного развития (например, теории постиндустриального/информационного общества), в Советском Союзе велись острые дебаты об универсальности механизмов смены общественных формаций, о непогрешимости «европоцентричной» пятичленной системы (например, имела ли место «азиатская» формация53), о количестве реально существовавших общественных формаций и т. п.
Конечно, партийный идеологический диктат негативно сказался на способности теории общественных формаций творчески развиваться. Часто дискуссии об общественных формациях превращались в догматические «подгонки» фактов под канонизированную «пятичленку»54. Некоторые проблемы теории были обусловлены незрелостью реальных предпосылок разложения капиталистической системы и развития пост-капиталистических общественных отношений. Часто научные выводы и прогнозы «редактировались» идеологическими лозунгами. Основной же проблемой, как мы полагаем, являлось так и не найденное рациональное решение вопроса о том, какой принцип должен лежать в основе выделения общественных формаций. В итоге за основу зачастую брались вторичные параметры, которые не могут достоверно указывать на то, что мы, как в случае с СССР, имеем дело с принципиально новым этапом общественного развития. Среди наиболее часто встречающихся критериев можно выделить следующие: преобладающие формы собственности, исторические типы техники, а также специфику производственных отношений.
***
Преобладающая форма собственности («правовая форма собственности»). Заранее отметим, что определение общественных формаций по преобладающей форме собственности не означает, что из рассмотрения исключаются все остальные моменты исторического процесса (эволюция средств производства, производственные отношения и т. п.). Скорее здесь имеет место стремление к классификационной наглядности: становлению той или иной формы собственности соответствуют определенные производственные отношения и порождающие их производительные силы («каковы формы собственности, таковы и производственные отношения»55).
Как было отмечено выше, Маркс и Энгельс делили историю развития человечества на этапы исходя из тех или иных преобладающих форм собственности (в «Немецкой идеологии»56, «Экономических рукописях 1857–1859 годов»). В итоге зачастую понятия «форма собственности» и «общественная формация» оказывались тождественными. К примеру, в книге «К теории общественных формаций» Ф. Тёкеи ведет речь об эволюции форм собственности. Он рассматривает эволюцию докапиталистических общественных формаций как постепенное разложение общины и становление частного землевладения. При этом азиатская, античная и германская (феодальная) формы собственности являются этапами данного длительного процесса. По мнению Тёкеи, при первой форме «естественно возникшая община есть субстанция, где индивиды представляют собой лишь ее атрибуты, при второй форме община есть такое общее, которое, даже отделенное от индивидов, может обладать самостоятельным существованием, и, наконец, в третьей форме община есть лишь придаток по отношению к индивидам. Рассматривая развитие в целом, нетрудно обнаружить, по существу, те же три фазы: в докапиталистических формах все индивиды – пусть это землевладелец или работающий частный собственник – являются непосредственными членами общины, неотделимы от нее, при капиталистической форме подлинная “общность” обособлена и отчуждена от индивида, противостоит ему как нечто овеществленное, и, наконец, при коммунизме индивиды сами являются творцами общности, которая им принадлежит и ни в коем случае не может им противостоять»57.
Однако проблема данного подхода заключается в том, что на второй план отодвигаются более существенные аспекты способа производства. Как отмечает В. Ж. Келле в послесловии к книге Тёкеи, возникает вопрос: чем же определяется внутренняя логика исторического процесса? «Ф. Тёкеи пытается дать ответ на этот вопрос с помощью своих формул-схем, изображающих основные формы собственности. Действительно, ему удается показать, что в смене форм собственности от племенной до коммунистической отражается внутренняя логика всемирно-исторического процесса. Но автор все-таки не акцентирует внимание на том главном обстоятельстве, что сама эта логика развития форм собственности “задается” развитием производительных сил, и прежде всего орудий труда»58.
Более того, как только в поле зрения разработчиков теории общественных формаций начали чаще попадать неевропейские страны, выяснилось, что рассмотренная выше эволюция форм собственности им совершенно не соответствует. Очевидно, в зависимости от каких-то обстоятельств, внешних для самого технического ядра способа производства (например, войны, позволявшие завозить в массовом порядке рабов), сосуществовавшие формы эксплуатации и собственности попросту сменяли друг друга в качестве преобладающих. Иными словами, появились причины отнести процессы смены форм собственности скорее к «надстроечным», нежели к «базисным». По крайней мере, подчеркивалось, что смена преобладающей формы собственности еще не означает одновременной трансформации способа производства. Как отмечает В. П. Илюшечкин, «метод выведения антагонистических классов из господствующих форм частнособственнической эксплуатации, восходящий к историко-социологической концепции А. Сен-Симона и его последователей, явно не срабатывает на современном уровне знаний о системе добуржуазной частнособственнической эксплуатации, поскольку оказывается, что ее господствующих форм было не две, как считалось некогда, а четыре (рабство, крепостничество, докапиталистическая аренда и колонат) и что сменяли они одна другую – там, где такая смена происходила, – в самой различной последовательности»59. В. П. Илюшечкин обнаружил, что не существовало никакого рабовладельческого и феодального способов производства. И так называемые рабовладельческие, и феодальные общества «базировались на природно-обусловленной, натуральной системе производительных сил, для которой были характерны: основанное на ручном труде и очень несложной инструментальной технике рутинное сельское хозяйство в качестве основного занятия подавляющего большинства массы населения, преобладание живого труда над овеществленным в средствах производства, недостаточное развитие товарно-денежных отношений, преобладание обмена между обществом и природой над обменом в обществе, естественного разделения труда по полу и возрасту в производственных ячейках над общественным разделением труда, абсолютное господство таких форм организации труда, которые исключали его кооперацию и комбинирование, преимущественно натуральное и полунатуральное производство, рассчитанное прежде всего на удовлетворение собственных потребностей производителей, и т. д.»60. Феодализм – это, как показывает Илюшечкин, явление политико-правовое, в то время как «широкое распространение рабства в отдельных странах Древнего мира являлось не правилом, а исключением и было обусловлено не какой-либо общеисторической закономерностью, но лишь стечением особо благоприятных для этого обстоятельств»61. Фактически в сословно-классовых обществах лишь менялись количественные соотношения в распространенности тех или иных форм эксплуатации (рабская, оброчная, крепостническая, арендаторская и наемный труд).
Примечательно, что из этого вытекает следующее: осуществленный большевиками государственный переворот, повлекший за собой смену преобладающей формы собственности, не означал переход общества в качественно новое состояние, то есть переход к новой общественной формации. Данное положение объясняет все известные антиномии СССР, и в частности тот факт, что под коммунистическим идеологическим соусом существовала громоздкая система эксплуатации труда совокупным эксплуататором в лице государства. Юридический статус эксплуататора несколько изменился, но суть производственных отношений поменялась мало62. М. И. Воейков справедливо отмечает, что многими чертами советское общество больше напоминало буржуазное, чем социалистическое: «…под буржуазностью в данном случае понимается стремление человека (или группы людей, слоя, класса) в своей повседневной, и прежде всего хозяйственной, деятельности следовать правилам рационального экономического поведения. Буржуазность – это скрупулезное соизмерение затрат и результатов труда, бережливость, экономичность, говоря по-старому, хозрасчет, экономическая рациональность, возведенная в высший принцип существования, в религию»63.
Исторические типы техники. Другой подход – выделять общественные формации в соответствии с историческими типами техники. Думается, этот подход уже ближе к истине, ведь именно техника определяет саму суть производственного процесса, служащего основанием для экономического уклада. Маркс пишет, что «экономические эпохи различаются не тем, что производится, а тем, как производится, какими средствами труда. Средства труда не только мерило развития человеческой рабочей силы, но и показатель тех общественных отношений, при которых совершается труд»64. Соответственно, нередко преобладающие формы собственности исследователи связывают с тем или иным уровнем развития техники и технологий. К примеру, так поступает В. А. Вазюлин, характеризуя разницу между рабовладельческой и феодальной общественными формациями следующим образом: «…рабовладельческие отношения возникли и развились при преобладающем применении каменных и деревянных ручных орудий труда в земледелии и скотоводстве. Господство крупной частной собственности на землю уже неизбежно предполагает широкое применение железных орудий в земледелии. Только при преобладании в земледелии железных орудий труда, т. е. орудий, с необходимостью предполагающих предварительную обработку, становятся возможными преодоление господства в земледелии естественно возникшего отношения к земле и установление господства частной собственности на землю»65. Зрелому же капитализму соответствует, по мнению историка, техническая база крупного производства: «…механическое, непрерывное, правильное движение частей рабочей машины коренным образом отличается от функционирования двигательной силы человека и животных, а также от нерегулярной механической силы воды и ветра, если они непосредственно применяются для приведения в движение машин»66.
Однако можно заметить, что и такой подход имеет свои существенные недостатки. Прежде всего, очень трудно выделять количественный и качественный аспекты развития техники (и технологий). Качественных исторических типов техники можно указать бесконечное множество. Например, в капиталистическую эпоху технологических укладов сменилось уже довольно много, но суть производственных отношений (сами базовые основы капиталистической системы) от этого изменилась мало.
Еще одна связанная с технико-технологической исследовательской оптикой проблема – попытки ассоциировать наступление коммунистической общественной формации с некоторым уровнем научно-технического развития, который при минимальном приложении совокупного общественного труда позволял бы обеспечивать изобилие материальных благ. Эти попытки приводили к, условно говоря, «завышенным» оценкам научно-технических возможностей эпохи. Так, уже классики марксизма утверждали (при этом часто вступая в противоречие с другими своими тезисами), что в их время уже все готово для построения социализма. Энгельс пишет в «Анти-Дюринге»: «Возможность обеспечить всем членам общества путем общественного производства не только вполне достаточные и с каждым днем все улучшающиеся материальные условия существования, но также полное свободное развитие и применение их физических и духовных способностей, – эта возможность достигнута теперь впервые, но теперь она действительно достигнута»67. В СССР в официальной пропаганде отмечались грандиозные достижения науки и техники, приближающие настоящий коммунизм68. Разумеется, никакого реального приближения коммунизма при этом не было.
Специфика производственных отношений. Наконец, с точки зрения идеологии было выгодно делать упор на специфику производственных отношений. В конце концов, на официальном уровне можно было утверждать, что в стране отсутствует эксплуатация человека человеком, все средства производства принадлежат государству (трудящемуся народу) и т. п. Как отмечают авторы коллективной монографии «Марксистско-ленинская теория исторического процесса» (1983), «ограничивать исследование материальной основы исторического процесса производственной техникой – значит заведомо ставить преграду для выяснения различий докапиталистических способов производства. С таких позиций нельзя, например, провести принципиальную черту между социализмом и современным капитализмом. Не всегда учитывается также и то, что производительные силы необходимо рассматривать в диалектической взаимосвязи с производственными отношениями, ибо две стороны общественного способа производства всегда функционируют в неразрывном единстве и не могут характеризоваться одна без другой»69.
Данный тезис вполне закономерен, поскольку нужно было как-то оправдывать сосуществование «реального социализма» и капитализма примерно на одном научно-техническом уровне развития. При этом было принято рассматривать производительные силы в диалектике с производственными отношениями70, будто бы плановая экономика и государственная собственность на средства производства принципиально меняют саму общественную формацию (саму суть производственных отношений со всеми вытекающими следствиями). Однако фактически при подобном подходе предлагается рассматривать в качестве главенствующего политический фактор, словно преимущественно политическими актами можно преобразовать производственные отношения и тем самым изменить общественную формацию. В данном случае мы рискуем выдать желаемое за действительное. Так было в СССР: всецело провозглашалось, что созданные большевиками новые институты управления экономикой – это и есть производственные отношения коммунистической общественной формации (пусть даже ее первой «стадии»). Между тем реальная новизна свелась лишь к появлению одного огромного эксплуататора. Сущность производственных отношений в СССР мало чем отличалась от таковой в США или Европе: имели место эксплуатация труда, денежные отношения, экономическая конкуренция между отдельными производственными единицами и т. п.
Иными словами, ситуация оказывается весьма сложной: или никакие общественные формации как устойчивые, качественно определенные стадии развития общества выделить невозможно, или нужно искать другой критерий их выделения. Имеющиеся же критерии либо являются поверхностными (например, по преобладающей форме собственности), либо упираются в довольно сложную, преимущественно количественную, категорию уровня технологического развития. Ясно, что искать нужно в направлении, связанном с техникой и технологиями, но не ограничиваться ими. Никакие перевороты только в производственных отношениях не могут изменить тех жестких ограничений, которые налагают на человеческую свободу материальные условия «производства жизни». Но нам нужно найти более подходящий, качественный, критерий, который бы позволил представить целостную логику исторического процесса.
1.2. Преобладающий источник потребительных ценностей как критерий выделения общественных формаций
Основной тезис данной главы заключается в том, что критерием выделения общественных формаций мог бы быть преобладающий источник потребительных ценностей71. Под ним здесь подразумевается преобладающий фактор в процессе формирования полезных свойств тех или иных благ, удовлетворяющих человеческие потребности. Этот фактор определяет, какова роль в экономическом процессе непосредственных производителей, что, в свою очередь, обусловливает систему властных отношений и отношения эксплуатации и отчуждения.
В целом можно выделить четыре основных преобладающих источников потребительных ценностей:
1) природные процессы;
2) контролируемые природные процессы;
3) труд;
4) творчество.
Источниками потребительных ценностей обусловливаются преобладающие формы производительной деятельности:
1. Присвоение – простое изъятие у природы материальных благ.
2. Регуляция природных процессов – преобразующая деятельность с целью извлечения благ, «созидаемых» преимущественно природой (хотя здесь речь идет уже о том, что обусловлено трудом72). Человек выступает главным образом в роли активного регулировщика природных процессов.
3. Трудовая деятельность – действия по активному материальному преобразованию самого природного мира, приносящие экономическую пользу. При этом потребительная ценность тех или иных благ определяется уже не столько природными процессами, сколько самим трудом.
4. Творческая деятельность – нематериальные по своей сути действия (подразумевающие внутреннюю, духовную деятельность, что не исключает ее направленность на материальные объекты), нацеленные на создание идей, концепций, теорий, знаний и т. п., на решение социальных (воспитательных, образовательных и т. п.) или производственных задач.
NB! Категории «труд» и «творчество» в данной схеме не тождественны (хотя принято говорить об интеллектуальном, творческом труде и т. п.). Труд здесь – это совокупность измеримых физических операций, материальное преобразование мира. Напротив, творчество не связано напрямую с физической, телесно-материальной деятельностью, оно «происходит» в области идеального, в сознании. Соответственно, и продукты творческой деятельности (идеи, решения, концепции, новые подходы) не материальны (скорее направлены на материальное), их нельзя точно подсчитать или присвоить – они могут быть только засекречены, или же некоторые обусловленные ими экономические блага могут присваиваться кем-либо в силу рентных отношений (патенты и т. п.).
Очевидно также, что человеческий труд всегда прикладывается к природе (в том или ином формате работы и среды), и он в любую историческую эпоху неотделим от творчества. Речь идет, во-первых, о преобладающих в те или иные эпохи источниках потребительных ценностей. Во-вторых, в любом благе также можно найти основной источник его полезных свойств. Если растущая в лесу земляника совершенно не требует приложения труда, чтобы «появиться», то искусственная земляника, елочная игрушка например – это уже в большей степени результат труда, сочетания сложных координированных действий по активному материальному преобразованию исходного «природного» материала. Другой пример: стоимость современного смартфона лишь отчасти обусловлена трудом и природными ресурсами, затраченными на его производство. Два требующих примерно одинаковых затрат человеческого труда и материальных ресурсов смартфона могут отличаться по своим полезным свойствам и, следовательно, по стоимости в десятки и сотни раз. Эта разница обусловлена преобладанием творчества как источника потребительных ценностей.
При этом стоит учитывать, что преобладающие формы производительной деятельности еще не характеризуют полностью ту или иную общественную формацию – специфику производственных и складывающихся вокруг них общественных отношений. Они прежде всего указывают на роль отдельных людей в экономике. Эта роль может быть ключевой (как при трудовой деятельности), а может быть второстепенной73 (как при регуляции природных процессов). Но это то и оказывается важным, так как в итоге именно от данного фактора зависит итоговое соотношение сил в классовой борьбе и, соответственно, исторический тип производственных отношений, который, в свою очередь, и характеризует общественную формацию. Посмотрим, как это работает на практике (как преобладающие источники потребительных ценностей в итоге определяют исторический тип производственных отношений) и попутно поймем, какие общественные формации можно выделить.
Природные процессы. Если основным источником потребительных ценностей являются природные процессы74, то речь должна идти об обществе охотников и собирателей. Труд в таком обществе неразвит. Да, роль конкретных производителей (это могут быть, скажем, охотники на мамонтов) минимальна, ибо она заключается лишь в изъятии у природы уже «сформированных» благ. Однако это не означает ничтожного социального положения, так как возможности появления излишков несущественны. Поэтому указанные обстоятельства способствуют «первобытному коммунизму» и кочевому образу жизни. Общественную формацию, в рамках которой основным источником потребительных ценностей являются природные процессы, можно обозначить как доклассовую.
Контролируемые природные процессы. Регуляция природных процессов способствует развитию общества сельскохозяйственных производителей и добытчиков ресурсов (речь идет о большей части населения). Труд играет вторичную роль, ибо скорее создает благоприятные условия для природного «возникновения» экономических благ или организованно извлекает их75. При этом появляются возможности присвоения излишков, что приводит к формированию государства и антагонистических общественных отношений (рабовладение, вассально-ленные отношения и т. п.). Для данного общества характерен экстенсивный характер экономического развития; это оборачивается уменьшением производительности труда по мере освоения новых земель (более труднодоступные и менее плодородные земли, по Д. Рикардо) и создает постоянный риск «перепроизводства» рабочей силы при уменьшающихся экономических возможностях («мальтузианская ловушка»).
Важно отметить следующее: регуляция природных процессов порождает рентный тип частнособственнической эксплуатации (В. П. Илюшечкин). Классовое деление обусловливается применением физической силы, что в итоге оформляется как сословная (или кастовая) система. Это актуально как для так называемых «рабовладельческих», так и для «феодальных» обществ. При этом, подчеркнем, масса непосредственных производителей не имеет почти никакого политического значения, так как положение господствующих социальных слоев обусловлено вовсе не умелой и рациональной эксплуатацией труда, а насильственным захватом более богатых земель. Подобное положение дел ведет к затяжному технологическому «застою», ибо при природорегулирующем способе экономической деятельности развитие рабочей силы, побочным следствием чего является гуманизм, личностное развитие (путем получения образования и т. п.) и т. п., нецелесообразно.
Общественную формацию, в рамках которой преобладающим источником потребительных ценностей являются контролируемые природные процессы, можно обозначить как сословно-классовую.
Труд76.Труд, как преобладающий источник потребительных ценностей, подразумевает, что уже сама трудовая деятельность77 преимущественно создает экономические блага («природная» сторона постепенно уходит на второй план). Роль творчества в экономической деятельности становится более значимой, но все же оно играет второстепенную роль. Для общества, в котором труд является преобладающей формой производительной деятельности, характерен интенсивный характер экономического развития: по мере экономического роста производительность труда повышается, ибо производство сводится к все более сложной обработке природного материала.
Старые общественные антагонистические отношения сменяются новыми (опустим здесь конкретику отношений эксплуатации наемного труда, которые и так хорошо описаны классиками). Перепроизводство рабочей силы отчасти сохраняется, однако само по себе создание совокупного общественного богатства ставится в прямую зависимость от качества труда как ключевой производительной силы. Это порождает потребность в большей мобильности «армии труда» (уничтожение крепостного права, ликвидация рабства), в ее постепенной оптимизации (распространение систем массового образования, институтов трудовой социализации, появление институтов социальной политики государства и т. п.). Совершенствование труда производится не только путем развития трудовых навыков, но и посредством все большей интеграции труда с технологической средой (и активного развития последней). А поэтому огромную роль начинает играть конкурентная борьба за развитие технологий применения и эксплуатации труда и повышение его производительности. Поскольку роль труда становится преобладающей, растет и «политический вес» эксплуатируемого класса трудящихся, возникает феномен «массовой» демократии (при всех ее изъянах, хорошо известных любому марксисту). Непосредственные производители словно выдвигаются вперед, заявляя о первостепенной важности своего труда (вспомним, например, как индустриальные рабочие «шантажировали» капиталистов забастовками и остановками производств).
Общественную формацию, базирующуюся на трудовом преобладающем источнике потребительной деятельности, можно обозначить как капиталистическую. Почему именно «капиталистическую»? Возьмем за основу определение из Большой советской энциклопедии: капитализм – «общественно-экономическая формация, основанная на частной собственности на средства производства и эксплуатации наемного труда капиталом <…> Основные признаки К.: господство товарно-денежных отношений и частной собственности на средства производства, наличие развитого общественного разделения труда, рост обобществления производства, превращение рабочей силы в товар, эксплуатация наемных рабочих капиталистами»78. Как правило, в этом определении принято подчеркивать такие моменты, как «частная собственность на средства производства» или «господство товарно-денежных отношений». Однако, на мой взгляд, эти черты не являются сущностными. В конце концов, в СССР была произведена попытка избавиться от частной собственности на средства производства и господства товарно-денежных отношений, но это привело к превращению государства в одного большого капиталиста.
Куда точнее раскрывают сущность капитализма такие его характеристики, как развитое общественное разделение труда, развитое обобществление производства (понимаемого как производство материальное) и превращение рабочей силы в товар. Если сравнивать капитализм с предшествующими общественными формациями, то только в капиталистическую эпоху труд как физическая, телесная активность становится главным источником потребительных ценностей. До этого, какой бы утомительной ни была работа крестьян и ремесленников, основное богатство рождала земля. Роль человека заключалась в своевременном управлении природными процессами. Как уже было отмечено выше, такая ситуация обусловливала второстепенную общественную роль конкретных производителей (остававшихся «придатком земли»), от примитивного труда которых мало что зависело. В капиталистическом обществе все кардинально меняется. Какими бы изощренными ни становились технические приспособления и машины, в капиталистическую эпоху труд находится в центре экономической жизни: его совершенствуют, создают для него комфортные условия, пытаются «научно» к нему подойти, его, в конце концов, эксплуатируют и «выжимают» из него (вернее – из рабочей силы) прибавочную стоимость.
Таким образом, главной чертой капитализма стоит считать не столько рынок или преобладание частной собственности, сколько саму материальность, механичность «трудового» производства. Это ведет к выстраиванию специфических производственных отношений, а именно системы конкурентной борьбы за наиболее эффективное, то есть тщательно спланированное и продуманное совмещение труда и технических приспособлений. Вся система капиталистической экономики построена на принципах всеохватной рационализации и «калькулируемости» практически каждого действия в сложных производственных и торговых цепочках, что оказывается возможным как раз ввиду «механической» природы труда и материального производства. Отсюда «математичность» рыночной экономики, связанная с деньгами как мерой стоимости. Капитализм – это система, где все выражается в цифрах (ценах, курсах валют и т. п.), где «все можно купить за деньги». Там же, где все поддается рационализации, алгоритмизации и т. п., неизбежны особые формы власти, которая приобретает «телесную» направленность: непосредственных производителей уже недостаточно поселить на определенном участке земли, чтобы потом просто «пассивно» собирать ренту.
При этом важно отметить, что разные (второстепенные, не затрагивающие глубинной сути производственных отношений) исторические обстоятельства, например результаты борьбы антагонистических классов, могут обусловливать различные политико-правовые оформления производственных отношений в рамках рассматриваемой общественной формации: (почти) «чистый» капитализм, «шведский социализм», «интегральное общество»79 и т. п. – в зависимости от того, какая в данный момент тенденция побеждает – элитарная или эгалитарная, рыночная или государственническая80.
NB! Материалистическое понимание истории не обязательно подразумевает строгую линейность развития. Общественная формация – это не строго зафиксированный набор параметров. С помощью материалистического понимания истории можно анализировать, условно говоря, «магистраль» развития общества, но эта «магистраль» может быть довольно широкой, иметь множество «полос». Поэтому представляется вполне резонным и обоснованным синтез формационного и цивилизационного подходов к изучению истории81.
Главным последствием опоры на поверхностные или количественные по своей сути критерии выделения общественных формаций стал ошибочный, на мой взгляд, тезис, по которому исторический социализм (как мы убедились, де-факто лишь иное политико-правовое оформление все того же капитализма) являлся новой (посткапиталистической) общественной формацией. Согласно одному из основных принципов материалистического понимания истории, изложенному еще классиками марксизма, никакая новая общественная формация не складывается до тех пор, пока старая не создаст достаточные для того материальные предпосылки82. Логично, что это подразумевает довольно долгий период, когда эти предпосылки еще не созданы, а стало быть, невозможно предсказать, какой будет следующая общественная формация. Отмечу, что идея социализма как альтернативы капитализму зародилась в позднем Ренессансе (хотя сам «дух» социализма проявлял себя уже в раннехристианских общинах83), то есть во времена складывания еще только предпосылок буржуазного общества. Но был ли социализм в его исторических формах чем-то реально выходящим за пределы капитализма?84 Учтем, что «Утопия» Т. Мора написана в тот период, когда не было капиталистического общества как такового, но уже сложились раннебуржуазные общественные отношения. В целом социализм всегда «преследовал» капитализм и иногда пытался его вытеснить (как это было/есть в СССР, КНР, КНДР, СРВ и многих других странах). Но и сам капитализм никогда не существовал в чистом виде (как абсолютно свободная от государства экономика чисто рыночных отношений и т. п.). К примеру, Английская революция совершалась как пробуржуазными, так и просоциалистическими силами, выступавшими за равенство, против частной собственности и т. п. (движение диггеров85).
Иными словами, в представленной здесь схеме исторические «капитализм» и «социализм» – это не разные формации, а две разновидности политико-правовых оформлений производственных отношений в рамках одной и той же общественной формации. Сама формация, основанная на труде и капитале, исторически подразумевала два способа организации социальных отношений, условно буржуазный и условно социалистический, которые не могли полностью исключать друг друга. Здесь стоит обратить внимание на то, что социализм (как идея) всегда был эгалитарным «отражением» капитализма, его как бы «моральным», «человечным» отрицанием, но отнюдь не преодолением (снятием). Поэтому не стоит это «недоотрицание» путать с теми процессами, которые приведут к становлению новой общественной формации. Ротация данных политико-правовых «оформлений» производственных отношений не меняет сути преобладающего способа экономической деятельности, а потому ключевые противоречия обществ на данной стадии развития остаются в силе. Иными словами, капитализм и социализм в своих исторически известных формах не являются двумя разными общественными формациями, ибо основаны на одинаковом – трудовом – преобладающем источнике потребительных ценностей86.
Творчество. Роль творчества в качестве источника потребительных ценностей еще не стала главной. Однако тенденция очевидна: постепенно труд утратит свое центральное место. При этом творчество, как преобладающий источник потребительных ценностей, приведет к формированию новых общественных отношений87. Роль привычной классовой принадлежности и идентичности постепенно потеряет свою значимость (буржуазно-классовая стратификация сохранится еще на долгое время, но будет все больше обусловливаться факторами, зависящими от творческих способностей отдельных индивидуумов: обладание/не обладание востребованными в «креативной» и высокотехнологичной экономике навыками и способностями и т. п.).
NB! О чем-то подобном уже сравнительно давно писали Д. Белл и другие сторонники идеи постиндустриального общества. Белл, в частности, утверждал, что исторические капитализм и социализм принадлежат единой стадии исторического развития (индустриальное общество88). По сути, понятия «посткапитализм» и «постиндустриальное общество» у него синонимичны. Белл критиковал марксистскую идею пролетариата как субъекта перехода к посткапиталистическому обществу и отмечал, что такой переход осуществляется постепенно уже в рамках индустриального общества путем складывания нового «господствующего класса» – прослойки ученых и технических специалистов: «…сегодня, хотя собственность и остается важным базовым принципом, еще одним иногда конкурирующим с ней принципом становится техническое мастерство, доступ к которому обеспечивается образованием»89. Соответственно рано или поздно наступит время, когда этот новый, меритократический класс станет господствующим, а производство знания вытеснит по своей значимости производство материальных благ: «Основной класс в нарождающемся обществе – это прежде всего класс профессионалов, владеющий знаниями, а не собственностью»90. Думается, главная проблема теории Белла заключается в том, что он не видел разницы между трудом и творчеством. В его время говорить о какой-либо очевидной тенденции утверждения именно творчества как основного источника потребительных ценностей не приходилось. Технические специалисты, представители сферы услуг и т. п. являли собой лишь новое поколение наемных работников (конечно, творческий компонент труда подрос, но не стал преобладающим), а потому они легко встраивались в саму систему трудовых производственных отношений. Творческий способ экономической деятельности преобладает лишь при крайне высокой степени автоматизации труда, в рамках которого даже труд профессионалов, технических специалистов подвергается ускоряющемуся технологическому замещению, что уже сегодня, как показывают эксперты, не выглядит фантастической идеей91.
Итак, творчество приходит на смену труду. При этом, как уже было указано выше, в контексте настоящего исследования целесообразно разделять понятия «труд» и «творчество». Труд – повторюсь – это совокупность материальных (физических) операций по преобразованию того или иного предмета, которые можно алгоритмизировать. Труд, ввиду его «материально-телесной» основы, поддается формализации, он научно измерим и, как правило, предполагает ожидаемый результат (можно взять отдельного человека, за пару месяцев обучить его работать на станке, и он будет приносить точно измеримую пользу при фиксированном рабочем времени). Творчество же (см. определение выше) по самой своей сущности «скрыто» (находится в области таинственного, внутреннего), непредсказуемо, является результатом стечения обстоятельств, неповторимой судьбы творца, погруженного непосредственно в культурно-историческую и технологическую среду. Соответственно, творчество не способно порождать прибавочную стоимость, ибо его вообще невозможно измерять количественно. Результаты творческой деятельности можно только «присваивать», ограничивая к ним доступ (извлекая «интеллектуальную ренту»), но по мере роста коммуникационных возможностей такие ограничения работают все хуже и все сильнее вступают в противоречие с дальнейшим развитием производительных сил. Творчество – это, наконец, процесс созидания, скорее даже «рождения», новых, нематериальных благ: идей, решений, технологий, теорий, произведений искусства и т. п. Все это оказывается не чем-то легко присваиваемым, а, так сказать, летучим, легко обобществляемым, становящимся общественным достоянием. Творчество плохо совместимо с регламентациями, нормативами, рациональными расчетами, узкими бюрократическими рамками дозволенного, рекомендуемого и т. п.; это всегда выход за пределы устоявшегося.
Тем не менее, как я далее попытаюсь показать, историческим типом производственных отношений зарождающейся посткапиталистической формации является вовсе не свободное совместное творчество (якобы ведущее к коммунизму). Начать стоит с того, что в творческой деятельности велико значение удачи, случая. И это отнюдь не усиливает, как принято считать92, а ослабляет экономическое значение (роль) отдельных, «среднестатистических» индивидуумов (их способность к ультимативному политическому действию), так как инвестиции в их личностное развитие перестают давать гарантированный результат: можно дать огромные деньги (или материальные ресурсы) человеку или группе лиц, но совершенно не факт, что они благодаря этим деньгам создадут литературный шедевр, полезное инженерное решение или гениальную научную теорию. Возникает потенциальная ситуация тотального «обесценивания»93 сущностных сил множества людей, низведения их до статуса «лишних» (о таких тенденциях говорят уже сегодня94).
NB ! Это, к слову, и является тем, что принципиально отличает представленный здесь подход к выделению общественных формаций от внешне очень похожего на него подхода В. Л. Иноземцева, для которого переход от одной преобладающей формы экономической деятельности (труд) к другой (творчество) является свидетельством постепенного формирования того, что он (вслед за Марксом) называет «постэкономической формацией». Здесь вопросы вызывает не только сам термин «постэкономическая» (смотря что понимать под экономикой, производством и т. п.), но и акцент на форме деятельности, которая мало что говорит о самой роли отдельных людей в системе производственных отношений. Оттого и идеализм работ В. Л. Иноземцева тех времен, когда он пишет, что переход от частной (private) к «личной» (personal) собственности есть свидетельство посткапиталистической трансформации, от которой выигрывают творческие деятели (якобы более свободные, сами себе хозяева и т. п.)95. В те времена еще не говорили о прекариате или гиг-экономике, и сегодня рассуждения Иноземцева можно признать наивными, ибо, как оказалось, отдельные люди имеют меньше власти и контроля над своими же творческими способностями (я, скажем, имею почти абсолютную власть над мышцами своего тела, но не над своим творческим талантом, реализация которого зависит от огромного множества факторов). Творчество не есть черта автономного субъекта. Это совокупность общественных и ментальных процессов, которые подчиняются контролю субъекта лишь в малой части. Акцент на источниках потребительных ценностей, таким образом, позволяет смотреть на них и как на непосредственный момент производительной деятельности субъекта, и как на нечто от этого субъекта автономное, логике чего субъект должен подчиняться и то, что ограничивает его возможности (скажем, природная стихия как то, что находится вне власти крестьян добуржуазной эпохи), а потому оценить способность субъектов деятельности контролировать те или иные производственные процессы, добиваться большей или меньшей автономии, занимать то или иное место в общественной иерархии.
Более того, необходимо учитывать, что в результате творческой деятельности создаются не только изобильные нематериальные блага. Творческая деятельность неразрывно связана с появлением (а также целенаправленным производством – см. ниже) ярких личностей, завладевающих очень важным дефицитным ресурсом – вниманием. Как будет показано далее (см. Раздел II), посткапиталистические производственные отношения характеризует не творчество как таковое (как самоцель), а производство личности, понимаемое как совокупность целенаправленных практик возвышения в творческой конкурентной борьбе за внимание и популярность. Уже сегодня постепенно возникают основания для новой антагонистической социальной стратификации: общество начинает делиться на массу потребителей результатов творческой деятельности (имперсоналиат) и небольшую прослойку популярных творческих деятелей – «захватчиков дискурса» (персоналиат)96. Поэтому общественную формацию, в рамках которой творчество является основным источником потребительных ценностей, резонно обозначить как персоналистическую (лат. pеrsōnа – личность).
Тем не менее рост материальных возможностей и увеличение доли общедоступных благ (производство «с нулевыми предельными издержками»97 и т. п.) вполне может привести к обострению антагонистической борьбы получивших некоторую «экзистенциальную подушку безопасности» «низов» против «верхов» за превращение личностного развития каждого человека в дело всего общества (как самоцель – без расчета на непосредственную точечную отдачу «здесь и сейчас»). В перспективе, таким образом, не только тяжелый этап межформационной социальной революции, но и сложные поиски оптимальной политико-правовой конфигурации посткапиталистического общества (см. Раздел III).
***
Сторонники теории общественных формаций так и не пришли к консенсусу относительно главного критерия, который должен лежать в основе выделения общественных формаций. Уже постепенно освобождавшаяся от идеологического диктата научная дискуссия прервалась реставрацией капитализма и своеобразной «идеологической контрреформацией», когда само материалистическое понимание истории оказалось вытесненным цивилизационным подходом. При этом разрешение затруднительной ситуации, казалось бы, уже назревало: 80-е годы породили довольно продуктивную дискуссию о необходимости пересмотра привычной «пятичленки». Впрочем, небольшие дополнения и уточнения, критический взгляд на такой критерий выделения общественных формаций, как преобладающая форма собственности, привели к тому, что в центре внимания оказалась не менее проблематичная категория «исторические типы техники». Эти типы, конечно, можно выделять, но дискурс о технике и технологиях неизбежно приводит к необходимости сочетать количественные и качественные их признаки. В итоге мы либо сталкиваемся с бесконечным разнообразием этих типов, либо имеем дело с количественными показателями вроде экономической производительности, чем постоянно и пользовались идеологи, связывая коммунизм с неким (правда, постоянно отодвигаемым в далекое светлое будущее) порождающим изобилие уровнем научно-технического развития.
Но все это не означает, что теория общественных формаций в корне несостоятельна. Сегодня, принимая к сведению новые открывающиеся тенденции общественного развития, мы можем попытаться переосмыслить ключевые принципы выделения общественных формаций. Их следует выделять, опираясь на критерий преобладающих источников потребительных ценностей (природа, контролируемые природные процессы, труд, творчество). Соответственно ревизии подвергаются и границы общественных формаций. Новая оптика позволяет увидеть, что исторические социализм и капитализм основаны на одном преобладающем источнике потребительных ценностей (труд), а потому их объединяют схожие противоречия, общие сущностные черты (конкуренция, эксплуатация труда, отчуждение и т. п.). Разница заключается лишь в политико-правовом оформлении отношений эксплуатации (государство как совокупный собственник/капиталист в СССР). Поэтому нужно говорить не только о единой сословно-классовой общественной формации, которая включает в себя выделяемые ранее «азиатские», рабовладельческие и феодальные общества, но и о единой капиталистической формации (включающей в себя все исторические формы «социализма» и «капитализма»). Следующей же, персоналистической общественной формации соответствует творчество как основной источник потребительных ценностей. Именно на узловых проблемах творчества в качестве ключевого источника потребительных ценностей необходимо сконцентрировать усилия, чтобы разглядеть черты грядущей общественной формации. Она, думается, будет иметь свою внутреннюю логику, свои собственные противоречия, а стало быть, имманентные ей категории не следует смешивать с категориями постепенно уходящей в прошлое капиталистической эпохи. Однако перед этим необходимо уточнить, как происходят социальные революции.
Глава 2
От революции рабочего класса к синтезу элит
Данная глава посвящена переосмыслению концепта социальной революции как перехода от одной общественной формации к другой. Согласно одному из посылов данного текста, тезис о революции рабочего класса как способа перехода к посткапиталистическому обществу был и остается утопичным. Напротив, если допустить, что переходы от одной стадии общественного развития к другой имеют универсальные закономерности протекания, то мы бы узнали куда больше о перспективах посткапитализма, изучая переход от докапиталистической к капиталистической стадии развития. Признавая нерелевантность аргументации, основывающейся на аналогиях, я попытаюсь апеллировать к закономерностям, отвечающим самой «логике» исторического процесса. Речь будет идти не о «тотальном» универсализме, предсказывающем с неизменной точностью наступление той или иной эпохи, но о ряде факторов, которые влияют на трансформации способов производства. Эти факторы и закономерности можно выразить емко следующим образом: а) при отсутствии всеобщего изобилия материальных и нематериальных благ новые способы производства неизбежно порождают новые формы господства и престижа; б) новые господствующие социальные слои не возникают «снизу»; наиболее вероятно их появление из старых господствующих и примыкающих к ним слоев или классов, так как экономические элиты располагают несоразмерно большими ресурсами для прогрессивного изменения самого способа производства; в) процесс смены способа производства, а стало быть, и общественной формации только в малой степени зависит от классовой борьбы; точнее сказать, это очень долгая трансформация, которая больше напоминает «синтез элит», постепенно меняющий сущность общественных отношений.
2.1. Социальная «революция снизу» – исключение из правил?
«История всех до сих пор существовавших обществ, – пишут Маркс и Энгельс в “Манифесте коммунистической партии”, – была историей борьбы классов. Свободный и раб, патриций и плебей, помещик и крепостной, мастер и подмастерье – короче, угнетающий и угнетаемый находились в вечном антагонизме друг к другу, вели непрерывную, то скрытую, то явную борьбу, всегда кончавшуюся революционным переустройством всего общественного здания или общей гибелью борющихся классов. В предшествующие исторические эпохи мы находим почти повсюду полное расчленение общества на различные сословия – целую лестницу различных общественных положений. В Древнем Риме мы встречаем патрициев, всадников, плебеев, рабов; в Средние века – феодальных господ, вассалов, цеховых мастеров, подмастерьев, крепостных, и к тому же почти в каждом из этих классов – еще особые градации. Вышедшее из недр погибшего феодального общества современное буржуазное общество не уничтожило классовых противоречий. Оно только поставило новые классы, новые условия угнетения и новые формы борьбы на место старых»98. Этот известный абзац в целом выражает способ осмысления социальной революции именно как результата классовой борьбы. Но в этих, если можно так выразиться, зачинающих марксизм строках, уже содержится некоторая недосказанность, которая и служит чертой, разделяющей марксизм как научную методологию и марксизм как классовую идеологию, утопию99. Классики марксизма как ученые подчеркивают неоспоримый факт существования классовых антагонизмов на протяжении истории, но как идеологи они выдают желаемое за действительное, утверждая, что борьба антагонистических классов «всегда кончается революционным переустройством всего общественного здания». Причем из данного утверждения выводимы два умозаключения: а) в рамках данной конкретной общественной формации борьба антагонистических классов приводит к революционному переустройству всего общественного здания; б) революционное переустройство всего общественного здания заключается в консолидации некоего третьего («стороннего», «нового», «передового») класса, который постепенно формируется внутри старой системы, крепнет и в итоге направляет классовую борьбу себе на пользу. Я полагаю, что следствие «б» ближе к действительности, хотя, как будет показано ниже, и с ним не все гладко. Что касается следствия «а», то именно оно, несмотря на прямое столкновение с историческими фактами, стало фундаментальным «подсознательным» многих левых теоретиков и идеологов.
Несомненно, рабы не стремились к свержению рабовладельцев с целью установления феодального общества, а феодальные крестьяне и предположить не могли, что будущее за чем-то вроде капитализма. Однако тезис о революционной борьбе рабочего класса (по крайней мере, изначально) вытекал из предположения о том, что рабочий класс, в отличие от классов рабов и крестьян, уж точно в состоянии осознать себя как «класс для себя» и бороться за коммунистическое общество. Во всяком случае, даже если он себя таковым и не осознает, то на помощь всегда могут прийти интеллектуалы, авангардная партия и т. д. Я хочу подчеркнуть: тезис о революционной роли рабочего класса не вытекал из строгого научного исторического анализа, выявляющего закономерности протекания социальных революций, но во всем был скорее ориентацией на «исключение из правил». Он основывался на гипотезе о капитализме как последнем способе производства в рамках большой «экономической общественной формации»100. Классики марксизма не предполагали, что на смену капитализму может прийти новая антагонистическая общественная формация101, а потому в качестве тотального отрицания вещной зависимости мыслилась только свободная индивидуальность, которую в конце концов обретают те, кому «нечего терять, кроме своих цепей». Находились лишь не самые убедительные апелляции к «мировому единству» пролетариата, который вместе с глобализацией капитализма также обретет глобальную субъектность. Это якобы выгодно отличает рабочий класс от крестьянства. Как писалось в одном из ранних учебников по истмату, «крестьянство, доведенное до отчаяния, нередко восстает против помещиков. Но в силу того, что основная масса крепостного крестьянства самим способом производства распылена и разрознена, крестьянские восстания в большинстве своем носят локальный (местный) характер»102. Историческая несостоятельность предсказаний мировой революции не нуждается в отдельном обосновании.
Тем не менее «фундаментальное подсознательное» было таким образом заложено, и впоследствии левые теоретики ориентировались именно на концепцию революции, инициируемой «снизу». В конце концов, дело часто доходило до того, что «исключение» становилось «правилом», а интеллектуальный дискурс при этом фокусировался именно на «низовой» инициативе, о каких бы революционных действиях речь ни шла: когда говорили о так называемых «буржуазных» революциях, то неизменно подчеркивали решающую роль крестьян и городских «низов», без активных действий которых не свершилась бы ни Английская, ни Французская буржуазные революции. Находились и оправдания такому «исключению». В конце концов, всю историю можно было представить как борьбу угнетенных против эксплуататоров, но раньше настоящее всемирное восстание «низов» было попросту немыслимо, а потому инициативу неизбывно перехватывали «верхи». В одно время дело доходило до абсурда, когда И. В. Сталин на одном из выступлений на съезде колхозников-ударников в 1933 году обронил фразу, которая стала одной из самых популярных в трудах советских историков Античности в 1930-е годы103: «Революция рабов ликвидировала рабовладельцев и отменила рабовладельческую форму эксплуатации трудящихся»104.
Как уже было отмечено, история левой политической мысли – это своеобразное «кладбище» коллективных субъектов: от крестьян и промышленных рабочих до молодежи эпохи сексуальных революций, современных «сетевых граждан мира», представителей различных «культурно притесняемых» социальных групп или меньшинств, постмодернистских «сборок» или «множеств», прекариата и многих других (а сегодня ко всему этому могут добавиться чернокожие и не только представители общественных движений вроде Black Lives Matter или американских антифа); это, иными словами, история разочарований в субъектах «низового» политического протеста, на которых в определенные времена возлагались революционные надежды. Именно поэтому сегодня часто осознается, что никакого революционного класса «для себя» выделить уже невозможно, так как фактически рабочий класс распался на большое множество притесняемых подгрупп с крайне различными мировоззрениями. Коммунизм представляется уже не как «объективно предсказанная» наступающая реальность, а как вдохновляющая мечта, утопия105. Капиталистическая система при этом лишь перестраивалась и обновлялась (и далеко не всегда в «эгалитарном» направлении).
Несомненно, грандиозные достижения Октябрьской революции и других социалистических революций должны быть в таком случае приняты к сведению. Однако ни в России, ни в Китае, ни где-либо еще так и не произошло действительной смены способа производства, а стало быть, и перехода к новой общественной формации. Исторические социализм и капитализм – две стороны одной медали, одна из которых окрашена в «эгалитарные», а другая – в «элитарные» краски. Юридическая смена преобладающей формы собственности оставила и эксплуатацию, и наемный труд, и извлечение прибавочной стоимости (правда, в более замысловатой форме), и рыночные (торговые) отношения, и деньги, и товарный фетишизм, и нужду в материальных благах106.
NB! Отрицание здесь революционной (меняющей способ производства и общественную формацию) роли рабочего класса и других эксплуатируемых и отчужденных слоев населения вовсе не означает отрицания вообще положительного исторического значения борьбы угнетенных слоев населения (и самой идеи антагонистической формации!). Любая общественная формация – это не некая завершенная и статичная институциональная форма, а скорее «спектр возможностей» в рамках определенного способа производства. Борьба социальных «низов» – важнейший исторический процесс, предохраняющий человечество от скатывания в дикость и создающий предпосылки для выстраивания более эгалитарных институциональных форм общества.
Здесь не хватит места для отдельной развернутой критики «низовых» форм протеста, ассоциируемых с посткапиталистической трансформацией. Вместо этого можно попытаться показать, что посткапиталистические отношения и так уже формируются, и отнюдь не среди жестоко эксплуатируемых или находящихся в самом низу социальной лестницы. Тем не менее, для того чтобы понять специфику современной большой общественной трансформации, необходимо понимать ряд закономерностей, которые наблюдались в том числе и в период становления капитализма. К сожалению, сознательная или подсознательная ориентация на инициативы «снизу» и вообще любые громкие политические события (вроде вооруженных восстаний) привела левую политическую мысль к историческим искажениям даже тех революционных изменений, от которых по общему признанию выигрывали отнюдь не массы или демократическое большинство. Далее будет представлен ряд теоретических положений, которые сводятся к общему утверждению о синтезе элит как механизме, посредством которого возникают и претворяются в жизнь новые способы производства. Данные положения будут противопоставлены как классическим представлениям о «революциях снизу», так и более приближенным к действительности взглядам на революционный процесс как прежде всего классовую борьбу, организуемую и сознательно направляемую «новым» классом элит.
2.2. Синтез элит как революционный процесс
Можно ли говорить о каких-то универсальных закономерностях протекания социальных революций? В одну реку не войти дважды – это очевидно. Вряд ли можно принимать всерьез аргументы, основывающиеся на исторических аналогиях, так как каждая смена способов производства, влекущая за собой переформатирование общественных отношений, происходит в новых социальных, экономических, технологических и т. п. обстоятельствах. Однако можно допустить, что у таких процессов может быть общая «логика», если учитывать ряд постоянно действующих условий. Попытаюсь тезисно изложить, о чем идет речь.
– Пока не достигнут настоящий избыток материальных благ для всех на Земле, общественная потребность в активной деятельности и конкурентной борьбе, в которой побеждают наиболее яркие и талантливые, сохраняется. Это ведет к появлению новых форм господства и престижа.
– В таком случае также наиболее вероятно, что средствами инициативной трансформации способа производства и, соответственно, производственных отношений будут располагать прежде всего старые господствующие элиты или те, кто находится в неантагонистических с ними взаимоотношениях.
– Социальная революция – это не политической «скачок» и даже не растянутая во времени борьба «классов для себя», а медленное вызревание новых способов производства, что способствует постепенному перетеканию власти и влияния в руки тех, кто вовремя (сознательно или бессознательно) стал инициатором развития этих способов производства.
– Поэтому речь и должна идти о «синтезе элит». Синтез элит – это не возникновение новых элит во «внешней среде»; это также не смешение старых элит с целью порождения чего-то нового. Это – постепенная эволюция некоторой (может быть, очень малой) части старых элит, в рамках которой происходит зарождение новых общественных отношений или инкорпорирование новых элементов «извне».
– Долгое время ресурсы, связанные с одним способом производства, могут суммироваться с ресурсами, связанными с новыми способами производства (к примеру, феодалы, которые занимаются капиталистическим производством на своей земле). Стало быть, и на тезисы о «межэлитной» классовой борьбе (буржуа против старой феодальной аристократии) также стоит смотреть скептически.
Во втором разделе данной книги я попытаюсь показать, что эти закономерности свойственны и современным процессам возвышения персоналиата. Однако предварительно хотелось бы продемонстрировать работоспособность этой схемы на более раннем примере становления капитализма, чтобы окончательно избавиться от теоретических «призраков», которые сопровождают современные дискурсы о посткапитализме и путях его «достижения».
***
Трудно отрицать «вдохновляющее» влияние так называемых буржуазных революций на классиков левой политической мысли. Великая Французская революция стала своеобразной «идеальной моделью». Казалось бы, там было все: взрыв недовольства «снизу», ожесточенная борьба «классов для себя», буржуазия, которая исполняла свою величайшую историческую миссию прогрессивного разрушения отжившей феодальной системы, реальное изменение соотношения классовых сил после революции. Впоследствии предполагалось, что социалистическая революция должна иметь много общего с тем, что происходило во Франции в конце XVIII века. Только теперь уже на передовой революционной борьбы должны были находиться не классы эксплуататоров, а угнетаемые рабочие и крестьяне. Но являлись ли и такие события, как Великая французская революция, действительными социальными революциями, реально меняющими способ производства и непосредственно формирующими новые производственные (шире – общественные) отношения? Многие факты говорят об обратном. Рассмотрим по пунктам, почему становление капитализма можно объяснить скорее синтезом элит, нежели результатами непримиримой классовой борьбы.
1. Саму по себе историю становления капитализма недопустимо рассматривать в отрыве от технологической эволюции. Капитализм – это прежде всего способ производства, основанный на труде как основном источнике потребительных ценностей. До капитализма труд как таковой не был основным источником потребительных ценностей, эту функцию выполняли природные процессы107. Только учитывая это, мы сможем понять описанные в «Капитале» механизмы самовозрастания стоимости. Соответственно, чтобы найти истоки капитализма, мы должны смотреть на то, как постепенный прогресс в науке и технике вылился в итоге в промышленную революцию. И этому процессу невозможно дать однозначную оценку с точки зрения какого-либо класса. Отчасти прогресс науки и техники «тормозился» средневековым мышлением. Но очень многие технологические прорывы в производственной сфере были обязаны как раз инициативам докапиталистических элит. Так, широкая иерархическая система налогообложения поспособствовала возникновению абсолютизма, роль которого в становлении капитализма трудно отрицать. Именно абсолютизм способствовал политической и экономической консолидации национальных государств, без которой были бы невозможны национальные рынки и многие явления международной торговли108. Как раз «абсолютные» монархи инициировали проведение меркантилистской политики, нацеленной на защиту местного производства от иностранных конкурентов (протекционизм). Монархи в целях повышения боеспособности своих армий непрестанно вкладывались в мануфактурное и протопромышленное производство. «Видимым парадоксом абсолютизма, – пишет П. Андерсон, – было то, что он по сути своей представлял аппарат для защиты собственности и привилегий аристократов; в то же самое время средства, которыми обеспечивалась эта защита, могли одновременно обеспечивать и базовые интересы новорожденных торгового и мануфактурного классов. <…> [Абсолютистское государство] покончило с большим количеством внутренних барьеров в торговле и поддержало ввозимые пошлины против иностранных конкурентов. <…> Оно выполняло некоторые частично функции первоначального накопления, необходимые для окончательного триумфа капиталистического способа производства. <…> [Поэтому] существовало потенциальное поле совместимости между природой и программой абсолютистского государства и действиями торгового и мануфактурного капитала»109. Сюда же можно отнести влияние колониализма.
2. Следовательно, не стоит недооценивать влияние государства как своеобразного «катализатора» синтеза элит. Долгое время в марксистской политэкономии было принято рассматривать государство исключительно как инструмент в руках господствующих классов. Однако оно никогда не было таковым, так как всегда выступало в качестве автономного субъекта, включающего в себя отдельную страту бюрократической и военной элиты. Т. Скочпол убедительно показала, что государственные агенты имели собственные интересы, зачастую шедшие наперекор интересам земельной аристократии. История становления абсолютистских государств – это история усмирения непокорных наследственных аристократий, включения класса феодалов в бюрократическую иерархическую машину государственной службы. При этом, как отмечает Скочпол, «хотя и государство, и господствующие классы в широком плане разделяют заинтересованность в том, чтобы удерживать подчиненные классы на отведенном им месте в обществе и на работе, в существующей экономике собственные фундаментальные интересы государства в поддержании элементарного порядка и политического мира могут привести его (особенно в периоды кризиса) к уступкам в пользу подчиненных классов»110. Более того, мы можем заметить, что многие «пробуржуазные» изменения зачастую происходили вообще без каких-либо революционных потрясений: просто из осознания государственными агентами необходимости тех или иных реформ для поддержания военной мощи. Реформы Штейна и Гарденберга в Пруссии или отмена крепостного права в Российской империи – примеры многих подобных мероприятий.
3. Становление капитализма сопровождалось скорее конфликтами элит, нежели классовой борьбой. Известный американский социолог и специалист в сравнительной исторической социологии Р. Лахман показал, что стоит говорить о своеобразных зазорах, которые открывались в ситуациях обострения конфликтов между элитами. Вражда различных элит феодального общества (земельных, клерикальных, монархических и т. п.) вела к их взаимному ослаблению, что открывало дополнительные пространства для появления ростков капиталистических общественных отношений (Лахман рассматривает широкий набор кейсов – от итальянских городов-государств до Англии и Франции эпохи промышленной революции). В контексте конфликтов элит эти отношения зарождались как «побочные эффекты», поэтому он и говорит о «капиталистах поневоле». Так, в Англии прямой предпосылкой «капиталистической трансформации» послужил конфликт короля и земельных магнатов. Лахман анализирует специфику этого конфликта, сравнивая его с аналогичными событиями во Франции. Английский абсолютизм зарождался специфическим образом. С началом английской Реформации в 1530-е годы Генрих VIII начал процесс ликвидации монастырей и передачи монастырского имущества в собственность королевского дома Тюдоров. Это усилило королевскую власть и позволило укрепить так называемый горизонтальный абсолютизм. Р. Лахман пишет: «Генрих и его преемники втянулись в союз с мелкими светскими землевладельцами – джентри, – чтобы обезопасить себя и расширить до национального уровня господство церкви и государства. Делая это, английские монархи запустили процесс трансформации политики и экономики на локальном и национальном уровнях»111. Однако усиление вертикальной власти монарха оказалось временным. Вскоре вновь приобретенные земли были растрачены: «Генрих VIII потратил ¾ своей прибыли с Реформации на войну и патронаж. Его преемники, Эдуард VI (1547–1553), Мария I (1554–1558) и Елизавета I (1558–1603) потратили оставшуюся часть тюдоровского имущества на своих политических клиентов. К началу елизаветинского правления королевские земельные владения вернулись к своему дореформенному уровню, приблизительно 1/10 части маноров. К 1640 году корона владела только 2 % всех английских маноров»112. Этот исторический поворот стал судьбоносным, так как конечными выгодоприобретателями оказались именно джентри, которые постепенно стали перетягивать на свою сторону все больше власти на локальном уровне: «…джентри воспользовались упадком власти магнатов (что усилило рычаги власти управления над членами парламента, которые тогда уже освободились от протекции и господства магнатов) и нуждой короны обменивать пожалования и посты на местном уровне на политическую поддержку в парламенте и на национальном уровне, вытребовав себе законодательную и юридическую поддержку своих атак на права арендаторов. Огораживание – самый известный и наиболее драматический метод аннулирования манориальных и общинных прав и создания частной собственности. Огораживание часто было всего лишь кульминацией долгого процесса нападок и сокращения крестьянского землепользования. Наступление эпохи огораживания знаменует конец классовой борьбы в аграрном секторе за манор и окончательную фазу создания частной собственности»113.
Иначе складывались обстоятельства во Франции. Там происходило становление «вертикального» абсолютизма. Конфликт королевской власти с магнатами сопровождался вовсе не разделом земель католических монастырей, а союзом монархии с католической церковью. Королевская власть укреплялась путем выстраивания бюрократической иерархии и опиралась на новый институт интендантов. Однако, как и в Англии, во Франции монархия испытывала систематический финансовый голод, связанный с постоянным ведением войн. В итоге начала распространяться практика продажи дворянских титулов и должностей, что сильно тормозило экономическое развитие, так как вместо постепенного складывания буржуазных общественных отношений, французская элита гналась за рентой: за доступ к государственным должностям, за право сбора королевских податей и т. п. Однако это сыграло решающую роль, так как перемешало элиты: финансовые элиты активно приобретали права аристократии (дворянство мантии), что в итоге и послужило началом конца Старого порядка. Ввязавшись в конфликт на американском континенте, Людовик XVI столкнулся с закономерными финансовыми проблемами. Но «смешение» элит оказалось крайне неблагоприятным для короны обстоятельством. Канадский историк Дж. Бошер пишет: «Любой другой финансовый кризис в монархии Бурбонов завершался Палатой правосудия [экстраординарным судопроизводством], привлекающей внимание общественности к счетоводам, откупщикам и другим финансистам [все они занимали купленные у монархии должности, которая обычно занимала у них в ожидании налоговых поступлений]… как к спекулянтам, ответственным за бедствие… Палаты правосудия обеспечивали удобный легальный инструмент для списания долгов перед финансистами и принудительного изъятия у них больших сумм. В связи с созывом этих палат корона пользовалась моментом слабости финансистов для осуществления реформ финансовых институтов… Но в течение XVIII в. генеральные откупщики, главные сборщики налогов, главные казначеи, плательщики рент и иные высокопоставленные финансисты в большом числе стали дворянами и слились с правящими классами до такой степени, что корона не смогла учредить Палату правосудия против них. Долгая серия Палат правосудия подошла к концу в 1717 г. Те министры финансов, которые пытались предпринять что-нибудь, по своей природе представляющее атаку на финансистов, особенно Терре, Тюрго и Неккер, потерпели политическое поражение и были вынуждены уйти в отставку. Именно в этих обстоятельствах финансовые бедствия переросли в крупномасштабный кризис»114.
4. Становление буржуазных общественных отношений характеризовалось медленным синтезом элит. Между зарождающимися новыми элитами и элитами старыми не было никакой «сущностной пропасти». Зачастую это были одни и те же люди. Так, в Англии джентри являлись инициаторами капиталистических нововведений. Во Франции представители зарождающегося капиталистического класса очень часто имели дворянские титулы или занимали государственные должности. Буржуазный «дух» несколько изменил ключевые паттерны поведения элит, однако и здесь не было какого-то грандиозного «разрыва». Скорее наблюдалась медленная трансформация статусов и престижа и постепенное принятие «рационализированных» форм потребления. Буржуа и старая аристократия не находились в непримиримых антагонистических отношениях. В своей книге, посвященной феномену роскоши в XVIII веке, французский историк Ф. Перро показывает, как старые рыцарские идеалы чести и славы (и соответствующие способы «благородного» зрелищного расточительства) медленно вытеснялись погоней за показной роскошью и развлечениями. Перро пишет: «Между дворянством, которое этой роскошью пользуется, и торговой или ремесленной буржуазией, которая этой роскошью снабжает, с согласия короля заключено молчаливое соглашение: торговцы и ремесленники, живя в своем мире тяжелого труда и рабочего пота, должны лихорадочно производить на свет элегантные костюмы, изысканные кушанья, величественные жилища, изящную мебель и ковры…»115. Однако прогрессивное воздействие буржуазии здесь заключалось вовсе не в политической агрессии или чем-то подобном. Буржуазия в некоторой степени с помощью подобных «соглашений» невольно «уничтожала» старую аристократию. «Вся эта роскошь, – продолжает Перро, – которая сосредоточивается в руках одного сословия, становится причиной все более и более ожесточенного соперничества в престиже и приводит к очередным безудержным тратам, заставляя все глубже влезать в долги. <…> Вот почему, в то время пока торговцы и ремесленники обогащаются, дворянская роскошь выглядит не как настоящее богатство, а как попытка скрыть свое разорение, “придворную нищету”, о которой писала Мадам де Севинье. “У них никогда нет ни единого су, но все они путешествуют, участвуют в походах, следят за модой, их можно увидеть на всех балах, на всех курортах, на всех лотереях, хотя бы они при этом и были разорены…”»116. Постепенно представители буржуазии богатели, и их богатство очень часто было обусловлено приверженностью рациональными принципам бережливости и утилитарности. Тем не менее невозможно провести четкий водораздел между дворянским «духом» расточительности и буржуазным «духом» бережливости и нацеленности на инвестиции: «Деловой человек “из низов”, какой-нибудь разбогатевший банкир или финансист подражает образу жизни утонченного аристократа, между тем как благородные наслаждения, напротив, словно “опрощаются”, приобретая черты уютного буржуазного быта, где более всего ценятся покой и благоразумие»117.
5. Наконец, капиталистическая социальная революция лишь косвенно была обусловлена такими историческими потрясениями, как Английская и Французская революции. И применительно к таким событиям необходимо быть предельно осторожным. Английская революция не была буржуазной постольку, поскольку тогда еще не существовало буржуазии как «класса для себя». Да, городской торговый класс Лондона сыграл свою роль, но куда большее значение имела концентрация власти в руках джентри. Как отмечает Теда Скочпол, Английская революция «свершилась не через классовую борьбу, но через гражданскую войну между сегментами господствующего класса землевладельцев (когда каждая сторона привлекала союзников и сторонников из всех прочих классов и страт). И в то время как французская революция заметно трансформировала классовые и социальные структуры, английская революция этого не сделала. Вместо этого она революционизировала политическую структуру Англии. Она упразднила право (и институциональную возможность) короля вмешиваться в местные политические, экономические и религиозные дела и в целом вынудила его править только на основе доверия и законодательной поддержки парламента»118 . Однако и Великая французская революция была не вполне буржуазной. Социальные силы, которые ее породили, не были «антисеньориальными». Крестьяне «жаловались» вовсе не столько на старую сеньориальную систему, сколько на негативные явления, связанные с проникновением коммерциализированных отношений в деревню (антагонизм между бедными и богатыми)119. Более того, эта революция не способствовала какому-то быстрому рывку к индустриализму. Скорее наблюдался всесторонний кризис, от которого Франция еще долго не могла оправиться. «Многие историки французской революции, – пишет Скочпол, – утверждают, что созыв Генеральных штатов привел к революции, потому что он выдвинул капиталистическую буржуазию, или же верхушку третьего сословия, на национальную политическую арену. Это произошло, когда разразились споры о том, проводить ли Штаты традиционным образом с голосованием по сословиям или же более унифицированным образом, с поголовным голосованием. Конечно, этот спор имел решающее значение. Тем не менее многое говорит в пользу того, что его значение было не в противопоставлении одного класса другому. Оно скорее состояло в том, что данный спор углубил паралич административной системы Старого порядка и привел к ее распаду, тем самым оставив господствующий класс уязвимым перед подлинным социально-революционным воздействием низовых протестов»120. Но даже если и был последующий революционный «низовой протест», то можно ли его называть социально-революционным? Для Теды Скочпол социальная революция подразумевает смену правящих социально-классовых сил и изменение социально-экономической системы. В некотором смысле это произошло. Но была ли при этом качественная трансформация способа производства? На этот вопрос можно дать отрицательный ответ. Франция оставалась преимущественно сельскохозяйственной страной, где было только шесть городов с населением более 50 000 человек и три города с населением более 100 000 человек, где старые методы ведения сельского хозяйства в основном не изменились121. «Развитие французского общества, – пишет Альфред Коббен, – предстает в ином свете, если мы признаем, что революция была триумфом для консервативных, имущих, землевладельческих классов, больших и малых. Это был один из факторов – конечно, не единственный, – способствующих экономической отсталости Франции в следующем столетии. Это помогает нам увидеть, что в ходе революции социальная иерархия, измененная и более открыто основанная на богатстве, особенно земельном богатстве и политическом влиянии, а не на рождении и аристократических связях, была укреплена и восстановлена. Опять же, верно, что революция привела к важным гуманитарным реформам и устранила неисчислимые традиционные барьеры на пути к более унифицированному и политически более эффективному современному государству, но она также сорвала движение за лучшее обращение с самыми бедными слоями общества, как сельскими, так и городскими»122. Ближе к реальности описание Великой французской революции как преимущественно политического явления, связанного с распространением грамотности, национального самосознания, расцветом наук и философии. Якобинская диктатура – типичное проявление фанатичной веры в нацию и революцию как философские абстракции, которые теперь, в условиях зарождающейся медийности, начинают постепенно восприниматься массами. Не буржуазный строй стал итогом революции, а очищенное от «средневековой скорлупы» национальное государство. Как отмечает Ф. Фюре, «став нацией и слившись в едином правлении, французы, сами того не сознавая, вернулись к мифическому образу абсолютизма, поскольку именно он определяет и представляет социальную совокупность»123.
В контексте вышесказанного возникает встречный вопрос: если нет четких «формационных границ», то можно ли вообще говорить о социальных революциях? Все вышесказанное отнюдь не означает, что социальные революции – это иллюзия рационалистического сознания, опирающегося на абстракции (как и то, что концепты классов и классовой борьбы бесполезны124). Однако исследовательский взгляд должен быть направлен не на резкие разрывы или «непримиримые антагонизмы», а на точки синтеза и континуумы медленных трансформаций.
***
В данной главе я попытался показать, что если и можно говорить об универсальных закономерностях смены общественных формаций, то вряд ли их можно выявить, изучая «восстания снизу» или непримиримую классовую борьбу. Наиболее вероятно начало прогрессивных трансформаций по инициативе элит. Поэтому можно посмотреть на социальную революцию как на синтез элит. Именно у элит накапливаются необходимые ресурсы, которые постепенно перетекают туда, где возникают и зарождаются новые способы производства и производственные отношения. Социальная революция – это очень долгий процесс, который вряд ли можно адекватно описать чернобелыми красками политических противостояний и баталий. В таких процессах, как правило, задействовано множество субъектов. Элиты могут пользоваться преимуществами как старых способов производства, так и новых. Более того, очень важна роль тех социальных сил, которые находятся в неантагонистических взаимоотношениях со старыми элитами. Да, мы можем говорить о некоем «столкновении» социальных субъектов, порождаемых разными способами производства. Разные элитные группировки при этом могут бороться друг с другом, не задумываясь о каких-то «системных» изменениях. Их повседневная борьба приводит к непредсказуемым последствиям, открывая лазейки-зазоры, которыми пользуются новые социальные силы.
Этот экскурс был необходим, чтобы подготовить читателя к изложению концепции возвышения персоналиата как «составной части» уже происходящей посткапиталистической трансформации. Чтобы увидеть то, что часто остается незамеченным, нужно отбросить старые предрассудки и избавиться от ненаучных по своей природе идеалистических представлений о нацеленном на построение неантагонистических общественных отношений революционном порыве «снизу», который при всем при этом должен завершиться социальной революцией. Стоит воспользоваться совершенно другой теоретической оптикой. Что, если посткапиталистическая революция – это вовсе не «социальный взрыв» эксплуатируемых и угнетенных? Что, если будущее вовсе не за идиллическим обществом всеобщего равенства? Что, если посткапиталистическая революция – это то, что уже сравнительно давно происходит? Попробуем ответить на эти вопросы во втором разделе.
Раздел II
Персоналиат
Глава 1
Конец экономики отменяется
Прежде чем переходить к обоснованию главного тезиса настоящего раздела (да и всей книги), будет полезным вернуться к тому, что было сказано выше. Рассматривая в качестве ключевого фактора производства первоначальный источник экономических благ (потребительных ценностей), мы начинаем понимать логику исторического процесса, поскольку именно такие источники принципиально обусловливают то, как люди достигают тех или иных преимуществ и в целом господства. Если среди источников материальных благ преобладает природа (дикорастущие плоды и ягоды, животные, рождающиеся в лесах, и т. п.), то нет эксплуатации и силового «социального» присвоения, а соответственно, государства и аппарата экономического принуждения. Как только природные процессы начинают активно контролироваться (системы ирригации, оседлое земледелие и т. п.), появляются экономические излишки, земля превращается в ценнейший ресурс, возникают классы землевладельцев, которые стремятся подчинить и закрепостить живую рабочую силу, обитающую на этой земле. Так как главный экономический ресурс в данном случае земля, то преобладающий ресурс господства – это именно сила. Когда развитие науки и техники приводит к тому, что на первый план в качестве фактора роста производительности выходит труд как физическая активность человеческого тела, старые ресурсы и источники господства и доминирования утрачивают свою значимость. Рабочая сила «высвобождается» с той целью, чтобы вновь быть подчиненной в качестве биологического субстрата процесса извлечения прибавочной стоимости, помещаемого в механизированное пространство промышленного производства. Основным ресурсом господства здесь является уже не сила, а способность так соединять человеческие тела и технические устройства, чтобы достигать максимальной производительности. Эта способность напрямую сопряжена с наличием материального богатства. Наконец, сегодня происходит очередной тектонический сдвиг, связанный с выдвижением на авансцену творчества как важнейшего источника потребительных ценностей. Именно творчество выступает драйвером медленного дрейфа общества к посткапитализму. С данным процессом многие авторы связывают большие надежды. Мы привыкли ассоциировать с творчеством свободный полет мысли, независимость, состояние внутренней свободы, подъема сил, восторг от созидания и т. п. Но так ли все безоблачно?
1.1. Творческая деятельность в контексте противоречивых общественных отношений
Когда наступает конец капитализма? Есть все основания полагать, что капитализм уже сегодня постепенно «завершается» вместе с изменением ключевого источника потребительных ценностей. Становясь главным фактором производства, творчество радикально меняет производственные отношения.
В принципе о подрывающих основы капиталистического способа производства свойствах творчества написано уже немало. Как уже отмечалось выше, довольно часто указывают, например, на следующие свойства: необходимость всестороннего развития с целью увеличения творческой продуктивности (что отсылает к важнейшей роли государства, которое вынуждено вкладываться в образование и науку, дабы не утратить стратегических позиций); сильная зависимость от состояния общественной инфраструктуры и доступа к общественным благам; неизмеримость и неделимость результатов творческой деятельности; потенциально бесконечная и практически бесплатная реплицируемость и общедоступность таких результатов (теорий, концепций, идей). Уже сама неизмеримость творческих усилий в корне подрывает механизм капиталистического извлечения прибавочной стоимости, как раз основанный на исчислимости трудовых усилий и благ, которые этими усилиями создаются. Эти особенности творчества вдохновляют левых теоретиков, что выражается в своеобразном ренессансе анархизма и марксизма. И это неудивительно, ведь экономика знаний самим своим естеством, казалось бы, тянется к социализму.
При этом речь идет не столько о революционной «встряске», сколько о постепенных мутациях самого капитализма, который становится все менее «капиталистичным». Как было подчеркнуто в первом разделе, ростки будущего появляются на удобренной почве прошлого. К примеру, Маурицио Лаццарато замечает, что в рамках так называемого когнитивного капитализма фирма уже не столько производит, удовлетворяя спрос, сколько создает миры как своеобразные «символические универсумы». Капитализм из способа производства превращается в производство способов125. Люди, занятые рекламой, стайлингом, дизайном, оказываются творческими личностями, труд которых уже невозможно измерить и подчинить «калькулируемым» процессам, как это было в эпоху фордизма. Скорее такой труд становится активностью множеств, включающих в себя не только сотрудников фирм, но и самих потребителей, их жизнь, их бытие и со-бытие с остальными. Еще один драйвер развития «когнитивного капитализма» – производство знаний. Знание, как и любой творческий продукт, невозможно произвести, совершив измеримые телесные усилия. Творческая деятельность осуществляется не отдельными телами, физическими (или материальными) объектами, которые можно подчинить или контролировать, а скорее сознанием или сознаниями. Самым эффективным «творцом» оказывается не отдельный человек, а само общество, рождающее из своих «недр» новые идеи самым непредсказуемым образом. А потому, как далее отмечает Лаццарато, кооперация в «когнитивном капитализме» (речь конкретно идет о компьютерных программах) уже «не нуждается в предприятии и самом капиталисте, как это было в экономике Маркса и Смита. Напротив, оно зависит от развития и распространения научных знаний, технологических механизмов и коммуникационных сетей, образовательных систем, здравоохранения и прочих институтов, обеспечивающих население. Способность создания и осуществления кооперации зависит, таким образом, от наличия этих публичных (коллективных, общественных) благ и от доступа к ним. Создание программ всегда осуществляется благодаря совместной работе множества умов, компетенций, эмоций, циркулирующих в сети, которая есть не что иное как гетерогенное сцепление всевозможных сингулярностей, потоков и множеств (как это видно на примере информатиков, разработчиков свободных программ)»126. Колоссальные прибыли высокотехнологичных предприятий сегодня, в сущности, уже не являются «извлеченной» прибавочной стоимостью как неоплаченным трудом наемных работников, так как богатство все реже создается действиями, которые можно «измерить» человеко-днями или человеко-часами. Эти прибыли превращаются в ренту127, извлекаемую путем «огораживаний» – установления прав собственности на результаты творческой деятельности (на информацию или технологии)128. Поэтому, согласно Э. Руллани, налицо очевидное «несоответствие» (внутреннее противоречие) «когнитивного капитализма»: «стоимость, которую можно извлечь из произведенных знаний, не максимизирована, поскольку их распространение остается ниже потенциально возможного»129. Иными словами, результаты творческой деятельности оказываются настоящими общественными благами, «производство» которых обусловлено преимущественно общественной инфраструктурой. От «когнитивного коммунизма» «когнитивный капитализм» отличает лишь то, что по своей сути он уже и не капитализм вовсе, а скорее неофеодализм130.
Таким образом, происходит то же, что и раньше при социальных революциях: фундаментальные изменения начинаются не у подножия, а не вершине социальной пирамиды. Капитализм сам приходит к самоотрицанию.
Но настоящая книга не имела бы смысла, если бы все было так просто. Проблема современных левых апелляций к специфике творческой деятельности как потенциально преобладающего источника потребительных ценностей в том, что мы рискуем спутать позитивные свойства источника благ с теми общественными отношениями, которые могут выстраиваться вокруг этого источника. Поясню. Если бы мы попытались охарактеризовать сословно-классовую формацию, опираясь исключительно на способность земли рождать из своих недр блага, то пришли бы к идиллической картине солидарной общественной жизни в гармонии с «матерью природой». То же самое касается и труда. Поскольку в своей идеализированной форме труд – это производство, окультуривание, то есть благородное занятие, способствующее подъему жизненных сил, мы могли бы заключить, что подлинный дух труда – это дух солидарных совместных усилий, трудового братства. Ошибка современных левых теоретиков заключается как раз в том, что творчество берется ими исключительно как некое в-себе-сущее, которое уже своим «внутренним естеством» указывает на образ будущего. Иными словами, творчество рассматривается вне противоречивого контекста общественных отношений. А контекст этот таков, что в мире, где не искоренены страдания и конкурентная борьба, любой новый источник потребительных ценностей рано или поздно превращается в то, что обусловливает новые формы господства.
1.2. Внимание – новый дефицитный ресурс. Личность – ключевое благо
В попытках превратить дискурс «о когнитивном капитализме» в дискурс «о посткапитализме» заключена одна уязвимость. Исследователи склонны идти по стопам классиков марксизма и анархизма, полагавших, что за капитализмом следует эпоха изобилия, когда не будет больше поводов для отчуждения и борьбы людей друг с другом. Поэтому они возвращаются к дискурсу «о вечных машинах», который был начат еще Марксом131: экономика знаний подстегнет повсеместную автоматизацию и роботизацию производства, а частная интеллектуальная собственность будет замещена собственностью каждого на все132. Производство знаний – это, в сущности, производство общественных благ, так как знания потенциально общедоступны. Проблема в том, что потенциальное достижение изобилия в одной области при таком подходе видится как достижение изобилия вообще