Читать онлайн В сумерках мортидо бесплатно
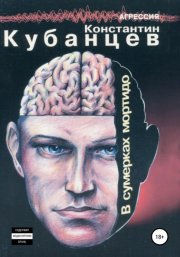
От автора
Дамы и господа! Выдумано все! Имена, характеры, сюжеты, внешний облик и географические названия – все! Любое совпадение – случайно.
Несколько эпиграфов вместо предисловия:
“Жизнь раздражает нас на каждом шагу…”
“Люди думают, будто они стремятся к безопасности, но в действительности они стремятся к ощущению безопасности”.
“Стремление к уничтожению приводит в действие вражду и ненависть, слепой гнев и жуткие наслаждения жестокостью и распадом живой плоти. Напряжение, дающее силу этим чувствам, мы будем называть мортидо”.
“Стремление к созиданию и к уничтожению, кульминацией которых является половое сношение и убийство, – это и есть тот первичный материал, с которым приходится работать человеку и цивилизации”.
“Мортидо для нас гораздо загадочнее, чем либидо”.
Э. Берн. “Введение в психиатрию и психоанализ для непосвященных”.
Non missura cutem, nisi plena cruoris, hirudo.
(Только наевшись крови, пиявка отпадает).
“Ну, больной, расскажите – от каких извращений страдаете?”
“Я, доктор, не страдаю… я ими наслаждаюсь”.
Анекдот.
Часть I. Под софитами
Глава I
16 июня, среда.
Поднеся палец к кнопке дверного звонка, Ник на мгновение замер и прислушался. Но было тихо. И тогда он резко надавил на неё.
Дверь отворила девушка. Он была красива и молода.
“Это Оля”, – про себя отметил Ник.
И оказался прав. Оля – младшая и любимая дочь Петра Семеновича Тускланова, известного в Волгогорске врача-хирурга.
Семья доктора – он, супруга и две их дочери – жила в большой трехкомнатной квартире в старом “сталинском” доме в центре города. В таких домах, с высокими потолками и высокими ступенями на лестничных пролетах, с двумя, не больше, квартирами на этаже, жильцов мало. Да и для своего визита Ник выбрал середину дня, когда молодежь или на службе, или, как теперь говорят, совершает шопинг, а немногочисленные, доживающие свой век бабушки и дедушки греют свои искореженные артритом косточки на скамеечках в скверах и садиках, сохранившихся в центре города.
Разглядев девушку, Ник искренне улыбнулся. Копна светло-рыжих волос, что мягкими волнами падала на лоб и уши, голубые слегка раскосые и широко распахнутые глаза, хорошая стройная фигура – привлекали внимание.
По-прежнему широко улыбаясь, Ник сдержано представился: – Майор Поляков. ФСБ.
Он сразу же вытащил из наружного кармана рубашки удостоверение в красной плотной обложке и, не раскрывая, протянул девушке.
– Оля, – представилась девушка. Она неловко повертела фальшивый документ в руках и вернула его и серьезным голосом произнесла. – Проходите, пожалуйста, товарищ майор. Вы, наверное, к папе?
– Да, конечно.
Он знал, что производит приятное впечатление: выразительное, не смазливое, а, напротив, интеллигентное лицо, умные глаза, спортивная фигура, в меру короткая стрижка, однотонная голубая рубашка навыпуск, черные джинсы, легкие и дорогие кроссовки “Найк”.
Она мягко кивнула, приглашая войти, и грива ее рыжих волос заструилась, словно золотой песок под лучами солнца, которое, находясь в зените, врывалось через жалюзи в квартиру, проскальзывало в просторную переднюю и набрасывало на все предметы золотисто-полосатую вуаль. Затем она засмущалась под пристальным взглядом молодого майора – его мужское обаяние не осталось не замеченным, и отвернулась, проходя вперед.
– Извините, по делу, но совсем ненадолго, – скромно сказал Ник ей в спину, стараясь быть немногословным.
Ему хотелось расхохотаться. Он с трудом сдерживал себя. Предвкушение убийства вдруг возбудило его. Он почувствовал, как напрягся его член, скованный плотной материей.
“Подожди пару минут и я выпущу тебя на свободу”, – с удовольствием подумал Ник.
Комната, куда девушка проводила Ника, служила рабочим кабинетом.
Жалюзи на окнах были прикрыты до полумрака. На широком письменном столе лежало несколько журналов с аккуратными закладками. В глубине комнаты стоял еще один небольшой изящный столик, а по обе стороны от него – два тяжелых глубоких кресла, обитых черным велюром. На полу – темный пушистый ковер. Многочисленные книжные полки вдоль стен от пола и почти до потолка были заставлены специальной медицинской литературой.
“Ничего лишнего в интерьере. Обстановка спокойного комфорта, – отметил Ник машинально. – И хорошая звукоизоляция”.
Растягивая паузу, давая понять, что хотел бы остаться с ее отцом наедине, он еще раз внимательно взглянул в лицо девушки, излучавшее искреннюю наивность юности, и поблагодарил. – Спасибо.
Дверь за ней мягко и плотно затворилась. Ник опять представился, повторив, что займет лишь несколько минут.
– Ну, хорошо, хорошо, – без интереса и слегка раздраженно проговорил Петр Семенович.
Вздохнув, как перед чем-то неприятным, он жестом указал на кресла.
Ник сделал два-три шага в указанном направлении, замешкался, дожидаясь хозяина и пропуская его вперед.
Отрепетированная улыбка, смущение и неуверенность смягчили раздражение доктора.
– Садитесь, молодой человек, – доброжелательнее произнес он, первым опускаясь на мягкий чистый велюр.
Но прежде чем он утонул в его успокаивающих глубинах, Ник выхватил из-за пояса пистолет, на вытянутой руке поднял его до уровня плеча и выстрелил ему в лицо.
Пуля вошла в плоть чуть ниже левого глаза, прошла через мозг и, расколов правую теменную кость, вылетела из замкнутой полости. И ударилась в стену.
В момент выстрела раздался легкий хлопок, словно с размаху прикрыли книгу. Длинный глушитель надежно погасил звуковые волны.
Не успевший осознать, что произошло, уже мертвый, Петр Семенович наконец-то уселся в кресло. Его голова свесилась на грудь, а руки соскользнули между колен.
Из небольшой раны на лице в течение тридцати-сорока секунд бил алый фонтанчик. По щеке кровь стекала на шею и на грудь, раскрашивая белоснежный воротничок. Из раны на затылке, которая была хорошо видна, торчали осколки костей, выбухало мозговое вещество, размозженное и обильно окрашенное кровью. Кусочки мозга и мелкие костяные осколки прилипли к стене позади тела.
Из носа вдруг тоже закапала кровь и замарала хорошо отутюженные брюки.
Ник удовлетворенно вздохнул. Работа закончена, на очереди – развлечение.
Яркое июньское солнце, напоминавшее спелый апельсин, задержавшись в зените, мягко покатилось вниз и успело скрыться прежде, чем Ник, не спеша, вышел из подъезда.
Просчитать точное время запланированного убийства – непросто. Всегда готов вмешаться случай. Ник уяснил этот факт давным-давно. Без подсказок и поучений. На основе своего жизненного опыта и скрупулезного анализа.
“Случай! Он может быть значительным, глобальным. Менять судьбу целой страны или народа. Если бы строптивый конь по кличке Буцефал все-таки ударил Александра Македонского копытом? А корабли Колумба затонули бы во время шторма? А отец Наполеона, пожилой корсиканец Буонопарти, чье имя собственное история даже не сохранила, перебрал бы в тот самый вечер, как частенько случалось, и уснул бы рядом со своей надоевшей за долгие годы супругой, вместо того, чтобы любить ее полночи, зачиная великого императора? Вот это и называют – Его Величество Случай, – думал Ник. – Все наши дела, запрограммированные, целенаправленно-просчитанные – всего лишь цепь многочисленных более мелких случайностей, порой нелепых, редко счастливых, иногда страшных, цепляющихся одна за другую, словно маленькие шестеренки в работающем моторе – ускоряясь в этом непрерывном процессе до бешеного вращения, они создают массу всевозможных искажений, накладывающихся друг на друга, как краски в палитре, рождая новый цвет. Это очевидно! И нет необходимости ни доказывать, ни обсуждать этот замечательный факт”.
В сложном, но плохо организованном механизме, каким является большая современная российская больница, таких случайных событий происходит ежедневно навалом. От того – выпил ли хирург утром чашку кофе или нет – нередко зависит жизнь больного, а как следствие – его родных, друзей, сослуживцев. Болит ли голова с похмелья, ударил ли молотком по пальцу, забивая гвоздь, не подвернул ли ногу, выпрыгивая из переполненного троллейбуса, удовлетворил ли накануне ночью пьяный и ленивый сожитель жаждущую любви операционную сестру… Бардак? Ну, да, бардак.
Вот поэтому в больницу Ник пришел сегодня пораньше. Кстати, на прошлой неделе он уже дважды побывал в этом, как казалось бы, закрытом отделении – опер. блоке.
“Предвидеть всего не возможно, придется действовать по обстоятельствам, но главное – место выбрано удачно”.
Могли, например, отключить воду и отменить операционный день. Могли объявить карантин и запретить посещения больных. Пустынный больничный коридор в силу непредсказуемого стечения обстоятельств мог вдруг превратиться в многочисленную шумную тусовку. Наконец, случайная встреча и заинтересованный взгляд… Тогда – он уйдет. Не подавая виду, что встревожен. С печальным выражением в умных усталых глазах. Человек с такими глазами – свой. Он все понимает и не только разумом, но и своим большим благодарным сердцем. Он всем сочувствует: докторам – у них такой благородный, бескорыстный труд, сестрам – таким молоденьким, но уже повидавшим на своем веку. Страждущим и страдающим. Всем! И он придумает новый план. И осуществит. Здесь или там, но обязательно воплотит его в жизнь. А точнее – в смерть. Потому что – это его работа! А минуты, когда он, потягивая хорошее вино, сопоставляет свои фантазии со своими возможностями – он не променяет ни на что. Это просто его работа.
С годами он научился получать удовольствие от легкой и стремительной импровизации, впрочем, в жестких рамках основного плана.
Несправедливо умирать молодым. Глупо умирать, если ты здоров, умен, уверен в себе, если карьера твоя на стремительном подъеме, любимая женщина рядом, а известность и богатство так близки, что ресницы уже опалены их всепоглощающим жаром. Нехорошо умирать летом, в теплый июньский полдень. Смешно умирать, стянув с себя мокрые от пота штаны и поправляя то, что находится в трусах. Иррационально. Но пуля, ломающая висок, неимоверной силой своего узко направленного удара не оставляет выбора.
11 июня, пятница.
Голова дернулась, словно человек получил резкий нокаутирующий удар в челюсть.
Ник стоял позади только что убитого им человека, до этого мгновения скрытый распахнутой дверкой бельевого шкафчика – шкаф и стена образовывали удобную, даже для крупного широкоплечего мужчины, нишу. Когда тот, кого он ждал, устало присел на низенькую скамеечку и стянул с себя легкие голубые брюки, заляпанные кровью, Ник сделал мягкий короткий шаг вперед, левой рукой чуть отвел дверцу, медленно поднял правую руку до пояса, плотно прижал длинный прохладный ствол пистолета к затылку и указательным пальцем, плавно, по инструкции, нажал на спусковой крючок.
Придерживая обмякшее, потяжелевшее тело за волосы, он вновь растворил дверцу шкафчика, в котором хранилось операционное белье, и осторожно, даже бережно, опустил туда труп.
Ноги, полусогнутые в коленях, остались снаружи.
“Ничего, пусть так и лежит. Никто не обратит внимания”.
Он был прав. Со стороны коридора, если не заглядывать в импровизированную раздевалку, где обычно переодевались хирурги до и после операций, создавалось впечатление, что усталый после многочасовой работы у операционного стола человек сидит, глубоко откинувшись назад, отдыхает.
Ник посмотрел в лицо убитого. – “Он? Да, это он”.
Фотография улыбающегося молодого человека в белом халате и высокой медицинской шапочке находилась во внутреннем кармане пиджака, висевшего в просторном гардеробе его новой квартиры – синоптики не ошиблись, прогнозируя жару, и сравнить было не с чем.
Глава II
– Костя, смотри в рану. Маша, зажим, побыстрее, – проворчал Павел.
Конечно, скучно! Ассистировать – скучно, и Павел это прекрасно понимал. Костя в свои тридцать с небольшим – уже опытный и, главное, хороший хирург. И операция для них обоих в общем-то рутинная, но… любая операция – это чужая жизнь, и невнимательность – недопустима.
– Извините, Павел Андреевич.
– То то же!
Они дружили, но субординация в больничном микромире, а в операционной – особенно, соблюдается строго. Да и повод для раздражения был – день начался неудачно.
– Какие деньги? О чем вы говорите.
– Больные жалуются. В вашем отделении требуют деньги за операцию. Прекратите!
Двое мужчин, одетых в белые халаты, стояли напротив друг друга на расстоянии двух шагов и зло бросали отрывистые короткие фразы.
Один из них, высокий, широкоплечий, но уже начинающий полнеть, выглядел лет на сорок.
– Я за свою жизнь… точнее, карьеру не читал ни единой на жалобы на себя. И такие разговорчики – кто-то, где-то, от кого-то – меня по большому счету не интересуют. Приводите сюда того, кто в лицо мне скажет, когда и за что я взял деньги. И сколько. Даже если и беру, так то у тех, кто хочет, чтобы оперировал я! И только я! Ни вы, ни Константин, а я. Не заставляю. Добровольно дают.
– Бросьте – добровольно! Никто добровольно с деньгами не расстается.
– Ошибаетесь! Впрочем, я догадываясь почему.
– Почему же?
Второму собеседнику определенно перевалило за пятьдесят пять. Он был грузен, среднего роста и, несмотря на белоснежный, накрахмаленный до пластмассовой плотности халат, казался неопрятным… то ли из-за нездорового цвета лица и плохо выбритого подбородка, то ли из-за бегающих, глубоко и близко посаженных глаз серого мышиного цвета.
– Ладно, иди, – сказал старший, не дождавшись ответа, и стало ясно, что и должность, занимаемая им в иерархической врачебной пирамиде, выше.
Павел повернулся и, не сказав больше ни слова, ушел.
“Да, день начался неудачно и, к сожалению, обещал быть долгим. Сегодня у него – суточное дежурство. Дай Бог, чтобы оно было спокойным. А сначала – предстоит оперировать. И завтра, после дежурства, опять. Надо собраться, не хорошо приходить на рапорт взвинченным”, – думал Павел, поднимаясь со второго этажа на седьмой.
Разговор с главным врачом региональной онкологической больницы города Волгогорска, где Павел Андреевич Родионов уже десять лет работал заведующим хирургическим отделением, происходил утром, до девяти.
После рапорта – Павел провел его по-деловому, уложившись в восемь-девять минут – он предложил Константину зайти к нему в кабинет. Следует кое-что обсудить, пояснил Павел.
– Рассказывай, что случилось? Был у главного? Снаряды свистят?
Костя говорил с легкой насмешкой, расслабленно развалившись в кресле. Узкий, но правильный европейский разрез глаз, создавал впечатление слегка прищуренного, внимательного и острого взгляда. Мягкий овал лица треугольной формы, хорошо очерченные губы, небольшой, но упрямый подбородок, гладкая смуглая кожа. Казалось, он умен и уверен в себе. Да так и было. Лишь один недостаток будил в нем самом мелкий комплекс неполноценности. Он седел и быстро лысел. Понимая, что это в сущности ерунда и что неотвратимое – не изменить, признание этого факта вызывало внутреннее раздражение.
– Свистят, – задумчиво ответил Павел.
Они уже успели выпить граммов по семьдесят коньяку, и теперь Павел сосредоточенно разливал по чашкам кипяток, предварительно сыпанув в них по полной ложке растворимого Нескафе.
– Свистят еще как, – повторил он и невесело усмехнулся. – Я не понимаю… Приходят люди – суют деньги. Нет бы – ящик коньяку или шампанского. Нет! Норовят вручить деньги и умоляют – спасите! Только на вас и рассчитываем! А я и так спасу! Я лишь хочу, чтобы мне чуть-чуть помогли. Лечиться на общих основаниях? У Бабенко, у Гиреева, у остальных – им подобных? Да ради Бога! Но кому от этого лучше? Давай будем отказывать больным. Но я знаю, как лечить. И могу вылечить! А больной в состоянии оплатить хорошие качественные медикаменты – хорошие антибиотики, те, что не по шесть раз в сутки всаживают в задницу, а всего лишь один раз в неделю, и хороший шовный материал, и, наконец, мои знания и умение, кои я буду использовать в его интересах. И что тут такого? Дополнительные средства создают новые возможности, а те, в свою очередь, и дополнительные условия, что требуют для их реализации дополнительного труда. И что тут не правильно? Но нельзя! Не положено! Нет механизма!
– И не будет.
– Вот потому и страшно. Я сам немного боюсь. А вдруг больной, когда станет здоровым, пожалеет о потраченных им – заметь, по его собственному желанию, ради его же драгоценного здоровья – средствах? Чаще всего пустячных. Не он – так родственники, близкие, друзья. И полетят в инстанции, словно птички из гнезда, жалобы, претензии. Кто во всем всегда виноват? Правильно, лечащий врач! Врач, Костя, абсолютно не защищен. Работать – страшно.
– Паша, не кипятись, – сделав глоток, успокаивающе произнес Костя.
– А я – кипячусь.
Павел с раздражением поставил пустую чашку на стол. Она опрокинулась и капельки кофе, полетев вперед, забрызгали халат сидящего напротив Константина.
– Нет, кипятишься, нервничаешь. Брось! Давай еще по пятьдесят грамм. Минут двадцать у нас в запасе есть.
– Давай! Налей! – охотно согласился Павел.
Они снова выпили.
– Успокоился? А то нам мыться пора, – прервал молчание Константин.
– Надоело всё. Всё надоело до чертиков!
Зазвонил телефон. Никто не поднял трубку. Звонили из операционной. Пусть там думают, что они уже в пути, рассудили хирурги.
– По последней? Чтобы нервы успокоить? По половинке.
– Хорошо, – Костя кивнул, и снова поднялся, беря бутылку, что он отставил на холодильник, и аккуратно, не потеряв ни капельки, разлил густую ароматную жидкость в небольшие хрустальные стопки.
Мужчины чокнулись и залпом выпили.
– А знаешь, кого я сейчас оперирую?
– Нет, не знаю, но догадываюсь, что берешь меня в ассистенты, потому что я тебе приятней, чем Бабенко и иже с ним. Правильно?
– В общем, да. Оперирую я жену банкира Куваева. Знаешь банк “ДАР”? И оперирую, к сожалению, бесплатно. Сам прекрасно понимаешь, такие люди – не платят. Владелец киосочка, что приторговывает паленой водочкой, да чтобы сам был из армян или калмыков – вот наш самый благодарный контингент, вот кто правильно ориентирован. А жена банкира? Предвижу только неприятности.
– Ты прав, неприятности, одни неприятности, – вздохнул Костя.
И в этот момент выражение его счастливых глаз, наполненных веселым огнем, здоровой алчностью и до половины коньяком, абсолютно не соотносилось с произнесенными им словами.
Павел легким и быстрым движением рассек кожу по ходу предварительно прочерченной линии. Через секунду, вдоль края рассеченной кожи, появились, словно зернышки рубина, капельки алой крови. Они засверкали в свете бестеневой лампы, вдруг набухли и вот уже – взорвались крошечными фонтанчиками, заструились множеством тонюсеньких ручейков по ярко-желтой жировой ткани, окрашивая операционное поле в красное. В этот же момент ассистент марлевой салфеткой просушил рану.
– Спасибо, Костя. Теперь, давай-ка, я, – поблагодарил его Павел.
Он уже подключил электрод, выполненный в виде иглы, и точно направленными короткими ударами в кровоточащую зону принялся останавливать кровотечение, добиваясь как бы “заваривания” просветов сосудов под действием электрического тока. Процедура выполнялась последовательно, от одного края раны к другому. На месте крошечных, фонтанирующих алым, гейзеров, стали появляться черные кратеры ожогов.
Теперь рана полностью окаймляла грудь.
Двумя цапками ассистент подхватил кожу по ее наружному краю и приподнял вверх. Ткани натянулись, четко обозначая границы самой железы.
Павел аккуратно ввел скальпель поглубже. Несколько плавных и в то же время уверенных движений ножом вокруг ткани молочной железы – и она отделена от кожи и жировой клетчатки. Она пока еще оставалась фиксированной к грудной стенке своей нижней поверхностью, но этот этап, знал Павел, совсем простой1.
Павел работал все быстрее и быстрее.
И вот – через несколько секунд молочная железа, прикрытая большой марлевой салфеткой, была отброшена в сторону. С нее понемногу стекала кровь, темная, венозная, со скользкими желеобразными сгустками.
– Наташа, где наша Наташа? – не отрывая взгляда от раны, обратился Павел ко всем присутствующим сразу.
– Я здесь.
Молоденькая девочка-санитарочка выглянула из-за спины.
– Умничка. Протри мне лоб, пожалуйста.
Крупные капли пота скопились у него на лбу, на висках, под глазами и готовы теплыми солеными ручьями ринуться вниз, затуманить очки мутными лужами или, и того хуже, капнуть предательски с носа прямиком в рану, доведя до конфуза.
Наташа ловко поймала опущенную ей в ладонь стерильную салфетку и осторожно, стараясь не задеть халат хирурга, просушила Павлу лоб и виски.
Павел поблагодарил ее, лишь слегка опустив веки. Сейчас ему предстояло выполнить наиболее ответственный момент всей операции.
– Костя, помогай!
– Есть, Павландрейч!
Костя завел за края большой и малой грудных мышц широкий крючок и отвел их в свою сторону, создавая доступ в подключичное пространство, а Павел, рассекая невидимые лимфатические сосуды и стараясь не травмировать лимфатические узлы, возможные носители раковых, рассекая и перевязывая мелкие артериальные и венозные сосуды, начал выделять подключичную вену.
Он работал скрупулезно и тщательно.
– Зажим. Зажим! Этот, черт возьми, не держит. Маша, выброси его! Сразу же! Не клади на стол!
Клетчатка, словно муфта, укрывала этот довольно крупный сосуд2.
– Еще зажим. Хорошо. Вязать. Да, на зажиме. А как же еще! Да подлиннее нити, пожалуйста. Видишь, где мы работаем? Глубоко. Костя, осторожно. Вена! А вот это – артерия. Сосудик тоненький. Замри. Я – перевяжу. Да отведи же ты мышцу, Костя.
В этих командах, раздающихся в гулкой тишине операционной, где и мерный, ровный стрекот наркозного аппарата – не звук, слышалось нечто не обычное, некая вибрирующая нота – такая, что не доведется услышать в коридоре, в ресторанном зале и даже в спальне. В резких, отрывистых, порою сердитых словах отчетливо слышалось напряжение опасности – напряжение, что появляется на поле боя, когда враг – пред тобою и уже готов к прыжку.
Наконец, Павел, выделил вену, и удаляемый препарат с громким чмоканьем упал в специально подставленный таз.
Наученные горьким опытом анестезиолог и сестра-анестезистка вовремя отпрянули, и брызги крови из разрушенной ткани, превращенной в дисперсию, “не достали” их.
Наташа, ожидавшая этого момента, тут же унесла удаленный орган.
Операционную рану удалось закрыть, стянув над ней кожу3.
Хирурги вернулись в кабинет. Предстояло записать операцию. И выпить кофе. И перекурить. Они почти не разговаривали. Каждый думал о своем.
“Оперирующий хирург – тот человек, кто отвечает за жизнь пациента, за те решения, которые принимает, иногда – в очень сжатый промежуток времени. От способности хирурга мыслить ясно и быстро, от его умения верно оценить степень риска зависит жизнь больного. И груз переживаний – велик. И всполохи внутреннего огня, озаряющие истину, доступную в такие секунды только одному мозгу из сотен и тысяч, одним рукам, обжигают сердце, оставляя на нем раны и рубцы, – думал Павел. – Потому у хирургов – особый менталитет”.
“Ты, пожалуйста, осторожнее. Я вижу какой ты сегодня взвинченный. Чтобы ты ни делал, как бы и, кстати, кого бы ты ни оперировал – тебя предадут. Это дуракам, Паша, нечего бояться, а ты разобьешься когда-нибудь вдрызг вместе со своим стремлением спасти мир и вылечить всех страждущих. Помни, Паша, никому, н-и-к-о-м-у не нужны твои руки, твои мозги. Не дерись, Паша, не надо, не порти с ними отношений. Ведь никто тебе не поможет. Друзья? Кто они? Трое школьных друзей? Среди них нет, насколько мне известно, ни власть имущих, ни «новых» русских. Коллеги, «соратники», единомышленники, ученики – спят и видят тебя за бортом. Бывшие пациенты, влиятельные люди? Смешно! Большинство и не понимают, что ты сделал для них, а те, кто понимают – подозревают, что ты уже сделал для них все! Все, что мог! Зачем ты им теперь? Для пациентов ты, Паша, гонец. Знаешь, на востоке казнили того, кто доставлял падишаху плохую весть. Ты – этот гонец, ты! Они обвинят в своих несчастьях тебя. Я прошу, будь осторожен”, – внимательно поглядывая на друга и словно читая его мысли, молча, про себя, бубнил Костя.
Они допили кофе и поболтали о постороннем. Рабочий день – только начинался.
В просторном холле между этажами, как всегда, толпились посетители и вышедшие к ним на встречу пациенты. Несмотря на удрученный вид тех и других – было довольно шумно. Пожалуй, необычно шумно.
В очередной раз поднимаясь в операционную, где к работе уже приступила вторая бригада, и “пробегая” мимо, он невольно обратил внимание… На что? Он сам еще толком не понял. Он остановился и внимательно осмотрел пространство “проходного” помещения и сразу же выделил “главный элемент”.
Группа мужчин, человек семь-восемь, стояла в дальнем углу, напротив служебного лифта, развернувшись к остальной массе спинами, образуя круг или полукруг, в центре которого, по-видимому, находился кто-то из больных отделения. Именно они и являлись источником гула. Они разговаривали громко, все сразу, на нерусском и, вдобавок, энергично жестикулировали. Как один они были смуглы, небриты, небрежно одеты в грязное – и потому похожи. Трое или четверо непрерывно и смачно жевали, что, впрочем, не мешало им активно участвовать в беседе наравне с остальными.
Чеченцы, догадался Павел.
Один из них, самый высокий и, наверное, самый молодой, стоявший у стены лицом к входу и поверх голов своих товарищей наблюдавший за тем, что происходило вокруг, заметил Павла и что-то коротко сказал. Все, как по команде, повернулись, расступились и подобострастно закивали в его сторону. В центре разорванного круга Павел увидел того, кого и ожидал, о ком подумал.
На каталке сидел Руслан. Он, в отличие от своих сородичей, был чисто выбрит, а его густые черные волосы были промыты и, открывая высокий красивый лоб, аккуратно зачесаны назад. И одет он был не в больничную пижаму или халат, а в дорогой спортивный костюм черного цвета с эмблемой фирмы “Адидас”. Вот только… правая штанина его брюк была скатана в тугой рулон и подколота к поясу двумя большими булавками, некстати бросающимися в глаза.
Он грустно улыбнулся и помахал Павлу рукой.
Перекрикивать толпу не имело смысла и Павел в ответ только кивнул.
Зайду к нему позже, во время вечернего обхода, подумал он и заспешил в операционную.
С момента операции, когда тридцатилетнему Руслану Исмаилову была выполнена экзартикуляция правого бедра – вычленение бедра из тазобедренного сустава, прошло две недели. Он выздоравливал. И крутящиеся вокруг него родственники и друзья, которые менялись, но всегда, в любое время суток, присутствовали в постоянном количестве, а именно – от семи до десяти половозрелых мужчин, “не считая, как водится, женщин и детей”4, здорово раздражали, мешая нормальной работе отделения.
Через пятнадцать минут, когда Павел возвращался из опер. блока, ситуация не изменилась. Только искреннее сочувствие и жалость к Руслану, который мужественно переносил выпавшие на его долю страдания, заставляли Павла терпеть и мириться с присутствием его соплеменников. А, впрочем, знал он, пытаться их выгнать – бесполезно!
“Почти двенадцать. Пора перевязать послеоперационных больных. Потом, может быть, успею заняться историями?”
Больных было много, человек пятнадцать или около того. Они толпились перед перевязочной, вяло переговариваясь между собой. Три сердобольные бабушки “старой закалки”, чувствовавшие себя неплохо после несложных вмешательств, пропускали вперед остальных, радостно осознавая факт своего относительного благополучия. Больные после полостных операций, а именно – трое мужчин, перенесших удаление почки приблизительно в одно и то же время, с интервалом в один-два дня, стояли, опираясь одной рукой о стену, прижав вторую – к животу, к ране. Даже глубокий вздох вызывал у них болевой импульс и поэтому – они предпочитали молчать. Но идентичная поза у троих, выстроившихся в затылок, и даже каких-то одинаковых по фигуре пожилых мужчин – вызывала невольную улыбку у выглядывающих из палат. Конечно, грустную.
Снова крепкий кофе, и не чашка, а большой бокал! Павел захватил его в перевязочную и успевал глотать горячий горький напиток, пока больные, войдя в перевязочную, медленно, преодолевая боль в области послеоперационных ран, раздевались и морщась, подрагивая от напряжения ослабевших мышц, ложились на кушетку.
Павел внимательно осматривал рану, осторожно притрагиваясь своими натренированными чувствительными пальцами к тканям, определяя на ощупь их состояние – температуру, степень отека, не скопилась ли под рассеченной кожей жидкость. Иногда он брал в руки инструмент, напоминающий ножницы – хирургический зажим – и с его помощью “проходил” вглубь тела пациента, по миллиметрам раздвигая не полностью сросшиеся кожу, подкожную клетчатку, мышцы.
Большинство больных терпеливо переносили малоприятную процедуру, доверяя себя опытным рукам.
13.00. Ему пора бежать в поликлиническое отделение, вспомнил Павел.
Ежедневные консультации больных, уже прошедших короткий курс амбулаторного обследования, являлись неотъемлемой и важной обязанностью заведующего отделения.
Для того, чтобы за несколько минут определить показания к госпитализации, к операции, уточнить или отвергнуть диагноз, разобраться в неясном случае – требуется умение думать и опыт, и интуиция, и способность принимать решения. Все эти составляющие врачебного таланта – даны не всем, да и в не равных пропорциях. Мыслительный процесс, требующий профессиональных знаний, логического обоснования и специальных заключений, все равно не является равномерным потоком, наподобие течения спокойной реки, закованной в бетонные берега. Но он и не бурная горная стремнина, несущаяся в одном направлении, смывающая препятствия, уносящая за собой мусор и обломки. Это, скорее, ураган, с множеством турбулентных завихрений и маленьких смерчей, способный всасывать, вбирать в себя дополнительные корпускулы информации, ассоциативные умозаключения и эмпирически найденные выводы, приподнимать и выносить на поверхность, давно похороненные в недрах подсознательного – впечатления, события, воспоминания.
Вообще-то, когда хирургу предстоит принять решение, непростое и неоднозначное, приходится учитывать множество мало совместимых друг с другом аспектов, как медицинского, так и парамедицинского характера. И отнюдь не каждый на это способен. Часть людей, в том числе и врачей-хирургов, не готовы к этому в силу своих личностных качеств, порой заложенных уже в генотипе. Немногие, имея достаточный уровень самопознания, с горечью осознают этот факт. Или с удовольствием. Среди таких часто встречаются интеллигенты в третьем, четвертом поколении – чудаки, непонятно как, но еще сохранившиеся среди людей. Другая часть, составляющая подавляющее большинство, процентов эдак девяносто восемь, не понимают этого вовсе опять-таки в силу своей врожденной ограниченности. Достаточно часто среди них встречаются хирурги хорошо подготовленные технически, умеющие выполнять серьезные, сложные оперативные вмешательства, хорошо ассистирующие, то есть помогающие основному оператору, успешно ведущие лечебный процесс, но… всегда под безусловным руководством лидера! Например, заведующего кафедрой, заведующего отделением. Но и в таких условиях – сложность, объем и риск всего того, на что они способны, никогда не превышают среднего уровня, характерного для лечебного учреждения, их “приютившего”. И это имеет отношение к любому лечебному учреждению, начиная от центральной районной больницы и кончая головными научно-исследовательскими институтами. А чтобы “прыгнуть выше потолка”, нужно обладать определенными качествами – во-первых, а, во-вторых, необходимо создать, а иногда и спровоцировать условия, позволяющие продемонстрировать то, к чему готов, к чему стремишься, на что способен. Второе – самое трудное! Уходят годы на преодоление незримого сопротивления серых и глупых, но вынесенных непредсказуемым течением жизни на поверхность и находящихся в данный конкретный момент чуть ближе к вершине скользкого иерархического айсберга касты врачей. Удача – необходима! Удача – профессионализм – удача. Шлагбаум, чуть приподнятый, позволяющий протиснуться к ранее недоступному, сорвется да и голову размозжит попутно, если впереди, в тумане, не забрезжит огонек успеха, пусть малюсенького, неровно подрагивающего на ветру, как тоненькая церковная свечка.
Итак, прежде всего, несколько принципиальных вопросов – есть ли показания к операции, есть ли технические возможности ее выполнить, перенесет ли ее больной. И простота здесь ложная. Каждый пункт и сложен, и неоднозначен. И основанием для принятия решения должны служить опыт, технические возможности и неотъемлемая часть того же опыта – интуиция. И это – медицинский компонент проблемы. Но случается так, что медицинская составляющая – не самая трудная часть вопроса.
После четырех – наступила короткая передышка!
Для ежедневного вечернего обхода – рановато, а дневная работа вроде бы завершена… Нет, неверно! Не существует такого понятия, если человек болеет, мучается, страдает, если где-то за пределами больницы, в своих квартирах и офисах, в заводских цехах, в институтских аудиториях, за стойками пивных, на городских улицах и в общественном транспорте живут их близкие – мужья и жены, дети, родители, друзья, которые беспокоятся, волнуются, молятся… и без разницы – верят они или нет.
Павел сидел у себя в кабинете, расслабленно откинувшись в удобном кресле, давно прогнувшимся под его фигурой. Поигрывая дорогой позолоченной ручкой, еще одним подарком благодарного больного, он смотрел в распахнутое окно и его зрачки, казались, застывшими – прикованные к одной точке, одной-единственной неподвижной детали. Он размышлял, отстранясь от внешнего, копаясь в чем-то внутреннем, личном.
Впрочем, такое состояние было для него нехарактерно. Павел предпочитал считать себя человеком действия. И, при необходимости, умел создать представление о себе, как об уверенном и удачливом мужчине. Каждое утро, рассматривая себя в зеркало, он с удивлением взирал на седые виски и абсолютно не чувствовал себя старым. Так же как в двадцать, он мечтал, верил в перемены, влюблялся.
Он много работал – по четырнадцать-пятнадцать часов в сутки. Кроме работы его интересовали семья, жена и дети, и красивые интеллектуальные любовницы. Других увлечений у него не было.
Когда-то, в школьные и студенческие годы, он активно занимался спортом – дзюдо, а затем – модным ту пору каратэ. Но сейчас, вспоминая об этом с легкой иронией, желания к физическим упражнениям не испытывал. И даже приобретение машины, а потом второй – не подвинули его во вступление в неофициальный, но популярный во всем мире клан автолюбителей. Автомобиль оставался для него лишь средством передвижения – бездушной железякой.
Со своей женой, Валентиной, он познакомился пятнадцать лет назад. Через неделю влюбился. Через шесть месяцев они поженились.
Брюнетка среднего роста с узким строгим лицом и неправдоподобно тонкой талией. Она потрясла его своим природным аристократизмом, недоверчивостью юной девственницы и нежными, кошачьими повадками.
До сих пор он отлично помнил, как она ему первый раз сказала “благодарю за приятный вечер”. Мягко, чуть растягивая слова. И легонько дотронулась до его запястья. В ее жестах, в манере говорить, в каждом движении тела от подрагивания хрупкого мизинчика до неуловимого взмаха ресниц таилось столько невысказанного и таинственного, столько зрелой женственности и веселой иронии, что Павел буквально сошел с ума.
Впервые они встретились, как часто бывает, у каких-то общих знакомых. И по большому счету тот вечер не был ни приятным, ни интересным. Скучные посиделки малознакомых людей, сопровождаемые принятием неразумных доз различного рода алкоголя, от шампанского до самогона, по вкусу. Строго говоря, и вечер не наступил. Часов в семь она засобиралась домой, а Павел, воспользовавшись удобным предлогом для того, чтобы покинуть надоевшее «общество», вызвался ее подвезти. В машине они молчали, но в момент расставания, когда он, наконец-то, взглянул на свою спутницу, молния прожгла ему и мозг, и сердце. Он так и остался сидеть за рулем, повернувшись в полуоборот, вытянув в окно шею и застывшим взглядом провожая ее, уплывающую, растворяющуюся в легком вечернем тумане.
Павел был старше на восемь лет. Разница казалась пустяковой.
Прошло много лет. Старшему сыну вот-вот исполнится четырнадцать, трудный возраст для подростка, требующий внимания отца. Дочка, восьмилетняя стройная блондинка, уже успела превратиться в восхитительную юную женщину.
С течением времени на чувства легла тень привычки. Фантазия
и безрассудство влюбленности уступили место прагматизму и комфорту спокойной любви. Любви по-домашнему.
И, пожалуй, еще только книги, помимо семьи, работы и коротких связей, сохранили свою роль в его расписанной по минутам жизни.
Он жил в таком режиме последние пять-шесть лет. Привык делать все на бегу, превращая такое состояние в норму. В больнице – носился с этажа на этаж. Консультировал, осматривал, перевязывал. Не приседая, низко склонившись над столом, быстрым неровным почерком оставлял свою запись в разлохмаченной, измочаленной амбулаторной карточке, и мчался дальше. Его быстрые уверенные шаги, узнаваемые из-за характерного пошаркивания, раздавались то тут, то там. И только в операционной, у стола, ссутулив плечи и пригнув голову под громоздкой бестеневой лампой, угрожающе нависшей над хирургом на ослабленных от времени кронштейнах, он сосредоточенно замирал, разминая пальцы, переминаясь с ноги на ногу, будто ему не терпелось.
Глава III
1 июня, понедельник, 19.00.
На стене клейкой лентой был приклеен большой плакат, изображающий полуобнаженную девицу, а вокруг него – несколько глянцевых снимков поменьше, выдранных из журналов. На одном фото негритянка с большими затуманенными глазами дразнила зрителей грудью силиконового размера с огромными темными сосками и полосой курчавых лобковых волос, отчетливо виднеющихся из-под ажурной веревочки белоснежных шелковых трусов, сдвинутых указательным пальчиком в сторону. А с большого плаката улыбалась платиновая блондинка в джинсовых разлохмаченных трусах, которые она пыталась приспустить.
Должно быть, такое “нижнее белье” изрядно трет, и почему в помещении, где “живут” женщины, по стенам развешана именно женская натура? Резоннее было бы увидеть здесь фотографии культуристов или популярных киноидолов, подумал Павел.
Эта мысль проносилась у него в голове всякий раз, когда он заглядывал к сестрам. Он дал себе слово, что как-нибудь задаст этот вопрос, но пока любопытство не перехлестывало через грань и не преодолевало ленивой неохоты говорить.
– Добрый вечер, Павел Андреевич, – молоденькая сестра оторвалась от мексиканского сериала, затушила сигарету и поднялась со стула. – На обход?
– Да, Катя, – он с трудом вспомнил ее имя, наполовину угадав. “Ночная” сестра, хотя и работала в его отделении, попадалась ему на глаза редко.
В глубине комнаты, называемой “сестринской” – там сестры переодевались и отдыхали, сидели, развалившись на старой потертой кушетке, еще две девушки. Они остались сидеть на месте. Они были старше Кати и проработали в больнице уже лет по пятнадцать-семнадцать. За это время обе успели переспать с тремя поколениями хирургов и, имея такой опыт, относились к медицинской субординации с долей иронии – когда поблизости не было пациентов, обращались к большинству хирургов на “ты”. Они любили ругаться матом, много есть и пить разбавленный спирт. Свои непосредственные обязанности эти сестры выполняли с откровенной ленцой, но в экстренных случаях, требующих самообладания и расторопности, на них можно было рассчитывать. Обе жевали пирожки и через набитый рот пробурчали что-то вроде приветствия: – А-аа, Паша. Павлу даже показалось, что одна из них в этот момент мастурбировала. Кисть руки подозрительно быстро выскользнула из-под полы халата и, не успокоившись, легла поверх, продолжая теребить пуговицу и поглаживать низ живота. Впрочем, на её невыразительном лице не дрогнул ни один мускул.
Павел не обиделся. Много лет назад и он, кажется, переспал с одной из них. Впрочем, уверен он не был. Забыл. В настоящее время ни он их, ни они его – не интересовали.
– Пошли, Катя, – кивнул он молоденькой девочке и та, одернув халат и многозначительно моргнув в сторону своих подруг, будто подтверждая: “Вот видите, я же говорила…” – побежала за Павлом.
А он уже вышел из сестринской и спешил в конец коридора, чтобы с первой палаты, по порядку, зайти в каждую и, хотя бы мельком, осмотреть всех.
Обход! В те времена, когда он начинал, на ежевечерний обход по трем хирургическим отделениям он тратил в среднем три часа. На каждое отделение по часу. Отделение рассчитано на шестьдесят больных. По минуте на человека. Кажется не много. Если все в порядке! Если дополнительные назначения не требуют размышлений, если – очевидны и обычны: обезболивающие, гипотензивные, мочегонные средства, иногда – клизма, контроль артериального давления. Одним словом, если – без особенностей5.
“Жалобы есть? Нет. И не надо. А у вас? Нет. Хорошо. Ах, у вас что-то не так? Да ну что вы! Все у вас хорошо!”
Таким образом, вечерний обход довольно часто превращался в формальность. Иногда – не выполнялся вовсе. Нередко – проходил в виде осмотра только нескольких наиболее тяжелых не “стабильных” больных. А в тех случаях, когда дежурившая сестра того стоила, плавно переходил в бессонное ночное бдение все на той же расшатанной кушетке, на которой сейчас восседали две опытные, но стареющие сестры – с большими грудями, широкими задами и сформированной надлобковой складкой, напоминавшей о несоблюденной диете.
Павлу оставалось обойти последнее отделение, свое. Он уже пробежался по торакальному и абдоминальному. Там лечились больные со злокачественными заболеваниями грудной и брюшной полости, соответственно. Он был далек от лечения подобной патологии и основной целью обхода было – исключить «экстренные» случаи. Это могло быть, что угодно. От необходимости срочной операции и перевода больного в реанимацию – до драки с пьяным больным или пробравшимся в здание больницы наркоманом.
К счастью, пока дежурство протекало спокойно, везде порядок, неприлично пьяных не было ни среди больных, ни среди персонала, больных, чье состояние заметно бы ухудшилось за время дежурства – тоже не было.
У “себя” – он обычно не спешил. Он подолгу задерживался в каждой палате – приседал на край кровати для того, чтобы пощупать ткани, поближе вглядеться в рану, “помять” живот, сосчитать пульс, выслушать. И пациенты, распознав в нем заведующего и чувствуя, что он расположен к беседе, охотно высказывались, порою не стесняясь в выражениях. А он легко разделял пустые причитания страдающих людей и недопустимые оплошности со стороны медиков – врачей, сестер, санитарок. Вырвавшаяся фраза, двояко трактуемая. Поверхностный или равнодушный осмотр, грубость, нетерпеливость, забывчивость. Павел знал, что последнее есть результат той нагрузки, физической и психологической, которую испытывают хирурги, но все же… Значит предстоит разговор с проштрафившимся доктором. Да, он умел поставить на место и своего коллегу и пациента, когда тот, пользуясь «законными» привилегиями больного, досаждал мелочными глупыми придирками, нервирующими и раздражающими Павла, да и остальных сотрудников, трудно и самоотверженно работающих.
И так – обход. Первая палата.
“Вхожу в палату. Пациенты – женщины немолодые, ближе к шестидесяти. Все – больны раком молочной железы, и все – прооперированы. Хорошо! Синдром ожидания уже позади, а потеря груди в их возрасте воспринимается уже не так остро. Настроение в палате неплохое. Вопросов они мне не задают. Исчерпаны вопросы. И я не задерживаюсь. …Конечно, я готов к любому разговору. И за двадцать лет работы онкологом приходилось слышать всякое, да и самому говорить разное – сам себе теперь удивляюсь, как красиво и убедительно я умею лгать. Знаю, ложь во благо, ложь во спасение… И тому подобное. Ерунда! Ложь – есть ложь! И она – наша врачебная, родная – маленькая частица большой лжи нашей жизни, как государственной политики, как пережитка коммунистического мировоззрения. Да и звучит порою глупо. А мне неприятно изрекать глупости. Перед самим собой – неприятно и стыдно, но что делать! А чтобы зернышки лжи, “рассаженные” по головам, умам, рассудкам, взошли верой, необходимо – эти самые зерна завернуть в правду!
Следующая палата смотрится похуже. Само помещение пообносилось посильнее. Облупленные тумбочки, на полу – рваный линолеум, и черный цемент зияет сквозь прореху, словно раскрытая рана. В углу, там, где расположен умывальник, на стене неприятные подтеки, напоминающие нам о стенах общественного сортира. И настроение – похуже.
Молодая, чуть за тридцать, пациентка бросается вперед и почти падает мне на грудь.
– Ой!
– Ничего!
Я помню ее с поликлинического приема – с того дня, когда впервые осматривал её и беседовал с нею. Она и тогда вела себя неадекватно – чересчур бурно, возбужденно и, показалась мне, слишком экзальтировано, на грани истерии. Что ж, первое впечатление было верным. А с другой стороны, что значит вести себя адекватно? У нее все та же болезнь – рак молочной железы. Ей предстоит операция, а затем – много курсов полихимиотерапевтического лечения. Она ждет. Операция “плановая”. Ей приходится ждать. И думать, думать, думать. Адекватно, говоришь? Здоровому человеку, не пережившему нечто подобное, очень трудно представить, что за мысли «порождает» в этот период людское сознание, какие сны снятся. И, конечно, она задает традиционный вопрос: – Доктор, скажите, у меня – рак?
Сказать? В самом деле, сказать? Чтобы отстала и не надоедала? Чтобы не говорила глупости? Чтобы слушала и запоминала? Чтобы боролась, чтобы хотела, в конце концов? Ведь без ее желания – ничего не получится! Сказать все это? Нет. В другой раз, думаю я про себя: – Нет, у вас – не рак, я же объяснил.
Ложь прозвучала! И прозвучала как надо! Громко! Озорно и весело! Убедительно! Ободряюще, обнадеживающе в трудную минуту и, безусловно, изысканно-глупо. В таком исполнении она меньше похожа на саму себя.
Предвидя следующие вопросы, логично вытекающие из начала диалога, я действую на опережение: – У вас не рак, но опухоль! Предраковая, ясно? И если вас не лечить – возможно перерождение! Вот поэтому – мы предлагаем вам помощь. Лечение!
Необходимо обосновывать показания к операции, калечащей молодую симпатичную женщину. И убедить в этом нормальную женщину – непросто. Вообще, убедить кого-либо в том, что два противоречащих суждения – и оба верны, сложно, но я пытаюсь это сделать и продолжаю свой монолог, заученный, набивший мне оскомину: – Вы знаете, существует множество болезней, которые требуют удаления органа. Да, именно так… – добавляю я, будто задумавшись. – Множество! Они известны всем. И Вам! – в этом месте следует мягко доверительно улыбнуться, подчеркнув ее несомненную эрудицию, что я и исполняю. – Например, аппендицит!
Неожиданно, я знаю. Отлично. Я вижу, как она удивилась.
– И ведь никто не переживает по поводу удаленного аппендикса! Кстати, женщины, у кого у нас вырезали аппендицит?
Я специально так сформулировал вопрос. По бытовому. Мне кажется, им так ближе. И две пациентки из четверых, прислушивающихся к нашему разговору, неуверенно кивают: – У меня. И у меня.
– Вот видите! – я опять обращаюсь к своей собеседнице, – …живы, здоровы и не вспоминают.
Здоровы? Нет. Я немного перегнул. Впрочем, они не обратили внимания на некорректную фразу. И я продолжаю. – Далее, язва желудка. Распространенная болезнь. И тоже, как вам кажется, ничего особенного. Никто не падает в истерике на пол, не бьется головой о стену с застывшим на губах вопросом: «Скажите, доктор, правду, у меня язва желудка? Ах, я не переживу!» Вот видите, вы улыбаетесь. А между тем, ситуация у больных, страдающих подобной патологией, посложнее, чем у вас. Язвенная болезнь желудка требует гораздо более сложного оперативного вмешательства, чем, извините, предполагается выполнить вам. И со значительным риском. Статистика подобных вмешательств свидетельствует об определенном проценте летальных случаев, то есть – смертей! Последствия удаления желудка, при условии, что все обошлось и больной выписался, существенны и неприятны, и просто вредны для человеческого организма. Вот так! А вы думаете, я больна, я несчастна, я умираю. Да вы здоровы! Через две недели, кроме незначительного косметического дефекта, который, кстати, несложно исправить, других болезней у вас не останется! Это – как некрасивый нос. Нет, некрасивый нос – похуже!
Она даже порозовела. Но я понимаю, это – не надолго. Все, что я только что высказал, выплеснул на нее, ошарашив напором светлой радуги, я повторил для неё уже в третий или четвертый раз.
Обход грозит затянуться. Я в темпе проскакиваю две палаты. В женской, на беглый взгляд, все благополучно, а в мужской лежат «мочевики», больные раком мочевого пузыря. Болезнь – неприятная. Нет в ней благородного ореола и всемирноизвестных фамилий, как у чахотки, нет фривольного веселья и сладкого знания «за что», да и легкого избавления, как у сифилиса. Паршивая болезнь. У троих, а в палате их всего пятеро, в мочевых пузырях стоят резиновые трубки, проведенные через ткани передней брюшной стенки. По этим трубкам моча постоянно поступает наружу, наполняя воздух характерным запахом азотистых соединений. Наружный конец трубки опущен в мочеприемник. В идеале – в герметично закрытую емкость, удобно приспособленную для ношения под одеждой и опорожнения и даже измерения количества выделенной мочи. В реальной российской – в пластиковую бутыль с прорезанной пробкой, болтающаяся на промокшем мочой куске бинта. Вдобавок, эта конструкция периодически опрокидывается и обдает изрядной порцией едко пахнувшей жидкости не только самого больного, но и подошедшего к нему в этот момент доктора. Как водится. Вести таких больных я не люблю, оперирую – по необходимости. В моем отделении это удел младших, провинившихся, “нелюбимых” ординаторов.
Я заглянул в палату, пожелал всем доброй ночи и сделал вид, что тороплюсь.
Я так вошел в роль спешащего, что буквально ворвался к следующему больному. Маленькая одноместная палата. В ней лежит Руслан. И опять – толпится «народ». Ничего не слышно, кроме Катиного сопения у меня за спиной. Войти-то я вошел, а пройти вперед – некуда. Катя протиснулась вслед, прикрыла за собой дверь и теперь тесно припала ко мне всей передней поверхностью своего стройного тела. Трется своей маленькой грудью о спину, а плоским животом – о мой зад, а лобком – о бедро, я же выше, и часто-часто дышит под ухо. Халат и тонкие хлопчатобумажные брюки, что на мне, не слишком строгий барьер и, мне кажется, я чувствую температуру ее тела. Но на самом деле – приятно, и я стою, как столб, ни шагу вперед. Жду. Кавказцы ругаются. Это я понимаю. Глаза у Руслана горят. Он то вскакивает с воинственным видом на единственную ногу, то падает всей тяжестью на кровать и ржавые растянутые пружины скрипят и скрежещут.
– Руслан, я к тебе”.
Глава IV
Май.
Случалось, что рутинный будничный конвейер оперативной деятельности давал неожиданный сбой. Четко очерченная ситуация, предсказуемый исход и вдруг – наслоения друг на друга множества, казалось бы незначительных деталей, превращали стратегическую прямую ведения больного в запутанный лабиринт, с неопределенным или пока не найденным выходом. И от верного решения в самом начале пути, зачастую зависит жизнь больного, а иногда – и многих других.
Был как раз такой день.
– Надо оперировать, Паша, – произнес Костя, выразительно тряхнув головой.
В целом, фраза не несла никакой смысловой нагрузки и прозвучала банально. В этом “заведении” подобные слова произносились, с той или иной интонацией – утвердительной, вопросительной, скучающей или обреченной, ежедневно. На разных этажах, из разных уст, в любое время суток.
– Да-аа-а, – Павел протянул междометие, погруженный в собственные мысли.
Принципиально он уже принял решение.
Несколько дней назад Павла вызвали на консультацию в травматологическое отделение одной из крупных городских больниц.
Зачем? Вызов в клинику, привыкшую решать наиважнейшие медицинские вопросы самостоятельно, настораживал. Почему? Что за накладка произошла внутри сплоченного коллектива, всегда считавшего себя лучшим. Или действительно не могут справиться? Бывает и так. Или приглашение постороннего специалиста – результат внутреннего конфликта? Или оно организовано по просьбе больного и его родственников, наслышанных о Павле?
Он размышлял об этом в стремительно мчавшейся по городу “БМВ”.
В машине их было четверо. За рулем сидел человек “кавказской национальности” – один из тех, у кого хотелось попросить документы: черные грязные волосы, трехдневная щетина, неприятный взгляд из-под лобья. На заднем сидении расположились мужчина и женщина, казавшиеся обеспокоенными. С ними у Павла уже состоялся предварительный разговор. Четвертым был Павел.
Разговор разговором, но главное он поймет лишь тогда, когда увидит больного собственными глазами.
Вежливое расшаркивание с заведующим и ординаторами.
– Павел Андреевич…
– Павел Васильевич, очень приятно.
– Александр Александрович, очень приятно.
– Петрович, лечащий врач, мне очень приятно.
– Ольга Владимировна, старшая сестра.
Обоюдные сетования на сложности в работе, неприличную зарплату, пересказ двух-трех интересных случаев, традиционная рюмка коньяку, и еще одна – на все ушло минут пятьдесят, не меньше. Наконец, дело дошло и до конкретного пациента. Бегло пролистав историю болезни и убедившись, что диагноз злокачественного процесса у больного подтвержден данными гистологического исследования – исследованием кусочка ткани, взятого непосредственно из опухоли, Павел прошел в палату.
Ему было лет тридцать. Он лежал, повернувшись лицом к окну, словно ему ни до чего не было дела, кроме как до солнца, что мягко касалось лучами его ровной смуглой кожи, и, на первый взгляд, производил впечатление абсолютного здоровяка.
– Здравствуйте.
Родственники, их было семь-восемь человек, и мужчины и женщины, расступились
– Таким я тебя и представлял. Здравствуй, Руслан. Меня зовут Павел Андреевич, – широко улыбнулся Павел.
– Добрый день, Павел Андреевич.
Руслан лежал, укрытый до пояса чистым разноцветным пододеяльником. Толстым мускулистым рукам, рельефным грудным мышцам, покрытым обильной растительностью, позавидовал бы любой профессиональный спортсмен. В глазах его поблескивали живые огоньки.
Павел присел на край кровати и отбросил пододеяльник с ног больного. Он успел подумать, такие глаза не встречаются у слабых, больных, импотентов и злых…
– Что, доктор, ничего хорошего?
В палате вдруг наступила тишина. Притихли родные. Лечащий врач и зав. отделением, сопровождающие Павла, молчали, не считая корректным прежде времени задавать вопросы консультанту. Молчал Павел, привыкший за долгие врачебные годы скрывать свои мысли не хуже хорошо игрока в покер. Притаился Руслан, уже спросивший о самом важном – он внимательно наблюдал за реакцией “нового” доктора, приехавшего ради него из другой, наверное, “лучшей”, больницы.
Действительно, правая нога молодого кавказца пугала. Ни у кого не повернулся бы язык сказать, что все хорошо, все в порядке. Огромная опухоль, блокировав кровеносные и лимфатические сосуды ноги, распирала бедро изнутри сразу же под паховой складкой. Правая голень по своему объему равнялась бедру. Отек распространялся и выше опухоли, и на мошонку, смешно деформируя ее. Правое яичко, покрытое блестящей, без характерных морщин, перерастянутой кожей, по размерам в два раза превосходило левое, оно, как бы втягивало в себя половой член, укорачивая его до детских размеров.
Те, кто стоял за спиной Павла, приблизились еще плотнее и он почувствовал жар их дыхания у себя на затылке. Сделалось неприятно, но он не обернулся, а только передернул плечами. Дискуссия, которую он вел сейчас сам с собой, внутри себя, поглощала его внимание. Ему было необходимо ответить на три вопроса, и сделать это быстро и точно, чтобы в дальнейшем – по ночам – его не мучили сомнения, не снились бы веселые глаза, безмолвно вопрошающие спрашивающие: – Почему я умер?
Стоит ли связываться? Выполнять трудоемкую операцию, потребующую много физических и психических сил и его, и лежащего перед ним парня по имени Руслан. Второй вопрос – какие шансы на выздоровление? Непосредственно после операции – чтобы ушел из отделения сам: на костылях или прыгая на одной ноге, но сам! И – долгосрочный прогноз? Впрочем, с этим – яснее. Существует статистика: пятилетняя выживаемость при различных формах сарком не более двадцати процентов, двухлетняя – около тридцати. Но два года – тоже жизнь… И, наконец, последнее. Какие у него, у Павла Родионова основания отказать пациенту, не перевести, не оперировать, не лечить. Больной – его, больной определенно онкологического профиля. Выходит, ни каких обоснованных оснований отказать нет. Конечно, нет, а надежда – она как известно, исчезает последней.
– Руслан, не буду обманывать тебя, – начал Павел. – Ты прав, ничего хорошего. Ты видишь и чувствуешь это получше меня. Да и твой лечащий врач давно не скрывает этого. И ты понимаешь, что-то не так, ведь тебе не становится лучше, – Павел на секунду замолчал переводя дух. Руслан отмалчивался. – И тебе кажется, что все очень плохо, хуже некуда!
Павел снова прервался. Сейчас ему придется убеждать, и никто из присутствующих в этой палате не должен почувствовать его внутренние сомнения в том, о чем он скажет своему пациенту, ждущему от него слов надежды.
– И ты ошибаешься! – решительно продолжил Павел, добавив в голос настойчивые нотки агрессии. – Да, плохо. Плохо, но не смертельно. Неоднозначно, сложно. А было бы просто – не сидел бы я здесь и не объяснял всего этого тебе. Давно бы поставили тебя на ноги. Но – нет, тебе нужен такой специалист, как я. Онколог. Ведь мы, доктора, Руслан – очень “узкие” специалисты. Всю жизнь лечим что-то одно. Но зато “свою” болезнь знаем от и до. Досконально!
– Ногу отрежете? – тихо спросил Руслан, заставив Павла на секунду запнуться.
– С ногой, Руслан, предстоит расстаться! Никто не предложит тебе другого, более верного лечения. И нигде! Ни в Америке, ни в Японии. И никто! И нигде. Ты готов?
Павел заметил непроизвольное движение Руслана, стремящегося приподняться – болевой импульс, посланный из зоны роста опухоли в ответ на мышечное сокращение, тут же исказил его черты, и сделал вид, что не заметил.
– Изменить ничего нельзя! Ногу сохранить – нельзя! И операция будет тяжелой. И для тебя, да и для меня. Это я тебе обещаю, – Павел улыбнулся. – Ведь предстоит удалить всю бедренную кость, вычленив ее из сустава. Кроме того, чем больше тканей мы удалим, тем лучше. Надежнее. Потому что твоя опухоль – злокачественная, а, значит, она способна распространяться в организме, как бы передвигая свои клеточки по тканям и сосудам. Я думаю, и это тебе следует знать.
Павел говорил все тише и мягче.
– А теперь – самое главное! Тебя можно вылечить. Ты не умрешь! Ты будешь здоров. Да, без ноги. Но разве это главное? Ты сильный, я вижу. Нет, не потому что у тебя сильные руки, а грудь, как у быка. Ты сильный по-другому. Дьявольски сильный. Ты даже пока сам пока не знаешь насколько. Поэтому, ты проживешь и без ноги. Да черт с ней, с ногой. Уже два месяца ты не можешь подняться с постели и пойти как раз потому, что она у тебя все еще есть. Она мешает тебе, мучает, болит. Токсины, что опухоль выбрасывает в кровь постоянно, каждую секунду, отравляют тебя. Они действуют на твои почки, на печень и сердце. А не будет ноги – и через неделю тебя в кровати не удержать! Гарантирую. Парадокс? Да. В некотором роде. Согласен?
– Согласен, – сказал Руслан и улыбнулся по-настоящему искренне.
– Согласны, – повторили за ним все, кто находился в палате, будто требовалось единодушное решение.
– Отлично, – Павел устало поднялся. Подобные разговоры всегда отнимали у него много сил. – Завтра тебя переведут к нам. И мы еще раз с тобою поговорим. Предстоит обсудить детали. И с вами – тоже, – кивнул он в сторону сплоченно стоявших “родственников”, не выделяя никого. – До свидания.
И, пройдя сквозь вновь расступившуюся “стенку”, он вышел из палаты.
В ординаторской выпили на посошок. Заведующий отделением был рад, что Павел легко согласился забрать на себя сложного пациента, и с удовольствием наливал по этому поводу.
Надо оперировать. Павел это прекрасно понимал, но внутреннее нежелание выполнять подобную операцию бушевало у него в душе.
Операции, связанные с удалением конечностей, никто не любит выполнять, но не в силу их трудоемкости и длительности. Это как раз пустяки. Об этом хирург не задумывается. Все дело в той противоестественной картине, что возникает перед глазами участников операции, когда удаленная нога или рука, пусть часть – голень, стопа, кисть, отсеченные последним движением скальпеля, падают на пол на заранее расстеленную клеенку. В кровавых брызгах мертвый орган живого человека – как немой свидетель: врачи сейчас, здесь – сделали что-то не то – унизили, искалечили, изуродовали совершенное человеческое тело, подобие божьего.
И противный склизкий комок перекатывается в желудке, вызывая тошноту, а сотни острых иголок вонзаются в сердце. Вот так чувствует себя хирург под жаркими операционными софитами.
Глава V
“– Руслан, я к тебе…
Наконец-то, меня заметили. Тишина, как будто выключили звук. Чего они так перепугались? Меня? Странно! Смотрят, как на привидение. Ну просто немая сцена!
– Руслан, да что с тобой? – нарушил я эту тишину.
Я прошел вперед, облокотился на стойку кровати, предоставляя пространство Катерине.
– А-аа, все в порядке, все хорошо, Павел Андреевич. Нога не болит. Совсем.
Еще вчера он жаловался на сильные фантомные боли, что не дают ему уснуть. Что ж, эти боли будут беспокоить его минимум полгода, а быть может и дольше, если он столько проживет, но помочь я не могу, и стараюсь о своем бессилие не думать.
– Руслан, так нельзя, я говорю спокойно, не возмущаюсь. Я уговариваю. – Шумите! Мешаете мне и другим пациентам. И дышать здесь нечем. Воздуха в палате – на одного, о-д-н-о-г-о, – растягиваю я слово для убедительности, – максимум – для двух. А вас – восемь!
Я обвел взглядом присутствующих, будто считая. Троих я видел раньше, помню. Остальных, возможно, нет. А вот этих, самых диких – я точно не встречал. Они стоят у изголовья кровати, обросшие, черные, не по-городскому грязные и смотрят в сторону, в окно. На них, что ли, орал Руслан? Похоже. Впрочем, дело не мое.
– Значит, ты понял, принял к сведению, учтешь?
Я сам оставляю ему лазейку. Принять к сведению и выполнить – разница! Но настаивать бесполезно. И к чему? Трата нервов. Моих! К черту! Выпишу его через неделю, а лучше – через три дня! Пусть уезжает в родную Ичкерию. Надеюсь, мы никогда не встретимся.
– Доброй ночи всем.
Я вышел из палаты. Напряженный гул возобновился.
Среди оставшихся больных по-настоящему меня интересует и беспокоит только еще один пациент – Дмитриев. Он тоже лежит в одноместной. В “полулюксе”. Отдельный туалет с унитазом-компакт, на двери палаты – замок, внутри – холодильник и телевизор. Не хватает кондиционера и телефона, и я бы сам в ней жил. В эту палату, как правило, кладут по блату – по распоряжению главного врача, по просьбам наших коллег, моих знакомых, родственников и знакомых сотрудников отделения, и, конечно, за деньги.
Дмитриев один из тех, кто лежит там по распоряжению главного.
Поступил он как простой “смертный” и сначала произвел обычное впечатление. Вернее, никакого. Работяга – без денег, без связей, без родных. Без понимания ситуации, в которой очутился. В истории болезни записано: место работы – завод, место жительства – далеко, номер телефона – нет! И наружностью Дмитриев обладает неприметной. Неопределенной. Он не высок, ниже среднего, но не карлик, худой, редкие белесоватые волосы, выцветшие голубые глаза над повседневными мешками, средних размеров нос, раздвоенный на кончике, как у артиста Баниониса, плохие зубы. В молодости, наверное, был эдакий живчик, но годы и употребление горячительных напитков, изменили характер. Хорошо представляю образ его жизни. Одинокий мужчина, живущий по инерции. Работа, а потом… Время, которое надо убить! И проще всего – выпить. Нет смысла уходить из дома. Дома – тепло и тихо. На бутылку и закусить – хватает даже при условии, что зарплату платят нерегулярно. Но много ли ему надо? Потом, расслабившись на тахте, покрытой еще маминым покрывалом с вечно плывущим по сине-зеленой поверхности овального озера голубым лебедем, сквозь полудрему смотреть в мерцающий экран старого телевизора. Что показывают? А, все равно! Лишь бы ящик говорил. Чтобы не сойти с ума и не оглохнуть в тюремной тишине.
Медлительный и безразличный, он терпел до последнего”.
Глава VI
– Павел Андреевич, вы можете спуститься?
Звонок в кабинете Родионова раздался около одиннадцати. Свои ежедневные консультации в поликлиническом отделение, где он проводил первичный отбор больных для операций, Павел обычно назначал на час дня.
Не дождались. Значит, срочный больной. Или тяжелый, догадался он.
Между этими понятиями существует разница. Срочный – это тот, кто требует немедленной госпитализации и с вероятностью в девяносто процентов сегодняшнего оперативного вмешательства. Его состояние может быть удовлетворительным и даже хорошим. Пока. Но оно непременно ухудшится, если не предпринять адекватных мер. А по-настоящему тяжелым больным, обращающимся в онкологическую клинику, врачебная помощь уже не нужна. Поздно!
– Оставьте его в покое. Дайте человеку спокойно умереть. Поставьте себя на его место, – уговаривают доктора родных и друзей.
Но те никак не хотят ставить себя на место умирающего. И вообще не хотят, чтобы он умирал. Чаще всего – искренне. Они настаивают, ругаются, грозят. Они действуют из лучших побуждений.
Безусловно, эти категории смешиваются, наслаиваются друг на друга. Лечить или не лечить? Положить или отказать? Проблема выбора. Как в магазине.
Вызывали урологи. Довольно часто в этот кабинет обращались больные с острой задержкой мочеиспускания, то есть в таком состоянии, когда человек не может опорожнить свой переполненный мочевой пузырь ввиду механического препятствия. Характер препятствия может быть двояким – это или опухоль, или сгусток крови. Независимо от причины – показана операция.
“Ну, неохота оперировать, хватит уж на сегодня, не хочу. Простите меня, но пусть меня ждет больной симптоматический, безнадежный”, – просил Павел, шлепая шлепанцами по коридору, сам не зная кого, и не верил, что его просьбу услышат. И ошибся.
В кабинете, как и в урологических палатах, чувствовался тот же устойчивый запах. Павел непроизвольно поморщился.
На старой разболтанной кушетке, стоявшей в дальнем углу кабинета, лежал мужчина. На первый взгляд, он выглядел лет на пятьдесят – казался истощенным и очень больным. Он не стонал, не жаловался, а молча смотрел в потолок и на его пожелтевшем лице невозможно было прочесть о чем он думал. И на появление Павла он не отреагировал.
За столом, где обычно восседал Бабенко и, сбоку от него, медсестра Лена, сейчас никого не было. Зато из-за ширмы, расположенной прямо напротив двери, раздавались громкие стоны, мычание.
– Привет. Звали?
– Добрый день. Павел Андреевич.
Павел заглянул за серое полотнище ширмы, равномерно покрытое многомесячной пылью.
На гинекологическом кресле, забросив ноги на «рога», лежала женщина. Цветастое платье было задрано до пояса, ниже пояса – ничего. Её голова, со спутанными рыжими волосами, не останавливаясь ни на секунду, металась по оранжевой клеенке, покрывающей холодный металл. Бедра, белые как молоко, мелко подрагивали, а лобок, бугром выступающий выше уровня запавшего живота, покрытой густой рыжеватой порослью, проецировался прямо напротив нижней половины лица Бабенко и издалека казалось, что у него – борода.
Павел отчетливо рассмотрел крупные капли пота на лбу у женщины и то, как она прикусила нижнюю губу, стараясь перетерпеть боль.
“Бабенко выполняет цистоскопию, – понял Павел – исследование, позволяющее осмотреть полость мочевого пузыря визуально через металлическую трубку с увеличительной линзой на конце, диаметром приблизительно один сантиметр. – Процедура не приятная, болезненная, но не дорогая, и в общем-то простая”.
Женщина опять застонала сквозь закушенные губы и что-то невнятно проговорила.
– Сергей Арнольдович, – заговорил Павел раздраженно, – здесь у вас женщина, там – мужчина. Я понимаю, ничего страшного. Но какие-то нормы приличия должны соблюдаться! Как-то нехорошо.
– Павел Андреевич, она же за ширмой. Потерпите, дорогуша, – Бабенко продолжал осматривать полость органа в окуляр и разговаривал одновременно и с Павлом, и со своей пациенткой. – Вызвал её по очереди. И потом… им – не до того. Правда, дорогуша?
Женщина и в этот раз промычала что-то невразумительное, боясь открыть рот и не сдержаться, и разразиться животным надрывным плачем. Нет, ей было не все равно. Помимо боли, ее мучили обида и унижение. Сегодня, впервые войдя в кабинет, она была обескуражена присутствием здесь пациента мужчины – тот лежал на кушетке, высоко задрав рубашку, опустив расстегнутые брюки и черные хлопчатобумажные трусы, обнажив свой живот для осмотра. Вопросы, заданные доктором в первые минуты беседы, также огорошили её непривычной бестактностью. Ее шокировало предложение раздеться и то равнодушное внимание, что оказывал ей доктор, пока она, стоя прямо напротив него, неловко стаскивала с себя колготки, затем – трусы, а потом, поддерживая обеими руками платье на уровне живота, переминаясь с ноги на ногу и стесняясь повернуться к доктору задом, смешно пятясь, взбиралась на кресло. Сейчас она лежала на кресле с закрытыми глаза и сквозь боль прислушивалась к тому, о чем говорил доктор, уткнувшись в её гениталии. И открывать глаза, раньше чем окончатся ее мучения, она не собиралась.
– Кого осматривать? – после паузы, заполненной долгим укоризненным взглядом в сторону Бабенко, спросил Павел.
– А вон того, на кушетке.
Павел еще раз окинул взглядом картину происходящего.
Бабенко по-озорному вглядывался в окуляр тубуса, торчащего из женской уретры. Он максимально приблизил лицо к наружным половым губам и левой щекой задевал их по рыжеватым курчавым волосам. Медсестра, ненатуральная блондинка, привлекательная, но слишком крупная, с широкими плечами, широким задом, толстыми ногам, наблюдала за процедурой сверху, немного отстранившись назад, лениво переводя свой взгляд с женского живота на лысеющую макушку доктора. Пациентка, сжавшая кисти в кулаки, будто готовила удар своему истязателю, не ритмично подергивалась всем телом, жмурилась и покусывала губы.
Павел еще раз устало вздохнул и вышел из-за ширмы.
Больной по-прежнему лежал неподвижно. Павел взял один из стульев, стоящих у стола, донес его до кушетки и сел. Нет, он не пошевелился. У Павла мелькнула мысль, уж не в коме ли пациент? Вроде, нет, выражение глаз осмысленное.
– Что беспокоит? – начал Павел без предисловия – не выяснив ни имени, ни фамилии, ни возраста, не представившись сам. Больной и в самом деле показался ему тяжелым – лишние формальности были ни к чему.
– Болит. Живот. Справа.
Неожиданно мужчина заговорил ровным спокойным басом, и Павел подумал, что этот голос в данный момент не сочетается ни с истощенным телом, принадлежавшем, скорее, подростку, ни с безразличным поведением, свидетельствующим о том, что человек болен и силы его на исходе. Болен! Павел уже успел обратить внимание на патологическую асимметрию живота – справа, в подреберной области, через переднюю брюшную стенку выбухала опухоль. Ему, опытному доктору, это сразу бросилось в глаза. Павел прикоснулся к коже. Она была горячей. Пощупал живот. Очень мягко потрогал саму опухоль, не причиняя боли. Большая. Сантиметров двадцать, определил он, впрочем, возможно еще больше. Проверил пространство подмышечных и надключичных областей и не обнаружил в этих зонах данных за метастазирования в лимфатические узлы. Впрочем, диагноз рака или какой-то иной формы злокачественной опухоли почки – сомнений не вызывал. И огромные размеры опухоли, и общее тяжелое состояние больного, которое, как понял Павел, быстро ухудшалось в последнее время – позволяли безапелляционно выставить этот страшный диагноз. И прогрессирующая потеря в весе, и интоксикация, и гипертермический синдром, и анемия, и боль – достаточно?
– Сколько вам лет? – спросил Павел по врачебной привычке.
Случай казался ясным: симптоматика! Другими словами, лечение по симптомам. Болит – прием обезболивающего. Температура – средств для ее понижения. Кровотечение из распадающихся тканей опухоли – гемостатические препараты. Оперировать – поздно! Слишком большая опухоль, слишком плохое самочувствие.
Но ответ удивил: – Тридцать восемь.
Только что Павел не сомневался, пациент, безучастно лежавший перед ним, по крайней мере, на десять, пятнадцать лет старше.
Возраст менял ситуацию. Как бы плохо больной не выглядел сейчас, у него наверняка сохранились жизненные резервы – человек, вообще-то, создание живучее.
Павел задал еще один вопрос: – Болеете давно?
– Неделю, – после раздумий медленно ответил пациент и, наконец-то, вопросительно посмотрел на Павла.
Павел знал, в психологии человека заложено свойство отождествлять время начала болезни со временем, когда он сам, наконец-то, обращал на нее свое внимание. И ничего поделать здесь нельзя! Подавляющее большинство больных искренне удивлялись, когда им объясняли и доказывали тот факт, что рак, эта страшная болезнь, не возникает в один день. Что процесс роста опухоли довольно медленный и постепенный. Что при выполнении элементарных приемов самоосмотра и простом анализе своего самочувствия, определить болезнь в ранних стадиях несложно, еще до того, как она станет необратимой и смертельной.
Павел откровенно заскучал. Сейчас придется разговаривать. Длительно и, конечно же, безуспешно убеждать больного в том, что болеет он, скажем, год – об этом наглядно свидетельствовали размеры опухоли. Терять время ему не хотелось.
“Нет, беседовать, пожалуй, не будем. В другой раз. Парень молодой, надо положить, вдруг потянет”, – решил он и, вставая, произнес. – Будем вас оперировать. Готовьтесь.
– Хорошо. Ладно, – ответил мужчина, не повернув головы, но пожав плечами, как бы договаривая: конечно, какой разговор.
– Сергей, кладите, – обратился Павел к Бабенко. – По-срочному.
Как раз в этот момент Бабенко закончил выполнение процедуры и выглянул из-за ширмы. Павел услышал, как постанывая и учащенно дыша, с кресла спускается женщина, и поскорее вышел из кабинета.
На следующий день Родионов еще раз осмотрел больного Дмитриева. Он по-прежнему не сомневался в первоначальном диагнозе. Уж больно тот был истощен. Доброкачественные опухоли достигают временами огромных, невероятных размеров, но даже в таких случаях не вызывают столь стремительную потерю в весе. Диагноз подтверждали и другие симптомы – анемия, вечерние подъемы температуры до тридцати девяти, рост количества остаточного азота и мочевины в крови. Эти показатели указывали на функциональные возможности здоровой почки, левой. У Дмитриева они задержались на отметке верхней границы физиологической нормы. Еще немного и процесс приобретет необратимый характер. Наступит декомпенсация – она могла наступить в любой момент, и тогда – думать об операции уже не придется.
Его начали лечить. В течение трех первых дней его пребывания в стационаре Дмитриеву ввели внутривенно пятнадцать литров различных лекарственных растворов. В целом, с одной-единственной целью вывести из его организма побольше токсинов.
Пока об улучшении говорить не приходилось. Впрочем, и времени прошло мало.
На четвертый день в процесс излечения Дмитриева вмешались непредвиденные обстоятельства – им заинтересовался главный врач.
Павел получил “распоряжение” перевести Дмитриева в лучшую “люксовую” палату. Целевым назначением для него стали поступать медикаменты.
Необоснованная забота казалась странной, она настораживала. Но мало ли какие рычаги включились и на каком уровне? Павел был не против. Он искренне хотел спасти своего пациента. Каким образом, с чьей помощью – какая разница?
И вот, через две недели в результате целенаправленной интенсивной терапии состояние больного улучшилось настолько, что позволяло, не оглядываясь на недавнее прошлое, его оперировать.
Дмитриев оставался малоразговорчивым и замкнутым.
На повторно заданный вопрос, согласен ли он на операцию, он также, как и в первый раз, коротко ответил: – Хорошо, ладно.
И опять пожал своими узкими плечами. Он пожимал плечами каждый раз, когда раздавался его монотонный бас, и такая синхронизация голоса и телодвижения напоминала нервный тик. Но когда Павел напрямую спросил у него о причинах навязчивой заботы со стороны больничной администрации, он промолчал и ни единым жестом не подтвердил, что услышал вопрос. И Павел к этому больше не возвращался.
С момента операции прошло дней десять.
Произошло маленькое чудо.
Раскрыв брюшную полость, Павел даже поморщился под маской – как плохо!
Опухоль размером с волейбольный мяч выбухала из раны, отодвигала все органы влево и не оставляла хирургу пространства для работы. Её ткань просвечивала через истонченную паранефральную клетчатку и отливала багрово-красным. Своим верхним полюсом она уходила глубоко под печень, по левой поверхности плотно предлежала к очень крупной вене, нижней полой, а восходящая часть двенадцатиперстной кишки была распластана на ней, как чулок на яйце для штопки. Окружающие почку сосуды, в норме – почти не заметные, у Дмитриева, вследствие нарушения оттока крови по ним, вызванного огромным объемом самой опухоли, выглядели как толстые-претолстые червяки темно-синюшного цвета – в кинематографическом кошмарном сплетении они окутали своими извитыми пульсирующими телами голову ребенка, выедая ему глаза, забивая рот и ноздри.
– Саркома, выпалил ассистирующий Павлу врач-интерн, демонстрируя свою эрудицию в области патоанатомии.
– Пожалуй, ты прав, – Павел был склонен согласиться с мнением молодого доктора. – Саркома, – протянул он раздумывая. – Откуда ты знаешь, как она выглядит?
– Обижаете, Павел Андреевич, – совсем не обидевшись, а напротив, гордясь, что угадал, весело улыбнулся интерн.
А Павел размышлял, стоит ли продолжать вмешательство. Или закончить вот на этом этапе – диагностическом? Шансов, что удастся удалить опухоль радикально, без нарушения ее целостности, “отойдя” от всех жизненно важных анатомических структур, было не много. Но он бы не сказал, что их нет совсем. Были! В случае, если опухоль окажется саркомой, а вероятность этого он оценивал процентов в девяносто пять, сколько проживет пациент в дальнейшем? По статистике – десять месяцев. Сначала, два – три месяца будет восстанавливаться после операции, а потом, последние два месяца – медленно умирать, с каждым днем теряя силы, сожалея и коря себя за то, что в свое время не отказался от тяжелой и мучительной операции. И все-таки стоит попытаться выполнить радикальную операцию? На это уйдет часа четыре, как минимум. Он зверски устанет, но это, конечно, ерунда, пустяки. А вот в послеоперационном периоде придется волноваться по-настоящему. Приезжать вечерами и по выходным, бегать по десять раз в день в реанимацию, осматривать, перевязывать, ругаться с медсестрами, чтобы спешили, помогали, выполняли, что назначено, что необходимо. А без их содействия больного не выходить. Одним словом, на некоторое время он создаст себе неприятную беспокойную жизнь. Тоже ерунда – лишь бы выжил больной…
Похожие мысли проносились в сознании Павла, но, скорее, это был особый своеобразный внутренний контроль. Еще ни разу он не отказался от выполнения операции, принимая во внимание подобные доводы, и дал себе слово, что когда такие аргументы будут иметь для него хоть какое-то значение, он уйдет из хирургии.
Значит – попытаться? Конечно! А если не получится? Впрочем, пока путь назад еще не был отрезан. Стоит попробывать отделить опухоль от нижней полой вены. В случае, если такая попытка не увенчается успехом, его совесть будет абсолютно чиста – поздно. Да и главному легче будет все объяснить. Он поначалу и забыл, что оперирует отнюдь не рядового больного. Эта деталь только сейчас всплыла в его памяти.
– Что, пробная? – ехидно спросил Шапкин, врач-анестезиолог.
Из-за спины Павла он заглянул в рану и оценил увиденное по-своему.
– Кто сказал? – раздраженно отозвался Павел, даже не посмотрев в его сторону.
– Ну, ну, дерзайте, – в этот раз почти не слышно пробормотал Шапкин и вернулся к изголовью операционного стола, на свое рабочее место.
– Начали. Все готовы? – Павел обращался к операционной сестре и своему ассистенту. – Без тени сомнения.
Остальные кивнули.
На шестой день после успешно проведенной операции, в результате которой опухоль у Дмитриева была удалена, Павел получил результат гистологического исследования. В графе данные исследования аккуратным детским почерком, принадлежавшим санитарке патологоанатомического отделения, было выведено одно слово – “гемангиома”, но означало оно многое.
Гемангиома – доброкачественная опухоль, состоящая из сосудистой ткани. При опухолевой патологии почек они встречаются редко, не чаще, чем в полупроценте случаев, и, обычно, достигая больших размеров, как у того же Дмитриева, превращаются в гемангиосаркому, то есть злокачественную опухоль из тех же анатомических структур. Визуально они выглядят одинаково. Учитывая общее тяжелое состояние больного Дмитриева, все хирурги, осматривающие его ранее, однозначно предполагали злокачественный характер процесса и – ошиблись! К счастью!
Теперь, ретроспективно анализируя статус Дмитриева до операции, Павел, конечно, легко нашел объяснение всем симптомам: и интоксикации и, как следствие последней, анемии. Опухоль, хотя и оставалась доброкачественной, но достигла таких размеров, что ее кровоснабжение оказалось серьезно нарушенным. В ее толще стали появляться множественные очаги некрозов – омертвения, которые приводили к интенсивному распаду ткани и нагноению. Мертвые ткани продуцировали токсины и те, всосавшись в кровь, действовали практически на все органы и системы, провоцируя и анемию, и подъем температуры, и рост показателей остаточного азота и мочевины. Вот так. Все просто и укладывается в клиническую картину.
Сразу же после операции, практически на следующий день, состояние Дмитриева стало улучшаться, а все симптомы – постепенно исчезать. И этот факт, поначалу также удививший, сейчас нашел свое объяснение.
Прочитав ответ гистологов, Павел направился к Дмитриеву в палату.
– Как дела, получше?
– Нормально, – вяло отозвался пациент.
Павел внезапно разозлился. Он, Павел Андреевич Родионов, спас жизнь этому человеку! Ни один другой хирург, работающий в городе и области, не сделал бы этого! Не потому что он гениальный, самый лучший или искусный, нет! Просто потому, что только Павел, в силу сложившихся обстоятельств, обладал необходимым для этого опытом. И огромным! И здесь есть его заслуга, есть! Он осознавал это. Он гордился собой и своим умением. А тот, кто, казалось бы, должен быть неимоверно ему благодарен, разговаривал с ним с демонстративным пренебрежением.
“Наплевать, в конце концов – скажу и уйду”, – зло подумал Павел.
– Эй, больной посмотрите на меня. И послушайте, – другим тоном, стерев с лица улыбку, продолжил говорить Павел. – Запоминайте, повторять не буду. Получили результат гистологического исследования «вашей» опухоли. Опухоль – доброкачественная. То есть, другими словами, у вас рака нет! И саркомы – нет, – пояснил Павел. – Понятно?
– Нет! – неожиданно встрепенулся Дмитриев. – Как нет? Что… значит, я не умру? – в его голосе звучало недоумение.
– А кто вам говорил, что умрете? – удивился Павел.
– Говорили.
– Я повторяю, не умрете! Рады? – Павел глубоко вздохнул, подчеркнув, как он устал от их беседы.
Если Дмитриев и радовался, то внешне его радость никак не проявилась. Его лицо вытянулось. И без того запавшие светлые глаза, казалось, совсем побелели и провалились куда-то вглубь черепа, обтянутого пожелтевшей высохшей кожей. Он отвел их в сторону, плечи его затряслись. Он был готов разрыдаться. Такая разительная перемена, такая неадекватная реакция на добрую новость заставили Павла передумать и он решил не уходить.
“Может не поверил? По принципу – все наоборот. Думает, раз говорят – все хорошо, значит – все очень плохо. Есть такая категория больных. Впрочем, на аналитика он не похож”.
Павел стоял перед ним и внимательно наблюдал. Он заметил, что Дмитриев вспотел. Не притворяется. Мелкие капельки пота уже катились по лбу, вискам, щекам, собираясь на ходу в коротенькие ручейки, смывающие с лица многодневную грязь, оставляя след. Казалось, что сейчас он находится в трансе. Его взгляд, только что встревоженный, беспокойно-мечащийся, вдруг застыл, словно зрачок замерз в прозрачном озере стекловидного тела.
– Что с тобой? – Павел тряхнул Дмитриева за плечо. – Не веришь? Показать заключение? Давай, пойдем со мной. Я при тебе открою историю и ты сам во всем убедишься.
Дмитриев очнулся.
– Спасибо, я вам верю, спасибо, – произнес он отрешенно.
– С тобой все в порядке? – Павел и сам начал нервничать и поэтому обращался к пациенту на ты.
– Да, все в порядке, – произнес Дмитриев поспокойнее, почти не разжимая зубов. – Идите. У вас, наверное, дела.
– Ну, что же… – Павел еще раз тревожно посмотрел на больного.
Да, Дмитриеву стало лучше.
– Успокаивается, – с облегчением подумал Павел, – но мне и в самом деле пора.
Через полчаса Павел позвонил главному врачу и проинформировал того о результате гистологического исследования. Но главный повел себя странно. Павлу почудилось, он тоже расстроился.
Возможно, однако, все было совсем не так. По телефону – судить трудно.
А Дмитриев с каждым днем все глубже и глубже проваливался в холодную бездну депрессии. Это стало очевидно уже на следующий день после их разговора о результатах гистологического исследования. Вместо того, чтобы воспрянуть и оценить – насколько ему повезло, он замкнулся окончательно, перестал говорить вовсе, почти перестал есть.
Но несмотря ни на что, процесс выздоровления протекал нормально, хотя и замедлился.
Что происходит – Павел не понимал. Несколько раз он видел, как Дмитриева навещал главный врач, но настроение больного не менялось.
Другие посетители к нему не приходили. Никто о нем не спрашивал.
“Он просто ненормальный! Показать его психиатру? Те и нормального признают дураком. Организовывать подобную консультацию сложно и муторно. Не буду”, – рассуждал Павел, оставляя все, как есть.
А в тот день, когда Павел наметил для Дмитриева дату выписки, события приобрели непредсказуемый и трагический характер.
Глава VII
“7 июня, понедельник, 20.00.
– Все, Катя, спасибо. Мы закончили, – Катя смотрит на меня вопросительно и уходить не собирается, а я смотрю на часы. 20.02. Ничего срочного. Я благополучно завершил обход и теперь, если не произойдет что-то экстренное, пару часов практически свободен. В десять мне предстоит еще раз по быстрому пробежаться по всем этажам, а потом – можно отдохнуть. И Отпустить девочку, а самому посмотреть телевизор и почитать? Катя меня опередила.
– Павел Андреевич, может быть, выпьете со мною чаю?
Она произносит это с такой игривой и двусмысленной интонацией, что я сдаюсь. Не сделать этого сейчас… а вдруг она уговорит меня позже? Тогда я не высплюсь, и завтрашний рабочий день – насмарку! Два часа до десяти – вполне достаточно.
– Хорошо, – я ласково улыбаюсь. – Мне в голову пришла неплохая мысль, – машинально я продолжаю думать о репутации – и своей, и, между прочим, ее, – давай-ка спустимся на шестой этаж. Это прямо под нами, но все-таки – другое отделение. Люкс у них свободен. Там и посидим. Хорошо?
Я имею в виду такую же палату, как та, в которой у нас на этаже лежит Дмитриев, с телевизором, туалетом, замком.
– Здорово! Побежали!
Катя выпалила эти слова с таким энтузиазмом, что мне опять стало немного стыдно. Вот что значит молодость!
Мы направились к лестнице. По дороге я заглянул в свой кабинет и прихватил с собой пару бутылок пива. Вместо чая.
Открыть пиво я не успел. Как только мы вошли и за нашими спинами автоматически защелкнулся замок, Катя принялась раздеваться. Сначала неуверенно, бросая на меня быстрые взгляды из-под опущенных ресниц, а потом – все быстрее и быстрее. Через несколько секунд она в последний раз вопросительно посмотрела на меня и… и белоснежный халат упал с ее плеч одновременно с лифчиком.
Теперь Катя стояла передо мною в белых узеньких трусиках и матерчатых тапочках на босу ногу. Маленькая грудь с небольшими светлыми сосками была покрыта ровным загаром. Мысль о том, что эта девочка загорала голой возбудила меня и я, молча, как и минуту назад Катя, принялся теребить пуговицы своего халата.
Стаскивая через голову свою операционную куртку, я почувствовал, как легкая девичья ручка уверенно пробралась ко мне в трусы.
Кровать поскрипывала в такт ритмичным движениям, отвлекая…
Катя, лежа подо мною, обхватив меня мускулистыми ногами и положив стопы мне на ягодицы, старательно двигалась. У нее была прохладная упругая кожа и влагалище нерожавшей женщины. В первые минуты она попыталась в голос стонать. Я прошептал ей на ухо, что мы, все-таки, на работе, в больнице. Она вняла и страстные стоны сменились веселым мелодичным смехом, как мне казалось, искреннем!
Я ускорил темп…
Словно ударил гром: бам-мм-м! Где-то очень близко. Над ухом. Что случилось? А-а, что-то упало! Что? Но кровать, под нашими телами, еще держалась, остальное – было неважно. Пора! Моя сперма стремительным и неудержимым потоком излилась во внутрь горячей тесной полости. Забыв о моем предупреждении, Катя запричитала: – Ах, ах, ах”.
20.35.
– Молчи и слушай.
– В…ули.
Голоса раздавались совсем рядом. И в какой-то момент Павлу показалось, что говорившие вошли в палату. Прислушаваясь, Павел приподнялся, опираясь на локти. Катя, улучив момент, несколько раз глубоко вздохнула, а потом, обогатив свое юное тело кислородом, еще плотнее сомкнула свои бедра вокруг его талии.
Никого. Ух, действительно показалось. Все в порядке!
20.42.
– Должен, мы договорились.
В ответ невнятное бормотание: —Н-нь – гу…гу…гу.
И снова тот голос, что звучал погромче: —…ешь …йешь …подумай …я не знаю …лучше …верю …ешь.
Длинная фраза закончилась словом «завтра». И снова невидимый собеседник несколько раз повторил “гу, гу, гу”, словно во рту ему что-то мешало. И опять – “ешь”.
Павел разбирал отдельные слова, он их смысл уловить не пытался, как если бы в комнате работал телевизор или радиоприемник. Ему было не до слов. Катя под ним опять раскачивала и елозила тазом, набирая темп: из стороны в сторону, вверх – вниз. И он сосредоточился на ее теле. Расширенные зрачки, учащенное дыхание, напрягшиеся соски, резкий сумасшедший аромат и – горячая волна омыла его член.
– Сволочь, сделаешь, – звонкий звук пощечины и глухой сдерживаемый стон оторвали Павла от женщины, но и она, достигнув пика своего наслаждения – восхитительного мига оргазма, утратила свою активность и двигалась лишь по инерции.
– Катя, ты слышишь? – шепотом спросил Павел.
До конца не осознанное беспокойство закопошилось где-то на заднем дворе его сознания. Может быть – ему знаком этот голос? Черт его знает.
– Что? А-а, это? Слышу. Заслонка вылетела.
– Что? Какая заслонка? – удивляясь, переспросил Павел. Он еще не вышел из нее и продолжал, словно позабыв, по-прежнему лежать на ее теле.
– Вон та! Видишь валяется.
Катя извлекла из-под него свою руку и указала пальчиком в центр комнаты.
Павел обернулся. У противоположной стены, на полу, покрытом коричневым линолеумом, дешевом и некрасивом, действительно лежал предмет, издалека напоминавший щит, выкрашенный в светло-зеленый цвет больничных стен. А под потолком серым пятном зияло отверстие, совпадающее с ним по площади и форме. В глубине этой дыры были видны черная металлическая труба, провода, что-то еще.
– Коммуникационная шахта, – догадался Павел.
– Вентиляция. А может и нет. Не знаю. Но если на пятом курят, здесь воняет, и даже у нас, на седьмом – воняет, – продолжала разъяснять Катя, лениво облизывая ему лицо.
– Ага, – пробормотал Павел, – На пятом.
Павел размышлял. Обрывки разговора показались ему необычными. И потом – звук удара. И стон. Его он слышал отчетливо. Придется выяснить, что происходит. Ведь в больницах случается всякое. Как и в любом другом публичном месте, люди здесь общаются, а значит и не дружат, ругаются, дерутся. И не только – они выпрыгивают из окон, воруют наркотики, вступают в половые отношения, убивают и умирают. А если принять во внимание потенциал негативной энергии, присутствовавший под ее крышей, то такой выброс эмоций совсем не удивляет. И Павел совсем не желал, чтобы на его дежурстве произошло нечто подобное.
– На пятом? В гинекологии. Интересно, кто и кого столь интенсивно заставляет там кушать? – вспомнил он последние слова. – Катенька, ты – чудо.
Он начал подниматься.
– Ты уходишь? Вы…
– Катя, Катя, – он шутливо погрозил ей пальцем. – У нас с тобою – рабочий процесс. Не забывай. Я спущусь в гинекологию, а ты прибери в палате и поднимайся в отделение. Я еще зайду.
– Я жду, – протянула Катя так томно, как только ей позволил ее девичий темперамент, не омраченный расставаниями, изменами, горькими разочарованиями. Павел улыбнулся.
Оставшись в одиночестве, Катя лениво потянулась и перекатилась на живот. Вставать не хотелось. Имеет она право на несколько лишних минут. Никто за это её не поругает.
Ей было хорошо. Было тихо и тепло. Она лежала в чистой постели, хранившей запах мужчины, смешанный с ее собственным. И спешить действительно было некуда. И оправдываться ей не придется. Можно еще раз насладиться только что пережитыми мгновения, вспоминая и воссоздавая свои чувственные ощущения мысленно.
К Павлу она чувствовала искреннюю симпатию и интерес и то, что он был ее непосредственным начальником, в сущности, значило для нее немного. Она была еще слишком молодой и бесшабашной для долгосрочных расчетов и прогнозов. Сиюминутное удовольствие и радость – вот что притягивало её и манило. И, сама не понимая да конца этого чувства и его значения, она была ему благодарна. Не Павел затащил ее в кровать, раздавливая сопротивление своим авторитетом и положением. Нет. Он не заставлял её, как другие, давиться с ним водкой – а после водки ее тошнило, прежде чем повалить ее на больничную койку, прежде чем согнуть её пополам у стола в ординаторской. Нет. Хотя… И усталые хирурги, принявшие для тонуса, и рьяные интерны и задумчивые клинорды и любознательные студенты-старшекурсники – все лучше, чем разбитные сопляки со двора, где она жила со своими родителями с самого рождения. Те разговаривали с ней привычным матом. Этим же языком выражали свои притязания на ее тело. И приходилось уступать. Потому что было страшно! Не хотелось быть избитой или обритой наголо глумящимися волчатами. Не хотелось бояться каждый день, что вот сегодня тебя затащат в подвал, где обкурившись или надышавшись клея или какой иной гадости свора подонков изнасилует её и надругается, и изуродует чистое красивое юное тело. Нет, уж лучше дать – самому сильному. И она – давала.
В больнице все происходило по-другому. Чистые простыни… Некоторые из ее подружек брезговали. Да, на их бледно-серых застиранных поверхностях хорошо были видны разводы и узоры. Мочи. Крови. Гноя. Всего вместе. Ерунда! Простыни стираются в прачечных. И они, небось, почище тех, что выдают в банях, куда бегают ее подруги, чтобы трахнуться на тамошних диванах, лоснящихся от подсохшей спермы. А в больнице постоянно есть вода. Не может её не быть! Душа, конечно, в палатах нет, не предусмотрен, но умывальники – в каждом помещении. Есть возможность подмыться. А это – не маловажно! И на работе – она всегда сытая. На кухне столько остается! Даже сейчас, когда все кричат, что денег на питание больным нету. Неправда! Не вкусно, но много. И больным хватает, и самым-самым бедным. А те, что побогаче, заискиваясь, дарят конфеты, шоколадные плитки, апельсины. На праздники – шампанское и коньяк. И нередко! Она не любительница, но почему бы не пригубить с подругами во время вот такого дежурства, как, например, сегодня. И высыпается она хорошо! Обычно – высыпается. На дежурстве – поднимают нечасто. Может, отделение спокойное? Плановое. Наверное. А еще – бесплатные лекарства. И доктора стараются помочь, если кто-то из близких вдруг заболеет. У Кати, слава богу, из родных никто не болеет, но – на всякий случай – приятно знать. А аборты? Да мало ли чего еще. Всего не предусмотришь! Обо всем не расскажешь. Ох, с работой ей определенно повезло!
Две бутылки пива так и остались неоткрытыми. Паша про них и не вспомнит, подумала Катя и одну открыла и сделала глоток прохладной горько-сладковатой пьянящей влаги. Вкусно. Хорошо. Она облизала с губ пену. Еще…
Волна истомы накатила и унесла, убаюкивая. Она задремала, утомленная любовью и мыслями, разбавленными легким алкоголем.
– Мы тебя убьем.
Катя встрепенулась. Неужели заснула? Сколько времени?
Она по-прежнему лежала обнаженная на жесткой больничной койке, поскрипывающей каждой своей растянутой пружиной, повернувшись на правый бок, подложив ладошку под щеку, как учили в детском саду, а левую руку – пропустив между бедер, словно защищаясь.
“Проспала?”
Ей показалось, что в дверь стучали. Или, наоборот, захлопнули? Она прислушалась, но звук не повторился. Кто-то сказал, что убьет ее? Нет! Все приснилось. Сколько же времени? Почти половина десятого. Значит… На минуту Катя задумалась, стараясь сообразить – значит, спала она минут двадцать пять, не больше. Ничего, терпимо.
Она вскочила. В минуту набросила на себя трусы, лифчик, халат, сунула босые ступни в легкие разношенные тапки, взглянула на себя в крошечное карманное зеркальце, что всегда носила при себе, и снова его спрятала. Готова! На свежем юном лице не было и следа сонливости, утомления и отпечатка пережитого наслаждения. Оно было беззаботным и по-кукольному невинным. И когда она вышла из палаты, гостеприимно приютившей ее на полтора часа, она уже позабыла и про свой сон, и про странные звуки, наполнившие палатное помещение сиюминутной тревогой и недосказанной угрозой.
Десятью минутами раньше, в то время пока сонные мечты и грезы владели Катериной, к дверям палаты подошел человек в белоснежном накрахмаленным халате. И громко постучал. А затем сильно дернул за ручку. Заперто? Он снова постучал. Он действовал не таясь и шумно, не стесняясь потревожить в поздний час больных и персонал.
Из сестринской, расположенной довольно далеко, а именно через три или даже четыре палаты, выглянула, а затем вышла дежурная сестра и, узнав стучавшего и немного оробев, поспешно приблизилась к нему: – Добрый вечер, – и догадавшись, чего он ждет от нее, объяснила: – А палата – пустая. Открыть?
– Ах, пустая. Да нет, не надо. Кажется я перепутал этажи. Мне – на седьмой. Прости, деточка, перепутал. У вас все в порядке?
– Да. Все спокойно, обход Павел Андреевич провел.
– Павел Андреевич дежурит? Чудесно! А где он, кстати?
– У себя, наверное. От нас ушел давно. Часа два назад.
Сестра отвечала не задумываясь и совсем не врала. Тот факт, что Павел в течение часа находился на этом этаже, был ей нет ведом.
– Значит у себя. Спасибо, дружок, – задумчиво пробормотал “белый” халат.
Павел неторопливо шел по коридору. Проходя мимо настежь распахнутых дверей больничных палат, он невольно улыбался, все еще держа в уме милое Катино личико и смешной тон, коим она, наивная, изображая из себя возлюбленную уходящего в поход рыцаря, попрощалась с ним.
“Куда я? Ах, да, в гинекологию, – вспомнил он почему оставил влюбленную сестру. – Ждать лифт не буду. Спущусь. Труда не составит”.
Вскоре он стоял перед нужной дверью.
Однажды, войдя в палату на утреннем обходе, Павел застал молодую пару в пикантной ситуации. Буквально за час до операции. Возможно, девушка, а оперироваться предстояло именно ей, таким не традиционным образом успокаивалась? А если вдуматься – способ хорош. По физиологическому эффекту – в самую точку. Сначала выброс адреналина, а потом – спад, до опустошения. Полное освобождение от тревожных мыслей, забот и только мягкая приятная усталость и сонливость. Хороша премедикация! В общем, когда в палату входит доктор, он, естественно, не стучит.
В палате действительно находилось двое. Женщина лежала на спине, укрывшись до подбородка простыней. Черты ее лица были спокойны, разглажены. Рядом с постелью в массивном кресле, уткнувшись в газету, сидел её пожилой супруг.
Он вопросительно посмотрел на Павла и устало улыбнулся, топорща обвисшие усы: – Добрый вечер, доктор.
– Добрый, – Павел улыбнулся в ответ и задал – обоим – традиционные вопросы: – Как себя чувствуете? Что-то вас беспокоит?
– М-да, все хорошо. Людмила Александровна заходила, – ответил муж.
– Хорошо? Значит, все в порядке? – переспросил Павел. – Ко мне вопросов нет?
– А вы кто? – вежливо поинтересовался муж.
– Родионов. Заведующий хирургическим отделением, – пояснил Павел. – На данный момент – ответственный врач.
– Ясно, но мы вроде бы все с Людмилой Александровной…
– Ну и ладненько, – не дослушал Павел.
Ему здесь делать нечего, понял он, но и объяснять ему что-либо – не надо. Нет такой нужды. Заглянул врач в палату – внимание больному. Если в этой палате и бушевали страсти когда-то – сейчас все в порядке.
И хорошо, с облегчением подумал Павел. Развернувшись, он заспешил к себе.
С пятого на седьмой он поднялся на лифте. Не высоко, но – из принципа! За суточное дежурство легко можно набегать несколько километров.
Отделение казалось опустевшим. Пустой коридор, больные разошлись по палатам, на сестринском посту, что расположен посередине отделения, тоже никого.
Он выругался вслух: – Черт! И ведь замечание – не сделать! Кто сестру увел? Я. А тех двоих – только тронь. В моей ситуации – лучше не трогать. Нарвусь на грубость, и вообще, чем меньше поводов для обоюдного раздражения, тем меньше болтовни. Впрочем, Катя наверняка перескажет сюжет вечера своим подругам. Это у сестер – как правило. Интересно, что она расскажет обо мне?
Нет, по-серьезному, не интересно. Ничего не изменится в его собственной самооценке, подумал Павел.
Далеко впереди себя, в конце коридора, он вдруг заметил высокую фигуру, облаченную в белый халат. Человек удалялся быстрым шагом. Еще секунда, и он скроется за углом. Высокий, широкоплечий.
“Константин! Кто же еще? Что он тут делает так поздно? Куда бежит? А-а, в реанимацию”.
Выход из отделения с дальней от лифта стороны, там только что скрылся человек в белом халате, считался “черным ходом” и был удобен для посещения опер. блока и реанимации. На остальные этажи было удобнее попасть, пройдя по центральной лестнице, или по боковой, где был расположен пассажирский лифт. Им только что воспользовался Павел.
Глава VIII
(не имеющая отношения к сюжету, а лишь иллюстрирующая тот факт, что в больнице может случиться всякое).
По общечеловеческим меркам дядя Ваня человеком был определенно положительный – вел он добропорядочный образ жизни, жене не изменял, пил мало. (И, возможно, последний факт и не имел того фатального значения, что потом, ретроспективно, ему приписывали. Вполне можно допустить, что имело место обычное неблагоприятное стечение обстоятельств: невезение и непруха, банальные, как времена года). …Растил сына и дочь. Вырастил! И однажды решил отдохнуть в санатории – в одном из многих, коими славен курортный город Сочинск. В санаторий, разумеется, они должны были отправиться вместе – он и его спутница жизни, законная супруга. Но та неожиданно захворала. Сказался возраст. Чтобы путевка не пропала, дядя Ваня уехал один.
Сосед по купе попался компанейский. Шебутной, веселый. Как водится, выпили. Не устоял дядя Ваня уговорам искусителя-соседа и изрядно приложился к бутылке, выставленную на стол. А что? Ехал отдыхать!
В Сочинск поезд прибыл по расписанию, почти ночью.
Сойдя с него, дядя Ваня почувствовал недомогание. Да просто очень хреново он себя почувствовал. Высокая непривычная влажность в купе с жарой, алкоголь и элементарная физическая усталость, и недосып – все сыграло свою роль. Он присел на скамеечку, схватился рукою за сердце и как будто задремал.
Когда его привезли в больницу, он был еще жив, а иначе – попал бы сразу в морг. Но в приемном покое, еще до того, как дежурный доктор оформил его поступление, наш герой – дядя Ваня – скончался.
История болезни – документ, что в существенной и самой важной своей части заполняется со слов больного. И, конечно, на основании данных осмотра живого человека… пациента, больного, клиента – как хотите, но живого и разговаривающего. Да и бланки таких историй, как некстати, находятся по ночам взаперти.
Ситуация создалась необычная. Оформлять или не оформлять, писать историю болезни в три часа ночи, болезненно борясь с приступом сна, что на дежурстве, обычно, как полоса прибоя – не преодалим, или не писать?
Врач лаконично черканул на листочке паспортные данные почившего, чтобы доложить на утреннем рапорте, и этот бумажный обрывок небрежно запихал к себе в карман. Из кусочка розовой клеенки три на шесть см. сделал бирочку, надписал и привязал её к запястью. Нет, если честно, он только создал этот непромокаемый документ, а уж на руке его закрепила сестра. Но зато доктор собственноручно положил на грудь умершему его собственный паспорт и отдал посмертные распоряжения. Смысл последних заключался в следующем – немедля отправить труп, а именно в это превратился теперь дядя Ваня, в больничный подвал (с глаз долой – в прямом и переносном значении), чтобы там, в тишине и покое, он ждал свое последнее такси – специальную машину для перевозки трупов из больниц в морг, неброский медицинский “РАФ”, под “скорую”, прозванный в медицинской среде “труповозкой”, чтобы ждал, потому что служба транспортировки трупов (другими словами, уже упомянутая “труповозка”) работает не круглосуточно, а с восьми до четырех, и с обеденным перерывом. И такая машина – одна на весь город. И справляется служба или нет с объемом работы – в нашей истории неважно.
Вызывают “труповозку” обычно по утрам. Сделать это обязан дежурный врач.
И так, мертвого человека повезли в подвал. Там прохладнее.
Спуститься требовалось всего на один этаж, но умерший, ясное дело, самостоятельно сделать этого не может. Его повезли на каталке. Процессия: медицинская сестра – руководитель, санитарка в роли свидетельницы и одновременно плакальщицы и исполняющий заглавную роль дядя Ваня, в указанном состоянии плоти. Все вместе спустились в подвал. Растворились двери лифта…
– Давай оставим его здесь, в лифте. Чего его катать туда сюда? – пристально рассматривая невысокий порожек, предложила санитарка, – через два часа начнется новый рабочий день (в самом деле¸ уж пробило шесть) и за ним придут.
– Хорошая мысль, – немного подумав, согласилась мед. сестра.
И живые покинули авансцену. А труп просто оставили в лифте. Чтобы не бросался в глаза и не портил бы умиротворенного в своей пустынной простоте мрачноватого подвального пейзажа, заставляющими и без того размышлять о вечном, чтобы не загонял в шок случайно забредшего больного или посетителя. Словом, бросили дядю Ваню одного, захлопнули двери и… что-то там поломалось. (Но ничего страшного! Во-первых, больница была трехэтажной, а в во-вторых, еще два лифта продолжали благополучно функционировать).
На утренней конференции дежурный доктор подробно и обстоятельно, как ему потом самому казалось, доложил о случившемся ночью. И – ничего необычного. И в самом деле – умер больной, но до того… до всего, до того, как его стали лечить! А то бы выздоровел! И нет тут вины докторов! Определенно нет! Промелькнуло сообщение – умер человек, но не отложилось оно в памяти ни у кого! Не наше дело, подумали все. Не наша головная боль, рассудили заведующие отделениями – раз больной по отделению не проведен. Меня не касается, отметили каждый врач-ординатор, из присутствующий на утреннем рапорте, коль в палате его ноги не было.
О дяде Ване доложили, услышали, забыли.
Впрочем, существует определенная процедура и все были уверены, она – исполняется.
Это уже потом дежурный врач божился, что машину он вызвал. А может быть и вправду вызывал. Может, машина все-таки приезжала и даже забрала труп. Но другой, вновь возникший! И посчитала вызов закрытым! Все может быть. Одним словом, тело дяди Вани в тот день из лифта никто извлекать и не подумал!
Врач, дежуривший в ту злополучную ночь, отправился в заслуженный, гарантированный нашей конституцией, двадцати четырехдневный отпуск. И уж отдыхал он – на полную катушку. Ни разу его не посетила мысль о больнице, о своем рабочем месте, о страждущих и страдающих. Вино и пиво, женский смех, теплая соленая вода наполняли каждый его день радостью, отодвигая в сторону рутину прошлого и предсказуемую усталость будущего. А когда он благополучно и в срок вернулся, все, что произошло, уже выветрилось из его просветленной памяти.
А лифт не работал. Что-то сломалось. По какой причине? Черт его знает. Больничные лифты выходят из строя регулярно и без предупреждения.
Лифт не работал, но его бездействие не сбивало весь рабочий коллектив с общего рабочего бодрого ритма, потому что пользовались им нечасто, а лишь по особой нужде, в случае острой необходимости. По этой же причине, лифт не принадлежал никому! То есть – не был составной частью какого-то конкретного отделения. Иногда им пользовались сестры-хозяйки, чтобы спустить вниз белье, предназначенное к стирке, иногда – чтобы вывезти, как уже живописалось, труп. Лифтеры о его поломке, конечно, знали, но по своей природе лифтеры люди неторопливые, не на экспрессах гоняют, и молчаливые. То ли такие идут сюда, то ли профессия их делает такими, кто разберет. Флегматичные люди – лифтеры! Да и работы им поменьше, если один из лифтов вдруг замер, встал, превратившись на время – то ли в телефонную будку без аппарата, то ли в подлодку без перископа, то ли в крошечный бордель.
Но, наконец-то, информация пошла по инстанциям. И дошла до заместителя главного врача по хозяйственной части. Тот срочно и строго вызвал бригаду лифторемотников. Да, строго!
Но и в бригаде люди оказались не слишком торопливыми. Бригадир бригады, как положено руководителю, наезжал в больницу. Дружески тряс руки многим. Уединялся с начальником хозяйственной части в его кабинете, где они подолгу пили коньяк или, на худой конец, спирт и говорили про лифты. Иногда бригадир подписывал бумаги. Иногда бумаги подписывал завхоз.
Так продолжалось недели три-четыре.
Наступила осень, разъехались курортники. Опустели пляжи. Теперь по их пустому овдовевшему пространству прохладный морской бриз метал легкие пластиковые бутылки, стаканчики из-под вина и обрывки газет, на которые еще совсем недавно отдыхающие опускали свои радостные зады, ловя остаточные лучики последнего летнего, уже не греющего, солнца. Бегали местные мальчишки, высматривая среди серых голышей потерянные беспечными отдыхающими вещи: очки, авторучки, плавки, купальные шапочки, выискивая мелочь, выброшенную на берег в шторм, заброшенную в море – в надежде.
Семья дяди Вани, конечно же, не дожидались этого грустного момента. Они спохватились сразу. Дня через три, может быть четыре. Прозвонили санатории. Обратились в милицию. Самое страшное – больницы и морги – проверили.
Милиция предприняла свои меры, в эффективность которых, впрочем, сама не верила. Но всероссийский розыск объявлен был! Но безрезультатно!
Недели через две и жена, и дети уже не надеялись увидеть своего мужа и отца живым. И мертвым – тоже. Да и что оставалось думать? Человек уехал отдыхать – здоровый, любимый, добрый, беззащитный, дорогой, немолодой. В одиночестве. Отдыхать – значит кое-какие деньжонки при нем были, а летний курорт – очевидно-опасно-криминогенный район. Да! Здесь меняются судьбы. Тела устремляются друг к другу в порыве… сметая прошлое, разбивая, попутно, фарфоровую хрупкость детских глаз и прозрачную остекляненность супружества. Любовное сумасшествие, как преступление, а преступление, как игра, охватывает толпу. Нетрезвый ресторанный взгляд. Шезлонг, пирс и прыжок в бурлящее море, заполненное опаленными солнцем телами – и не протолкнуться, и случайные объятия под водою, скользкие и мимолетные. Невольное прикосновение к руке у кассы, потом – соседние места в кинотеатре под открытом небом, и стиснутость бедер на заднем автобусном сидении – всё, каждый эпизод, каждое слово объединяют людей в таинственные законспирированные общества, чтобы через неделю разметать их по необъятной нашей стране, как декабристов, оставив след – сквозь годы. И мелькают лица, и звучат голоса, и люди, как силуэты, безмолвны и призрачны. А в курортном городе полно “гастролеров”, злых и безнравственных. И здесь легко затеряться и скрыться.
О чем еще думали – жена, сын и младшая дочь?
Настал долгожданный момент, и бригада треста по эксплуатации грузовых подъемных агрегатов, как спецназ, как тайная группа морских диверсантов, спустилась в больничный подвал…
Привычно откинув маленькую металлическую дверку щитка управления, один из них – тот, кому положено, тот, кто был готов к этому лучше всех, покрутил указательным пальцем небольшое, хорошо смазанное техническим маслом колесико, и двери лифта, кряхтя и постукивая друг о друга от нетерпения, грея застывшей солидол, кровь своего сердца, растворились…
Ну нельзя сказать, что запах был ужасным. За два месяца он выветрился. Пролетел сквозь шахту, спуская пар на каждом этаже понемногу, по чуть-чуть и практически незаметно. Но вид разложившейся, распавшейся, растекшейся органической ткани, совершившей качественный скачок и превратившейся в неорганическую, самопроизвольно преобразовавшей свою внутреннюю глубинную структуру… Ах, лучше не описывать.
То, что ни с кем из лифторемонтомастеров не случилось ничего плохого – это только благодаря тщательно продуманной всеобъемлющей подготовке! (И даже минут за пятнадцать до того, как спуститься вниз и приблизиться к дверям лифта, то есть, по их мнению, приступить к работе, они приняли грамм по сто разбавленного до семидесятиградусной крепости медицинского спирта, который и сыграл роль кардиопротектора. Предвидение!) Да, они все пережили это, но чтобы восстановить душевное равновесие и их дальнейшее спокойствие, администрации больницы пришлось пожертвовать остатком дневного запаса спирта, не считая, как водится по больницам, коньяка и водки.
И начались разборки. В этот же день выяснили, что, кто и когда! Выяснили фамилию больного.
Доктор, дежуривший в злополучную ночь смерти дяди Вани, несмотря на предвкушение отпуска и явного пренебрежения своими обязанностями в оформлении истории болезни, все-таки оставил запись в журнале дежурного врача, содержащую всю ту же паспортную справку. Это спасло его от юридической ответственности. Ему, не раздумывая, влепили выговор, на который он тут же, выйдя из кабинета главного врача, и положил… После чего удалился к себе в отделение, отменил плановую операцию и раскупорил бутылку коньяку, полученную авансом именно за ту операцию, что он отменил.
Паспорт? Да. Был. Положенный рукой деж. врача на обнаженный живот мертвеца, этот документ настолько промок в зловонной черной жидкости и слипся, что никто не мог заставить себя взять его в руки и попытаться прочесть.
Патологоанатом – ему деваться было некуда, подхватил картонный переплет длинным пинцетом и, брезгливо морщась, опустил документ или то, во что он превратился, в полиэтиленовый пакет и тут же сунул его санитарке: – Люба, отнеси главному врачу.
Увидев зловонную бумажку, некогда бывшую документом, главный врач завернул ее во второй полиэтиленовый пакет, затем – в газету, и брезгливо бросил в свой сейф.
Что делать дальше – он должен был подумать. Вообще, как выйти из получившейся ситуации, об этом следовало подумать хорошенько…
За истекший период, а прошло почти три месяца, в горбольницу Сочинска по поводу умершего никто не обращался. Нет! Определенно! Ну и хорошо. Возможно, он бомж, хотя и не похоже. Со слов дежурного доктора – картина типичного инфаркта, криминала вроде бы нет. Как оформить труп, за которым не обратились?
– Никто? Точно, что никто! Проверили?
– Да!
И на следующий день останки дяди Вани в наглухо задраенном гробу были захоронены за счет больницы на дальнем, самом забытом кладбище города.
На фанерке, закрепленной на коротенькой палочке, воткнутой в свежевзрыхленную землю, значились фамилия и инициалы.
Следующий вопрос, что пришлось решать главному врачу, звучал банально – кто виноват?
А виновных вроде бы и не было.
Но так, конечно, не бывает.
– Допустим, дежурный врач отчитался по правилам… Его, кстати, уже наказали. А второй раз, как известно, за то же преступление не наказывают. Хорошо, оставим этого доктора в покое. А почему никто не обратил внимание на информацию о смерти пациента? Очень, очень плохо. Недопустимо! Кто-то должен был обратить! Да! – высказал он свое мнение на утреннем рапорте.
К счастью, в больнице существовала специальная для подобной ситуации должность. Этакий мальчик для битья, а именно – нач. мед, заместитель главного врача по лечебной части по фамилии Карпенко. В основном потому что был он молод и не умен, и опытные заведующими отделениями, разбирающиеся в своей области, не ставили его ни во что. Он зачитывал приказы и подавал главному врачу бумаги, приносил из кабинета копии методичек и исполнял обязанности “козла отпущения”, если того требовали обстоятельства и производственная необходимость. Его и наказали. Впрочем, что значит – наказали? Сам он отнесся к этому философски – деньги не отняли, по лицу не били, а выговор – пчхи-и!
Позднее сентябрьское солнце пригревало, не оставляя ожогов. И закончился день, суматошный и потный, и прохладное шампанское освежило, взбодрило. И создалось впечатление, что все обошлось.
Не верное сложилось впечатление, ничего не обошлось!
Конечно, об этом случае узнали все! Даже самая распоследняя санитарка в больнице, выжимая половые тряпки в женском туалете, судачила с раздатчицей, что зашла пописать и перекурить, о произошедшем казусе. Знали больные. Знали их мужья жены, знали родственники близкие и дальние. В Саратове, в Куйбышеве, в Таганроге и не весть знает где.
Муж одной из пациенток оказался работником органов. И он узнал. И в прокуратуры – тоже! И узнал весь город – город одного дня, одной новости, одной смерти.
В больницу нагрянули.
Эксперты извлекли из сейфа главного врача паспорт. Подсушили его и, через некоторое время, прочли. И выяснили, что умерший был родом из города Н.
Запрос – ответ. Оказывается его давно разыскивают!
Теперь весь удар гидравлической мощи негодования пришелся по главному врачу. Впрочем, несправедливо! В конечном счете он избавил родственников от лицезрения тела их отца и мужа, безвременно их покинувшего. А это, на момент захоронения, было дело благое, (если верить очевидцам из семейства лифтеров). Этим волевым поступком наш безымянный главный врач мог бы гордиться в своей заслуженной старости, если бы сам так плохо себя не чувствовал.
Но когда через месяц страсти улеглись, он “сунул” в мэрии и облздраве, кому надо и сколько, и сохранил свою должность. А нач. меда, так же безусловно сохранившего свою предначертанную ему должность и судьбу, продолжали пинать и царапать. Ведь именно для этого он и назначен!
Глава IX
– Костя.
Не услышал, подумал Павел, когда идущий впереди завернул за косяк и скрылся из виду. Слишком громко кричать в затихшем отделении не хотелось. Больные улеглись, многие уже задремали, а сон у них тревожный. Без особой нужды тревожить его не стоит.
Продолжая размышлять о Малове, Павел поравнялся с дверью своего кабинета и после секундного раздумья отпер ее и вошел. Не присаживаясь, он достал из тумбочки стола бутылку коньяку, выполняя движения почти автоматически, машинально, и наполнил рюмку.
“А все-таки, что ему надо? В реанимации-то? Кроме жены Куваева – больных из отделения нет… Уж не собирается ли он к ней подкатить? А через нее – и к мужу? Денег ищет спонсорских? Хм, моя больная, я оперировал… Или он направился в опер. блок? Тем более, странно. Пожалуй, придется подняться”.
Павел поднес рюмку ко рту и задумчиво выпил.
“Стоит подняться, стоит”.
Павел поставил рюмку на стол.
Он опять вышел в коридор.
Проходя мимо сестринской, он постучал и, не дожидаясь ответа, заглянул.
Две девушки, словно замороженные, сидели в тех же позах. За два с лишним часа, с того момента, как он заглянул к ним в первый раз, они, кажется, не сдвинулись с места.
– …Угу, Кати нет, угу, еще не вернулась.
Он вежливо улыбнулся и закрыл дверь. Дойдя до конца коридора и никого более не встретив, Павел подошел к двери, препятствующей выходу из отделения… Она была заперта.
“Правильно, нечего шляться посторонним”, – подумал он машинально и поднял дверной крючок, открывая дверь.
Поднимаясь по лестнице вверх, где-то между восьмым и девятым этажами, какая-то беспокойная мысль заерзала, засверлила у него в мозгу. Но что было не так. Но поймать, ухватить её, он так не смог.
– Вика, привет, Костя Малов здесь? – операционная сестра смотрела телевизор в комнате отдыха.
– Нет, – медленно, как-то нерешительно, словно не зная, что и ответить, протянула Вика и опустила глаза. – У нас тихо. Убираем.
Павел знал Вику довольно давно. Она работала в больнице лет десять. И ее смущение показалось ему неестественным. Что происходит? Что тут делает Костя? Зачем он пришел? Вика не могла его не заметить. Дверь распахнута. Но не ведь призналась.
Павел прошел дальше, вдоль операционных. Всего их было пять. Каждая состояла из небольшого сан. пропускника, предоперационной, моечной, и, наконец, самой операционной комнаты, посередине которой стоял операционный стол. По очереди – он заглянул во все. Четыре операционных были пусты, а в одной – торопливо суетилась санитарка. Разговаривать с нею особенного смысла не имело, ничего путного она сказать не могла и Павел лишь молча оглядел знакомое помещение. Несмотря на разобранный стол и только что помытые полы, создавалось впечатление, что здесь недавно работали. Оперировали.
“Что за черт! Почему я не знаю, – негодуя подумал Павел. – Опять аборты? Или кто-то из наших, из хирургов, занимается халтурой?”
Действительно, такая практика существовала. В вечерние часы – за деньги, разумеется – занимались тем, что сами называли мелочевкой, – оперировали грыжи, удаляли небольшие доброкачественные опухоли – фибромы, липомы, родинки, папилломы, атеромы, выполняли несложные косметические операции – накладывали новые косметические швы взамен старых безобразных рубцов, увеличивали молочные железы, гинекологи прижигали эрозии, делали аборты, восстанавливали девственность. Словом, подрабатывали.
Но сегодня Павла что-то беспокоило. То ли излишняя таинственность, то ли недоброе предчувствие. Он и сам не знал.
Он прошел до реанимации. Нет, и здесь Костя не появлялся.
– Хотя дд-да… он-н, в больнице, не-е так давно звонил поп-п-по местному… Что? Да, н-нет. Тебя спрашивал. Я-я-я и сам знаю, что делать. Ну-у-у, лад-д-дно, и ты не обижайся. С Куваевой все в порядке. Д-да, банкир появится завтра, уже в-в-в отделении, да, главный предупредил, чтобы его сюда категорически не пускали. А я откуда знаю почему? Ну, д-д-а, специально предупредил. Пока, доброй ночи, всем нам, надеюсь сегодня больше не увидимся, – дежурный анестезиолог немного заикался, но не имел по этому поводу ни единого комплекса. Он весело улыбнулся и напоследок пихнул Павла в плечо: – С-спи-и.
Надежда не увидеться до утра была обоюдной.
21.15. Только Павел вошел в кабинет, как в коридоре раздались шаги. Он выглянул. Теперь уже с противоположного конца, то есть со стороны лестницы и лифта общего пользования, приближались двое.
“Кто, – прищурился Павел. – Ага!”
Впереди на полшага шел Костя Малов, за ним, степенно и как будто с неохотой, Тускланов Петр Семенович.
– Вот видите, Петр Семенович, он на месте, как и положено дежурному врачу. Привет, наливай, – громко и бодро, полностью игнорируя шестьдесят пар ушей и их право на покой и отдых, заговорил Костя. Вечерней усталости в нем не чувствовалось вовсе.
– Добрый вечер, Петр Семенович, проходите.
– А я что? Не проходите?
Костя выглядел возбужденным, а Петр Семенович, как показалось Павлу, напротив, смущенным, не в своей тарелке.
– И ты! Куда от тебя денешься? – смирившись с неизбежным, сказал Павел, жестом приглашая за собой.
Все трое прошли в кабинет.
– Что я говорил, – завопил Костя, увидев на столе бутылку и наполненную рюмку. – Удачно зашли.
Павел пожал плечами: – Ты всегда заходишь удачно.
Делая вид, что ворчит он поставил на стол еще две рюмки.
– Вы знаете, Павел, Константин так настойчиво звал, не сумел отказаться, – робко стал объяснять Тускланов.
– Что вы, я очень рад. Дежурство спокойное. Скучно. Рад, что вы зашли, а Константин… У него интуиция, знаете какая! Если в нашем заведении где-то наливают, неважно где, на каком этаже, он этот процесс чувствует сердцем.
– Скажи, печенью, – поправил его Костя.
– Хорошо, что он человек серьезный и положительный, а то – давно бы спился, – улыбнулся Тускланов.
– Да, вы правы, – Павел посмотрел на друга. – А что ты здесь делаешь? Рабочий день давно закончился.
– Знаю, – Костя энергично закивал. – Ну и что? Я человек серьезный и положительный, и на работе – горю.
– Вижу. Вон в глазах огни какие-то шальные.
– Не обращай внимания, – отмахнулся Костя и взял рюмку. – За наше здоровье.
– Ну а все-таки, – как только они опустошили рюмки и осторожно поставили их на полированную поверхность письменного стола, раздвинув в разные стороны разбросанные по нему истории и амбулаторные карты, повторил свой вопрос Павел. – Чем ты занимаешься в такое время?
Вопрос как бы относился к обоим. Не только Малов, но и Тускланов находился в больнице в неурочное время, что казалось еще более странным.
Петр Семенович смутился окончательно, Костя же – лишь расхохотался.
– Выпиваю, – подмигивая ответил он, и после паузы загадочно добавил. – Дела. А чего мы ждем? Разливай по второй.
– А у меня, знаете ли, студенты отрабатывают пропуски, сдают зачеты, – будто оправдываясь, несвязно стал объяснять Петр Семенович.
Павел удивленно посмотрел на Тускланова. Тот определенно нервничал.
“А ведь он занимался тем же, чем и я… там, в палате, на шестом, – догадался Павел. – Ну, конечно! Что еще могло так смутить старика? Наверное, действительно студенточка. Ах, Петр Семенович, врать совсем не умеете. А как дома с женой будете разговаривать? С другой стороны, не в бордель же вам ходить”.
Да, Павел в своих подозрениях оказался абсолютно прав. Смазливая пятикурсница без больших усилий затащила Петра Семеновича в постель. То есть – в постель, говоря образно. Без излишних церемоний она удовлетворила его своим языком, присев перед ним на корточки. А когда Петр Семенович выпил кофе и немного отдохнул, она сняла колготки, легла на стол и, забросив свои бедра ему на предплечья, как на стойки гинекологического кресла, и, равнодушно, снизу вверх, поглядывая на немолодое напряженное лицо своего педагога, ерзая по полированной поверхности профессорского стола, закрепила свою уже выставленную в зачетку пятерку.
Сейчас ему было непередаваемо стыдно. С самого начала, с первой минуты, когда неровное дыхание успокоилось и сердечный ритм вернулся в рамки физиологической нормы, ему стало стыдно. Что он наделал! Как он мог! Он, Тускланов Петр Семенович, хирург, доцент, уважаемый отец семейства, да чем он занимался в течение последнего часа, возможно, самого сумбурного часа в его жизни!
А девица, получив в руки зачетку, девица вежливо сказала спасибо, лукаво улыбнулась и добавила, что если он захочет ее вновь – все возможно. Например, за деньги или за те же зачеты, но – по наиболее сложным предметам. Простые она сдает сама. Она написала свой номер телефона, под ним аккуратным почерком школьной отличницы первых трех классов указала свою фамилию, имя и номер группы и, чмокнув Петра Семеновича в залысину, небрежно опустив зачетку в сумку, исчезла.
Но не исчезло чувство вины у доцента Тускланова и потому – жег этот последний поцелуй Петру Семеновичу голову и казался ему самому дьявольской отметиной.
Разлили по третьей.
Они сидели уже минут тридцать и в этот раз Павел шагов не расслышал.
В дверь настойчиво постучали.
– Да ладно, не убирайте, кого бояться, кто здесь сейчас главный? – не то чтобы опьянев, но уже набравшись алкогольной бравады, сказал Павел своим собеседникам.
– Ты – главный! Тебе виднее. Ты – ночной главный врач, – Костя сделал паузу, как видно для того, для того, чтобы и Павел и Тускланов оценили остроумие его фразы в целом, и закончил. – Юридически.
Павел встал.
Вдогонку ему неслось: – Открывай, ты – главный врач. Фактически. Приказывай нам. И Костин смех над понравившейся ему собственной шуткой. – И юридически.
Юридически – это слово ему определенно нравилось, его значение или просто звучание. Павел обратил на это внимание перед тем, как открыть дверь.
На пороге стоял главный врач.
“Слон! Вот, черт! Костя накаркал!”
Почему главного врача региональной онкологической больницы города Волгогорска на неформальном внутрибольничном лексиконе прозвали Слон, никто уже и не помнил. И какие свойства его характера или внешнего вида связывали с этим самым крупным из наземных млекопитающих, обитающих сейчас на земле, представить было трудно. Достоверно было известно только то, что сам он об этом прозвище знал и на него не обижался.
Павел обернулся и свирепо посмотрел на Костю, в неподдельном негодовании вращая глазами.
Но Костя, как ни в чем не бывало, вдруг сбросил половину своей нетрезвости и уже с интересом изучал литературу, в беспорядке заполнявшей книжные полки в шкафу.
“Теперь меня будут мешать с грязью”, – обречено подумал Павел.
Вновь вошедший цепко осмотрел каждого и всю обстановку в целом. Он обратил внимание и на то, на каком уровне в бутылке находится коньяк, насколько этот уровень опустился ниже заводского и соответствует ли легкая затуманенность зрачков хирургов допустимому.
“Если захочет, устроит настоящие неприятности”, – вновь понеслось в голове у Павла.
Но главный повел себя неожиданно. Он добродушно заулыбался и кивнул сидящим за столом.
“В конце концов, ничего необычного не происходит. Будто он не знает, что иногда хирурги выпивают. И я с ним за одним столом выпивал неоднократно”, – подумал Павел и успокоился.
– Ничего друзья, ничего. Я к вам присоединюсь, не прогоните?
– Проходите.
Павел все же чувствовал неловкость. И только Костя, казалось, не был ни напуган, ни смущен.
– Проходите, проходите, – подхватил он приглашение и тут же полез за четвертой рюмкой.
– Паша, рюмки у тебя чистые? – и не вслушиваясь в ответ, он наполнил пустую рюмку коньяком, а заодно – плеснул понемногу в остальные.
– Костя, у тебя все в порядке? – не глядя на него и как бы равнодушно, как бы из вежливости спросил Малова тот, кого звали Слон.
– Конечно, разве могло быть иначе?
– Вот и ладненько.
Разговаривают на равных, будто оба знают одну и ту же тайну, промелькнула нелепая мысль, и Павел поймал себя на том, ему не нравится их простенький диалог. А что именно? Этого он не знал. Чувствовалось, однако, что говорят они о чем-то конкретном – о том, что не предназначено для чужих ушей. И вопрос Слон задал не из вежливости. Очень жесткий вопрос, по существу, размышлял Павел, переваривая только что услышанное.
Но уже через секунду показалось ему, что он сам, усталый и раздраженный, все напридумывал. И ничего не обычного нет в банальной болтовне знакомых людей. И только какой-то горький осадок опустился куда-то глубоко, а черная мглистая аура взвихрилась над ним и болезненно стиснула виски. А ведь у него – все хорошо…
В тот момент, когда в дверях появился главный врач, Петр Семенович смутился еще сильнее. Он даже покраснел и, едва поздоровавшись, он тут же засобирался.
– Мне пора, – произнес он извиняющимся тоном, но поднялся из-за стола решительно, не давая остальным право его уговорить. – Спокойной ночи. А вам, Павел, спокойного дежурства.
– До свидания.
– До завтра, доц.
Тускланов вышел.
– А он-то что делает в больнице? Уж скоро десять. Жена что-ли из дома выгнала, – задал резонный вопрос Слон.
– Зачет, говорит, принимал.
Костя проговорил фразу двусмысленным тоном, вкладывая в слово зачет какое-то новое и неприличное значение. Получилось смешно. Главный прыснул.
– Зачет, – протянул он понимающе. – Вот старый пердун.
Он снова захохотал, на этот раз над своими собственными словами, а потом повторил, выговаривая неприличное слово так, словно это был некий пароль, подтверждавший их общую принадлежность к некому тайному сообществу. – Пердун.
Он рассмеялся в третий раз. Вот только глаза у него почему-то не смеялись, они смотрели сухо, настороженно, как у мертвеца.
– Ну как там Куваева? – на этот раз он обратился Павлу.
– Нормально, как обычно, без осложнений, – быстро ответил Павел.
– Я приказал не пускать мужа в реанимацию. Пусть почувствует себя простым рядовым гражданином. Опустится с небес на землю. Правильно?
– Конечно, конечно, – закивали оба хирурга, – пусть почувствует. У нас свои правила. Банкир, губернатор, президент – нам без разницы, у нас строго.
– А завтра в пять, он появится у тебя в отделении. Вот тогда, Паша, похлопочи. Не то, что бы особый режим, но посетителей на время удали. Ну, там, карантин… Тараканов, мол, будем морить… Придумай сам. Охрану в отделение не пускай, я не разрешил. Куваев знает, он не против. Пусть ждут его на лестничных клетках. Нечего больных запугивать. А больные? Как обычно, никаких ограничений. Пускай гуляют, смотрят телек, пусть кашляют, пукают, стонут. Одним словом, никаких мер строгого режима. Не зона. Больной для нас – самый главный директор и банкир. Больница существует для больного. – Он так увлекся своею риторикой, что начал жестикулировать. Он поднял указательный палец и указывал им куда-то вверх, вознося туда же умозрительного больного, “своего главного директора”. – Да!
– Да! – не искренне согласились Павел и Костя.
Он опомнился и внимательно посмотрел на палец, сделав вид, что ищет не нем заусенец, потом сжал пальцы в кулак и опустил на колено.
Возникла пауза. Пожалуй, она грозила затянуться.
Костя и Павел одновременно нашли выход. Они приподняли свои рюмки: – Ваше здоровье.
– Hет, нет, бросьте ребята, мы же – хирурги, одна семья. К чему – ваше здоровье… Наше здоровье! Правильно?
Оба хирурга согласительно кивнули и выпили.
Высокопарные выражения начинали им надоедать, но Павлу, хозяину кабинета, покинуть общество было неудобно, Костя не двигался с места, не желая оставлять друга наедине с не самым приятным и легким собутыльником, а их собеседник вдруг задумался и тоже пока не собирался уходить…
Ничего не оставалось, как снова разлить!
Бутылка закончилась. Павел нагнулся, чтобы достать из тумбочки стола еще одну. Когда он выпрямился и поднял глаза, он случайно поймал взгляд насмешливых Костиных глаз, который что-то беззвучно, но явственно сигнализировал их третьему на сегодняшний вечер компаньону. Павел посмотрел на главного… Не успел. Отпечаток начальственности и напыщенности уже пронизывал его взор – маленький капрал, пройдясь вдоль передовой, опять вскочил на бронзовый пьедестал, напялил треуголку и задрал подбородок к небу.
“Почему-то мне кажется, – вяло подумал Павел, – что скоро и у Кости Малова появится такое же выражение. Капральское. Нет, у нас оно – сержантское. Плохо. Ах, как много поводов выпить”.
Павел скосил глаза и попытался рассмотреть свое отражение в стеклянных дверцах книжного шкафа.
Корешки книг со специальными названиями – хирургия кишечника, эндокринная хирургия, общая хирургия… Они прыгали, наскакивали друг на друга, смешивая лаконичные термины, отображающие суть, преобразуя их в бессмыслицу – рак прямой молочной кишки железы…
“Бр-р! Я опьянел. Все, хватит! Я же дежурю”.
– Не забудь, Паша, про Куваева, – напомнил главный.
Он встал. Вскочил и Малов.
– Я провожу.
– Не волнуйтесь, все в порядке, – не в такт, не в тон ответил Павел и не встал, когда главный врач лишь слегка прикоснулся к его ладони, делая вид, что пожимает руку.
Утром его разбудила Катя. Набравшись смелости, она постучала в дверь и, когда заспанный и немного опухший со сна и коньяка Павел, голый по пояс, в одних только легких хлопчатобумажных операционных брюках, приоткрыл дверь, шустро протиснулась к нему в кабинет и обняла за торс.
– Доброе утро, дорогой.
– Катя, что-то случилось?
– Нет, нет, ничего, все спокойно, прости, но уже семь, а вчера ты не пришел. Обещал!
Катя терлась низом своего живота о его и, несмотря на легкое похмелье и некоторую ночную скованность, Павел опять почувствовал прилив крови у себя под трусами.
– Сколько времени, ты сказала?
– Мы успеем, успеем, – зашептала Катя исступленно.
“Семь, – тупо прикинул Павел. – Подняться в реанимацию, обзвонить этажи, умыться, побриться. На кухню не пойду, кто-то пробу все равно снимет. Дневники тяжелым запишу потом, после рапорта”.
Он глубоко вздохнул и позволил Кате опуститься на колени и стянуть с него брюки и трусы. Голова закружилась сильнее, но уже не с похмелья, когда золотистое облако с дынным ароматом ворвалось в кабинет вместе с утренними солнечными лучами и заволокло все предметы. А когда, благодаря трудолюбивым пальцам, жадным губам и откровенному языку, буквально через несколько секунд кровенаполнение его члена завершилось и он приобрел надлежащую и нестыдную прочность, сотни искорок вспыхнули, как одна, и дождь, обильный, как из выжатой губки и такой же золотистый и сладкий, оросил их обоих. Начинался новый рабочий день.
Его ждали дела, поважнее и помельче: операции, консультации, “истории”6, кофе, родственники больных, кофе, коньяк, перевязки, коньяк, опять кофе… Все эти мелкие события, что цепляются друг за друга, плавно переходя, а иногда – переползая, сливаясь и преобразуясь одно в другое и составляют то плавное течение жизни, что движется всегда вперед, а вспять – никогда. Но сегодня, надеялся он, все будет происходить без беготни, без мучительных раздумий, без срывов и стрессов. Без напряжения.
Когда часа в четыре он вошел к себе в кабинет и устало присел за столом, он обратил внимание, что в кресле, стоящем с другой стороны стола, куда обычно присаживаются посетители, лежат то ли два, то ли три пакета.
“Приятно, – подумал Павел. – Кого я сегодня выписал? Никого. А кабинет забыл закрыть? Нет! Сестра-хозяйка, видно, открыла. Все равно – приятно”.
Он приподнялся, протянул через стол руку и, ловким движением выбросив вперед кисть, подхватил пакеты и поставил перед собой. Пакетов оказалось два. В одном – бутылка дорогого коньяку, коробка конфет и шикарная книга с репродукциями ватикановских картин. Неплохо. Второй пакет содержал презент попроще: две бутылки водки, баночка красной икры и палка сухокопченной колбасы. В любом случае, и второй безымянный страждущий вызвал у Павла расположение к нему. Только теперь Павел обратил внимание, что на кресле остался еще один сверток. Точно такой же полиэтиленовый пакет, но скрученный и перехваченный резинкой.
Через стол до него не дотянуться. Придется встать. Павел устало поднялся, поведя плечами. Обошел свой стол. Взял пакет, сорвал тонкую аптечную резинку, встряхнул мего, расправляя в воздухе, и запустил внутрь руку…
На свет появилась довольно приличная пачка денег.
– Ого, – не сдержал он возгласа. – Деньги!
И не просто обычные деньги, а обладающие двумя отличительными особенностями. Во-первых, они все имели зеленый цвет, в во-вторых, немного сместив свое изображение от центра, растрепав длинные седые волосы и поджав губы с каждой бумажки одинаково пристально взирал один и тот же человек – американский президент Франклин.
– Ого, – Павел даже присвистнул. – Это по-нашему! Круто!
В пачке, когда он пересчитал купюры, оказалось десять тысяч.
“Куваев! Молодец мужик! Не ожидал”, – после короткого раздумья сам себе объяснил происхождение денег Павел.
Сегодня Павел решил домой не возвращаться, а навестить Лену. Он позвонил жене, лаконично объяснил, что задерживается и, вероятно, на всю ночь. Купил веточку лилий и две бутылки шампанского и, оставив «Опель» у подъезда, поднялся на седьмой этаж.
Глава X
В свою прошлую жизнь Николай возвращался по утрам. Вот уже много лет он просыпался, помня один и тот же сон. С трудом стряхивал ощущение, что он – пятнадцатилетний паренек, проворный, ловкий и счастливый, легко бежит по футбольному газону, размахивая руками и что-то крича во всю силу своих молодых тренированных легких. А со всех сторон поля к нему бегут друзья, его команда. Вот они его догоняют, обнимают и валят с ног и в этот момент в сознание врывается неистовый рев стадиона, среди многоголосицы которого различимо его имя. “Котов”,– скандируют трибуны. “Ник”,– орут пацаны и знакомые девчонки. И восторг и азарт переполняют его душу…
Николай Котов родился и рос в средней советской семье. Тогда, в начале шестидесятых, девочки выскакивали замуж в двадцать. К двадцати трем рожали второго, а иногда и третьего. И на этом обычно успокаивались.
Николай считался поздним ребенком. Его мать, некрасивая и невзрачная женщина, родила своего первенца, когда ей исполнилось сорок два. А до замужества и родов, скромная тихая учительница русского языка, Татьяна Рогова, в свои сорок – чувствовала себя усталой и измотанной. Казалось, что жизнь не сложилась.
Она была единственным ребенком в семье рабочих со сталеплавильного завода. Жили они в двухкомнатной «хрущобе» в рабочем районе, на окраине города. Рядом, в таких же малогабаритных пятиэтажках, возведенных в спешке ранних шестидесятых, ютились многочисленные семьи простых работяг – с того же сталеплавильного, тракторного и силикатного заводов.
Дети заводчан, окончив школу, не раздумывая, шли по стопам родителей. И исключения здесь, безусловно, подтверждали правило.
Таким редким исключением как раз и стала Татьяна.
Еще в школе, не обладая яркими способностями, она поражала учителей своей работоспособностью и усидчивостью. И именно благодаря этим качествам, она всегда училась на отлично, и после школы легко поступила в педагогический – профессия педагога все еще оставалась престижной, особенно в той среде пожилых рабочих, что составляли большинство жителей ее района.
Учась на последнем курсе и изучая согласно институтской программе начальные элементы психологии, Татьяна вдруг с ужасом поняла, что все ее успехи, обусловленные неимоверной старательностью, имеют единственную и страшную в своей простоте причину: она – некрасива! Открытие, что словно молния опалило её сознание.
“Она некрасива и потому – неинтересна, и поэтому – успехи в учебе естественны, как наполнитель некой пустоты, подменяющий наиважнейшую, чудесную, волнительную часть женского бытия”.
По замкнутому кругу проносились теперь её мысли и не было в них ни кокетства, ни легкой иронии в ответ на восхищенный взгляд, а лишь одна горькая правда.
Где-то, в цепи логических заключений, проскальзывала методологическая ошибка, но молодая девушка, постепенно впадающая в состояние психологического шока, конечно же, не сумела ее рассмотреть. Сил, противопоставить что-то по-настоящему весомое и значительное ужасному, но неоспоримому факту, в тот момент у Татьяны не оказалось.
Закончив с отличием институт, она посчитала за благо вернуться в свой район, без обиды отвергнув более заманчивые предложения.
Вот уже пятнадцать лет она скромно трудилась учительницей русского языка в обычной средней школе, где не лучшие российские учителя практически безуспешно пытались посеять в душах нового поколения что-то “доброе и вечное”.
Родители старели и неуклонно скатывались в состояние отвратительной старческой деменции. Как-то неожиданно и одновременно они приобрели агрессивность и требовательность, беспричинно впадали в состояние ярости, балансируя, порой, на грани буйного помешательства и все больше отклонялись от норм общественного поведения. В свои семьдесят они перестали пользоваться туалетом. Мать ходила под себя, а отец, превратившийся в ссутулившегося беззубого старика, со спутанными седыми прядями редких волос и пятидневной щетиной на впалых щеках, вообще, предпочитал справлять нужду посредине комнаты, служившей когда-то залом. Не стеснясь ни такой же сумасшедшей супруги, ни молчаливой и покорной дочери, кряхтя и бессмысленно посмеиваясь, он долго разглядывал свои гениталии, издавал неприличные звуки и пытался перехватить ошеломленный от омерзения взгляд светло-серых Татьяниных глаз. Впрочем, и к этому Татьяна вскоре привыкла, безропотно ожидала окончания процедуры, а затем, так же сосредоточенно, как она выполняла любое другое дело, принималась подтирать лужи, собирать кал, мыть, стирать.
В сорок лет она по-прежнему оставалась девственницей.
Счастье улыбнулось Татьяне, когда она повстречала своего бывшего одноклассника Толика Котова.
Они не виделись со школьных лет и узнали друг друга с трудом.
Толик из стройного, сообразительного семнадцатилетнего мальчишки, каким он помнился Татьяне, превратился в циничного грубоватого мужика, погрузневшего, но все еще по-военному подтянутого – в свое время он закончил Харьковское танковое военное училище. Впрочем, военная карьера у него не заладилась из-за быстро приобретенной привычки к обильным возлияниям и в тридцать восемь лет в звании старшего лейтенанта, без серьезной гражданской профессии, Анатолий очутился за пределами родной части.
Непривычная свобода оказалась пьянящей. На короткий срок. Ровно настолько, на сколько хватило выходного пособия. В течение двух последующих лет Толик колесил по России, принимая участие в различных, но всегда масштабных и шумных стройках “развитого социализма”, а затем как-то естественно для самого себя вернулся в родной город.
Татьяна жила на той же улице, через дом. Как им не встретиться?
Они столкнулись, как говорится “нос к носу”, в субботу, у входа в небольшой районный гастроном. (Про такой магазинчик, живущие неподалеку, обычно говорят “наш”, а единственная продавщица, немолодая тетя Валя или Маша, отпускает в конце месяца в долг, по-соседски).
Толик вышел из гастронома, только что приобретя там “законную” ежесубботнюю поллитровку. Он чуть приостановился и, не торопясь, раскурил папироску. Он внимательно вглядывался в лица, идущих ему навстречу, обоснованно надеясь на компанию в предстоящем мероприятии.
Татьяна, свободная по субботам от уроков, шла навстречу своей судьбе.
Она не спешила. Глазея по сторонам, Татьяна скорее прогуливалась, направляясь в гастроном почти для развлечения – лишь бы оттянуть неприятный момент возвращения домой, где предстояло подтирать вонючие лужи и слушать невразумительную монотонную брань.
Радость обоих была искренней. Толику, давно утратившему чувство понимания женской красоты, Татьяна показалась милой и привлекательной. В течение последних лет именно такие женщины, с некрасивыми, уставшими лицами, окружали его в рабочих общагах, дешевых закусочных, на вокзалах и в поездах – каменщицы и штукатуры, поварихи и проводницы, продавщицы обощных ларьков. От них Татьяну выгодно отличало чисто умытое лицо и аккуратно уложенные волосы.
Согласившись прогуляться с другом давно минувшей юности, Татьяна, неожиданно для самой себя, почувствовала легкое приятное возбуждение – и подобное чувство было чем-то новеньким, не испытанным ранее, выходящим за привычные рамки ее самоощущения.
Далее, все происходило точно так, как в сотнях, тысячах раз до нее. Стакан водки приятно опьянил. Толя выглядел галантным и мужественным. На приглашение отужинать у него дома и отметить встречу – отказать было неудобно.
Удивительно, но случайная встреча закончилась в постели.
И первый сексуальный опыт в ее жизни не показался Татьяне неприятным. Ей не было больно. В то же время льстило, что сильный и уверенный мужчина, каким казался, да и на самом деле был Толя Котов, захотел именно ее, а не одну из молодых куколок, готовых раздвинуть ноги для любого.
Толя, в свою очередь, действуя уверенно и быстро, оценил приятную простоту отношений с послушной и доброй женщиной.
В тот первый вечер и был зачат Николай Анатольевич Котов.
Через две недели Татьяна и Анатолий поженились.
И случилось так, что их брак, скоропалительный, в чем-то даже смешной, не логичный, оказался удачным.
На удивление соседям и родственникам, Татьяне, да и самому себе, Толик остепенился. К жене с первых дней совместной жизни стал относиться уважительно и бережно. За чужими юбками не волочился. Сына любил, в меру баловал, сердцем понимая, что его сын – единственный продолжатель рода Котовых. Он по-прежнему крепко выпивал, но теперь – только по субботам.
– Как положено, – бурчал он в ответ на робкие Татьянины попытки прекратить возлияния.
По воскресеньям – опохмелялся. Последние годы жизни – в одиночестве. Вторую половину дня полулежал в кресле перед телевизором, отдыхал. В понедельник равнодушно шел на завод. Работал как все, в передовиках не числился, но и обузой для бригады не был. Когда сыну исполнилось три, стал брать Николая на воскресные прогулки. Анатолий полюбил сидеть в сквере на лавочке. Он тянул прохладное пиво, растягивая удовольствие, и рассуждал сам с собой “за жизнь”, чувствуя себя в эти минуты солидным, повидавшем на своем веку, отцом семейства. Коля сидел рядом, молча слушая отца. Зимой, по тем же воскресным дням, несмотря на головную боль после “вчерашнего”, Анатолий таскал радостного Коленьку за собой на санках до ближайшего пивного ларька. Таких прогулок Коля, в тайне от родителей, с нетерпением ждал всю неделю.
Вот в такой “типичный” воскресный день у Анатолия, ему было сорок шесть, случился первый инфаркт. Перенес он его легко. Провалялся на больничной койке всего две недели.
– Все будет хорошо, прекрати выть, – процедил Анатолий в ответ на Татьянины вздохи и всхлипы в день выписки. И через три дня, в очередную субботу, уговорил, “как заведено”, поллитровку прозрачной. Не слушая жену, беззлобно хмыкнул, потрепал мельтешащего рядом Николая по голове и рано улегся спать.
Через год повторный инфаркт свалил его на месяц. А еще через шесть, Анатолия не стало. Третий приступ он не перенес.
За полтора года, от момента первого “звоночка”, Татьяна морально подготовилась к подобному исходу. И когда ожидаемое случилось – поплакала, как полагается, исполнила по православному обычаю ритуал: девять дней, сорок… в церквях побывала, отмолила за упокой души, и, успокоившись, выплеснула на восьмилетнего Николая разом весь водопад нерастраченной женской любви.
Коля, в то время, был в сущности обычным ребенком. По-детски – добрый, а иногда, также по-детски – неоправданно жестокий. И вот тут, в неспокойное сумбурное море детского сознания, влили полную лохань яда. Пострашнее укуса змеи. Яда унизительной, рабской, ослепляющей материнской любви.
Николай превратился в идола и бога – безгрешного, но окруженного врагами и недоброжелателями.
Какое-то время детская душа противилась, сопротивлялась. Понятия о дружбе и чести, чтимые и в школе, и среди дворовой шпаны, находили отклик в его сердце и разуме, но, в конце концов, и они не выдержали бешеную атаку материнской любви, все сметающей на своем пути.
К пятнадцати годам Николай твердо представлял, что он единственный, неповторимый, и только его тело и его дух имеют ценность в этом, созданном для него, мире.
Убедиться в этом и сформулировать этот постулат для себя самого, помог случай.
Тот день намертво врезался Николаю в память, как самый счастливый в жизни.
Как и большинство дворовых пацанов того времени, он играл в футбол. Он любил играть. Любил еще и потому, что получалось у него неплохо. Была природная координация и скорость, амбиции, заставляющие изо всех сил доказывать, что он, Николай Котов, лучший. Это были, пожалуй, главные составляющие его таланта. Возможно, в другое время, при других обстоятельствах – сложилась бы успешная футбольная карьера. Не получилось.
– Гол! Го-ол… – разносится над стадионом.
– Котов, Котов! – скандируют трибуны.
– Ник! – орут во всю глотку пацаны и знакомые девчонки.
Никогда ранее и, конечно, никогда потом он не был так переполнен ощущением светлой, «цветной» радости, необузданной и легковозбудимой силы. Эти чувства кипели в нем, вызывали физическую дрожь, покалывание в мышцах.
Мысли стремительно носились вокруг единственного предмета, который в тот миг олицетворял центр мироздания. И этим центром, ядром, этой бриллиантовой песчинкой, вокруг которой все и было закручено, от начала начал, был он сам.
С этого мгновения его эго разрасталось, словно плесень в питательной среде, переваривая дружбу, любовь, сыновний долг. С этого дня он вступил во взрослую жизнь. Юношеские обиды и ссоры, вздор и пустяки, необходимые как залог дружбы на всю жизнь, теперь требовали растянутой и изощренной мести. Превосходство над ним – вызывало огонь на уничтожение. Измерением любви стали… нет, он никого больше не любил.
С годами характер, сформированный в одночасье, лишь претерпевал метаморфозу, известную под термином мимикрия. Свойство это распускалось нежным бутоном в сложном характере юноши.
Через несколько лет, необузданный юношеский эгоцентризм сменился на звериную безжалостность, холодный расчет и неправдоподобное упорство.
Такие качества не остаются невостребованными.
Сначала “случилась” армия.
Последние школьные годы пронеслись, как короткий летний дождь, и только констатировали, что спортивная карьера ему не светит! По очевидной для всех причине: спорт – это труд и пот, грязь мокрых полей и изнуряющая жажда тренировок, боль и кровь падений и ударов, и объективное признание того, что ты – никогда не станешь лучшим, потому что есть Пеле, Боби Мур, Стрельцов. Все это изначально перечеркивало жирным черным крестом чувство радости от будущих побед и ту эйфорию, возникающую где-то в спинном мозге, когда слышится как двадцать тысяч человек орут в унисон твое имя.
Его отчислили из команды. И он проглотил обиду.
Вопрос “что делать?” – чеканил шаг.
Продолжать учебу или идти работать? Ни то, ни другое не входило в его планы. Армейская служба высветилась как единственная альтернатива. (Имел значение и последний аргумент – уклонение от воинской обязанности грозило многими осложнениями). И он, как и тысячи его сверстников, оказался на призывном пункте.
Далее – нестройная колонна, одетых в плохонькое, семнадцатилетних парней прошагала по центру города. Вокзал. Плацкартный вагон. Казарма. Триста коек, стоящих через тумбочку. Солдатская роба и сапоги. Первый удар в лицо от “деда”. Хлесткий, сильный. Просто так!
Тот солдат был обычным деревенским парнем. Не злодей, не убийца. Он бил, потому что год назад били его. Он, не напрягая свой скудненький умишко, искренне считал, что так – положено. Загляни он в глаза подвернувшегося под руку паренька, может быть и рассмотрел бы в них черную пропасть ненависти, смертельную. Был бы шанс убежать.
Утерев рукавом гимнастерки кровавые сопли и улыбнувшись разбитыми губами, Николай медленно, смотря строго перед собой, молча отошел на безопасное расстояние. Но сделав лишь первый шаг, он уже знал, ударивший его, умрет. Оставалось уточнить: где, когда и как.
Пропитанная запахом немытых тел, тухлым запахом старого белья, грязных одеял и матрацев, хлорки, смешанной с запахом сортира, наполненная звуком разнокалиберного храпа, сопенья и хрюканья, скрипом ржавых коек, ночь в казарме – то, что надо, чтобы придумать и разработать до мельчайших деталей план первого убийства. Первого в жизни Николая Котова.
Он лежал на койке, на спине, абсолютно неподвижно, плотно, но не жмурясь, закрыв глаза, чуть запрокинув голову назад, расслабив плечи и раскинув руки вдоль туловища. Его дыхание было свободным и глубоким, а пульс редким – пятьдесят ударов в минуту. Ни один мускул его тела не дрогнул, пока его мозг, под воздействием каких-то еще не раскрытых, не установленных гормонов или ферментов, создавал, а точнее, синтезировал и прокручивал, словно ленту видео, отснятую классным режиссером, сцену убийства, по ходу дела уточняя детали, инстинктивно отыскивая оптимальный вариант.
Когда в 6.00. дневальный в голос прокричал “Подъем!”, оповещая о начале нового дня, заполненного, как и череда предыдущих, преодолением “тягот и лишений воинской службы”, сон Ника был ровным и спокойным, как у человека без внутренних противоречий и умеющего решать поставленные перед ним задачи.
Первые три недели солдатского “бытия” прошли гладко. Выполняя приказы и правила нового распорядка своей жизни, Ник как бы наблюдал за всем происходящим со стороны, обособившись за “берлинской” стеной своего эгоизма. Его лицо потеряло подростковую округлость, стало суше и, казалось, чуть вытянулось. Глаза, скрываемые от других легким наклоном головы вперед, уже не выдавали чувств.
…Так неспокойный океан, во время штиля, напоминает мутное болото.
…И лишь лучший в мире компьютер, именуемый человеческим мозгом, чьей постоянной, бесшумной, непредсказуемой работе нельзя помешать, продолжал накапливать биты информации, продолжал собирать и сортировать, фиксировать полезное и отбрасывать не существенное, просчитывать варианты, рационализируя действие до почти гениальной простоты.
И вот наконец настал тот день, когда рядовой второго года службы Федоров Алексей не проснулся по команде.
– Леха, сука, подъем, – скорее проворчал, чем потребовал дневальный, сопроводив, однако, свои слова вялым пинком без определенного места назначения.
– Оставь, нажрался он вчера.
– В одиночку?
– Ага.
– Вот сука.
На этом дискуссия, что делать с непроснувшимся телом, закончилась и старослужащие, презрительно кривя губы, разбрелись кто покурить, кто сполоснуть опухшее со сна лицо.
Через полчаса казарма опустела и тишина просторного помещения, не нарушаемая изнутри, наконец-то приобрела зловещий характер.
В три часа дня во время короткого солдатского безделья к койке Федорова приблизился рядовой Сидоренко.
К тому времени Федоров был мертв в течение четырнадцати часов и тело имело очевидные признаки наступившей смерти. Лицо оплыло и приобрело однородную… нет, не бледность, а желтизну. Роговица глаз помутнела, губы высохли, язык распух и его кончик, раздвинув зубы, появился изо рта. Кисть правой руки, свисавшая с койки, отекла, а пальцы приобрели синюшную окраску.
В армии Сидоренко многое повидал и узнал. Довелось ему сталкиваться и со смертью. На первом году службы он и еще трое новобранцев, дрожа от страха и зажимая носы пальцами, вытаскивали из канализационного люка тело паренька, повесившегося там. Мальчишка не сумел приспособиться к “скотской” жизни в военной части и не придумал ничего лучшего. Видел он и своего товарища Мишку Кольцова, забитого насмерть пьяным сержантом. Они дружили с детства, вместе уходили служить, надеялись вернуться вместе. С того времени прошел год, но до сих пор вдруг выплывало из темноты мертвое Мишкино лицо, разбитое до неузнаваемости, покрытое коркой засохшей крови. В общем, кое-что повидал рядовой Сидоренко и уже заболел цинизмом и равнодушием. Поэтому, обнаружив труп, остался абсолютно спокоен: не заорал, не заохал. Немного пугала непонятная причина смерти, да беспокоил тот факт, что именно он, Сидоренко, нес вахту этой ночью. Он закурил, чуть подтянул одеяло, накрыв Федорова с головой, и пошел искать капитана, командира роты.
Когда около восьми часов вечера в казарму вернулись измотанные долгим жарким днем, потные, грязные, отупевшие от усталости и крика командиров, новоиспеченные солдаты, ни тела рядового Федорова, ни обнаружившего его Сидоренко в казарме не оказалось.
– Слыхал, Леха, сука, откинулся.
– Ну да, бля? Как, когда, бля?
– Выжрал в одного, бля, что-то не то!
– А нефига в одного! Бля!
Кто-то в курилке смачно сплюнул и, побросав бычки, солдаты побрели готовиться к отбою. Посмертные слова прозвучали!
Но Сидоренко в роту не вернулся. О нем жалели. Он слыл веселым, компанейским парнем.
Лежа на койке, перед тем как погрузиться в крепкий и здоровый сон, Ник еще раз пережил события предыдущей ночи. Их воспроизведение в его патологическом сознании не носило характер яркого психологического впечатления. Это был просто детальный анализ своих действий со стороны.
За пару недель до описываемых событий Ник начал подкармливать, а точнее подпаивать приговоренного им к смерти. Ежевечерне рядовой Федоров стал находить под своей замызганной армейской подушкой чистенькую, сияющую кристальной прозрачностью, вожделенную и манящую бутылку водки. С момента ее обнаружения и до момента сдергивания пробки «за козырек», времени поразмыслить над тем, откуда она, желанная, взялась, естественно, не оставалось. Далее, мыслительный процесс приостанавливался окончательно и Федоров погружался если не в забытье, то, значит, в сон без сновидений.
В течение первой недели с начала проведения «операции» Ник убедился в том, что, во-первых, удержаться от употребления напитка всего и сразу Федоров не может, а во-вторых, степень его бессознательного состояния после этого такова, что с его телом возможны практически любые манипуляции. Без противодействия. Вплоть до изнасилования. (Но этот вариант как месть не рассматривался).
То, что солдат, несущий ночную вахту спит, как и триста его товарищей по казарме, тоже ни для кого не являлось секретом, и Ник обоснованно рассчитывал, что никто не помешает исполнению задуманного.
Около часа ночи он поднялся со своей койки.
Луна в эту ясную летнюю ночь полноценным округлым блином ярко высвечивала среди мерцающих звездочек, и её мягкий голубоватый свет вливался в казарму через три больших окна, расположенных с одной стороны – противоположная стена была глухой, резко обозначая контуры предметов, но лишь слегка касался той части помещения, где спал пьяный Федоров.
Тщательно расправив портянки, помня, что и небольшая мозоль или потертость на стопе доставляют большие страдания, Ник натянул сапоги. Не таясь, звук шагов полностью поглощался ночным звуковым фоном, легко лавируя в тесных рядах, он подошел к кровати Федорова и склонился над спящим. Бережно, двумя руками поправил голову на подушке, расположив ее на боку. Извлек зажатый в левой ладони трехдюймовый гвоздь и аккуратно ввел его в ушную раковину. Левой рукой чуть придавил голову к подушке, одновременно, на всякий случай, зажимая рот, а правой короткий сильным движением вогнал гвоздь в ухо до шляпки.
Металлический стержень легко разорвал барабанную перепонку, раскрошил миниатюрные косточки внутреннего слухового прохода и беспрепятственно вошел в мозг. Продвигаясь вперед, он смял и разорвал тысячи нервных окончаний, именуемых нейронами и синапсами, повредил сотни тонюсеньких капиллярных сосудов, сетью пронизывающих мозг, и наконец достиг и разорвал венечную артерию и кровь под давлением сто шестьдесят мм. рт. ст. излилась в мозговое вещество, обильно пропитав его и насытив ярко-алым колером. С последним поступательным движением заточенный кончик достиг тонкой оболочки четвертого мозгового желудочка – полости, содержащей спинномозговую жидкость. Травма последнего вызвала резкую декомпрессию в системе спинного мозга и, как следствие, полный паралич всех спинномозговых нервов. Смерть наступила мгновенно.
Потратив секунду на раздумье, Ник не вытащил гвоздь. Инстинкт подсказал ему, что удаляя его, он вызовет кровотечение из раны, пусть и не значительное. Лишняя грязь. Можно замараться. Не имея специальных знаний, он представлял, что через несколько минут кровь свернется и вот тогда представится возможность забрать орудие преступления – улику – без лишнего риска.
Он пришел через час, успев полноценно вздремнуть. Подцепил двумя пальцами шляпку гвоздя и легко вытянул из ткани тела. Как он и предвидел, все произошло бескровно. Послюнявив кусочек туалетной бумаги, он осторожно протер ушную раковину. Это был последний штрих.
На обратной дороге, перед тем как лечь, он зашел в туалет, опорожнил мочевой пузырь и, спуская воду, бросил в унитаз ненужный гвоздь и маленький кусочек бумажки, чуть-чуть запачканный кровью.
В течение последующих полутора лет службы, Ник почти не вспоминал об этом эпизоде. Тот день отложился на задворках его памяти, как будничный, один из череды скучных, томительных, похожих друг на друга, как армейские сапоги – один из многих дней, развеянный по времени пылью проселочных дорог.
Глава XI
– Эй, я тебя где-то видел, – высокий длинноволосый брюнет с нагловатой ухмылкой ткнул указательным пальцем Николаю в плечо.
Николай мгновенно напрягся. Он сидел за крайним столиком, подальше от стойки бара, и цедил одну единственную за весь вечер кружку жидкого пива все, что позволял он себе, нарушая строгий спортивный режим. Стараясь, чтобы это выглядело естественно, он не спеша отодвинул кружку на край стола, освободив пространство перед сжатыми в кулаки руками, и исподлобья взглянул на говорившего. И тут же быстро, но внимательно оглядел зал – в случайные встречи он не верил. Боковым зрением Николай уловил движение, исходящее из полутемноты зала. Среди пьяно-ленивой тусовки, перетаптывающейся обычно на одном месте, вдруг наметилось перемещение с явным акцентом в его сторону. Через минуту он уже определенно выделил три или даже четыре широкоплечие фигуры с коротко стриженными затылками, перекрывающие ему пути отхода.
– Эй, я с тобой разговариваю! Я же тебя знаю! – одетый в длинный кожаный плащ, туго перетянутый в поясе, незнакомец по-прежнему стоял перед Николаем, покачиваясь на каблуках и демонстративно не вытаскивая руки из карманов.
– А я тебя – нет, – процедил Николай с расстановкой. И соврал. И высокая спортивная фигура, и насмешливые серые глаза и голос, а точнее веселая жизнерадостная интонация, казались узнаваемыми.
– Врешь, знаешь. А забыл – напомним, – весело проговорил брюнет.
Ждать далее – не имело никакого смысла. Сгруппировавшись, как перед прыжком, Николай резко толкнул стол в сторону, пружинисто вскочил и концентрированным стремительным кроссом выбросил вперед правую руку. И опоздал. Кулак рассек пустоту и Николай с трудом сохранил равновесие, двигаясь по инерции вперед и чуть влево, вслед за своим кулаком… Загрохотал опрокинутый стол. С характерным звоном раскололась тяжелая пивная кружка. Улыбчивый брюнет, ни на грамм не утратив своего хладнокровия, шагнул вправо, пропуская летевшего ему навстречу Николая, наконец-то, вытащил руки из карманов и, все с той же улыбкой, свободным плавным движением обеих рук толкнул Николая в правое плечо, добавляя его непроизвольному движению побольше инерции. Коротко охнув, Николай всем корпусом врезался в стену.
“Айкидо. Ни карате, ни самбо. Айкидо. Точно!”
Черная ядовитая змейка страха откуда-то из глубины желудка медленно поползла вверх, поближе к сердцу. Умение использовать даже простые элементы айкидо само по себе свидетельствовало о высокой степени мастерства в тонком искусстве восточных единоборств.
Едва не упав, Николай развернулся и вновь оказался лицом к лицу с высоким брюнетом.
На шаг сзади, полукругом выстроились подтянувшиеся к месту драки “качки”. Спокойные позы и ленивые, брезгливые выражение их лиц никого не могли обмануть – ни Николая, ни испуганных посетителей пивной.
Помещение стремительно пустело. Никому не хотелось подвернуться под горячую руку разбирающихся между собой бандитов.
– Восстановилась память? Прошла амнезия? – хмыкнул брюнет.
Последние слова своего главаря четыре “торпеды” посчитали шуткой и поменяли сонно-равнодушное выражение широких лиц на кривые ухмылки.
Николай стоял перед ними, чуть пригнувшись, на полусогнутых напряженных ногах, выставив вперед обе руки, правой прикрывая подбородок, левой – область печени и отступив от стены на шаг – полтора, чтобы сохранить пространство для маневра, готовый и драться, и отступать. Драться он умел, драк не боялся, но сейчас ясно понимал, что шансов выпутаться без потерь из сложившейся ситуации у него практически нет.
– А ну-ка, Витек, проверь его еще раз, – в наступившей в зале тишине спокойный голос брюнета в этот раз прозвучал зловеще, а не весело.
Бандит, стоящей слева от Николая, самый низкорослый, но такой же широкоплечий, как и все остальные, неожиданно подпрыгнул, резко выбросив вперед правую ногу.
Удар пробил блок, которым Николай пытался себя защитить, и пришелся в грудь, в область сердца и вновь отбросил его к стене. И опять он устоял на ногах. Но теперь каждый вздох его стал отдаваться резкой болью.
– Что надо? – хрипло выдохнул Николай.
Никто из стоящих перед ним не собирался его добивать. Окружившие его бандиты смотрели на него с любопытством.
Николай выпрямился. Демонстрация сопротивления потеряла смысл. Теперь все зависело от того, что от него хотят.
– Ребро не сломано? А то нам больные не требуются, – примирительно, и опять с той же жизнерадостной интонацией, с коей он завязал разговор, пошутил брюнет. Все пятеро заулыбались.
– Они у меня крепкие, – эта фраза окончательно рассмешила нападавших. Они загоготали в голос.
– Поедешь с нами. Шеф хочет с тобою поговорить. А ты чего такой мрачный? Радоваться должен. И вообще, мы ребята веселые. Скучных фраеров не любим. Имей это в виду, – и совсем другим тоном, отрывисто, как приказ, он добавил, – и не делай глупостей. Выходи и садись в машину. Если удерешь – все равно найдем.
Наблюдавшие за происходящим завсегдатаи пивной, толпившиеся у противоположной стены, увидев, что обстановка разрядилась, тут же рассредоточились по залу и ежедневный праздник пива и пустой болтовни пустился по обычной колее как ни в чем не бывало.
И вот Николай, мрачно потупившись, стоял перед неприметным пожилым человеком, сидевшим в массивном в кресле в трех шагах от него. Это и был шеф, о котором говорили захватившие его “быки”. Впечатления он не производил. Короткая шея, вдавленная в плечи, жирная “бабья” грудь, живот, растекающийся жиром и не умещающийся под ремень, лишали его величия, создавали карикатурный, гротескный образ.
Однако улыбнуться себе, Николай не позволил. Он полностью контролировал свои эмоции, каждую мимическую мышцу лица. Да, Николай не любил таких людей, слабых физически, но обладавших некой толикой власти – помимо равнодушного презрения такие типы вызывали в нем чувство неприязни, гадливости, но он хотел научиться избавляться от этого чувства и уже начал постигать тайны восточной философии и тайны духа японских самураев… Впрочем, абсолютное бесстрастие – недостижимо, знал он, а слово самурай – ему тоже не нравилось. Ведь самурай – всегда слуга. Кому-то. В лучшем случае, чему-то. А Николай стремится быть над обязательствами. И если ему приходилось пока скрывать свои желания и цели – так то, был он уверен, временно.
Увидев “шефа” и оценив его со своей точки зрения, Николай успокоился.
– Это он? – не фиксируя на нем прицел своих близко расположенных зрачков, “шеф” смотрел на Николая и сквозь него, будто его и не было. – Он? – еще раз переспросил он “брюнета”, стоящего у Николая за спиной – поинтересовался, как бы нехотя, лениво, без любопытства.
– Да. Тот самый, – ответил из-за спины Николая его веселый конвоир.
– Ну-ка, ну-ка, как тебя зовут?
– Николай, Ник.
– Ник? Это хорошо. Звучит… эдак, по-ковбойски. Правда, хорошо, Сидор, а? Расскажи-ка нам, Ник, дружок, как ты в армии служил? Служба не в тягость тебе была?
– Не в тягость. Служил нормально. Как все.
– Да? А вот твои однополчане, – он сделал неопределенный жест в сторону, обрисовывая обширный регион, где по-видимому пребывали однополчане Ника в настоящее время, а, возможно, что и в прошлом и не исключено, что и в будущем, – как раз и свидетельствуют, что не как все. Докладывают, что был ты, можно сказать, выдающейся личностью. А салагой – не был. Я правильно выражаюсь, Сидор? – с иронией в голосе он вновь обратился к брюнету.
– Правильно, шеф, правильно, – насмешливо подтвердил Сидор.
– Хорошо. Говорят, ты сам по себе жил. Расскажи, что запомнилось.
– Вы спрашивайте, расскажу. Мне скрывать нечего. Конкретно, – теперь и Ник позволил себе криво усмехнуться.
– Конкретно? Хорошо. Расскажи, как ты убил своего товарища, можно сказать, боевого друга, рядового… как там его?
– Федорова, – подсказал Сидор.
– Точно, Лешку Федорова. Какой был парень! – куражась и насмехаясь, продолжал “шеф”.
– Дерьмом он был. Расскажу, раз просите, – ответил Ник.
Он рассказал. Как в каптерке, среди хлама и мусора, отыскал подходящий гвоздь, как бегал каждый день в магазин, расположенный не на территории части, а прямо напротив проходной, и покупал там водку и растратил на неё все свои карманные деньги, что сунула мать ему в кулак на вокзале. Как убил, а потом выбросил гвоздь и как тот с легким всхлюпом провалился в канализацию, и уж точно в том дерьме его никто никогда не найдет.
Закончив свой рассказа, Николай равнодушно спросил: – А как вы узнали?
– Очень просто. Сидор тебя вычислил. Он у нас наблюдательный. Сидор мне эту историю и представил. Так тебя расписал! И эдак! Скажи ему спасибо, другу своему. Видел он, как ты ночью по казарме разгуливал, а сам он на вахте стоял. Так, Сидор?
– Так точно, – кривляясь, будто вновь на армейской службе, отрапортовал Сидор.
– Зачем разгуливал, об этом он позже догадался. А что ты мозг своему недругу повредил гвоздем или шилом – это доктор мне рассказал. Доктор – очень умный. А я его умнее, я его нашел и все, что нужно узнал. Приплатил ему немного. Так что ты уже мне должен. Впрочем, мне твоя история понравилась, и поэтому я долг тебе прощаю. Словом, решил на тебя взглянуть самолично, на изобретателя и фантазера, а ты – тут как тут. Опять Сидору на глаза попался. Да, да, меньше по пивным надо шляться. А сюжетец – занятный. Порадовал ты меня, старика. Спасибо, Сидор, иди пока. А с мальчиком я еще побеседую.
Сидор кивнул и молча вышел, продолжая улыбаться, будто заранее знал что-то необыкновенно приятное.
Николай по-прежнему стоял посередине комнаты, расставив ноги по ширине плеч, напружиненный, готовый действовать.
– Зови меня пока… шеф. Или патрон. Нет, еще лучше – хозяин. Да, хозяин. Это как-то по-русски. Да ты присядь.
Молча кивнув, Николай присел на кресло, стоявшее рядом. Хозяин по-прежнему не нравился ему, но выслушать его он был готов. Да и выбора, понимал он, не было.
– Как тебя? А, знаю, помню. Ник! Хочу предложить тебе работу, Ник. Почему я выбрал тебя, спросишь? Людей я вижу сразу. Распознаю их с первого взгляда. Научился за тридцать лет. Вижу и – все. И скажу – ты мне нужен.
Ник смотрел перед собою и ни один мускул не дрогнул на его лице.
“Хозяин” усмехнулся: – Не спрашиваешь? Правильно. Значит, я не ошибся. Раз предлагаю – следовательно расскажу.
В комнате было удивительно тихо. Ни шума улицы, ни звука кондиционера. Только дыхание тучного человека и их приглушенные голоса, звучавшие среди этой мертвой тишины удивительно зловеще.
Впрочем, Николай Котов и его собеседник говорили о вещах обычных.
…Потому что представления о страхе и ужасе – всегда относительны. Хирурги смеются над шутками, шокирующими учителей литературы. Надзиратели в тюрьмах смеются о своем. Сутенеры, проститутки и вокзальные бомжи… Даже у палачей собственное чувство юмора и понятие о жизни и о смерти. Для всех – свои категории ужасного и смешного, человеческого и нечеловеческого. Генерал, оповещающий мир о часе, когда бомба, что унесет тысячи жизней, упадет на югославскую землю – убийца, чиновник, солдат или отец семейства?
– Мне нужен убийца!
Он употреблял привычное – убийца, а не новомодное – киллер, неизвестно почему, заменившее в английском murderer7.
Ник даже не моргнул. А Хозяин и не ждал ни какой реакции.
– Сидор – хороший парень, умный, смелый, трудолюбивый, но нет в нем куража. Нет тех качеств, что есть в тебе. Нужных качеств. Слишком любит жизнь. И поэтому я ему не доверяю. А мне нужен такой, как ты. Такая работа – для нас, для меня и для тебя. И зарплата высокая. Очень.
– Откуда он меня знает?
– Это ты о Сидоренко? Да вы же служили вместе! Я же объяснил. Он мне рассказал… Видел, что убил – ты. Но, главное, как!
– Я не помню его, но в любом случае – уберу. Это – условие! Но не сейчас, – добавил Ник в ответ на вопросительный взгляд Хозяина из-под нахмуренных бровей. – Позже. Вы не будете против. Я вам обещаю! А пока – он и мне пригодится. Я согласен на ваше предложение.
– А расскажи, что-нибудь еще. Как ты убивал? Кого?
Они беседовали долго.
Ник рассказывал…
Николай быстро завоевал доверие своего работодателя – уже через две недели ему представился случай доказать свою изобретательность и хладнокровие.
Хозяин получил заказ. Требовалось убрать журналиста. Журналистку.
Заказ, сам по себе, был дешевым. Серьезной фирме не стоило и браться. Но, с другой стороны, не так давно организованному предприятию “по устранению людей” было необходимо утвердиться на рынке услуг – создать реноме, утвердить репутацию, повысить рейтинг. Да и сам процесс – развлекал хозяина фирмы. Кроме того, появился случай проверить нового сотрудника.
Кому потребовалось убрать девицу (заказ, разумеется, “пришел” анонимно) – было неясно. Она не имела в городе ни серьезного политического веса, ни авторитета. Она лишь изображала акулу пера, по мере своих сил редактируя местную страничку одной из крупных московских газет, относящихся к разряду желтых. Не могло быть в том заказе и романтических мотивов – внешне она выглядела совсем непривлекательно: коренастая, невысокая, толстая, с круглым лунообразным лицом, в коем проскальзывало нечто деревенское, какой-то скрытый намек на вырождение – то ли скошенный подбородок, то ли низкий лоб создавали подобное впечатление.
Но, может быть, действительно имели место личные отношения, которые пытались выдать за политические, а может быть, у заказчика просто отказало чувство меры и юмора? Кто знает?
Заказ поступил. На стол легла фотография.
Сидоренко вертел её в руках минуты две, а затем – искренне расхохотался: – Нет, такую я насиловать не буду. Не получится. Не смогу.
И добавил, что удара под дых этой “соплюшке-шлюшке”, было бы достаточно.
Кивнув, Хозяин мягким щелчком переадресовал фото Николаю.
– Егорова. Журналист. Слышал о ней? Нет? Я тоже. Да и работа – дешевая. Но для разминки – сойдет. Только не создавай из нее святую. Пристрелить её – и на тебе, пожалуйста, заказное убийство журналиста, борца за правду и справедливость. Не надо. Но не надо и бытовухи. Булыжником по голове? Фи. Не люблю. Некрасиво. Ты, дружок, подумай. Пофантазируй, – лениво цедил Хозяин, насмешливо поглядывая на Ника.
И Ник придумал.
Старенький компьютер, приютившийся в офисе редакции, расположенной на окраине города, медленно грузился и пока на экране монитора выскакивали непонятные символы, обозначающие сколько бит полезной информации еще можно разместить в его таинственных недрах, какие кластеры в нем свободны, а какие заняты и сломаны, Егорова, сменив дорогую выходную оправу на дешевую, повседневную – эти очки она и домой-то не брала, вечно они валялись рядом с компьютером, курила. Щелчок зажигалки. Первая сигарета из пачки, что опустеет за день. На мерцающем экране курсор ищет символ – файл открыть.
Любила журналистка Егорова начинать свой рабочий день традиционной корреспондентской сигареты. Почему “корреспондентской”? Потому что образ корреспондента без напряженно зажатой в зубах сигареты – не полный. Не лепится образ без никотинового облака, как ореола.
Вот и в этот день… Держа сигарету двумя пальцами левой руки, но уже слегка придавив фильтр губами, как и сотни и тысячи раз ранее, как миллионы и миллионы людей в других помещениях и на улицах, и в парках и за городом, и в других странах… большим пальцем правой руки она крутанула колесико дешевой одноразовой зажигалки, китайского производства. Искра – сжиженный газ – и крохотный огонек вспыхнул.
Энергии этого крошечного нагревательного прибора оказалось предостаточно!
За соседним столом сидел Антон Геев. Он давно перестал обращать внимание на Егорову. Совместные перекуры, неформальное общение, состоящее из диалогов в выражениях, которые эмансипированные редакционные дамы считали стильными и соответствующими статусу журнала…
– Я ему говорю, дай, гад, денег к косметологу сходить. Хоть сто долларов!
– А он? Гад.
– А он дал. Посмотрел на меня и дал. Триста. Гад.
– Какой гад! А ты?
– Я ему, естественно, говорю, да пошел ты в жопу! Подавись своими деньгами.
– А он?
– Он, естественно, в ответ… Шлюха, говорит, сама отправляйся.
– Вот гад!
– А ты думала!
…Надежно гасили потенцию у единственного мужчины-корреспондента и тем самым практически полностью обезличивая половую принадлежность редакционного состава.
В соседней комнате – это была даже не комната, там отсутствовала дверь, а просто очень большая ниша, куда удалось втиснуть еще один стол с компьютером, сидела еще одна дама, Ершова. Стиля – аналогичного. Такая же безлико-оплывшая. Более того, практически точная копия журналистки Егоровой, только на пять лет старше.
Утро. Сотрудники редакции заняты своим привычным делом. Они сидят и думают. Геев пьет растворимый кофе, а женщины собираются перекурить.
Щелкнуло, прокручиваясь, зажигалкино колесо…
И безусловно, этого звука не расслышал никто.
А через секунду страшный душераздирающий крик пронзил атмосферу обыденности: – А-а-а.
Она кричала на одной ноте, разом взятой, один единственный звук: —А-а-а-а.
Сигарета и зажигалка выпали из рук.
В последнем осознанном порыве отстраниться от того, что случилось с нею, с ее лицом, она, откинув голову назад, в неимоверной непроизвольной судороге оттолкнулась руками от края стола, будто хотела отпихнуть от себя боль и ужас, и… Стул покачнулся. Она потеряла равновесие и упала назад, некрасиво и смешно, вскинув ноги. И потеряла сознание.
Вскочил Геев. Он уже подбежал, нагнулся, подхватил ее под плечи, но в этот момент его взгляд упал на ее лицо. Вместо глаз, через оправу без стекол, в потолок смотрело два выжженных кратера, две бездонные ямы, две поляны пепла на пол-лица, два сгоревших очага боли – ночь и угли, обрамленные опаленными бровями и сожженной до пузырей кожей нижних век, щек и переносицы.
Он задрожал – сначала у него задрожали ноги, потом руки, потом мелко задрожал подбородок, смешно задергалось лицо, застучали зубы, и застыл, не в силах разогнуться, чуть согнув ноги и немного разведя ягодицы, бессильно, словно плети, опустив руки, будто приступ радикулита сковал его в одну секунду. Так и замер. Потом что-то забурлило у него в желудке. Волна изжоги подступила к корню языка и его вырвало. В последний миг он качнул головой и содержимое желудка – полупереваренная утренняя яичница и чашка кофе, выпитая две минуты назад, не попало на распростертое на полу тело.
Подошла Ершова. И посмотрела. Тончайший, наисложнейший инструмент человеческого тела, именуемый глазом – просто испарился. Она увидела черную воронку взрыва с запекшимися склонами. Будто миниатюрная атомная бомба сдетонировала внутри глазных яблок, и взрывная волна, прорвавшись через зрачок, как через жерло вулкана, сожгла и уничтожила человеческие органы в радиусе своего действия. Теперь в образовавшиеся отверстия можно было опустить кончик пальца на одну фалангу и дотронуться… через эти страшные, черные, как преисподняя, дыры, можно было, наверное, дотронуться до мозга.
Ник жалел только об одном, он всего этого не видел. Не видел того момента, когда Егорова ленивым жестом двинула свой большой палец по зубчатой поверхности и запустила крохотную шестеренку в смертельное пике. Не видел Ник срежиссированного им самим спектакля!
А вот что произошло!
Неровное, колеблющееся крохотное пламя зажигалки обладало достаточным инфракрасным излучением для того, чтобы изменение его количественных параметров уловил и тут же чутко на это отреагировал специальный раствор, нанесенный Ником на внутреннюю поверхность оптических стеклянных сфер, вставленных в характерную пластмассовую форму, что, собственно, мы и называется очками. Крошечный взрыв, а точнее два синхронных взрыва, направленных своею разрушительной силой от поверхности стекол к глазам, со всеми надлежащими характеристиками – эпицентром, взрывной волной, зоной термического повреждения имели в своем разрушительном эффекте и некоторые особенности. Воспламенение вещества, присутствовавшего в то утро на поверхности очковых линз, сопровождалось достижением сверхвысокой температуры, что не просто выжгла ткани, а испарила их. А само стекло в момент взрыва превратилось в порошок, часть из которого, унесенная взрывной волной, микроскопическими стрелами вонзилась в живую плоть. Эта стеклянная пыль за тысячные доли секунды до того, как ткань, содержащая, по сути, девяносто девять процентов воды, улетучилась, запорошила, словно снег, кристалл стекловидного тела, превратив его на краткий миг в тусклое матовое стекло.
Теперь крохотные осколки стекла, врезавшиеся в кожу, можно было различить среди поврежденных тканей лица, если, набравшись мужества и поборов отвращение, присмотреться. Они поблескивали мелкими крупицами, словно слюда в горной породе.
Ради такого зрелища, Ник не пожалел бы и остаток этого чудесного состава.
Это химическое вещество, изобретенное в засекреченных военных лабораториях, использовалось только при спецоперациях, проводимых секретными службами типа ГРУ и КГБ. Нанесенное тончайшим слоем на поверхность предмета, подсыхая, оно превращалась в абсолютно прозрачную пленку и взрывалось сине-оранжевым пламенем, отреагировав на незначительные колебания температуры.
Предыдущей ночью Ник без хлопот пробрался в редакцию и при свете карманного фонарика, действуя осторожно и не спеша, обработал этим составом линзы очков, принадлежащих Егоровой.
Щелчок зажигалкой. Огонек. Волна вмиг потеплевшего воздуха коснулась поверхности стекла… Взрыв!
Егорова умирала мучительно и долго. Ее вывели из болевого шока и какое-то время она жила в темноте, в полудреме и наркотическом дурмане. В сущности, она почти обезумела и до полной потери личности оставался один короткий шаг… Но ей повезло! Воспаления глазного нерва с правой стороны, осложнилось развитием менингита, и она умерла.
Геев и Ершова из газеты уволились. Антон поначалу запил, а когда месяца через три вышел из этого состояния, стал писать сценарии для детских утренников. Уже приближался Новый год.
Ершова три недели отлежала в неврологическом отделении Волгогорской областной больницы. Затем, так и не справившись со страхом перед реальным миром, все-таки выписалась. Еще две недели она провела дома, ни на минуту не покидая собственной спальни. А затем устроилась на работу. В библиотеку. Зарплата была мизерной, зато у неё появилась возможность целый день читать «женские» романы со счастливым концом.
Для сотрудников местной милиции причина, приведшая к трагедии, так и осталась загадкой. Секретный состав исчезал полностью и взять что-то на исследование, помимо обуглившейся ткани и стеклянной пыли, было нечего.
Через год в одном из полунаучных-полуфантастических периодических российских журналов этот случай описали, как случай «самовозгорания глаз».
Через полгода подобная публикация появилась на английском. Автором был даже предложен термин – феномен Егоровой. Термин не прижился.
И только в одном очень секретном отделе ГРУ провели дополнительную проверку. Из холодильника достали два небольших контейнера, маркированных десятизначным кодом, содержащим, помимо цифр, буквы на латинском и на кириллице, и устроили контрольное взвешивание.
Начальник лаборатории полковник Матрин, пока оно проходило, сидел в своем кабинете держа ствол табельного Макарова во рту. Такой выход был бы для него самым легким.
Но все обошлось. Вес совпал. С точностью до тысячных грамма. И тогда, проведя ретроспективный анализ, вспомнили про подполковника Дворникова, ушедшего не так давно на запад, и вздохнули с облегчением – по крайней мере этот секрет он оставил на российской территории.
Как этот сверхсекретный состав попал к Нику? Почти случайно. Его любовницу звали Ольга. Однажды, одурманенная наркотиками и сильным молодым телом Николая, она предложила ему избавиться от мужа. Мужем был тот самый подполковник, будущий перебежчик и предатель Родины.
Подполковница в то время откровенно скучала. Странную работу мужа и его мужское безразличие к ней, приобретшее в течение последнего года перманентный характер, объясняла, как всякая женщина в аналогичной ситуации, его связями с другими. Про состав узнала, когда подполковник в пьяном кураже показал ей, как он сказал, фокус. Схватив ее любимую кошку за шею, не обращая внимания на острые когти вонзившиеся ему в предплечье, он брызнул ей чем-то на морду, а затем щелкнул зажигалкой… Жена отчетливо видела, что пламя не коснулось ее любимицы, что кисть, державшая зажигалку, находилась на значительном расстоянии от кошачьего носа и крохотное пламя, конечно же, не могло принести кошке никакого вреда, но… шерсть вспыхнула, а в следующий миг сильные пальцы подполковника, предупреждая кошачий визг так похожий на человеческий, сломали бедному зверьку шею.
– Так будет и с тобою, сука, – сказал ей тогда муж.
Так и не успев предпринять ничего определенного, она действительно погибла. Нет, не сгорела. Попала в автокатастрофу. Когда подполковник находился в трезвом уме, он был профессионал очень высокого класса.
А Ник исчез, унося с собой маленький флакончик. В нем хранилась треть грамма этого раствора.
…А Николай Котов продолжал свое самообразование.
Он желал познать искусство айкидо. С этой целью он и предполагал использовать Сидоренко, и только потом – избавиться от него.
Откуда тот знал этот довольно-таки экзотический вид восточной борьбы, никто точно сказать не мог. Вероятно, занимался в одной из подпольных секций – несколько лет назад подобные спортивные “точки” были распространены и популярны, где среди множества шарлатанов, присваивших себе даны, пояса и титулы, порой встречались и истинные мастера, владевшие не просто приемами борьбы, но познавшие и тонкую философию противоборства. И если Сидоренко и не стал таким мастером, то бойцом он был – бесстрашным и искусным.
Ник и Сидоренко стали тренироваться вместе.
Сидор никогда ранее не выступал в роли наставника, сэн-сея, но сейчас эта роль ему нравилась и удавалась. Или сам Котов был неординарным учеником? И то и другое.
Ежедневно они проводили на тренировках по пять-шесть часов. В обоих в то время клокотали еще не растраченные силы, лихость, обоих томили желания новых, неизведанных ранее, ощущений. Содренко все выплескивал наружу. Котов – таил внутри, по-прежнему оставаясь спокойным и холодным, как лед.
Через шесть месяцев Ник понял, что научился всему. Сидоренко стал ему не нужен.
Однажды, это случилось в конце пятичасовой изматывающей тренировки, Ник подошел к Сидоренко, держа в руках два пакетика с белым порошком.
– Возьми и давай еще часок поработаем. По-настоящему, – предложил он естественным тоном.
Они пахали еще три часа, но Сидоренко так и не почувствовал усталости. Напротив – необычную легкость в теле. Он упивался собственной силой, мгновенной реакцией, стремительностью движений, ловкостью. Удары его были точны и сокрушающе-сильны, а когда его тело вдруг замирало после молниеносного и неуловимого броска, он ощущал, как поток счастья изливается откуда-то сверху и омывает его лицо, смешиваясь с потом – с горячим соком его здорового тела.
Николай вместо кокаина протер десны обычной сахарной пудрой и едва держался на ногах, но виду не подавал.
На следующий день перед началом тренировки Ник вынул такой же пакетик. Сидор не отказался. Он помнил о непередаваемом ощущение легкости и сверхсилы, и веселья…
Дозы, предлагаемые ему Николаем, были велики и запредельны. Только превосходная физическая форма Сидоренко позволила ему не умереть сразу, а выработать привыкание. Но уже через месяц он превратился в законченного, бесперспективного для терапии наркомана.
Тренировки прекратились.
Место Сидора в “бригаде” на официальном и формальном уровне занял Николай Котов. Ему было двадцать два. Сидоренко исполнилось двадцать четыре.
Глава XII
9 июня, среда, ночь.
– Изумительная, нежная, неповторимая.
Павел ласкал губами ее шею и легонько поглаживал затылок.
– Прости меня, я вчера была в гостях и не думала о тебе. Я такая эгоистичная. Прости меня, пожалуйста, – Елена шептала ерунду, целуя Павла в губы и в прикрытые глаза. Ее ноздри раздувались… трепыхались, как крылышки птички-бабочки колибри. Грудь, все еще скованная бюстгальтером, вздымалась и опускалась, в такт дыханию. Тело неровно подрагивало, а бедра и широкий таз жили собственной жизнью, источая жар и желание.
Правой рукой он расстегнул ей блузку, осторожно скользнул пальцами под лифчик и нежными круговыми движениями принялся ласкать ее сосок, чувствуя как тот понемногу твердеет…
Голова кружилась. Пересохло в горле. Звенело в ушах. Он забыл обо всем на свете. Сейчас существовало только это тело, эти губы, эти тонкие прекрасные пальца и глаза, спокойные, хранящие в глубине вечный загадочный вопрос. И запах. Самое главное её запах. Аромат любимой женщины. Желающей женщины. Он пленял. Волшебный, сексуальный, одурманивающий.
– Лена, милая, родная.
Павел задыхался. Он бессвязно бормотал слова, прерывая речь длинными страстными поцелуями. Он чувствовал, как нарастает его возбуждение, как пульсирует кровь… Еще немного, он не сдержится и…
Застонав, Елена медленно сползла вниз и, крепко обняв своего возлюбленного за бедра, действуя одной рукой, ловко спустила с него брюки и трусы и зарылась лицом в его жесткие грубые волосы, а в следующую секунду нашла губами его член и со страстью прильнула к нему.
Лунный свет озарял комнату и в преломлении его рассеянного потока ее белая кожа, влажная от пота, казалось покрыта медом. На секунду открыв глаза, Павел увидел, что и на ней ничего нет… Скомканные блузка и юбка валялись на полу. Сверху на них были брошены узенькие черные трусики.
И он, вслед за ней, опустился на корточки…
Елена, не выпуская изо рта его член, а только лишь отодвинув его за щеку, улыбнулась и рассмеялась…
Опираясь на локти, он медленно лег на спину…
Приподнявшись с колен, продолжая, не отрываясь, вылизывать его разгоряченную плоть, она повернулась на сто восемьдесят градусов и перешагнула через его распластанное изнемогающее тело и опустилась прямо над его лицом…
Волосы ее лобка защекотали ему губы. Он ощутил на языке вязкий солоноватый вкус ее сока. В ноздри ему ударил тот же аромат, только сейчас – во сто крат сильнее и резче. Павел словно растворился во влажном томном эфире, что всасывал его в себя, растворял, расщеплял его тело до мельчайших клеточек и уносил в волнах. Он словно стал частью океана – седого, древнего, как сама Земля, стал неотъемлемой частицей Космоса – пугающего, но влекущего, холодного, как смерть, но – завораживающего.




















