Читать онлайн Будни Снежной бабы бесплатно
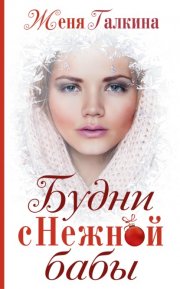
Глава 1
Три девицы под окном
1
Лета словно и не было…
Любава вдыхала острый запах осени – он казался ей хирургическим острым, а алые пятна листьев, рассыпанных под ногами – пятнами крови. Небо светилось безжалостным светом. Люди, спешащие куда-то, очень внимательны, – они смотрят на Любаву, она чувствует эти взгляды, и ей кажется, что они ее раздевают. А под одеждой у нее – постыдная потеря.
Прогулка для Любавы обязательна – это часть терапии. Вот она и топает старательно, ежась от взглядов.
Раньше она ходила здесь бездумно – бежала с работы, из здания Дома культуры, наискосок, через дорогу и к высотным домам на границе с сосновым лесом.
Мимо нее пролетал, не запечатлеваясь, пруд. И каждый раз она думала: остановиться и посмотреть на уток. Но времени не хватало. А теперь времени столько, что кажется – оно вовсе не существует.
В конце аллейки стояли Степан и Лана и Любаву не замечали. Она теперь тоже немножко призрак, пугающая и безобидная, прозрачная и словно кем-то выдуманная.
Степан и Лана ломали с двух сторон пышный батон и, хохоча, швыряли кусочки уткам. Утки, откормленные и жирные любимцы романтических парочек, нехотя подхватывали хлеб и давились им от жадности, впрок.
Степан и Лана сцепляли руки и целовались. У Любавы в глазах темнело, а потом – медленно и страшно прояснялось, – после каждого их поцелуя. В груди и горле больно было так, словно залпом выпитая кружка соляной кислоты просилась обратно.
Она собралась с силами и зашагала к ним: своему бывшему мужу и бывшей подруге.
– Ну, вот и встретились! – ясным и молодым голосом сказала она, почему-то разводя руками, словно Снегурочка, привечающая зайчат. Профессиональная привычка.
Вот вы где, мои зайчики, вот вы где, трусишки, расскажете снегурке стишок? Повеселите девицу?
Степан развернулся и уронил батон. Лана сжала его руку.
Они оба несколько секунд смотрели на Любаву, соображая, что делать и как себя вести. Первым опомнился Степан.
– Отлично выглядишь! – выдавил он.
В ответ Лана наградила его подозрительным прищуренным взглядом.
– Ой, – спохватился Степан, – я хотел сказать, ты часто здесь бываешь?
– Ты почему спрашиваешь? – удивилась Любава. – Чтобы в следующий раз не пересеклись?
Лана закатила глаза и потрясла головой, словно Любава говорит глупости – глупости они и были, но зачем трясти головой-то?..
– Привет, Лана, – отчеканила Любава – слезы уже горели близко-близко к глазам. – А говорила, что твоему имени подойдет только аристократическая фамилия… Лана Шереметева! Лана Трубецкая! А ведь ты даже не Лана, а просто… настоящая… Светка Комкова!..
– Как тебе не стыдно ее так оскорблять! – вдруг подал голос Степан.
Он выпятил грудь, выступил вперед, очевидно волнуясь и совершенно смешавшись. Его римский нос порозовел.
– Подавай на развод уже, Степа, – ярко улыбнулась Любава, – мне некогда… а ты подавай!
А потом ей стало невыносимо стоять под снисходительно-жалостливым взглядом подруги, и она кинулась бежать вдоль прудика, спотыкаясь и рыдая на ходу, как в детстве.
Только в детстве она добегала до маминых коленок и утыкалась в них, прячась от боли и детских невзгод, а теперь, когда ей тридцать три, приходится реветь в лицо осени, миру и прохожим, удивленно глядящим ей вслед.
Жила в ней крохотная надежда, что вот-вот кто-то схватит ее за рукав оранжевой курточки, и окажется – это Степа, он готов извиниться и все объяснить… И он обнимет ее, прижмет к себе и скажет, что никакого развода нет, не было и не будет, что просто страшный сон настиг Любаву осенней дождливой ночью.
Эта крохотная надежда стала жечь невыносимо, и Любава обернулась. Степан и Лана все так же стояли на месте и кормили уток. Их спины: Степанова в черном пальто (покупали вместе, Любава настояла, такое красивое…) и Ланина, облитая кожей стильного кардигана, плевать хотели на Любаву. Им было хорошо вместе, этой спине в черной и спине в кожаном.
Бежать дальше не было смысла. От этого никогда не убежишь.
И вот Любава снова плетется по аллеям, усыпанным листьями, нагибается и собирает букет из остроконечных кленовых лап, изжелта-красных, оранжево-пегих, кораллово-зеленых. И прозрачные капельки сыплются часто-часто. Кап-кап-кап. Любава все еще плачет.
Она успокоилась немного только в конце пути. Миновав почти весь город, вышла в частный сектор, а здесь все: и лиловые плющи, и ленивые коты, и резьба на оконцах, все настраивало на спокойный лад.
Улица имени Федора Пряникова, Любавиного деда, героя войны.
Здесь прошло Любавино детство, и казалось – так мало изменилось с тех пор! Если не поднимать глаз выше крыш, то и вовсе почти ничего не изменилось. Ну, только приткнут к старым воротам кое-где новенький «форд» или торчит у резного окошка нелепая спутниковая тарелка.
Если же посмотреть выше – прошлое рассеется в дым, потому что эта улица – последний оплот старых домишек и их давно окружили стройные и многооконные великаны-семнадцатиэтажки.
Но Любаве не хотелось реальности, ей хотелось и дальше представлять…
Можно представить, что всех кур и коз загнали в курятники и хлевы, а не вспоминать о том, что больше никто здесь не держит домашнюю птицу и скот. Можно представить, что на лавочке-бревне у соседнего с Любавиным дома только что сидела старенькая Зоя Ивановна в белом платочке и с палочкой: через минутку она вернется обратно.
Если постараться, можно поверить в то, что Зоя Ивановна пошла в гости к Любавиной бабушке, и теперь они бродят по огороду, рассматривая на диво уродившиеся тыквы.
Любава закрыла глаза и толкнула зеленую облупившуюся калитку из добротных широких досок. Вот открыть бы: а там – бабушка и Зоя Ивановна, как и грезилось!
И чтобы пахло пирогами с капустой, а по двору бегал, отчаянно взмахивая лохматыми ушами, пес Абрикос…
Калитка закрылась со стоном. Любава открыла глаза.
Двор, заросший седогривой старой крапивой, был пуст. В окошках домика не мелькало света, не шевельнулась кружевная шторка. В огороде выл ветер, забавляясь с повисшими на голых ветках яблоками. На замусоренном крыльце высились пирамиды из коробок, неумело обклеенных скотчем и подписанных Любавиным почерком. «Компьютер», «Книги», «Вещи», «Костюмы».
Всего четыре коробки, в которые вместилась вся Любавина жизнь. Она считала, что у нее больше вещей и больше жизни – когда жила в трехкомнатной квартире Степана на правах законной жены. У нее была армия из современных помощниц: стиральная машина, посудомойка, шикарная кухонная мебель и множество удобных мелочей: миксеры, комбайны, йогуртницы, хлебопечки. У нее был свой угол с удобным столиком и креслом, ноутбуком и лампой. У нее был большой шкаф, где висели пестрые костюмы: пышные цыганские, серебряные и синие – новогодние, зеленые и розовые – сказочные…
У нее было множество увлечений и дел: клетки с попугаями и морскими свинками; череда красавиц-орхидей; чудесная коллекция игрушек ручной работы; горшочки и чашки, выделанные самостоятельно на гончарном круге; аквариум!..
Все это осталось там, дома. То есть, не «дома», поправила себя Любава. Не дома, а в квартире Степана. Дом – здесь, где жила ее бабушка и мама и где теперь будет жить сама Любава. Место, откуда ее никто никогда не выгонит!
Не в хлебопечках же счастье…
Обойдя коробки по скрипучим ступенькам, Любава достала из кармана куртки большой и длинный ключ, похожий на рыбку, и открыла старый замок.
Дверь скрипнула. Запах полыни, воска и еще чего-то, с детства знакомого, снова удушил Любаву волной боли. Она кинулась через сени в комнату, упала ничком в ледяную перину на кровати, застеленной покрывалом с оленями, и снова разрыдалась.
Слезы текли долго, на душе становилось серенько, как в сумрачный осенний день. Перина согрелась. Стало уютнее.
Ходики, которые Любава завела сразу же, как только переехала сюда, тикали монотонно и успокаивающе. Любава слушала их и думала: ну и пусть. Ну и пусть Степа и Лана будут счастливы. Пусть Лана приходит туда, где Любавиными руками наклеены обои, развешаны выбранные ею шторы и где в шкафу до сих пор стоят горшки и миски, сделанные на курсах гончарного мастерства и раскрашенные вручную…
Пусть Степан и Лана валяются и хохочут на подаренном Розкой постельном белье, пусть утопают в «Звездном небе» Ван Гога… Пусть Лана переставляет и выкидывает Любавины орхидеи, пусть морщит нос и говорит «фу» Любавиным безделушкам из коллекции игрушек.
Зато в мире стало на двоих счастливых людей больше. Вот так. Раньше было три горемыки: больная раком Любава, мученик Степа и одинокая лебедица Лана. А теперь осталась только одна – Любава.
Любава всхлипнула и укуталась в покрывало с оленями. Бархатистая оленья морда приткнулась к ее щеке, утешая.
2
Громом сотрясло весь дом. Раскаты прокатились по лестнице, а потом – по сеням, и дальше – через большую комнату в маленькую спаленку. Так топать и греметь мог только один человек.
В дверном проеме, занавешенном шторкой, гром прекратился. Розкино лицо, широкое и скуластое, словно у древнего азиатского божества, грозно смотрело на Любаву из темноты.
– Спишь, что ли? – спросила она.
Голос у Розки был низким и гудящим, иногда – просто рокочущим, но чаще – сладковато-вибрирующим. Представлялся слушателю толстый шмель, с головой уткнувшийся в сочный клевер.
– Не сплю.
– Я тебе мячик привезла, – сказала Роза и распахнула сумку, широкую, как крокодиловая пасть.
Из недр пасти она извлекла небольшой тугой мячик и вручила Любаве.
– Жми-ка.
Любава три раза вяло сжала мячик. Роза наблюдала за ней, как орлица за орленком, собравшимся взлететь.
– Сильнее!
Любава попыталась.
– И еще три раза!
– Не могу я, – сказала Любава, откладывая мячик. – Спасибо тебе, Роз, я буду заниматься. Обязательно. Но не сейчас.
– А что тебя так подкосило, что ты не можешь мячик пожмякать? – сурово спросила Роза. – И вообще, вставай, помоги стол собрать.
Любава нехотя поднялась и поплелась разбирать сумки. Подруга притащила припасов словно на ядерную зиму: банки с огурцами и помидорами, кабачковую икру, килограммовый кусок сала, пакет с хлебом, несколько палок салями, сыр с плесенью, яблочный и клубничный джем, упаковки муки, гречки и макарон. Венчала картину бутылка водки, украшенная изображениями березовых веточек, и громадный окорок, которому досталась отдельная комфортная авоська времен еще Розкиной бабки.
В сенях забулькал и зазвенел крышкой чайник. Любава достала из шкафчика конфеты. Все делалось молча и слаженно: Роза наливала чай в чашки из красно-золотого дулевского сервиза, обе надколотые. Любава на подносик выкладывала печенье, конфеты, открывала джемы.
Присев за круглый столик, накрытый вязаной скатертью и газетками, подруги молча чокнулись чайными чашками.
– Когда Весеня прибудет? – спросила Роза, глядя на циферблат ходиков.
– Часов в семь, – сказала Любава, тоже поглядев на часы, – работы много, говорит. Шьет костюмы для праздника урожая. Три девицы в лентах и кокошниках и дети-кукурузы.
– Что? – переспросила Роза. – Дети кукурузы? Это же ужас!
– Я тоже так думаю, – согласилась Любава, намазывая печенье джемом. – Вроде бы, Хрущева среди публики не ожидается. Могли бы нарядить детей яблочками, например.
– Я говорю – это ужас! – повторила Роза. – Ужастик такой. «Дети кукурузы» называется.
– Тогда – впервые на сцене Дома Культуры города Черепкова.
– Ты все в хандре, Люб?
Любава опустила нос, шмыгнула. Ее рука, державшая ложечку, предательски задрожала.
– Ну чего ты? – пророкотала Розка, прихватила Любаву за шею могучей рукой и прижала к груди. – Все плохое уже кончилось.
– Я сегодня поперлась на почту, за посылкой. И решила после прогуляться, – хлюпая носом, начала Любава, – как дура. Ходить полезно, жизнь прекрасна, мне на все плевать. Такая и пошла. А там – у пруда Степа с Ланой кормят уток. Хлебом.
– Они идиоты, что ли? – незамедлительно отреагировала Розка. – Уток нельзя кормить хлебом! Это знает любой ребенок!
– Судьба уток меня волновала меньше всего, – уныло призналась Любава. – Но спасибо за информацию. От моей руки больше ни одна утка не пострадает. Да и противно мне будет… не хочу делать то, что делают они…
– Ты еще спать и жрать перестань, – фыркнула Розка и тут же спохватилась: – Шутка. Увидела ты их – и чего?
– И говорю Степе: ах ты… ах, ты! И Лане говорю: ах ты!.. А потом бегу оттуда и плачу, бегу и плачу.
– Продуктивно, – оценила Розка и шумно вздохнула. – Люб…
– Что?
– Дуришь.
– Мне обидно, Розанька.
– А ты не обижайся, ты злись, – посоветовала Роза, прихлебывая чай. – Увидела их? Ну и что? Иди мимо вот так!
Она поднялась и с грохотом проследовала от одного конца комнаты в другой. На стенах звякнули бабушкины зеркала.
– И вот так делай!
Розка еще раз протопала туда-сюда, бросая на Любаву взгляды, полные презрения и огня. Ей вполне удавалось – монголоидная богиня метала молнии.
– А потом поднимай руку – вот эту, правую, тебе полезно, – и взмахивай вот так: а х-х-хрен с ним! Ты потренируйся: городок у нас с пятачок, тебе или съезжать отсюда, или ты на них еще не раз наткнешься.
– Я знаю, – вздохнула Любава, – но куда я поеду? У меня зарплата – двадцать тысяч. Дом я этот никогда не продам. Родовое гнездо. Сама знаешь, как я его люблю.
– Не в этом проблема, – заметила Роза, – деньги приходят и уходят. Захочешь – будут. Проблема в том, что ты сдулась.
– Ну, знаешь, у меня не было времени раздуваться! – разозлилась Любава.
– Начинай сейчас, – невозмутимо сказала Розка, доедая последнюю конфету. – Ну, а теперь можно и перекусить!
Чаепитие свернули в уголок. Уголок Любава накрыла газеткой. Она любила порядок.
На центральную часть стола водрузили бутылку водки, блюдца с нарезанной колбасой, окороком и сыром, хлебом и маслом. Нашлись маленькие толстостенные стопки.
– Из них еще мой прадед пил, – благоговейно сказала Любава, протирая стопки. – Здесь каждая вещь – моя родная. Все, чем жила моя семья, поколениями накопленное. В сенях до сих пор висят мешочки с бабушкиными травами, а ведь она уже пять лет как умерла.
– Не чокаясь, – определила тост Роза и хлебнула водки, а следом отведала окорока и жестами объяснила Любаве, как божественен этот окорок на вкус. – А дом еще на удивление хорош, могла бы и продать. Тут участок один сколько стоит! Просторный.
Любава подержала на весу свою холодную стопку, поставила обратно и пожевала салями.
– На двадцать тысяч жить одной тяжеловато, – сказала она задумчиво. – Роз, а ты знаешь, я могу облегчить свою жизнь. Ведь я умею ухаживать за морскими свинками!
– И что? – подозрительно спросила Роза.
– Значит, управлюсь с кроликами! Здесь раньше держали кур, и даже курятник остался стоять. Замусоренный, правда, но кроликов туда можно поселить. И разводить с полным пансионом. Сделано в России. Ни один западный вражина не плеснул туда ГМО. Как тебе идея?
– Как и все остальные твои идеи: это кошмар, но меня радует, что ты их снова генерируешь.
– Девочки-и-и-и! – пропел от двери хрустальный Галин голосок, и сама Галя, нагнув голову, чтобы миновать проем, показалась на пороге.
Она раскраснелась, видимо, спешила. Розовые пятна горели на почти прозрачной белой коже щек. Торопливо снимая пушистую шапочку, Галя раскидала по плечам две толстые русые косы и суетливо принялась их подвязывать. Теперь упала шапка.
Любава кинулась к подруге. Подняла шапку, обняла Галю, всучила ей шапку, потащила за рукава старенькое пальто – Галя уронила шапку и пальто, засмеялась.
Она, статная, нежная русская красавица, была бы лучшей Снегурочкой в городе, если бы не эта рассеянность. Бывали прецеденты – забывала подарки, слова стишков и песен, путала номера квартир. Поэтому лучшей Снегуркой считалась Любава, а также – лучшей Царицей Морской, Медной горы Хозяйкой и даже Бабой Ягой, хотя и была маленького росточка, крепенькая и смугленькая, как каштан.
Галя легко уступила первенство подруге, занявшись костюмерным делом и изредка только играя роль-другую: русалок, кикимор, фей и добрых волшебниц. Актерские лавры ее не волновали. Сильнее о ее карьере когда-то пеклась Любава – ей казалось, что с Галиной фамилией, – Весенняя, – никаких псевдонимов не надо, и потому Галя обязана стать звездой.
– Весеня! – сурово приветствовала ее Роза. – Причины опоздания?
– Мой «Жигуль» опять сломался, Розушка, – мягко улыбаясь, объяснила Галя, – пришлось оставить его в автосервисе, а к вам бежать пешком через весь город.
«Жигуль» Гали ломался так часто, что новость никого не удивила. Да и Галя сама расстроенной не выглядела.
– Как у тебя здесь хорошо, Люба, – вздохнула и закрыла глаза Галя, слегка покружилась по комнате, – такой же запах, как в детстве, помнишь, когда мы к твоей бабушке за пирожками забегали? Чудесная была женщина, царствие ей небесное…
Любава кивнула.
– Александра Петровна, – припомнила Галя, вешая пальтишко, – как сейчас помню – заходишь, а она во дворе сидит и яблоки перебирает-режет…
– На компот, – тихо добавила Любава, – сушила она их и на компот…
– А я домашний морс привезла, – спохватилась Галя. – Вот, девочки.
И она поставила на стол бутылку с ягодным морсом.
– Налейте капельку, – попросила она, присев к столу бочком. – И рассказывайте.
– Я ходила сегодня на почту… – уныло начала Любава, но Розка ее перебила.
– Сократим предысторию, – сказала она, – гуляла наша Люба, встретила мужа и Светку, расстроилась. Вот и сказке конец.
– Как – конец? – встрепенулась Галя, встревоженно глядя на Любаву. – Нет, девочки, это не конец, это глава первая. Не бывает так, чтобы отношения р-раз! – и закончились. Обычно всегда бывает еще один шанс. Так что надо думать уже сейчас – пустишь ли ты его назад в свое сердце, когда он приползет извиняться?
– А он приползет? – заинтересовалась Любава.
– И не думай! – отрезала Розка. – Чего радуешься, дура? Он тебя кинул в такое время! Обманул, предал, выпер из дома с одними снегуркиными кокошниками! На кой черт тебе его «приползет»?.. Живи своим умом, Люба, мужики – это зло, даже самый лучший из них всегда держит за спиной огромную свинью и ждет момента, когда можно будет ее тебе подсунуть… Я их знаю, мужиков этих. Я двумя тысячами этих особей руковожу с одна тыща девятьсот… не помню уже, с какого года… я каждую их свинью в лицо знаю!
– Подожди, Роз, – мягко остановила ее Галя, – вот, съешь кусочек окорока… ну что ты накинулась? Он разве виноват? А не Лана виновата? Это она, пока Люба в больнице лежала, все крутила попой перед Степаном. И дай я тебе приберу, и дай я тебе приготовлю, и дай я тебе рубашку помогу купить на совещание… А то, мол, жена в больнице, а без бабы ты тут пропадешь! Вот и докрутилась. Мужчина – примитивный организм, девочки. Одноклеточный. Его кормят и показывают ему красивую часть тела – он радуется. Нет еды и попы – он грустит.
– Что тогда эти примитивные организмы на свободе делают? – вскипела Розка. – Их надо в клетках держать, кормить сквозь прутики и иногда поворачиваться к ним жопой, чтобы радовались. И все – никаких затрат, ни моральных, ни материальных. Ну, только если на корм. Ты, Весеня, типичная мудрая женщина, от этого все проблемы. Давай на минутку отрешимся от Ланкиной коварности и вспомним, что Степа умудряется коммерческим директором большой сложной конторы являться. А это значит, что у него не только попы и кормушка в голове, но и мозг там тоже где-то да имеется. А раз имеется, значит, сам он решал, хвататься ему за Ланино тело или нет. Что мешало эту жопу отодвинуть с прохода и к Любаве в больницу поехать? Ничего не мешало! Предатель он и сволочь. Нечего его ждать.
– Это Любаве решать, – вздохнула Галя, выслушав гневную тираду, – что думаешь, Люб?
– Ты постельное свое хоть заберешь? – влезла Розка.
Любава замахала руками.
– Да ты чего! Мне что, стоять на пороге и выпрашивать мои наволочки? Я так не могу…
– Так позвони ему! Пусть отдаст на нейтральной территории!
– Не хочу, – ответила Любава. – И вообще, девочки… Ему на меня плевать. Совершенно. Он из больницы меня не забирал, когда я выписывалась. Он в это время уже с Ланой в нашей постели кувыркался. Он замок сменил. Он мне дал только два часа на сборы и фактически выгнал, потому что Лана должна была с работы приехать и ее нельзя расстраивать моим присутствием. Номер у него другой. Все у него теперь другое. Не знаю, как так получилось, но…
– Да придет он еще… – негромко пророчила Галя.
– Ну – придет он! – распалилась Любава. – И что? И я пойду туда, где они вместе жили? На ту же кровать, на ту же кухню? Простите, на того же мужика после нее залезу? Нет, девочки, мне противно…
– Правильно, – одобрила Роза.
– Ох, передумаешь ты еще, – вздохнула Галя, – это же муж, родной…
– И я ему не нужна, – подытожила Любава.
Она с трудом сглотнула, криво улыбаясь, поднялась и пошла в другую комнатку, где сбросила сегодня свой рюкзачок.
Вытащив оттуда посылочку, вернулась и потрясла коробкой.
– Пришло, – сказала она.
Роза и Галя молча смотрела на нее.
Роза – спокойно, Галя – сочувственно.
– Вот! – сказала Любава, разрывая упаковку. – Вот! – повторила она, снимая шуршащие пакеты. – Девки, это ужас, я открыла – она страшная, я ее боюсь.
И она потрясла над головами подруг колыхающимся комком телесного цвета.
– Анатомически правильная форма, естественная присадка, антиаллергенный материал. С ней даже спортом можно заниматься и в бассейн ходить – покрытие устойчиво к хлорированной воде. И вот – представьте, – хожу я в бассейн, чтобы руку не раздуло, естественно, хожу с этой штуковиной. Встречаю там очаровательного молодого человека. Он прыгает с вышки и покоряет меня смелостью и грацией. Я его симметрично покоряю гибкостью и спортивным складом ума и характера. И вот мы вместе едим мороженое после занятий. Ты, Роза, советуешь мне проверить, нет ли у него кредитов и не живет ли он с мамой. Ты, Галя, рекомендуешь носить легкое и романтичное платье и – всегда! – кружевные красивые трусики на случай незапланированного любовного эпизода. И вот оказывается, что мама его живет в Сургуте, кредитов нет и наконец-то дело доходит до того момента, к которому готовились кружевные трусы!
Галя и Роза переглянулись.
– И тут я ему – на! Гипоаллергенная сися! Положи на тумбочку, пусть она нас там подождет! – и Любава расхохоталась, подкидывая на ладони экзопротез молочной железы.
Смеясь, она закашлялась, закачалась. Роза подхватила ее с одной стороны, Галя – с другой.
– Такая наша бабья доля, – грустно сказала Галя, наполняя стопки.
– Херня! – рявкнула Розка, концом своего шарфа вытирая Любаве выступившие слезы. – Если твоего ныряльщика одни сиськи интересуют, значит, не нужен он тебе. Даже если его мама в Сургуте и на нем ни одного кредита. Значит, у него другая свинья заготовлена – например, вялые сперматозоиды…
– Мужики – существа одноклеточные… – повторила Галя, выпивая свою стопку и косясь на протез, лежащий на столе.
Тот среди тарелочек с сыром, окороком и хлебом выглядел, словно угощение для каннибала.
– Лучше бы Степан вернулся, он тебя давно знает…
– Так он же сбежал! – зарыдала Любава. – Узнал, что грудь отрезали, и сбежа-ал!
Подруги обняли ее с двух сторон. Запах Розиных горьких духов справа столкнулся с нежным фиалковым ароматом Гали слева. Посерединке, словно маленький птенец, содрогаясь и всхлипывая, согнулась Любава, уткнувшись носом в свой свитер с запахом больницы.
– Целый день ревет, – басовито прошептала Роза Гале, – осенняя хандра!
Глава 2
Осенняя хандра
1
Осенняя хандра, казалось, настигла и Степана Комкова. После встречи с Любавой у прудика он, что называется, растерял настроение. Уже не веселили выходки уток, потешно сражающихся за кусочки хлеба, и день казался не таким уж ярким и праздничным. Подул ветер.
– Пойдем, Лана, домой, – сказал он, поднимая воротник пальто и обнимая пальцами ее холодную узкую ладонь.
Они пошли по аллее. Лана задумчиво разбрасывала листья носком сапожка. Степан тоже молчал. В пестрых кленовых одеяниях ему то и дело виделась мелькающая то тут, то там вязаная шапочка бывшей жены – оранжево-желтая, с кисточками… Под шапочкой, – Степан знал, – отрастающий ежик темных волос. А раньше у Любавы была такая коса!
Головокружительная женщина! Была… когда-то…
Познакомился Степан с Любавой страшно подумать – тринадцать лет назад! Он тогда еще не был коммерческим директором фирмы по производству и установке пластиковых окон, да и мечтать не мог, что прижимистый папа возьмет и отстегнет ему эту должность.
Двадцатитрехлетний Степан работал на установке этих самых окон, особо не напрягаясь: то возьмет заказ, то не возьмет – имел семейные привилегии. За это его не любили коллеги, которым то и дело приходилось его подменять и бежать сломя голову подхватывать заказ в любое время дня и ночи.
Степа же, по молодости в людях не разбиравшийся, этой неприязни не замечал, хлопал всех и каждого по плечу, рассказывал анекдоты, сам над ними хохотал и считал, что отлично вписался в коллектив, несмотря на блат.
Свою ошибку он осознал, когда оказалось, что коллеги «забыли» сообщить ему, где и когда собирается новогодний неофициальный корпоратив. Официальный довольно скучно отсидели в офисе: папа Комков оплатил несколько ящиков шампанского и подарил сотрудникам по баночке икры – от лица фирмы. Он, как владелец, лично поздравлял каждого, а потом сидел за столом и пил вино, щедро делясь с присутствующими историями своего успеха.
Молодые парни вежливо выслушали босса, поблагодарили и разошлись. Настоящий праздник, с реками алкоголя, заказанными девчонками-снегурками и буйными плясками, планировался позже. И Степан предвкушал его, как предвкушает глобальную веселую пьянку любой двадцатитрехлетний оболтус. Однако – его не пригласили.
Обескураженный, он сидел вечером дома. Запасных планов празднования не было. Родители собирались в гости: мать уже надела бордовое шелковое платье и надушилась, отец наводил блеск на запонки, протирая их кусочком замши.
– Никуда не идешь?
– Не хочется, – смело ответил Степан, – толку мне от этих пьянок и баб… остаюсь дома! Выпью шампанского, посмотрю телек…
– Ясно, – ответил отец насмешливо и больше ничего не сказал, а вскоре раздался звук закрывшейся двери. В квартире стало тихо.
Степан тут же распахнул дверцы бара, глотнул из открытой бутылки ликера, из другой – коньяку. Его жгла обида и еще сильнее – понимание, что он был не прав, подставляя коллег на работе направо и налево.
(Такое же жжение чувствовал Степан и сейчас, ведя под ручку королеву своего сердца и выискивая в осенних бликах яркую шапочку жены…)
Напиваться одному – дурновкусие, подумал он, останавливаясь. Что там дальше по новогодней программе? Просмотр «Огонька»?
И тут зазвонил телефон.
Судьба сжалилась над Степой и подкинула его номер старому приятелю, с которым когда-то учились в каком-то там классе… Приятель звонил, как оказалось, практически без надежды, потому что начал он так:
– Я знаю, что ты откажешься.
– Что? – удивился Степа.
– Помнишь мою соседку, Любу?
Степан не помнил.
– Тогда точно откажешься, – замогильным голосом резюмировал одноклассник.
– Да говори уже! – выпалил заинтригованный Степан.
– Моя соседка – Снегурка. А Дед Мороз ее забухал, час на морозе терли ему уши снегом – безрезультатно. А ей надо семь квартир поздравить. Это Любавина шабашка, а вообще она актрисой стать хочет…
– А ты чего не Дед Мороз?
– Я ростом с гнома, – напомнил одноклассник, – мне только если каблуки надевать. А больше никого нет – все по пьянкам, отмечают уже. И ты тоже не пойдешь. Я знаю. Но я ей обещал всех обзвонить.
Степан задумался.
– А соседка у тебя… какая? Фигуристая?
– Она с тобой заработком поделится, – неопределенно ответил одноклассник.
– Понятно…
Ну и перспектива ждала Степана! Вместо веселого корпоратива с дамочками – соседка гнома в костюме Снегурочки!
Он глянул на темный прямоугольник экрана телевизора. На открытый бар. Физически прочувствовал тишину, звенящую от ожидания Нового года, словно натянутая над городом струна туго вибрирует под пальцами всеобщей надежды на лучшее…
И согласился.
– А давай, – сказал он. – Куда бежать? Бороду дадите?
Он встретил Любаву на улице, полной избушек. Падал мягкий снежок. Искры рассыпались под фонарями. Она, маленькая и деловитая, нарядила его в шубу, вручила мешок и подвязала бороду. Руки у нее тоже были маленькими, и она ими ловко распоряжалась Степаном, крутя его туда-сюда, как в танце. Встречные компании горланили им что-то праздничное и приятное. Кокошник у Любавы сиял, губы улыбались, а бровки были нахмурены: она учила Степана стишкам. Он поспешно повторял рифмованные строчки, притоптывал ногами, хохотал особым, дед-морозовым, смехом и умилялся крошечным следам ее ботиночек на белом снегу.
– Молодец! – с чувством сказала Любава, когда он наизусть рассказал ей все нужные стихи.
Они обошли семь квартир и поздравили уйму малышей – Степану казалось, что их было не меньше сотни, столько визгу, криков и радостных воплей он услышал. Снегурке и Деду Морозу наливали шампанского, хозяюшка в третьей квартире угостила горячим пирогом. В пятой квартире Снегурочку облаял недоверчивый пудель, после седьмой они валились с ног.
Шли, подпирая друг друга и хохоча, вспоминая, как Степа подпрыгивал, изображая зайчика, как дергали его за бороду два недоверчивых братца, пытаясь проверить подлинность снежного волшебника – а Любава изо всех сил держала завязки бороды сзади…
Потом плюхнулись в сугроб, глядя на кружащееся звездное небо. Степан извлек припасенную бутылку шампанского. Залили пеной сверкающий наряд Любавы, пили из горлышка, безумствовали…
Он помнил, как катил с горки на куске картона, обнимая визжащую Снегурку и прижимаясь щекой к ее холодной щеке. Помнил, как потянул ее за косу – думал, подделка, а оказалось – ее коса, толстая и черная, с мохнатой метелкой на кончике.
Помнил, как водили хоровод со встречной компанией – пели вместе, притоптывали в такт, – и среди всех девушек хоровода Любава была самая красивая. Она переливалась и блестела, словно ледяная райская птичка, ее звонкий голос бодрил сильнее, чем шампанское… И она тоже искоса поглядывала на него взглядом, полным недоверчивого удивления. Счастливым взглядом девушки, гадающей: влюблена-не влюблена?
Влюблена! И он был влюблен! И даже суровый Степин папа, увидев будущую невестку, оттаял и пробурчал благодушно:
– Ну, такую… такую прокормим!
«Такую» – маленькую, быструю, звонкую, волшебную Любаву он обожал! А после, когда страсти поугасли, просто любил. С оглядкой, правда, но любил. Оглядывался – на свой все возрастающий статус. Степан взрослел, умнел и уже не допустил бы такого промаха, как когда-то с коллегами, теперь он видел людей насквозь и знал цену их мнению.
И знал, что у него, руководителя развивающейся опытной фирмы, должна быть представительная спутница жизни. Высокая, фигуристая, с безупречным вкусом, идеальной кожей, холодным умом…
(Тут Степа посмотрел на Лану: она шагала рядом, подставив лицо ветру. Белоснежный гладкий лоб сиял, ресницы, золотые-золотые, изгибались дугой над прозрачными, словно лед, голубыми глазами. Царица шла рядом с ним, а не какая-то простая Снегурка… Владычица Морская держала его за руку ровными пальцами со скромным колечком в бриллиантовой крошке…)
Развод, сказала Любава. Развод ей подавай. Степан прикинул в уме: что он еще может остаться ей должен? Он предусматривал, но все же… Квартиру он получил до свадьбы по дарственной от отца. Машина, – его личный «ниссан», – оформлена на него, Степу. В совместном владении находится только бытовая техника, да и на ту все чеки у Степы, если придется – поборется и за нее.
Все личные подарки он ей отдал – ноутбук, телефон, обручальное кольцо и пару флаконов духов. С этой стороны ей совестить его не за что. Да и в остальном – не за что. Любавина жалкая зарплата целиком уходила на ее же хобби: свинок, попугаев, игрушки, какие-то курсы, на сценические костюмы и редко-редко – на подарки ему, Степе.
Это означало, что о «совместно нажитом» и речи идти не могло: если есть в мире хоть капля справедливости, то это так.
Хоть все и выглядит вполне безопасно, но почему-то развода все равно не хочется… страшновато вот так взять и разрубить ту веревочку, что они, Степа и Любава, вместе вили долгие годы… Были бы у них дети – может, веревочка бы и не порвалась, может, и держался он за нее накрепко… Но детей они не завели: Степан придерживался мысли, что нет смысла рожать живых людей в эту страну – на сплошные недоразумения и мучения. Вот если бы переехать за границу… Но эти планы были даже не планы, а так, отмашка от Любавиных вопросов.
– Выслушай меня, пожалуйста, – вдруг прервала его размышления Лана, – я знаю, что сейчас творится в твоей голове.
Степан повернулся к ней с интересом.
– Тебе жалко Любку. И ты винишь себя за произошедшее. Хочешь с ней поговорить, наверное…
Степан неопределенно пожал плечами.
– Я понимаю! – воскликнула Лана. – Но вспомни, о чем я тебе рассказывала: с точки зрения кармы все абсолютно логично. Любава отрабатывает сложный кармический долг, поэтому-то на нее и навалилась болезнь, поэтому и мы полюбили друг друга в такой сложный для нее период. Твоя жалость помешает ее очищению. Ей нужно перейти на новый этап, и не мы запустили этот процесс, а силы Космоса, нам неподвластные. Нельзя им перечить! Мы настолько мелкие перед ними, что они нам не отчитываются. Поэтому мы никогда не узнаем, за что наказана Люба, но мы знаем, что ты и я – часть Космического плана, предназначенные друг другу изначально высшими силами.
На этой ноте Степа заключил Лану в объятия и запечатал ей рот поцелуем.
2
Осенняя хандра преследовала и Галю. Ох, уж эти ее «Жигули» с постоянными поломками и проблемами! Раз за разом она приводила своего потрепанного железного «коня» то на ремонт, то на диагностику, и лучше от этого не становилось ни ему, ни ей.
Ему – потому что кончался его железный век, а ей – потому что в автосервисе «Пит-стоп» Галя безответно влюбилась.
Тихая птичка, воспитанная строгой мамой и бабушкой в духе мещанского благополучия, до тридцати трех лет она благополучно проживала в однокомнатной квартирке, не ведая страстей и смятения.
В квартирке с ней вместе проживал кот Гуннар, черная блестящая бестия, единственный значимый мужчина в ее жизни. Вместе они проводили день за днем среди кип тканей, обрезов и лоскутов, тряпичных кукол, шикарных и насквозь бутафорских костюмов и вечного бормотания телевизора.
Коллеги по ДК качали головами, по их мнению, Галя себя «похоронила». Галя захороненной себя не ощущала. Ощущала – спящей. Словно в дреме она ходила на работу и в магазины, шила костюмы и играла роли русалок. Словно во сне заплетала косы, теряла и находила предметы, готовила ужин.
Ее хрустальную дрему обязательно должен был прервать прекрасный принц. Для него давно все было готово: сшиты двуспальные комплекты постельного белья (одно свадебное, с кружевами), куплен гостевой сервиз из фарфора, праздничный – из хрусталя, – достался от бабушки. Из остатков фетра Галя соорудила тапки, в которых принц будет сидеть вечерами и пить чай (чтобы по ногам не дуло); и даже предупрежден был кот Гуннар – не он в доме хозяин, что бы он себе ни думал. Настоящий хозяин скоро появится. Вон его тапки стоят.
На роль принца уже претендовали. Галина тихая русалочья красота привлекала больших плотных мужчин, громогласных и беспардонных. Они любили хватать женщин за плечи, фамильярничать и хвалиться своими сомнительными достижениями.
Первым таким «кандидатом» стал никогда ею не виденный раньше папин друг. Обнаружился этот друг во время похорон Галиного отца. Обескуражил своим появлением троих женщин, хлопотавших о похоронах, представился Славиком и уселся поминать. Пока поминал ритуальными тремя стопками, успел положить глаз на семнадцатилетнюю тихую Галю, ущипнуть ее за зад и выдать пару советов, как жить дальше.
По его словам, получалось, что потерявшая отца молодая девушка никак не сможет выбиться в люди, пока не найдет себе представительного солидного защитника лет на тридцать ее старше.
О том, что отец Галю вовсе не воспитывал, Славик оказался не в курсе.
Его эти вести ничуть не смутили, и долго еще после похорон Галя пыталась избавиться от его навязчивого присутствия в своей жизни. Он был женат, о чем постоянно говорил, но находил время преследовать Галю, – ловил ее после училища, встречал утром у дома, приобнимал, хохотал и сально шутил.
Галя вымученно улыбалась. Она, вежливая хорошая девочка, только что окончившая школу, никак не могла понять, что же ей делать с этим нежданным кавалером.
– Разбирайся сама, – сказала ей мама. – Сама его приманила.
Галя не понимала, как она могла приманить этого человека, но чувствовала теперь вину перед ним: словно она, будто волшебный фонарик, посветила ему, пообещала тепло, а после пытается обмануть и бросить в темноте.
Чувство вины не давало ей сделать то, чего физически требовало ее тело: оттолкнуть этого отвратительного ей, плохо пахнущего чужого мужчину, накричать, выгнать его из своей жизни навсегда.
К счастью, ситуация разрешилась сама. Как-то Галя бежала по улицам после училища, а Славик топал рядом, прихватывая ее то за плечо, то за бедро и курлыкая что-то по обыкновению: какие-то обещания, требования, шутки…
И тут навстречу им выкатилась белая от гнева женщина, небольшого роста, черноглазая.
Славик увял и перебежал на ее сторону, а в сторону Гали кивнул небрежно:
– Привязалась шлюха малолетняя, Нин, не поверишь… каждый день объясняю, что ничего не будет у нас с нею…
Женщина устало отвела глаза. Посмотрела на Галю. Галя ожидала ненависти, отвращения и унижений: думала, что женщина сейчас накричит на нее, может, ударит…
Она ничего не сказала и увела за собой Славика прочь из Галиной жизни.
Вздохнув с облегчением, Галя снова погрузилась в ожидание принца. Второй «кандидат» появился, когда она устроилась на первую работу, в ателье по пошиву и ремонту верхней одежды.
Звали его Геннадий Васильевич.
И был он так же пузат, неопрятен и тоже хохотал над собственными сальными шутками. Люба, узнав о новом ухажере Гали, назвала его и Славика «астральными близнецами».
Дело осложнялось тем, что Геннадий Васильевич был хозяином и директором ателье. Под его началом работали шесть женщин, и минимум трое из них входили в его гарем. Галю предупреждали, что к хозяину желательно проявлять симпатию, иначе на незадачливой работнице может повиснуть огромный долг на невзначай испорченную шубу или дубленку.
Была одна такая, говорили они, то ли Оля, то ли Оксана: не нравился ей Геннадий Васильевич, совершенно не нравился, и вот – р-раз! Приходит она, а норковая шуба, отданная на починку, разрезана в трех местах, и даже с подкладкой! Да так, что ни один мастер не восстановит… А стоила та шуба двести тысяч! И что случилось дальше с этой Олей или Оксаной, бог весть…
Гале было двадцать два. Она считала, что мир поступает с людьми по справедливости. Если делаешь кому-то плохое – с тобой плохое и случается. А если не делаешь? То что же с тобой случится?
А разве плохо – не хотеть лежать голой на раскроечном столе под толстым старым и снова женатым хозяином ателье? Разве плохо ждать своего мужчину?
И Галя была спокойна. Спокойна она осталась и тогда, когда увидела мастерские разрезы на шикарной итальянской дубленке, принесенной в ремонт импозантной и очень суровой дамой лет пятидесяти.
Она была спокойна, даже не плакала. Просто оборвалось внутри раз и навсегда чувство, что она что-то понимает в жизни, или – что научится понимать. Мир стал сложным и непонятным. От него хотелось забиться в нору, спрятаться там раз и навсегда.
Выручила ее тогда Любава, так удачно выскочившая замуж за сына местного бизнесмена. Конечно же, выручила в долг, но зато сразу и без процентов.
– А о чем ты думала, когда женатому начальнику глазки строила, а к себе не подпускала? – сказала мать Гале. – На что надеялась? Вот он тебя и наказал.
И снова Галя ощущала вину и еще горе, – словно ее выкинули одну на необитаемый остров и никогда больше не случится увидеть родной дом.
Чтобы выплатить поскорее долг, она принялась шить на дому, в квартирке, оставшейся от Галиной бабушки в наследство. Любава подкинула идею: подрабатывать в ДК.
– Там у нас одни женщины и ни одного пузатого шакала, – сказала она, и это стало важным фактором в выборе новой работы. Платили мало, зато времени свободного было много, и Галя постепенно погружалась в ту безопасную дрему, о которой мечтала.
Ее быт обрастал милыми мелочами: салфетками, вязаными крючком, шторами, обвитыми кружевом ручной работы, ковриками, сшитыми из лоскутков, розами из бархата и фатина, маками из атласа и шелка, подушечками-думками, покрывалами и пледами всех размеров и расцветок, с кистями и без, с бахромой и без. Иногда Гале грезились маленькие пинетки и чепчики, тоже вязаные, с кокетливыми цветочками и помпончиками…
Но до этого было далеко-далеко, с Галиного необитаемого острова и не видать.
И посреди этого полного штиля у нее в первый раз сломался автомобиль. Старый «жигуленок» еле дышал и всем своим видом показывал, что без помощи ему туго.
Автосервис «Пит-стоп» выходил широкими воротами на дорогу-отросток от шоссе, обвивающую город лентой. На втором этаже подавали пончики, рыжие рыхлые беляши и чай в пластиковых стаканчиках.
Там Галя и присела ждать своего «коня» из ремонта, когда, явившись в положенный день, обнаружила, что он еще не готов.
Она сидела на пластиковом холодном стуле и машинально протирала салфеткой столик.
На столике торчал букетик искусственных колокольчиков. И глядя сквозь него, сквозь пластмассовую синеву, Галя вдруг увидела мужчину, оживившего ее сонное сердечко.
Он был худощавым и жилистым, очень высоким – слегка горбился, видимо, по привычке. Молодым – не старше тридцати, с длинным лицом в трехдневной щетине.
Обычный парень – таких на улицах тысячи, если не сотни тысяч, и все они такие же тощие и высокие, небритые и с чубчиком, с серыми глазами и носом с горбинкой.
Но почему-то именно этот показался Гале красивым и умным: сразу и одновременно. На нем был комбинезон с надписью «Пит-стоп», в одной руке – беляш в промасленной салфетке, в другой – стаканчик с чаем, который он то и дело ставил на стойку.
Галя сползла со своего стула и на ватных ногах подошла к принцу, обжигавшемуся чаем.
– Чтобы не жгло, надо вот так, – сказала она и обернула стаканчик салфеткой. – Попробуйте.
Он принял стаканчик обратно, попробовал.
Галя безмятежно улыбалась, глядя в его худое небритое лицо.
– Меня Галя зовут, а вас? А вы о моей машине ничего не знаете? – спросила она. – «Жигуль» зеленый…
– Анатолий, – представился принц, предусмотрительно обтерев руку о комбинезон, и пожав узкую Галину ладошку, – говорите, зеленый «Жигуль»? Вчера еще сделали, вроде. А что?
– Не выдают… – сказала Галя, немного удивившись.
– Разберемся, – пообещал принц, дожевал беляш и отправился вниз, в автосервис.
Через пять минут Галин автомобиль был предоставлен ей с заверениями, что машина – зверь, сто лет еще протянет.
Галя слушала вполуха, мечтательно глядя в глубь автосервиса, туда, где мелькали синие комбинезоны и среди них – комбинезон ее принца.
– Анатолий, – шептала она, возвращаясь домой на пыхтящем от натуги зеленом «звере», – девочка была бы Анастасия Анатольевна – красиво! А мальчик… Сергей Анатольевич! Или – Владимир?
С тех пор поломки машины ее не печалили. Печалило другое: принц лишь изредка издали приветственно взмахивал рукой и тут же отвлекался. Он не падал к ее ногам, не покупал охапки роз и не звал в ресторан. Он попросту не видел в Гале своей Спящей Красавицы, отчаянно ждущей поцелуя. Почему же, гадала Галя, разве он женат? Но нет, кольца на руке не было. Может, невеста? Почему же тогда он ест эти ужасные беляши, а не обедает домашним и горяченьким? Или – не нравится ему Галя?
Галя смотрела в зеркало и вздыхала. Бледная, скуластая, длинная…
Может, купить духи? Роковые и страстные, как капли вина на губах дамы в маскарадной полумаске? И что с тех духов – он же даже не подходит к ней близко, не почувствует… Или – надеть короткую юбку? Но мама всегда говорила: голыми ногами только проститутки зазывают. Что, если он решит, что Галя – проститутка?
А если хотя бы накраситься? Но краситься Галя совершенно не умела, только гримировать, и ее лицо, разрисованное румянами и тенями, выглядело так же, как раскрашенное гримом красной девицы под Масленицу…
Галя знала один прекрасный путь к сердцу мужчины, и мама бы одобрила: хоть раз накормить бы Толика обедом! Слепленными вручную пельменями в топленом масле, огненно-красным борщом с золотыми блестками и бараньей костью, а к ним – пирогов с капустой, рыжебоких пышных красавцев прямо из духовки… Он бы не устоял! Никто так не готовит, как Галя, даже бабушка признавала, что у нее талант!
Но как, как заманить его за свой стол?
Эх, осенняя хандра, как же с тобой справиться, как развеять твои чары, очнуться и превратиться в загадочную и сильную женщину, способную пригласить на обед такого мужчину, как Горшков Толик из автосервиса «Пит-стоп»?
3
Не хандрила только Роза Фальковская. Ей это понятие казалось выдуманным, наигранным. Бездельники вроде Пушкина, который только и делал, что пописывал стишки и более ничего, и выдумали сплин, хандру и депрессии. Осень – что осень? Многоцветная куча мусора, разводы на дорогих сапогах и ОРВИ, вот и весь ее портрет.
Нет, таким Розу не проймешь. А вот Любавины беды толстокожую Розу кололи, словно иголками. То там кольнет, то сям…
Спеша домой после посиделок у подруги, Роза строила планы: позвонить в бассейн и записать туда Любаву, чтобы у той не начался лимфостаз… Попроситься в исключительно женскую группу. Никаких любовных интрижек, пока голова не остынет! Нужно делать с Любкой зарядку – приезжать к ней до работы и делать, а что – вставать всего на полтора часа раньше! А еще – отправиться к Комкову и забрать у него Любины вещи, раз уже Любава сама не может и не хочет.
Она, Роза, обязательно вытянет подругу на поверхность, такой уж у нее характер: вытаскивать всех на себе…
Роза была женщиной деятельной и немножко опасной. Ее остерегались: крупная, приземистая, с монгольским лицом, она носилась по жизни, как Чингисханша, громко топая низкими каблуками – за неимением лошадки и стука копыт.
Ей никогда не перечило начальство, перед ней пасовали работницы паспортных столов, ЖЭКов и прочих бюрократических логовищ. На работе она быстро взяла верх над выпивающей компанией радиомонтажников, привыкших к халяве и ежемесячной премии, но не привыкших к работе.
Взяв бригаду в свои руки, она тут же отменила выплаты премий «за просто так», – теперь их надо было заслужить примерным поведением и трезвым образом жизни на рабочем месте. Установила норму сборки деталей. Ввела отчетность по опозданиям и трехчасовым «обедам» на свежем воздухе – на лужайке за гаражами, где так хорошо распивалась бутылочка-другая.
Первейших бунтарей, демонстративно плюнувших ей под ноги, уволила, высчитав коэффициент брака у сделанных ими деталей.
Мужики зароптали: да кто она такая, эта баба? Что она о себе думает? Да они ей покажут!
Показать Розе оказалось нечего. У нее был железный аргумент: не хочешь – дверь там. За дверями же выпивающего мужика обычно ждала истерзанная неврозами и безденежьем жена, выводок погодков и – опционально, – теща с ехидным выражением на лице.
Приходилось мириться. Пили теперь только после работы, но так, чтобы утром не опаздывать. Брака по этой причине поуменьшилось, а выработка благодаря нормам возросла.
Через год Розин цех получил не только премию всем и каждому, но и повышение зарплаты, событие по меркам завода почти нереальное.
Мужики кинулись «это дело» отмечать и наконец-то, конфузясь, пригласили к столу и ненавистную им прежде Розу. Роза мотнула головой, презрительно фыркнула и отправилась домой.
Она шла под дождем, не раскрывая зонтика. Дождик охлаждал ее смуглые пылающие щеки, приятно капал на шею. Если бы Роза была чуть помягче, она бы заплакала. Но не плакалось – просто теснилось что-то в груди.
Сколько мерзких шуточек она наслушалась за этот год! Сколько пошлятины ей довелось услышать, когда мужики, не замечая ее, обсуждали нововведения и прикидывали, как бы ее, проклятую Розку, так и эдак… Да только кто на эту жируху польстится! Столько же и не выпить!
Их гогот и хриплые голоса целыми днями стояли у нее в ушах. И, сцепив зубы, она перла и перла наверх этот ком навозных жуков, не желающих мало-мальски поднять себя сами.
Лишь единожды она вмешалась в их нарочито громкие «тайные» обсуждения: когда речь зашла о ее национальности. Спор, «чучмечка» она или еврейка, проходящая мимо Роза оборвала пояснением:
– Я карячка. Это северная народность. А родители мои – евреи.
Им показалось, что это шутка – заржали…
Она молчала и все тащила и тащила их за собой. И вот что-то сдвинулось, цех перестал быть посмешищем, когда она, Роза, вытребовала повышение зарплаты, они наконец снизошли до того, чтобы налить ей водки!
А хрен вам, думала Роза, с вами пить – себя не уважать…
И рукавом пальто вытирала капли дождя с лица. Это все Розин папа, Яков Александрович, это его наука: если делаешь что-то, Розочка, делай это хорошо.
И Роза все делала хорошо: у нее был идеальный порядок дома, одевалась она чисто и аккуратно, прилежно смотрела все фильмы-новинки и читала прогремевшие книги, не теряла кругозора и выучила самостоятельно испанский, ходила к стоматологу и гинекологу раз в три месяца, а стриглась у одной парикмахерши. Она делала ремонт самостоятельно, не доверяя наемным работникам, и делала его хорошо. Готовила она тоже хорошо, хоть и не разнообразно – ей нравилось постоянство даже в мелочах. Еда приносила радость и комфорт: вечерами, усевшись за книгой, Роза опустошала поднос с холодным мясом, грудами салатов, жареной картошкой, бутербродиками, а потом еще не раз перекусывала то куском пирога, то сыром, то печеньем.
И после, вымыв посуду и погасив свет, она быстро и спокойно засыпала в узкой кровати с максимально жестким матрасом: для сбережения здоровья позвоночника.
Поднявшись за пять лет работы от бригадирши до директора завода, она купила хорошую машину – добротный вишневый «форд» и взялась за постройку личного гнезда – двухэтажного особняка из красного кирпича в самом живописном и экологичном районе городка. Под ее присмотром бригада возвела и фундамент, и стены, и подвела дом под крышу, и занялась утеплением… Но тут случилась беда с Любавой – стремительно развивающаяся опухоль подкосила подругу, и о доме Роза на время забыла. Она возила Любу на химиотерапию, когда Степан вдруг оказался очень занят оконными делами, она сопровождала ее по разным врачам и искала новых и новых специалистов… Жаль, все они сошлись в итоге в мнении, что мастэктомии не избежать. Но главное – жизнь Любавина была отвоевана обратно! Осталось позаботиться о здоровье.
С точки зрения Розы врачи сделали невероятное: увидели затаившуюся в тканях смерть и выжгли ее оттуда прежде, чем та разрослась. Теперь-то что? Живи дальше и радуйся!
Почему Любава не радовалась, Розе понять было сложно. Она пыталась. Вечером, лежа на спине, смотрела на холмики своих грудей и думала: что будет, если она однажды не увидит этих холмиков? Немножко неприятно было представлять, как ее, Розин, родной кусочек плоти выбросили в мусорку рядом с другими такими же кусками… но, в конце концов, не такая уж это редкость – выбрасывать свои куски. Волосы с расчески Роза тоже кидает в помойное ведро, и что?
Нет, Розе Любаву не понять. Любава – другая. Ей почему-то так плохо, будто смерть не прошла мимо, а осталась с ней, так и сидит у нее под сердцем.
О мужиках каких-то страдает…
Сама Роза о мужиках не страдала. Единственный мужчина, который был для нее настоящим, это ее папа. Папа был настоящим. Добрым, веселым. Он водил Розу в походы, учил разжигать костры, готовить на открытом огне. Он вместе с Розой делал уборку, читал книги, обсуждал новости из газет. Он слушал ее не перебивая, он ценил ее мнение, и он никогда – никогда! – не говорил пошлостей и грубых слов. Роза ни разу не видела, чтобы он провожал взглядом юницу в короткой юбке, и любил он только двух женщин в мире: Розину маму Эльвиру Романовну и саму Розу. Ну и что, что папа почти не зарабатывал? Его здоровье было подорвано на севере, в Магадане, где чета Фальковских усыновила Розу.
За него умело и споро работала Эльвира Романовна. А папочка держал в идеальном порядке дом, готовил потрясающе вкусные обеды, делал уроки с Розой, играл с ней, строил с ней домики для птиц, катался с горки на санках – тоже вместе с Розой. Сколько она себя помнит, всегда в ее руке была твердая папина ладонь, а стоит поднять голову – сверху сияет его улыбка и глаза, полные любви к ней…
Север жестко обошелся с Яковом Александровичем. Он умер в шестьдесят, только-только отпраздновав юбилей. Роза плакала, уткнувшись в плечо матери, и не могла заставить себя поцеловать холодный папин лоб и смотреть, как его гроб опускают в могилу. Только недавно он сидел во главе стола, принимал поздравления и лучился своей знаменитой улыбкой, и… Роза не могла поверить. Столько лет прошло, но так и не смогла.
Ни один мужчина не был похож на ее папу. Никто не смог бы его заменить. И Роза и не пыталась никого искать и не оценивала себя как даму на выданье. Не суетилась в попытках украситься, не пыталась худеть, не просила подруг познакомить с неженатыми…
Ей было уютно и комфортно одной. Иногда, редко-редко, в жизнь вторгались проблемы, которые она бралась решать – обычно чужие.
Как вот, например, Любавина мастэктомия. Холодное, неприятное слово. Как только его услышал Степа Комков, его передернуло.
– Это как? Это что останется?
– Шрам, – сказала Любава, – я видела фотографии. Ничего страшного, просто продольный шрам.
И поцеловала мужа, успокаивая.
Тогда она еще была беззаботной птичкой и мужней женой, а Степа еще мотался с ней по врачам и вроде бы даже переживал.
А теперь что? Любава, посеревшая от боли, сидит в холодной древней избе, скорчившись, как подранок… а Комков благоденствует в объятиях Светки Калмыковой! Пусть хоть хомяков отдаст, сволочь!
С этими мыслями Роза протопала мимо консьержа на первом этаже высотного дома-свечки. Консьерж ее знал – подруга маленькой дамочки из тридцать шестой квартиры. Он с ней поздоровался, она лишь кивнула и вызвала лифт.
В серебристой коробке лифта висело зеркало. Роза посмотрела на себя и осталась довольна: выглядела она достаточно грозно.
Утопив кнопку звонка, она с минуту стояла на лестничной площадке, а потом дверь ей открыл Степан Комков собственной персоной – высокий, в домашнем клетчатом халате, сшитом на манер английского сюртука. Распахнутый на груди, халат открывал мужественные линии обкатанного в спортзале торса.
– Я не вовремя? – осведомилась Роза, отодвигая Степана с прохода.
Из квартиры, утонувшей в приглушенном золотистом свете, несся запах сандала.
– Кто там, Степа? – донесся из глубин переливчатый голосок.
Роза прошла по коридору, заглянула в комнату. Там, на специальном коврике, изогнувшись в сложной позе, медитировала Лана.
– А, овца тонконогая, – мрачно приветствовала ее Роза, – как дела в космических пространствах?
– Ах, это ты, Роза, – не открывая глаз, улыбнулась Лана, – как твои алкаши на заводе поживают?
– Ничего. Недавно премию получили. Полный цех таких, как ты, притащили, оптом и со скидкой.
– Девушки! – строго сказал Степан.
Роза повернулась к нему.
– Я за вещами, – сказала она.
– Какими вещами? – тут же вспорхнула с коврика Лана. – Простите, но тот жемчужный набор и брошки с кольцами – это Степины подарки, а не общая собственность, он имеет право их удержать…
– За хомяками, игрушками и постельным бельем, – сказала Роза, обращаясь к Степану. – Игрушки в пакет собери, горшочки, что она сама лепила, тоже. Белье с Ван Гогом – в другой пакет. Пихай, пихай, я постираю. Хомяков – сыпь прямо в сумку. И такси мне вызови, Комков, поскорее. Не могу тут долго стоять, воняет.
– Это морские свинки, – сообщил Степа, исчезая на время и снова являясь перед Розой с двумя упитанными зверьками под мышками. – Туся и Тася. Клетку-то заберешь?
– Клетку ты сам вниз снесешь, когда такси приедет, – ответила Роза. – Давай, Комков, сними гримасу боли со своего лица, не перетрудишься.
И, забрав у него свинок, уселась на кресло ждать такси и клетки, вытянув уставшие ноги. Степан опять пропал – гремел на кухне, собирая горшки.
Лана и Роза остались в комнате одни.
– Как она? – через продолжительное молчание тихо спросила Лана, снова усаживаясь в позу для медитации спиной к Розе.
– Кто?
– Люба.
– Позвони и спроси.
– Роза, ты же понимаешь, что я не могу вмешиваться…
– Ой, иди ты в жопу, – поморщилась Роза, – королева атлантов, тоже мне…
Лана обиженно замолчала. Вокруг нее курились ароматические палочки и горели свечи в круглых золотых и красных подсвечниках и вазах.
– Вызвал? – спросила Роза, тяжело поднимаясь и протискиваясь в коридор с двумя баулами.
И вышла, не попрощавшись. Степан отправился за ней вслед, громыхая дверцами клетки. В квартире стало тихо. Лана сидела неподвижно, красиво выпрямив спину. Ее лицо с закрытыми глазами только на секунду исказилось слабым отблеском боли и вновь приняло тихое безмятежное выражение.
Глава 3
Женское горе
1
Свете Калмыковой с детства не нравилось ее имя. Так получилось, что в группе в садике она оказалась четвертой Светочкой, в первом классе – третьей, а в девятом, когда объединили вместе два класса, аж пятой. Светы были везде – мамины подружки и коллеги сплошь отзывались на тетю Свету, Светой звали Светину бабушку, а у соседки жила белая крольчиха Светланна – с двумя буквами «н», но все равно обидно!
– Зачем ты меня так назвала? – плакала она, натыкаясь на очередную тезку – в поезде, в новом коллективе, на дне рождения подруги. – Что, имен больше не было?
– Это же в честь бабушки, Светик, – оправдывалась мама. – Да и имя такое красивое, светлое…
Пришлось приучать знакомых и родных к новому имени. Она откликалась только на Лану, а все остальные производные своего имени игнорировала, и так упорно, что к двадцати годам в ее окружении мало кто помнил, как ее зовут на самом деле. Это были родители и парочка одноклассниц, оставшихся в подругах: Галя Весенняя, Любка Пряникова.
Калмыкова Лана – это звучало интригующе. В этом сочетании чувствовалась сила и прямолинейность, дикая и нежная красота.
Лана и сама всегда хотела быть такой: дикой и нежной красоткой. Она часами красилась перед зеркалом, выбирая и разрабатывая виды макияжа на все случаи жизни, она тренировала мимику, представляясь попеременно то красиво-удивленной, то удивленной с капелькой возбуждения, то загадочной, то загадочно-обещающей…
Ей хотелось объять необъятное: поменять дешевые кремы и пудры с рынка за пятьдесят рублей на те божественные эликсиры, нектары и притирания, что красовались в магазинах элитной косметики. Ей хотелось совершенствовать фигурку не дома на старом потрепанном коврике, а в спортзале премиум класса с бассейном и сауной, обертыванием шоколадом и водорослями… Ей хотелось пить изысканные вина и покупать тончайшее белье с ручной вышивкой – белье стоимостью в две отцовы зарплаты…
О, заманчивые перспективы! Как же вас реализовать, думала двадцатилетняя Лана, и ответ находила только в своем отражении. Разве мужчинам не нравятся такие пухлые губки, как у нее? А такие большие… красивые глаза? А грудь, поднимающаяся из пуш-апа, соблазнительно пышная и округлая? А эти ноги? Разве это нельзя назвать стартовым капиталом в ее бизнес-плане?
Поначалу она делилась этими мыслями с мамой. Та качала головой:
– Света…
– Лана!
– Лана, а ты не подумала, что будет с тобой, если этот твой будущий богатый мужик… ну, например, уйдет к другой?
– От меня не уйдет! И еще я все у него отсужу!
– А если он, не дай бог, помрет?
– Мне останется богатое наследство!
– А если у него уже полно таких наследников?
– Найду другого, – зло сказала Лана, которой надоели эти придирки. – И вообще, хватит моих будущих мужиков хоронить. Не успели они в меня влюбиться, как ты их уже закопала…
– Да пойми ты, Лана, – втолковывала мать, – нельзя ни от кого полностью зависеть! Это же рабство какое-то, а не то, что ты себе напридумывала! Это значит, он тебя купит, а ты будешь ему прислуживать и упаси бог тебя поперек слово ляпнуть или что-то свое задумать – выпрет же на мороз, найдет другую, сговорчивую… А если дети будут? Я вас двоих не смогу прокормить, а ты и сама прокормиться не можешь.
– Меня – не выпрет, – отрезала Лана, – думаешь, если ты неудачница, то я на тебя насмотрюсь и такой же стану? Нет, мама, я наоборот: посмотрела на тебя и никогда такой лохушкой не буду.
«Лохушка»-мать приуныла и больше эту тему не поднимала. Лана торжествовала – внешностью и фигурой она пошла в маму и знала, что та растранжирила свой «стартовый капитал» на скорое студенческое замужество, на пахоту в огородах у свекрови, на ссаные пеленки ее, Ланы, и ее брата Левушки, на лечение отца от затяжного алкоголизма, на унылую работу вечной операционистки. «Капитал» она по бедности снаряжала в дешевые платья, выглядящие смешно, в тертые ношеные пальто с воротником из «чебурашки», в вечно стоптанные сапоги, которые таскала по три сезона. Никогда не красилась, не следила за кожей, и сетка морщин, обвисшие щеки, складки, пятна – все это пугало Лану и внушало ей отвращение.
Нет, нет, она никогда не сделает с собой подобного!
Мироздание было благосклонно к Лане и совершило нечто, что полностью подтверждало ее теорию, хотя поначалу ударило наотмашь. Пединститут, в котором Лана с горем пополам отучилась два курса, сообщил ей об исключении. Этого следовало ожидать – Лана появлялась там крайне редко. «Бабский курятник», как она называла институт, ее совершенно не интересовал. Ее интересовали мужчины.
После этого удара (ведь нужно было как-то сообщить родителям?) мироздание смилостивилось и одарило Лану звонком от преподавателя, теперь уже бывшего.
Павлу Семеновичу Орешкину было всего сорок два, он носил пиджак поверх свитера-водолазки, джинсы и кроссовки и очень старался подражать одному известному в то время циничному доктору из американского сериала.
Лане он нравился, как любой мужчина, имевший иномарку и не имеющий брюха. Напускной цинизм Павлу Семеновичу шел, небольшая развязность – тоже, и в него были влюблены как минимум десять девчонок разом, но он берег свою репутацию и в интрижках со студентками замечен не был.
Оказывается, это не относилось к его бывшим студенткам, о чем он и сообщил Лане в телефонном звонке, в котором посетовал, что не увидит больше перед собой ее прекрасных колен, навевающих мысли об Эдеме и бесстыдстве, порожденном наивностью…
Лана навела справки. Орешкин оказался женат и имел двоих детей. Помимо этого и работы преподавателем он имел неплохой пассивный доход: в Петербурге сдавались туристам несколько принадлежащих ему квартир.
Не очень жирно, но почему бы и нет?
И Лана согласилась на встречу с кофе. В кофе добавили ликера, Лана качала ножкой, невинно-бесстыдным образом задевая колено Павла Семеновича, пока он рассказывал ей об интереснейшем сюжете славянской мифологии: Нави и Прави, разделенной сторожицей-бабой и избушкой на куриных ножках…
Он действительно был умен и рассказывал интересно, но быстро понял, что спутницу волнует не его ум. Галантно предложил ей пальто, галантно усадил в свою «мазду» и покатил по улицам в маленькую новую «однушку», обставленную на скорую руку – в тумбочках и шкафах не было вещей, но валялись надорванные обертки от презервативов.
Лана подарила ему свою невинность и сполна отыграла весь спектакль: и нежные стыдливые слезы, и раскаяние, и муки совести. Физически же она не почувствовала ничего: в какие-то моменты было щекотно, в какие-то приятно, в какие-то – просто смешно. Особенно смешно было, как Павел Семенович старательно развешивал свои брюки и рубашку, боясь их помять, а после внимательно оглядывал себя, разыскивая зацепившийся светлый Ланин волосок, нашел его и смыл в туалет.
Это было смешно. И мерзко одновременно.
Но Лана уже наметила цель: ее цель – стать женой этого мужчины. Уговорить его переехать в Питер, поближе к его квартирам, стать рантье в доле, покорить северную столицу вопреки маме и ее раннему варикозу.
Сначала ей казалось, что к цели она идет довольно-таки бодро. Уже через пару недель она въехала в «однушку» и принялась ее обживать. Через месяц она получила в подарок толстое витое кольцо из белого золота. Еще через месяц – абонемент в фитнес-клуб, не премиум-класса, конечно, но и не качалку в полуподвальном помещении.
За каждое достижение она хвалила себя: за то, что умела готовить изысканные ужины при свечах, за то, что в постели была изобретательна, как жрица культа похотливого божка, за то, что умела сочувственно слушать и восхищаться любым словом своего мужчины.
Через три месяца Лана пошла в потайную атаку: она купила и подарила Павлу дорогой и очень стильный галстук.
– Твои студентки сойдут с ума… – прошептала она ему на ухо, обвивая его сзади руками и ногами, прижимаясь к его спине умащенным роскошными ароматами масел телом.
Все это: масла, деньги на подарки и прочие безделушки она получала от него же. Если ей, любовнице, достается так много, то сколько же достается жене?
Про жену Лана знала немногое: некрасивая, растолстела, с ней скучно, секса с ней нет уже два года, но она хорошая мать и прекрасно воспитывает сыновей. Однако – сердце ее Паши принадлежит, конечно же, ей, Лане.
И поэтому так больно было услышать, что подарок замечательный, галстук очень красив, но, пожалуй, он оставит его здесь.
– Почему? – спросила Лана. – Не понравился?
– Галстуки – это довольно интимный подарок, – сказал Павел.
– И что? Мы разве не в интимных отношениях?
– Мы в слишком интимных отношениях, кошечка. В таких интимных, что об этом никто не должен знать.
И он весело ей подмигнул, а потом выполнил ритуал одевания с тщательным поиском Ланиных волос на одежде и смыванием их в унитаз…
Это подсказало Лане другую мысль. В следующее свидание она беспощадно вырвала клок своих роскошных волос, надушенных самым ярким ароматом, который нашелся в ее коллекции, и незаметно налепила их комок Павлу на спину, на свитер, обнимая при расставании.
План был таков: жена замечает волосы, жена устраивает отвратительный скандал, он признается ей в любви к Лане и приезжает в гнездо романтики и будущей семейной жизни. Лана становится Орешкиной (что поделать?) и уезжает в Петербург, гулять в клубах и отрываться за нищее детство в бутиках и ресторанах.
Она приготовила холодное шампанское и возбуждающие закуски, надела пеньюар и нежнейшие белые чулочки. Томным сладким голосом ответила «алло» на его звонок.
Он сказал, чтобы через час ее духу не было в его квартире. Чтобы она выметалась немедленно. Что она бешеная сука, которой он с удовольствием сломал бы руки… Он говорил так жестко, так грубо… используя все свои филологические запасы мата и разнообразные пожелания на их основе.
Лана слушала, обмирая, и не могла поверить ни единому слову.
– Паша, ты при жене все это говоришь, да? – робко догадалась она наконец. – Специально?
Он бросил трубку.
Она, дрожа, заметалась по комнате… Выпила залпом один за другим два бокала шампанского, не чувствуя вкуса, закуталась в плед, предчувствуя беду.
И беда случилась. Павел приехал через полчаса – видимо, гнал по улицам с бешеной скоростью, и, не говоря ни слова, принялся стаскивать Лану с постели. Она брыкалась и плакала, а он тащил ее с силой, оставляя синяки на щиколотках и предплечьях. Выволок ее в коридор, и там она прилипла к двери, не давая ему ее открыть.
– Паша, Паша! Пожалуйста, не выгоняй меня! Пожалуйста!
И кинулась на колени, обхватив его ноги, подняла к нему прекрасное заплаканное личико, случайным движением высвободила из бретелек легкого пеньюара грудь.
Он ее не выгнал. Лана, придя в себя на следующее утро, умывшись и рассматривая себя в зеркало, торжествовала.
А кто сказал, что путь будет легок? Кто сказал, что урвать себе кусок счастья – просто? Просто было той, кто выходил за ее Пашу замуж молодой дурочкой – за молодого дурачка. Вот ей, законной женушке, было просто. А ей, Лане, за взрослого состоявшегося мужчину придется побороться.
И она яростно растерла жесткой мочалкой-рукавицей побледневшие щеки, чтобы вернуть коже розовую прозрачность. Конечно же, она видела и не могла не видеть того, сколько укора в глазах ее отражения. Конечно, она не могла не заметить, какое грязное и жирное пятно осталось на ее душе после произошедшей вечером безобразной сцены и последующего унизительного секса.
Конечно, она понимала, что соблазнительно трясти грудями на радость любовнику, когда руки в синяках, колени расцарапаны, а гордость растоптана – это не то, о чем ей, Лане, мечталось.
Но – а как иначе? Разве есть другие пути?
Вот он спит, ее мужчина, покоренный ее прелестями, усмиренный ее нежными прикосновениями, утомленный ее неутомимостью… Да, он таскал ее по квартире, как собачку, но победила-то она! Он остался на ночь, не вернулся к жене, не смог уехать…
И счастливая Лана отринула сомнения.
К делу стоило приступить с другого конца. Долго она зализывала раны и искупала вину: была самой послушной, самой верной и нежной девочкой, готовой на все ради своего покровителя. Она поощряла разговоры о доме и семье, делая вид, что глубоко раскаялась о содеянном и понимает ее ценность для Паши. Она извинялась и даже мельком посмеялась над своим поступком: мол, какая я дурочка, ну конечно же, я знаю свое место!
И он успокоился, перестал наказывать ее: не грубил, не был жесток в сексе. Когда в Ланиной жизни снова появились подарочки (небольшие сережки с бриллиантиками), она решила, что пора действовать.
За прошедший год она узнала основную расходную статью Паши: его сыновья. Оба они учились в частной школе, оба посещали репетиторов по двум языкам. Младший увлекался конным спортом, старший играл в теннис – оба хобби стоили весьма недешево. Каждые полгода дети отправлялись мир посмотреть: на их страничках в инстаграме мелькали то Испания и Венеция, то Германия и Австрия, то Вьетнам, то Англия.
Лана, побывавшая за границей лишь раз, – мама вывезла ее за тряпками на Харьковский рынок, – завидовала двум несовершеннолетним щеглам. Она листала фото и представляла себя на их месте, такую красивую, такую изысканную и стройную… «Сопливые сволочи, почему вам все досталось на халяву? – думала Лана. – Почему вы родились в семье, где в вас души не чают и деньги водятся, а я – в нищей халупе, где на меня всем было плевать, лишь бы с голоду не померла?»
Ее безмерно злило то, что деньги, которые она уже распределила в общий семейный бюджет ее и Паши (необходимо первым делом купить ей после свадьбы машину, не бывает сейчас обеспеченных семей с одной машиной!), утекают зря.
Но была и другая сторона раздражающего ее вопроса: оказывается, Паша очень хороший отец. Если он так любит своих детей, значит, ей остается только подарить ему сына, и все козыри в ее руках!
Разве сможет старая толстая жена составить конкуренцию молодой красавице с младенцем на руках?
А сыновья от первого брака – они уже взрослые, в отце не особо нуждаются, им достаточно будет и алиментов.
В конце концов, Лана вовсе не намерена запрещать Паше с ними общаться! Пусть. Ей не жалко.
Она совершила ошибку в самом начале: рассказала о своем плане маме. Обронила сначала случайно, мол, жди внука, а когда мать насторожилась и потребовала объяснений, Лана и вывалила все, что задумала. Она надеялась, что мать удивится и обрадуется: как не обрадоваться беременности родной дочки? Но почему-то вышло наоборот. Мама дернула ее за руку и посадила перед собой. Ее некогда красивое лицо стало суровым.
– Светка, прекрати, – сказала она, – не губи себя. Ты этому Орешкину не нужна, и сама это знаешь. Остановись.
Лана опешила. Во-первых, никакая она не Светка, сколько можно повторять! Во-вторых, кто бы говорил: «Не губи себя»!
– Себе советы раздавай! – фыркнула Лана, до глубины души раненая материнской грубостью. – Я думала, ты обрадуешься! А ты… вот ты какая! Завистливая! Что – завидно?
И она ткнула пальцем на цепочку-браслет с жемчужной подвеской, а потом – в бриллиантовую сережку в ушке.
– Завидно? Ты до полтинника дожила, а таких штучек не носила! А мне двадцати пяти нет, а я как королева хожу!
– Я пойду к этому Орешкину и буду с ним разговаривать, – сказала мать так, будто Паша был Ланиным учителем по физике и Лана получила у него плохую оценку. – Или жене его буду звонить.
– В суд еще на него подай! – в бешенстве закричала Лана. – Убить меня хочешь, в нищету меня хочешь?!
– Дура!
– Сама такая! – И Лана, схватив сумку, с грохотом выбежала в подъезд, по пути повалив башни из каких-то дурно пахнущих шмоток и книг, которые, сколько она себя помнила, занимали половину прихожей.
Так она лишилась единственной близкой ей женщины. Подруги у Ланы, конечно же, были: Пряникова Любка, например, и Галя Весенняя. Но подруги эти были для того, чтобы поболтать о тряпках, чтобы похвастаться колечком, чтобы погулять вместе, когда дома скучно.
Но личную жизнь с ними Лана никогда не обсуждала. Счастье любит тишину, думала она. А то так расскажешь да покажешь – и уведут.
Обязательно обзавидуются и уведут или рассорят, или жене нашепчут. Женской дружбы не бывает! Пряникова, хоть и малышка, но мужчинам всегда нравилась, веселушка-хохотушка, массовик-затейник. И Галя, хоть и выглядит как мраморная колонна, но мало ли? Ноги-то у нее тоже от ушей.
Нет-нет, удел подружек – вздыхать и восхищаться Ланиными достижениями, и никому из них она ни на йоту не приоткроет занавес ее тайн.
И она покинула подруг, объяснившись неимоверной занятостью.
Лана осталась одна. И в одиночестве упорно шла к цели: у нее должен был родиться ребенок от Паши.
Ее тайные ритуалы и стыдные ухищрения принесли плоды ранней весной. Сквозь мартовские ледяные дожди, по слякоти, замерзшая и счастливая, она несла весть, заключенную в двух полосках на купленном в аптеке тесте.
Она пришла к Паше на работу, вызвала его в коридор, и он, глядя на ее безмятежно улыбающееся лицо, почему-то все понял без слов и сказал озабоченно:
– Калмыкова, вы по поводу восстановления? У меня еще две пары, подойдите попозже.
Мимо прошли студентки: обе длинноногие и красивые, облили ее Пашу похотливыми взглядами наглых щук, претендующих на чужое счастье.
– Я подожду, – сказала Лана жалобно, – но где?
– В кафе подождите, здесь рядом, «Шоколад-бар».
И Лана пошла в «Шоколад-бар», где послушно отсидела почти четыре часа, поглощая то десерты, то мороженое и успокаивая себя тем, что это полезно для ребенка.
Через четыре часа она забеспокоилась и набрала Пашин номер. Телефон его был недоступен. Тогда она, уже понимая, что произошло, но все еще не веря, потащилась «домой» – и обнаружила, что ее «дом», однокомнатная квартира, где она жила, заперта на верхний замок, от которого у нее никогда не было ключа.
Спотыкаясь и держась за живот, она пошла вниз и увидела возле мусоропровода клочки своих фотографий. Подошла поближе, открыла крышку. В дурно пахнущем зеве мусорной трубы застрял ком ее надушенных пеньюаров, юбочек, колготок. Торчал каблук замшевой туфли.
Видимо, вещи выбрасывались в большой спешке.
Некоторое время Лана тупо смотрела на свою одежду. Это был не просто крах. Это была атомная бомба, взорвавшаяся посреди города, полного мирных жителей.
Сколько раз Лана видела себя лежащей на бархатном диванчике в этом персиковом пеньюаре! Он отлично смотрелся бы на выросшем животике! А Паша суетился бы вокруг, поднося ей то соленый огурчик, то… что там едят беременные?
Она снова вытащила телефон и набрала номер. Абонент недоступен.
Идти было некуда – не к матери же! Та бы порадовалась Ланиному падению, а Лана бы… умерла от стыда. И тогда Лана позвонила Любаве Пряниковой. Та отозвалась сразу, радостным голоском – Лана знала, что недавно Любава вышла замуж, небось, радовалась своему сантехнику или кто там на нее позарился…
– Лана! – пищала Пряникова. – Сколько лет, сколько зим! Я тебя на свадьбу ждала, между прочим. Мисс-Я-Занята, неужели не было хотя бы минутки заглянуть? На бокальчик шампусика, ну?
– Можно я приеду сейчас? – упавшим голосом сказала Лана.
– Конечно, – ответила Любава, уже насторожившаяся, – Лан, ты здорова?
– Нет, – сказала Лана и зарыдала.
Участие в голосе подруги словно сломало плотину, за которой скопился океан Ланиных слез – за целый год борьбы, проигранной ею. За все унижения, за то, что ее волосы спускали в унитаз, за ее туфельку в мусоропроводе…
– Лана, Лана! – кричала в трубку Любава. – Ты где? Мы едем, мы сейчас же едем!
И они приехали – как показалось Лане, через вечность. Любава и ее муж, которого Лана тогда и не разглядела. Вместе они подхватили Лану под руки и потащили в машину (пахло новеньким салоном), привезли куда-то, где уложили на пахнущую васильками кровать, под велюровый плед, и вот Любава бежит с ложечкой валерьянки, а потом – с мятным чаем, а еще – с платочками, бесконечным количеством платочков… А Лана все рыдает и рыдает, ее лицо распухло, глаза не открываются, а в груди боль, страшная боль от разрушенной жизни…
2
Беременность Лана решила прервать. Ее срок был слишком мал, чтобы стыдиться этого, но все-таки спустя месяц после аборта Лану накрыло: она думала о том, что виновата перед этим ребенком (в ее мыслях это была девочка). Виновата потому, что насильно притащила ее душу в этот мир и насильственно лишила ее шанса его увидеть. Боль и тяжесть вины были так сильны, что Лана не выдержала нервного напряжения и загремела в больницу.
Ее положили с целым букетом болей в разных частях тела и начали методичное обследование. Лана послушно сдавала кровь и мочу и лежала, отвернувшись к стене, целыми днями – прислушивалась к боли в груди, в сердце, в левой почке и, пожалуй, в яичнике…
К ней приходила Любава, приносила йогурты и печенье, которыми Лана согласна была питаться, иногда, когда у Любавы были вечерние спектакли, вместо нее являлся ее муж Степа. Лана безучастно принимала у него пакет и укладывалась обратно на постель. Там она жила – в одном и том же халате, не моя голову, не выбираясь из палаты на обед и завтрак. В кровати, смятой и промокшей от пота, полной крошек.
Для консультирования пригласили психиатра, и Лана узнала, что ее собираются переводить в психиатрическую клинику – ее это не удивило, пусть. И сложилась бы ее судьба неизвестным образом, но случилось так, что новенькая, перебудоражившая всю палату, повернула течение Ланиной жизни в другую сторону.
Звали новенькую Карина. Она была черноглаза, бойка и очень напоминала черного жучка, беспрестанно машущего лапками. Всплескивая ручками-лапками, она быстренько узнала историю каждой больной, поделилась своей и принялась рассуждать:
– Это, девочки, путешествие души. Мы над ним не властны. Что такое душа? Кем дадена? Высшими силами, космосом. У нее свои цели и задачи. Вот вы думаете: почему болезнь, за что болезнь? А болезнь эту сама ваша душа выбрала заранее. Знаете, как в меню пальчиком потыкала: хочу, мол, перенести вот это и это, и очиститься… Вот ты, например, – и она повернулась к Лане, – думаешь: как же так, что не родилась моя детка? А душа твоей детки сама выбрала себе короткий путь, чтобы, значит, огромный массив грехов с себя смыть, и сейчас думает: «Спасибо, мама, что я очистилась»…
Соседки по палате кто слушал, кто покачивал головой, кто усмехался, а Лану словно кипятком обдало. Вот оно! Вот она, правда! Никто не виноват в том, что у Ланы не родилась дочь, не получилось семьи! Это был ее путь, выбранный душой! Путь ее очищающих мучений!
Всю ночь Лана крутилась в постели, обдумывая новые мысли, и утром поднялась наконец. Перетряхнула белье, вызвала сестру-хозяйку и попросила поменять его. Помыла голову, переоделась в пижамку, почистила зубы и поела утренней больничной каши.
От перевода в психиатричку написала отказ. Вечером Лана, заглянув к подруге, в восхищении обняла ее:
– Ланка, дорогая! – сказала она. – Как мы рады! Как я рада!
И она действительно была рада: горели звездами темные глаза в пушистых ресницах. Лана крепко сжала ее в ответ.
– Спасибо, – шепнула она ей, и через плечо Любавы вдруг увидела – у дверей палаты стоит Степа, и Степа этот – высокий и красивый парень, и никакой не сантехник…
И Степан, поймав ее взгляд, ободряюще улыбнулся…
Глава 4
Когда жизнь отворачивается
1
Сначала это была просто мастопатия. Перед месячными грудь нагрубала, становилась болезненной и горячей.
Любава вскрикивала даже от прикосновения ткани лифчика. Она делала УЗИ и сдавала анализы, ей прописывали гормональные мази и гомеопатические добавки и чаи, но боли не унимались.
Пришлось привыкнуть к ним и жить с ними. Любава много раз слышала, что куча женщин страдают от мастопатии, а лучшее от нее лекарство – беременность и кормление. Эта неизвестная ей «куча» успокаивала тем, что раз явление массовое, то определенно не страшное, а терпеть боль – это в женской природе заложено, с самого раннего возраста, когда девочке приходится смириться с тем, что раз в месяц теперь она обречена на кровотечение.
Вопрос о детях Любаву интересовал с другой стороны – она не собиралась рожать ребенка, чтобы вылечиться, сама мысль воспользоваться беременностью в качестве чудо-таблетки была ей неприятна. Но болезнь подтолкнула ее к размышлениям: сколько может длиться ее бездетный брак? Нужно ли что-то менять?
За годы замужества они со Степой выработали свой собственный распорядок жизни и немного в нем увязли: обязательный отпуск за границей летом – по расписанию; поездка к Степиным родителям – по расписанию, в день рождения свекра; пара вылазок в театр, пара шумных застолий с коллегами и партнерами Степана и подругами Любавы – их собственные дни рождения. Новогодняя поездка на лыжный курорт.
Поначалу все складывалось так, что эти поездки и праздники радовали и казались приятным разнообразием, двигавшим лодку их семьи вперед по течению жизни – мол, у нас тут не болото стоячее, а течение бурное…
После оказалось, что и перемены могут превратиться в устоявшиеся обычаи – и река замедлила бег, начала заболачиваться…
Если бы случилось это сразу, и Степан, и Люба воскликнули бы: какая гадость!
И бодро замахав веслами, двинулись бы в путь дальше.
Но все происходило невидимо и неуловимо: вот стали пресными их прежде страстные поцелуи, вот запылился замочек потайного ящика с секс-игрушками, вот уже и спать удобнее порознь, а не прижавшись друг к другу плотно-плотно, вот поездки за границу из приключения превращаются в сплошную спячку под солнцем, на шезлонгах у бассейна.
Иногда вспыхивали прежние страсти: удивительную Любаву, облаченную в черное платье, Степан на коленях одаривает чудным жемчужным вьетнамским гарнитуром; застегивая колье, страстно и нежно кусает ее вздрагивающее плечо… Или – вот, в серые осенние будни он врывается к ней на работу с букетом пламенных роз, сто одна роза горит в его руках, словно огромное сердце, на упоительный аромат сбегаются все домкультурные кикиморы, русалки и прочие затейницы, все ахают, Любава кидается на шею обожаемому мужу…
Или вот она учит мужа лепить горшочки, погружая его руки в податливую глину, направляя и сдавливая своими ладонями, и из-под их рук выходит новая, общая форма создания, и этот процесс так интимен, что Любава переполняется нежностью к Степану и обнимает его, пачкая в оранжевых разводах его рубашку.




















