Читать онлайн Тиберий бесплатно
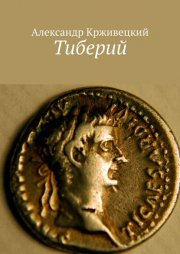
© Александр Михайлович Крживецкий, 2020
ISBN 978-5-0051-7749-0
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Александр Михайлович Крживецкий
Весь мир – театр.
В нём женщины, мужчины – все актёры.
У них свои есть выходы, уходы,
И каждый не одну играет роль…1
Уильям Шекспир.
Пролог
Старый бородатый сатир Силен, сын Гермеса2 и одной из нимф, дядька и наставник Диониса3 – сладострастный, курносый, толстогубый, грязный и вонючий, с глазами навыкате, с лошадиным хвостом и копытами. Вечно пьяный, задиристый, наглый и фривольный, окруженный хороводом его компаньонов – косматых сатиров, таких же пьянчуг – вы чувствуете, как от них разит потом, мочой и вином. Они пляшут в исступлении вокруг огромного каменного фаллоса, пляшут в бешеном ритме, который им задают бархатные звуки флейт. Сладострастный танец заканчивается экстазом, сатир, схватив в объятия одну из нимф, уносит ее и опускает на траву под высоким небом…
Так столетия назад это начиналось в Элладе. Греческий дух фантазии стремился вперед. Через эпос и героические песни аэдов,4 сопровождаемые звуками лиры, через декламацию рапсодов,5 через великолепный гомеровский хорал и лирическую песню он пришел к трагедии и комедии – произведениям высокого искусства и захватывающей силы.
Благодаря тесной связи греческого театра с культом Диониса актеры пользовались в Греции большим почетом и занимали высокое общественное положение. Актером мог быть только свободнорожденный. Театральные представления считались школой воспитания, и государство уделяло им большое внимание.
Путем логического размышления или непосредственной интуиции греки пришли к осознанию того, что поступательное движение искусства связано с двойственностью аполлонического и дионисического начал, с двумя божествами искусств – Аполлоном6 и Дионисом7. Фатальный миф и чудовищный феномен дионисического начала – именно из двух этих сущностей родилась трагедия. Весь пафос устремлений античных авторов был направлен к одному: показать насколько трудно быть и оставаться человеком, – но, в то же время, – что достичь истинно человеческого состояния вполне возможно, и, более того, – представлялась возможность обозначить великолепие тех далей и высот, которые открываются, если человек вдруг «перепадёт» из мира обыденной жизни в мир настоящей жизни, – ради которой только и рождается Человек.
Жажда катарсиса,8 разрешающего кровью человеческие страсти, была признаком высшей эры Эллады, эры великих демократических свобод вокруг мудрой, понимающей искусство, головы Перикла9, с именем которого связан расцвет Афинского государства и афинской демократии.
С наступлением римского господства перевес оказался на стороне смеха, который должен был смягчать гнет и рабство. Глубокое идейное содержание трагедий Эсхила утомляло. Страстная актуальная сатира Аристофана теперь была слишком далека, а человек искал выход для своих горестей и страха. Он хотел видеть жизнь, а не мифы. Свою жизнь. И высмеянную жизнь тех, кто отнимал у него дыхание и радость. На сцене уже не появлялись боги на котурнах,10 а раб и его господин, сапожник и его легкомысленная жена, несчастные любовники, сводники, гетеры, медники и мясники, и весь тот мелкий люд, который является кровью городов.
Римскому народу особенно полюбилась древняя оскская ателлана11 – импровизированная бурлеска из жизни. В ней были четыре постоянно действующих героя: maccus (Макк), обжорливый, сладострастный глупец; bucco (Буккон), бесстыдно назойливый блюдолиз и болтун; похотливый pappus (Папп), старый, всеми надуваемый скряга; dossennus (Доссен), горбатый плут, шарлатан, любитель интриг. Играли в традиционных масках, и женские роли исполняли мужчины.
Стереотипный набор четырех масок скоро надоел. На подмостках театров и на импровизированной сцене на улицах появился мим – народное представление, которое показывали римскому народу бродячие труппы. Пьеса о народе и для народа, она наряду с пантомимой и излюбленным сольным танцем процветала в период существования Римской империи. Здесь уже не было масок, лица сменялись, и женские роли исполняли женщины. Пестрыми были эти короткие комические, а иногда и серьезные сценки из жизни, все в них было свалено в одну кучу: пролог, раскрывающий содержание пьесы и призывающий зрителей к тишине, стихи и проза, акробатика, монолог героя, песни, танцы, философские сентенции, буйные шутки, скользкие остроты, скандальные истории, прелюбодеяния, пинки, пародии, политические нападки, наконец, раздевания танцовщиц и веселый конец.
Все краски жизни, все запахи пищи, которые доносились к черни сквозь решетки сенаторских дворцов, все звуки, стоны сладострастия, плач и насмешки были в этих фарсах. Но прежде всего – смех, смех! Римский плебс не мог избежать своей участи, но желал хотя бы на минуту забыться, хотел беззаботно смеяться. «Фарс12 – наша жизнь!» – такова была основная определенность непосредственного бытия.
Сами представления имели теперь не столько этически-воспитательный, сколько празднично-развлекательный смысл. Сольное пение под тибию13, пластическая пантомима под инструментальную музыку (ансамбль), иногда хоровые эпизоды – такова была музыка в римском театре.
В цирках и театрах выступали громадные хоры и оркестры, многие из них были на содержании богатых римлян. В столицу империи стекались музыканты из Греции, Сирии, Египта и других завоеванных областей. В капитолийских состязаниях участвовали певцы и музыканты, награждавшиеся лавровым венком. При дворе Октавиана Августа славился певец Тигеллий, любимцем публики при Тиберии был актер-певец Апеллес.
Без танцоров и танцовщиц в Риме тоже не обходились ни пиры, ни публичные зрелища, ни торжественные шествия, как и без музыки и пения.
«Хлеба и зрелищ!» – таков был основной лейтмотив устремлений римского народа. Своим знаменитым выражением Ювенал14 противопоставлял эти устремления героическому прошлому:
Этот народ уж давно, с той поры, как свои голоса мы
Не продаем, все заботы забыл, и Рим, что когда-то
Все раздавал: легионы, и власть, и ликторов связки,
Сдержан теперь и о двух лишь вещах беспокойно
мечтает: «Хлеба и зрелищ!»15
Именно этого народ требовал от государства. И, если с первым (хлебом) случались перебои, то со вторым никогда. Хлеб и зрелища – два условия возможности существования величайшего государства Античности. В этом также суть политики римских государственных деятелей, стремившихся путем подкупа денежными, продуктовыми раздачами и даровыми представлениями удержать в повиновении деклассированный столичный плебс.
Немногие очень богатые сенаторы и откупщики16, с одной стороны, развращенные своею деспотической властью в провинциях, и вынужденные ради своей карьеры заискивать перед презираемой чернью в Риме, и отвыкшая от труда толпа, с другой стороны, – толпа в худшем смысле слова, толпа систематически деморализованного плебса огромного города, потерявшая сознание гражданских обязанностей и чести, и понимающая лишь ничем не обузданное стремление к удовольствию самого грубого, самого дикого характера – вот две полярных силы, господствующие в обществе «вечного» города. Увеличение бесплатных раздач хлеба и вина породило новых бездельников, презирающих ремесла и не желающих служить государству. Эта проблема через несколько столетий сделает империю слабой и беззащитной перед лицом новых варваров и приведет к ее распаду.
Необходимо отметить, что участники театрализованных представлений римской аристократией презирались и, в отличие от древнегреческого театра, не пользовались уважением. Актерами становились рабы или вольноотпущенники.
Другим захватывающим и одновременно позорным зрелищем на потребу толпы были гладиаторские бои. Актеры и гладиаторы определялись в римском законе как люди, которые зарабатывали на жизнь телом – qui corpore quaestum facit.
«Человека – предмет для другого человека священный – убивают ради потехи и забавы; тот, кого преступно было учить получать и наносить раны, выводится на арену голый и безоружный: чтобы развлечь зрителей, с него требуется только умереть», — такими резкими словами бичевал Сенека17 гладиаторские бои, присягая провозглашаемому стоиками братству всех людей. Этот самый ранний и наиболее примечательный из известных нам протестов содержится в сборнике «Нравственные письма к Луцилию».
Начиная с первых гладиаторских игр (первый поединок гладиаторов датируется 264 г. до н. э.)18 всё чаще стали появляться государственные мужи, стремившиеся использовать в своих интересах огромное пропагандистское влияние расточительных мероприятий подобного рода. Теперь не только осененные славой полководцы выставляли на арену колонны гладиаторов, чтобы отпраздновать свой триумф, но и магистраты19 всех рангов додумались таким образом добиваться благосклонности народа, хотя сам народ, по замечанию Ювенала, был абсолютно безразличен к государственным делам. Но за чернью требовался постоянный надзор, ибо она легко могла учинить беспорядки или устроить выступления во время торжественных церемоний, представлений или других мероприятий, на которых люди могли видеть императора.
Для решения проблемы возможного мятежа римской черни и использовались массовые раздачи хлеба, денег и организация все более набиравших со временем размах народных увеселений. Императоры и богатая аристократия как бы соревновались друг с другом, устраивая все более длительные и пышные игры. Стали появляться новые театральные сооружения – амфитеатры20. Колизей вмещал 90 000 человек, а Великий цирк в Риме – 385 000 человек.
Здесь важно учитывать еще один важный аспект: римляне в массе своей были народом по преимуществу стоическим. Они легко уступали пальму первенства в различных областях жизнедеятельности другим народам, особенно грекам. Кроме одной. Классическая цитата из Вергилия лучше всего объяснит, что это за «область»:
«Смогут другие создать изваянья живые из бронзы
Или обличье мужей повторить во мраморе лучше;
Тяжбы лучше вести и движеньия неба искусней
Вычислят иль назовут восходящие звезды – не спорю:
Римлянин! Ты научись народами править державно —
В этом искусство твое! – налагать условия мира,
Милость покорным являть и смирять войною
надменных!»21
С другой стороны, к I веку н.э., римляне, граждане-государственники, привыкли воспринимать своего императора не только как личность, и даже не только как высшее должностное лицо, но и как своего рода символ, олицетворение мощи и величия государства. Роль римского императора требовала от того, кто ее исполнял, решительности и твердости, умения действовать эффектно и благородно, он ни в коем случае не должен был бояться народа, напротив, одним своим внешним видом должен был внушать трепет. Таким желали видеть римляне своего императора.
Римская история преподносит нам любопытный пример того, как чисто семейные проблемы первого римского императора – Августа Гай Октавиана22 (из рода Юлиев-Клавдиев) – обернулись драмой, которая взволновала не одно поколение римлян, и наложила отпечаток на общественные настроения на много лет вперед.
С возрастом римский император Октавиан Август очень остро переживал, что у него нет прямых наследников, и в конце своего правления оказался перед проблемой выбора преемника. Сыновей у него не было, а его внуки, которых он усыновил, умерли, и он вынужден был усыновить еще одного (младшего) внука (от дочери Юлии) – Агриппу Постума23. Однако очень скоро Агриппа стал проявлять признаки ненормальности и даже безумия. Юноша обладал большой физической силой, но был необразован и имел угрюмый и жестокий характер. Он ссорился с приемным отцом, клеветал на Ливию Друзиллу (приемную мать) и называл себя богом; наконец, его поступки стали настолько дурными, что он был сослан на остров Планазию и помещен под строгую военную охрану, что было необычной мерой предосторожности24.
Император25 разражался проклятиями каждый раз при упоминании имени Агриппы Постума или имени обеих Юлий (дочери и внучки), которые своим развратным поведением опозорили его имя. Август восклицал со стоном: «Лучше бы мне и безбрачному жить и бездетному сгинуть!» – и называл их не иначе, как «tris vomicas ac tria carcinomata sua» – «тремя своими болячками и язвами».
В конце концов, дочь Юлию обвинили в разврате, а также в покушении на отцеубийство. По римским законам отцеубийцу зашивали в мешок с собакой, змеей и петухом и сбрасывали в Тибр. Однако Август помиловал единственную дочь, заменив казнь на ссылку.
В результате, Октавиан Август был вынужден усыновить пасынка (сына Ливии Друзиллы) Тиберия – человека, который был ему лично неприятен: «Augustum, palam… morum eius diritatem improbasse»)26. Тем не менее Цезарь прекрасно видел и очевидные его достоинства. Главное же, что его заботило, – найти человека, который бы привел Рим к славе и благоденствию.
В этом деле Август, проявил изумительное подчинение личных чувств общественному благу, – сознательно избрав Тиберия своим преемником; именно ради блага государства такой человек должен был унаследовать власть («Praesertim cum et rei publicae causa se (Augustus) adoptare eum pro contione iurauerit et ut peritissimum rei militaris… prosequatur» («Перед народом он (Август) дал клятву усыновить Тиберия для блага государства, и в письмах несколько раз отзывался о нем как о самом опытном полководце и единственном оплоте римского народа»)27.
Дабы преемственность власти в лице Тиберия не выглядела делом чисто семейным, Август позаботился о его полномочиях. Будучи трибуном и проконсулом, Тиберий реально становился вторым лицом в государстве, а в начале 14 года Тиберий и Август совместно провели ценз28 Сената и в новом списке имя Тиберия, было поставлено сразу после Августа29, что еще более укрепило его положение. Все эти полномочия были утверждены Сенатом за Тиберием самым законным образом. Потому действия Августа по обеспечению преемственности власти в последние годы его жизни представляются продуманными и точными. Заслуги самого Тиберия делали его положение единственного восприемника Августа безусловным. Даже очень не расположенный к Тиберию позднейший римский историк Аврелий Виктор (конец IV в. н.э.) писал: «Высшая власть в государстве была ему предоставлена не без основания»30.
Итак, по предложению Августа Тиберий получил трибунские полномочия31 и право военного командования.
В свой последний день Октавиан Август все время спрашивал, нет ли в городе беспорядков из-за него. Попросив зеркало, он велел причесать ему волосы и поправить отвисшую челюсть. Вошедших друзей он спросил, как им кажется, хорошо ли он сыграл комедию жизни? И произнес заключительные строки:
Коль хорошо сыграли мы, похлопайте
И проводите добрым нас напутствием.
Август метко сравнил жизнь с театром, людей с актерами и попросил аплодисментов, произнеся в своем предсмертном обращении к близким слова, которыми актеры заканчивали свое выступление. Сам он заслужил не только аплодисменты за таланты в борьбе за власть и в государственном строительстве, но даже овацию.
Умер Август 19-го августа 14-го года на руках у Ливии со словами: «Ливия, помни, как жили мы вместе. Живи и прощай!». «Смерть ему, – продолжает Светоний, – выпала легкая, какой он всегда желал. („Mors levis donum ultimum est, que fortuna dare potest“ – „Легкая смерть – последний подарок, который может преподнести судьба“). В самом деле, всякий раз, как он слышал, что кто-то умер быстро и без мучений, он молился о такой же доброй смерти для себя и для своих – так он выражался. До самого последнего вздоха только один раз выказал он признаки помрачения, когда вдруг испугался и стал жаловаться, что его тащат куда-то сорок молодцов. Но и это было не столько помрачение, сколько предчувствие, потому что именно сорок воинов-преторианцев вынесли потом его тело к народу»32.
Последний свой путь до Рима Август совершил на плечах декурионов33 из муниципий и всадников. Сенаторы перенесли тело на Марсово поле и там сожгли. Самые видные граждане в одних туниках, без пояса, босиком собрали прах и положили в мавзолей34.
Так закончилось почти сорокапятилетнее владычество императора Августа. Он сумел реализовать замысел Юлия Цезаря – авторитарное правление, единственно возможное при тех размерах, которых достигло римское государство.
Напрасно умирающий Август волновался, спрашивая, нет ли в городе беспорядков, связанных с известием о его болезни. Столица империи была спокойна.
Прожив семьдесят семь лет, Октавиан Август пережил многих своих врагов, друзей, детей и даже внуков – очень долгий век по меркам древности и по меркам его слабого здоровья. Он участвовал в управлении римской державой в течение последних пятидесяти восьми лет, сорок пять из которых правил единолично. Созданный им принципат35, рождавшийся в котле гражданских войн36, оказался достаточно гибким, чтобы продержаться до смерти создателя. Теперь ему предстояло трудное отвердевание – учреждение преемственности.
Когда Веллей Патеркул пишет о том, что состояние ужаса и отчаяния, овладело римлянами при известии о смерти Августа, он, мягко говоря, не говорит всей правды. Лейтмотив его сообщения таков: Август умер и ни один человек не сможет заменить его, потому что никто не в силах стать для Рима тем, кем был Август37. Но такие панические настроения циркулировали только в среде римской аристократии. Трудности, перед ней стоящие в связи со случившемся, были очевидны: с одной стороны надо было скорбеть по ушедшему принцепсу, с другой – выразить ликование в связи с приходом к власти его преемника. Соединить скорбь с ликованием, слезы горя и слезы радости, причем важнейшим было пролить и те, и другие так, чтобы это было замечено, – дело не из легких. Цезарь38 Август умер своей смертью, его законный преемник Цезарь Тиберий скорбит о покойном отце, своевременно его усыновившем. Надо поскорбеть вместе с ним, но не чрезмерно, дабы новый Цезарь не подумал, что слезы эти относятся к перспективам его будущего правления. Вот и принялись в Риме «соперничать в изъявлении раболепия консулы, сенаторы, всадники».
Чем кто был знатнее, тем больше он лицемерил и подыскивал подобающее выражение лица, чтобы не могло показаться, что он или обрадован кончиною принцепса39, или, напротив, опечален началом нового принципата; так они перемешивали слезы и радость, скорбные сетования и лесть.
В результате всех этих жизненных перипетий, Тиберий, после смерти Августа40, оказался в сложном и двусмысленном положении, и считал необходимым прежде всего оправдать себя перед народом, доказать свою непричастность ко всем бедам рода Юлиев, убедить сограждан в том, что он, Тиберий (из рода Клавдиев), никогда не стремился к власти. Именно поэтому, как представляется, Тиберий вел себя намного скромнее и нерешительнее, чем подобало бы принцепсу. Он не был морально готов к образу категоричного и твердого правителя. В новой для себя роли, он старался, как можно точнее копировать стиль поведения Августа, но, как показали дальнейшие события, далеко не всегда удачно. Тиберий заявлял: «Я следую его словам и предписаниям, словно они имеют силу закона». Но свой принципат Август создавал для себя и под себя; его более чем 40-летнее правление создало традицию, на которую Тиберий мог и пытался опереться. Но по той же причине римлянам, многие из которых родились и выросли при Августе, трудно было представить на его месте кого-то другого. Таким образом, располагая всеми полномочиями своего предшественника, Тиберий не смог приобрести его авторитета (auctoritas principis), составлявшего важный элемент политического положения принцепса, хотя и пытался это сделать. При Августе он долго был правой рукой последнего, что имело двоякие последствия. Тиберий приобрел большой опыт в государственных делах, прекрасно представлял ситуацию в различных частях империи, продемонстрировал качества прекрасного полководца, администратора и дипломата. Но, в то же время, долгое пребывание под чужой властью породило в нем известную нерешительность в принятии ответственных политических решений.
Оказавшись во главе империи Тиберий, запуганный подозрениями на свой счет и озабоченный своей личной непопулярностью, не сумел правильно сыграть роль римского императора. Именно поэтому Тиберий постоянно попадал в такие ситуации, когда не мог дать согражданам того, что от него ждут. Принять верховную власть новый император медлил до тех пор, пока это не вызвало раздражения; он запретил приносить присягу на верность своим делам, праздновать свой день рождения и всячески препятствовал распространению обрядности, связанной с его собственным культом. Заметим, что многие из этих поступков выглядят безупречно с точки зрения нравственности, и казалось бы, должны были хотя бы в некоторой степени расположить народ к Тиберию. Этого, однако, не произошло. Дело в том, что у ситуации была и другая сторона.
Церемонии, ритуалы и праздничные действа, связанные с императорским культом, следует рассматривать не только как выражение любви и благодарности лично принцепсу. Как было отмечено, культ императора играл для римлян роль идеи, которая объединяет людей и сплачивает, таким образом, общество. Для поддержания этой идеи такие символические действа, как празднования дня рождения императора, принесение ему присяги на верность и т.д., были просто необходимы. Говоря о подобного рода праздничных и культовых действах, необходимо также иметь в виду их огромное эмоционально-психологическое воздействие: люди, как правило, участвуют в них с удовольствием, одновременно все глубже проникаясь идеей, которая их сплачивает. Поэтому римляне, даже не испытывая особой любви лично к Тиберию, стремились сберечь установленные при Августе обряды и церемонии. Тиберий же своей нерешительностью поколебал уже прижившиеся традиции и в итоге был в очередной раз не понят.
Крайне осторожный, мрачный, замкнутый и медлительный император Тиберий, которому олимпийские боги даровали судьбу, полную трудов, и отняли дар смеяться, в очередной раз попал впросак: он одобрил жестокий закон, вынесенный Сенатом, который поставил актеров на низшую ступень общества, дал право претору41 наказывать их на месте за малейшую провинность, даже только за намек на недовольство от притеснения со стороны патрициев и учреждений. Он приказал за бунтарство — изгнать всех актеров из Рима и резко ограничил также число гладиаторских ристалищ. Даже гладиаторы жаловались на то, что они не могут выступать перед зрителями.
И народ взволновался!
Ростры42 и базилики43 были расписаны оскорблениями в адрес императора и Сената. С этих пор Тиберия всю жизнь преследовали подозрения, упреки и откровенная ненависть со стороны народа. Психологический настрой общества против него был настолько силен, что все, что бы он ни делал, казалось плохо.
Заметим, что когда Тиберий заботился о снабжении Рима продовольствием, ремонтировал общественные сооружения, следил за строительством дорог, наделял средствами обедневших сенаторов, оплачивал долги несостоятельных должников – это все воспринималось, как прямая обязанность императора, поэтому не встречало никакой благодарности. В то же время в его словах и поступках римляне склонны были усматривать двусмысленность, лицемерие и тайные замыслы.
На ежегодных праздниках, под руководством Арвальских братьев44, где отсутствие актеров особенно чувствовалось, толпы народа выражали свою ненависть и снова, и снова требовали, чтобы император вернул им их любимцев. Долго Тиберий молчал, однако, в конце концов, услышал вопли толпы, и актерам было разрешено вернуться. Они нахлынули, как половодье, и начали с того, чем закончили. Апеллес, всеобщий любимец, в торжественный день возвращения обратился к народу с импровизированной сцены на Бычьем форуме (Forum Boarium – древнейшая торговая площадь Рима) от имени актеров и зрителей:
«У нас отличный скот!
Мы счастливы и сыты!
И, как клопы, от крови мы пьяны.
Но это злит правителей страны,
И потому мы снова будем биты!..».
Ну что можно тут сказать? – только воскликнуть: «О благородные музы, Талия и Терпсихора!45 – Воздайте хвалу дерзости и легкомыслию! – Часто бывает комедианту нечего есть, но он должен играть! Пусть могучие Парки46 спрядут этим безумцам судьбу, в которой будет хотя бы одна лепешка, пять унций сала47 и сongius (кувшин – 3,28 л.) дешевого вина в день, чтобы им не приходилось прыгать на голодный желудок».
Тиберий, покручивая пальцы рук ворчал: «Actores mutare, sed senselessness ludus omnibus idem» («Актеры меняются но бессмыслие игры всё то же»).
Итак, 17 сентября 767 года от основания Рима48 приемный сын императора Октавиана Августа – Тиберий Клавдий Нерон49 – торжественно принял принципат. Важнейшие прерогативы императорской власти, проконсульский империй50 и трибунскую власть (imperium majus et tribunicia potestas) он получил еще при жизни Августа и после его смерти сразу взял бразды правления в свои руки, но, так как по традиции источником полномочий принцепса должен был быть Сенат, понадобилось собрать сенаторов. Тиберий принял все полномочия своего предшественника, но не на 5 или 10 лет, как всегда поступал Август, а на неопределенный срок. Быть может в этот миг он думал о своих усилиях по созданию нового мира и о самом мире, похожем на грандиозный театр.
Новый властелин Рима – Tiberius Claudius Nero; Tiberius Iulius Caesar; Tiberius Caesar Augustus; Pontifex Maximus; Divi Augusti filius (Тиберий Клавдий Нерон (имя при рождении), Тиберий Юлий Цезарь (после усыновления), Тиберий Цезарь Август (после принятия власти), Великий Понтифик, сын Божественного Августа) был уже не молод – Тиберию шел пятьдесят шестой год.
Очередной акт спектакля мировой истории начался!
Глава I.
Общие сведения о Римской империи
Историю Римской империи по характеру государственно-правового устройства разделяют на два основных этапа:
– Принципат – форма государственного устройства, сочетающая республиканские и монархические черты (где под прикрытием республиканских органов власти на самом деле была военная монархия) – существовала в период с I века до н.э. – III век н. э. Обладатель высшей власти в основном именовался титулом «принцепс», что подчеркивало его статус первого среди равных.
– Доминат – политическая система, более близкая к монархии (существовала 284—476 гг.).
Едва ли у другой исторической фазы развития так долго господствовала «персонифицированная» периодизация, отождествление череды биографий императоров с историей целой эпохи. Будь то богатые материалом «Жизнеописания» Светония, короткие миниатюры позднеантичного периода, психологизированные биографии нового времени или изложения любой точки зрения – в них превалировала биографическая форма в ущерб научной. Публику интересовали не государственные институты, а люди, стоящие на вершине власти. История Римской империи свелась, таким образом, к галерее часто малопривлекательных портретов императоров: двойственный, но тем не менее просветленный образ Августа, часто не соответствующий действительности портрет угрюмого Тиберия, патологический случай Калигулы, идиотский, на первый взгляд, образ Клавдия, зависимость их от женщин и вольноотпущенников, скандальная хроника двора Нерона, порядочность первых Флавиев, тирания Домициана, столь различные представители славных времен империи, солдат Траян и интеллектуал Адриан, фигура «провинциального» Антония Пия и необыкновенно напряженное лицо бородатого философа на троне Марка Аврелия… – эта традиционная череда образов была историей дворцовых интриг, но вряд ли историей времени.
К началу I века нашей эры Римская империя была крупнейшим государством мира с населением около 60 миллионов жителей. Римляне контролировали территории, раскинувшиеся от Атлантического океана на Западе, до Месопотамии на Востоке и от острова Британия на Севере, до Северной Африки на Юге. В состав Империи входили нынешние: Испания и Португалия, Франция и Бельгия (то и другое называлось вместе Галлия), Англия (называвшаяся Британией), Италия, Швейцария, южная часть Австро-Венгрии, весь Балканский полуостров, большая часть нынешней Азиатской Турции (кроме земель за Евфратом), Египет и вся береговая полоса северной Африки, кончая Марокко (у римлян Мавритания).
Общего между землями, входившими в состав империи, и было всего только одно военное начальство и управление Рима. Они были населены по крайней мере двенадцатью большими народами: кроме итальянцев, которые образовались из соединения римлян и прежних союзников, в империю входили греки, иллирийцы, африканцы (бывшие карфагеняне), евреи, галлы, испанцы и др. Большинство сохраняло свой прежний язык, веру, обычаи. Только менее образованные испанцы и галлы на западе принимали быстро язык римлян и становились народами романскими (от Рома – Рим). Римская империя заключала в себе большую часть известных в то время стран: на север от нее были глухие леса варваров, на запад – океан, за которым дальше ничего не знали, на юг – бесконечные пески Сахары.
Несколько веков аристократическая Римская республика, возглавляемая Сенатом51, завоевывала себе сначала право существовать рядом с сильными соседями, затем право грабить этих соседей, затем право участвовать в «большой политике» древнего Средиземноморья, затем право грабить это Средиземноморье, государства которого одно за другим становились римскими провинциями; но когда Рим окончательно превратился в столицу мировой державы, то сделалось ясно, что править этой державой по-прежнему невозможно и жить в ней по-прежнему тоже невозможно, а от полумер уже нет толку, так как латаная-перелатаная форма правления рвется на глазах. Началось кровавое столетие гражданских распрей и гражданских войн, наконец, молодой и самый умный, одних переживший, других победивший, – Гай Юлий Цезарь Октавиан Август, наследник Юлия Цезаря, – предложил мир, всеобщую амнистию и «восстановленную республику», и все это было принято с восторгом. Мир и амнистия были настоящие, а «восстановленная республика» вид имела самый консервативный, однако посредством нескольких не слишком заметных законодательных допущений превращала принцепса (старейшину Сената) в монарха – этих принцепсов мы теперь и называем римскими императорами, первым из которых сделался, естественно, сам Октавиан.
Римлянам казалось, что они родились для того, чтобы покорить весь свет и всем поставить свои порядки и законы. У Горация говорится, что римское оружие «дошло до последних пределов мира, где на одном конце вырывается полуденный огонь из жерла, а на другом стоит вечный туман и дождь». На монетах римских ставились надписи: «Вечный Рим». Римляне гордились тем, что, покорив всех, они истребили войну, дали всем прочный мир, «Римский мир».
На границах империи были расквартированы десятки легионов – основа спокойствия и безопасности государства. Вся территория была разделена на провинции. Каждую такую административную единицу возглавлял римский наместник, назначавшийся императором.
Итак, свершилось – римский мир, Pax Romana, стал фактом!
«Римляне, – писал Полибий, – покорили своей власти весь известный мир, а не какие-нибудь его части, и подняли свое могущество на такую высоту, которая немыслима была для предков и не будет превзойдена потомками». Действительно, римляне сокрушат самые могущественные державы – Карфаген, Македонию, царство Селевкидов. Покорят они и многие азиатские царства, и античную Грецию.
Аппиан Александрийский писал в «Римской истории»: «Ни одна держава, вплоть до наших дней, никогда нигде не достигала таких размеров и не имела такого длительного существования. Ведь даже владения эллинов, если кто-либо соединил бы воедино владения афинян, лакедемонян и фиванцев, властвовавших одни за другими, начиная с похода Дария, откуда начался особенно блестящий период их деятельности, вплоть до гегемонии Филиппа, сына Аминты, над Элладой, не могли бы показаться столь обширными, как владения римлян… И вообще эллинское могущество, хотя они со всей страстью и боролись за гегемонию, нигде не выходило прочно за пределы Эллады, хотя они проявляли выдающуюся доблесть, отстаивая независимость своей страны. Со времен же Филиппа, …и Александра, сына Филиппа, как мне кажется, они и вовсе действовали дурно и недостойно самих себя52».
Завоевав Грецию, римляне превратили ее в рядовую провинцию – Ахею.
Рим воплотил мечту о глобальном Гегемоне, словно ставил целью выполнение миссии Зевса на Земле. А потому, победив Филиппа Македонского, римляне предоставили Греции свободу, сохраняя присутствие их гарнизонов в Коринфе, Деметриаде, Халкиде. Греция получила свободу, хотя и лишь как сателлит.
Когда во время Истмийских игр неожиданно толпе заявили, что отныне Греция свободна, что римский сенат и император возвращают им желанную независимость, как и право жить по отеческим законам, а заодно освобождают Ахейю от постоя войск и податей, родился неимоверный взрыв энтузиазма, выразившийся в страшном крике. Даже вороны попадали замертво…
Древнеримский писатель Валерий Максим уверяет, что от громкого и долгого крика образовались воздушные ямы, в которые упали летавшие над ареной птицы53.
Вот как это событие описывал Тит Ливий: «Наступило время Истмийских игр54. На них и раньше всегда собиралось множество людей как из-за присущей этому народу страсти к зрелищам, которая гонит их смотреть всякого рода состязания, будь то в искусствах, в силе или проворности, так и из-за выгод местоположения: ведь там близко друг к другу подходят два разных моря, что дает людям приобретать все на свете товары. Благодаря этому игры сделались торжищем Азии и Греции. Но в тот момент люди из всех краев собрались туда не только по своим обычным делам – им не терпелось узнать будущее положение Греции, её судьбу… И вот все расселись в ожидании зрелища. На середину арены, откуда принято торжественной песнью подавать знак к открытию игр, выступил глашатай, по обычаю сопровождаемый трубачом. Звуком трубы призвав к тишине, он провозгласил следующее: «Римский сенат и командующий Тит Квинкций, по одолении царя Филиппа и македонян, объявляют свободными, освобожденными от податей и живущими по своим законам всех коринфян, фокидцев, локридцев, остров Евбею, магнесийцев, фессалийцев, перребов и фтиотийских ахейцев. Он перечислил все народы, прежде подвластные царю Филиппу. Когда отзвучала речь глашатая, всех охватил такой восторг, какого человек вообще не в силах вынести. Каждый едва мог поверить, что он не ослышался – все переглядывались, дивясь, будто на сонный морок, и переспрашивали соседей, поскольку каждый не верил своим ушам как раз в том, что относилось прямо к нему. Вновь позвали глашатая, ибо каждый желал не только слышать, но и видеть вестника своей свободы. Он еще раз провозгласил то же самое. Когда в этой радостной вести уже невозможно стало сомневаться, поднялся крик и рукоплескания, повторявшиеся множество раз, чтобы всем стало ясно, что народу свобода дороже всех благ на свете!55».
Римляне проявили дипломатическую мудрость, сохранив за побежденными внутреннюю свободу. Они не покушались ни на конституции, ни на законы, и не лишили ни одного из наследственных царей власти. Отнятые территории не переходили в полную собственность Рима. Конечно, у некоторых близких к римлянам по культуре народов это вызывало своего рода эйфорию. Учитывая, что римляне вели себя вполне корректно, соблюдая известный такт, греческая аристократия согласна была обслуживать имперские цели Рима (раз уж не было другого выхода). Говорят, что и Пергам стал мощным государством, а Ливия выросла в размерах. Конечно, в известном смысле жить под властью одного господина (Рима) спокойнее и безопаснее, чем находиться в процессе постоянных войн всех против всех. Когда споры решает один вселенский судья, хотя бы тот же Рим, неизбежно воцаряется больший порядок. Рим прекратил войну Пергама и Вифинии, предоставил автономию Греции, вырвал Ливию из когтей Карфагена, потребовал от Антиоха Эпифана прекратить войну против Египта. Он требовал от других ограничить силу их армий и флота. Все это так… Но почему, во имя чего? Вовсе не потому, что римляне, по словам настроенного к ним дружески и союзнически Полибия56, как некие исключительные люди, были «одарены возвышенною душой и благородными чувствами», и не потому, что соболезнуют всем несчастным и «спешат услужить всякому, кто прибегает к ним за покровительством». Они думали только о том, чтобы, в первую очередь услужить самим себе. Обычно вместо дани побежденные народы должны были выплачивать Риму контрибуцию, рассчитанную на десятки лет. Чтобы выплаты были надежными и стабильными, нужен был мир. Всем известно, что воюющие стороны вынуждены тратить на войну огромные средства. И война за свободу Греции велась не из каких-то гуманных побуждений. Нет, с завоеванием Греции открывалась дорога ко всей Азии, к богатейшим и непокоренным странам мира.
Римские политики, не стесняясь, прямо говорили о целях подобной экспансии. Римский консул Ацилий заявил своему войску: «Вам надлежит помнить, что воюете вы не только за свободу Греции, хотя и это было бы величайшей честью, – вы освобождаете от этолийцев и Антиоха страну, ранее освобожденную от Филиппа. Вашей наградой станет не только то, что находится в царском лагере, в добычу достанется и все снаряжение, которое там со дня на день ожидают из Эфеса. А затем римскому господству откроются Азия, Сирия и все богатейшие царства, простирающиеся вплоть до восхода солнца. А после что нам помешает от Гадеса до Красного моря раздвинуть границы римской державы вплоть до Океана, что окаймляет земной круг? И весь род людской станет чтить имя римлян вслед за именами бого57.
Колонизация сблизила культуры и нравы двух соседних регионов еще более. Римляне знакомятся с греческим образом жизни (книги, библиотеки, предметы одежды и роскоши, ученые-греки). Проявлению интереса к Греции способствовала и миграция греческих интеллигентов. В 240 г. до н.э. римляне впервые познакомились с комедиями и трагедиями, написанными хотя и на латыни, но на основе греческих аналогов. Грек-вольноотпущенник Андроник перевел на латынь «Одиссею» Гомера. Он же написал по поручению жрецов первую латинскую хоровую песнь. Особенно популярны были греческие мифы. Греческие герои становятся римскими. Таков Геракл. Как и подобает истинному герою, он спасает людей от бед и чудовищ. Деяния его явились демонстрацией безграничных возможностей героического духа. Его считают своим предком многие народы. Профиль бородатого Геракла чеканили на монетах.
В Рим проникают научные понятия и категории (диалектика, классификация предметов, понятий, этические нормы). Лукулл привез с Востока сферу с движениями Луны, Солнца и звезд. Известны и труды Теренция Варрона, плодовитого оратора и ученого, затронувшего едва ли не все области наук, известных в Греции и Риме. По мере роста богатств римское общество стало все больше нуждаться в просвещенной обслуге из греков (врачи, учителя, историки, чтецы, секретари и т.д.). Вспомним хотя бы судьбу воина и историка, грека Полибия, взятого Римом в заложники и прославившего его.
Нельзя не упомянуть о роли греческого образования в воспитании римлян. От первых двух веков римской истории нет никаких свидетельств, касающихся обучения детей. По словам историков, первые упоминания о школе относятся к 449 г. до н. э. В больших и малых городах Италии появляются школы, которые посещают дети из лучших семейств. Как скажет Диоген: «Наука и образование для юношей служат целомудрием, для старцев – утешением, для бедных – богатством, для богатых – украшением».
Молодежь из знатных семей все чаще едет для изучения греческой философии, риторики, языка в Афины или на Родос. Овидий скажет: «Учение переходит в нравы». Образованная часть римского общества впитывала знания греков. Гораций напишет:
- В Риме воспитан я был, и мне
- довелось научиться,
- Сколько наделал вреда ахейцам
- Ахилл, рассердившись.
- Дали развития мне еще больше
- благие Афины, —
- Так что способен я стал отличать
- от кривого прямое,
- Истину? правду искать среди
- Академа-героя58.
В школе главным предметом была литература и поэзия. Студенты знакомились по переводам с произведениями греческой литературы (Гомер, Плавт, Теренций, Гесиод, Менандр, Эзоп). Историей часто пренебрегали. Оттого и не разглядели будущего. Хотя считалось престижным выучить наизусть несколько фраз или отрывков из Тита Ливия, Саллюстия, Виргилия, Горация, Овидия, Лукана, Стация и т. д. Что же касается собственно риторики, имелись риторы латинские и греческие, то есть появилась своего рода специализация. Чтобы подвигнуть юношей к изучению ораторского искусства, устраивались состязания между молодыми ораторами, и победителей награждали триумфом.
Цицерон говорил, что геометрия сводилась к искусству измерять, поскольку изучали скорее ремесло землемера, чем науку геометра. Астрономию изучали как поэтический вид. К искусству относились в высшей степени пренебрежительно. Лишь в редких случаях детей обучали искусствам (да и то в силу необходимости). Так, Фабий Пиктор отдал сына учиться живописи, поскольку его сын был немой и отец хотел как-то скрасить ему жизнь. К музыке, танцам римляне вообще относились с презрением. И даже занятия гимнастикой не приветствовались. Нагота казалась римлянам в высшей степени безнравственной, возмутительной. На палестры59 римляне взирали как на школы праздности и разврата, что странно для нации воинов. Сенека с презрением утверждал, что занятия тут составлены из масла и грязи. Таковы были вначале римские нравы.
В отличие от греков, более обращавших внимание на воспитание гражданина и человека, римляне делали больший акцент на практические навыки. Римляне старались приобщить потомство к труду земледельца, торговца, ремесленника. Хотя Сенека и скажет: «Учимся не для жизни, а для школы», понимали, что без трудового воспитания у нации нет будущего. Катон наставлял:
- Если имеешь детей, а богатств
- не имеешь, – старайся
- Делу детей научить, чтоб могли
- с нищетою бороться.
У римлян даже слово «обучение» мысленно отделялось от слова «воспитание». Цицерон говорил: «Отечество родило нас и воспитало с тем, чтобы мы отдали все силы своего духа, таланта и знаний его благу: поэтому мы должны изучать те науки, которыми мы можем принести пользу государству; в этом высшая мудрость и доблесть». На тех же позициях стоит Плиний Младший: «Кто же будет настолько терпелив, что захочет учиться тому, чего не сможет применить на деле?». Об этой прагматической стороне характера обучения у римлян писал и Гораций:
- Грекам Муза дала гений высокий,
- изящное слово
- Кроме величия, славы не алчут
- они награждения;
- Римлян же дети учатся вечно
- с трудом и усильем,
- На сто частей как делить асс
- Без всякой ошибки
Глава II.
Приход Тиберия к власти
Мы должны быть рабами законов,
чтобы стать свободными.
Марк Туллий Цицерон60.
Государь – первый подданный закона.
Code Just.61, I XIV, 4.
На Капитолийском холме, в храме Юпитера Сенат и римский народ выносили решения, изменявшие мир!
По преданию, Сенат был создан из совета старейшин патрицианских родов в начале царского периода первым царем Рима – Ромулом. Послушаем Секста Аврелия Проперция, выдающегося древнеримского элегического поэта:
Где заседает сенат в окаймленных пурпуром тогах
Там собирался старейшин попросту, в шкурах, совет.
Сельский рожок созывал на сходку древних квиритов62.
Сотня их всех на лугу и составляла сенат.63
А в императорском дворце на Палатине64, в самом начале осени (3 сентября 767 года от основания Рима), в личных покоях вдовы Октавиана Августа – Ливии Друзиллы, состоялось совещание с участием узкого круга лиц: собственно хозяйки апартаментов – Ливии, ее сына, народного трибуна Тиберия, и сенатора Марка Кокцея Нервы (ближайшего друга Тиберия).
Мрачный Тиберий, наклонив голову вперед, тяжело вздыхая, проговорил:
– Божественный Юлий Цезарь! Перед твоими алтарями и в твоих священнейших храмах я молюсь, чтобы с помощью благожелательного и благосклонного божества ты смог прочувствовать затруднения таких людей, как я, и взял бы твоего покорнейшего слугу и почитателя под свою защиту. Он поднял вверх свой взор, шумно чмокнул губами, и продолжил:
– Благословенный отец мой еще при жизни, благодаря Юпитеру, наделил меня полномочиями трибуна и проконсула, а в Сенате дал обещание сделать меня своим наследником. Более того, по своим заслугам, уму и опытности я считаю, что имею право на первое место в государстве. Однако, мне не совсем понятно, делают ли те важные полномочия, которыми наделила меня судьба, первым лицом государства — принцепсом? И самое главное, – примут ли Сенат и народ меня в этом качестве?
Ливия, накрыв своей ладонью руку сына, с волнением в голосе произнесла:
– Давно, когда я еще носила тебя в чреве, желая узнать, рожу ли я мальчика, я вынула из-под наседки яйцо. Передавая его из своих рук в руки прислуги, я до того нагрела его, что из него выскочил петушок с красивым гребешком. Астролог Скрибоний предсказал мне мальчика, с блестящей будущностью. А когда ты родился, на крышу дворца уселся орел, прилетевший с Олимпа. Так что будь спокоен и тверд, – твое будущее прекрасно!
В ответ Тиберий лишь пожал плечами, медленно облизал губы и, сдерживая свой низкий голос, неторопливо произнес:
– Сердце является обиталищем разума65, а оно подсказывает мне, что не все так просто. Я весьма мало рассчитываю на счастье и удачу и хотел бы застраховаться от случайности. Судьба никогда не благоприятствует нам с подлинной искренностью. Далее он продолжил:
– Система государственной власти, тесно связанная с личностью ее основателя, Цезаря Октавиана Августа, в настоящий, переломный момент проходит своего рода проверку на прочность. Это и испытание лично для меня: смогу ли я, став принцепсом, сохранить и упрочить курс своего гениального предшественника. Если «да», – то он превратится в постоянно действующий фактор политической жизни Рима. Но в этом вопросе пока не понятна позиция римского Сената.
Сенатор Марк Кокцей поднял руку, прося слова:
– Твоя слава значительно перевешивает мои скромные возможности представить доблесть наследника в надлежащем свете. Буду краток: ты прав в главном: все, чем ты богат, подвластно не тебе – судьбе. Поэтому одно из двух: или не берись, или доводи до конца начатое. Ты уже начал действовать! А раз так – закрой двери для сомнений. «Tanatum potes, quod credis» («Ты можешь всё, во что веришь!»). Впадать в отчаянье не должен человек, в котором разум есть — усердьем и трудом всего решительно достигнуть можно66. – Что касается Сената. – Когда-то Курия67 была сердцем содружества и глубокого доверия, и если люди пересекали ее порог, они оставляли за ее стенами личные чувства, но обретали любовь к Родине. Нынешние члены Сената, в своем большинстве, надменны и испокон веку заражены всякими пороками и развращены до мозга костей. Они выродились из блеска и погрязли в нечестивой праздности. Политическая пассивность, тяга к покою, уходу в частную жизнь, начинают вытеснять прежде характерные для римских аристократов деятельную энергию и стремление активно участвовать в общественной жизни. Еще при жизни Августа, осыпанные им в меру их готовности к раболепию богатством и почестями, эти аристократы привыкли беспрекословно повиноваться принцепсу и подчас равнодушно относятся к государственным делам. Кроме того, в кошельках у многих из них загнездилась паутина и они будут чрезвычайно рады подачкам от лица нового принцепса. Так что не беспокойся о сенаторах, – ты станешь принцепсом без затруднений.
Вдовствующая императрица прервала сенатора:
– В Риме слишком много разного сброда, и меня это чрезвычайно беспокоит.
Тиберий махнул рукой:
– Это пустяки, – сказал он, лениво и мягко выпуская слово за словом. Я дал пароль преторианским когортам – императорской гвардии68, и по моему приказу они усилили охрану дворца, организовали круглосуточное патрулирование улиц и площадей Рима. За всем следит командующий преторианцами Сей Страбон, верный мне, а в провинции я уже направил соответствующие послания расквартированным там войскам.
Ливия поднялась, нервно сжимая руки, и негромко проговорила, обращаясь к сыну:
– А что делать с распространившимися в городе слухами о том, что мы с тобой напрямую виновны в смерти Агриппы Юлия Цезаря (Агриппы Постума) – этого выродка в императорской семье? – Вначале это был просто избалованный, но прелестный ребенок, в 14 лет прекрасно выступал в Троянских играх, но уже в восемнадцать Август отрекся от него за его буйный, порочный и жестокий нрав. Этот гаденыш просто дышал ненавистью, постоянно обливал меня грязью и грубил императору.
Тиберий:
– У него такая судьба, – он был сумасшедший, и Август еще при жизни принял правильное решение, отправив его в заточение, – «Erat dura necessitas. Arcus nimium tensus rumpitur» («Это была суровая необходимость. Слишком натянутая струна лопается»). Подробности о его участи должен знать всадник69 Саллюстий Крисп, который лично получал инструкции от Октавиана Августа. Сведения о его смерти заслуживают скорее осторожной недоверчивости. – Тиберий глубоко вздохнул, распрямил плечи, и пристально глядя матери в глаза, продолжил:
– Если кто-то из ныне здравствующих тоже не приложил к этому делу свою руку. – Государство в опасности, если его граждане, хотя бы и самые выдающиеся, считают себя выше законов. – Ab abūsu ad usum non valet consequentia. (Злоупотребление при пользовании не довод против самого пользования)70. Я предложу Сенату расследовать это дело. – Что же касается сплетен, то правду говорят, что языки без костей, однако кости перемалывают. Вергилий как-то сказал, что молва – это бедствие, быстрее которого нет ничего на свете. С этим бороться, увы, бесполезно. Общественное мнение всегда будет плавать между ненавистью и восхищением первым гражданином империи…
Совещание затянулось допоздна. В конечном счете, сенатор Марк Кокцей Нерва настоятельно рекомендовал наследнику не включать вопрос о передаче власти в повестку дня первого заседания Сената:
– Учитывая неоформленность в законе принципата как института, все полномочия принцепса должны быть добровольно пожалованы тебе сенаторами, причем представляется желательным и даже необходимым некоторое сопротивление этому с твоей стороны. Пусть сенаторы сами, по собственной инициативе, вручат принципат Тиберию, – тому, кто уже достаточно ясно выразил свои претензии на вакантное после смерти Августа место.
Тиберий, повертев головой, тихо выдохнул:
– Вот ты заговорил о необходимости, но еще Эпикур утверждал, что необходимость есть бедствие, но нет никакой необходимости жить с необходимостью71.
Марк Кокцей возразил:
– Но он же утверждал, что нельзя жить приятно, не живя разумно. Необходимость часто бывает выше расчетов, надо побороть сомнения. У тебя нет выхода. – Alea jacta est («Жребий брошен, пути назад нет»72). – Делай что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть! – Единственно о чем я просил бы тебя: «Бойся оцезариться, полинять. Стремись к общественному благу, а не к рукоплесканиям. Так часто бывает – поверь моему житейскому опыту. Будь чистым, степенным врагом роскоши, твердым в исполнении долга. Почитай богов, трудись во славу Рима, пекись о сохранении прав его граждан, чтобы твой последний час застал тебя в сознании сделанного добра!».
В ответ Тиберий хмыкнул, повертел головой и насупив брови, сказал с иронией:
– Facile omnes, cum valemus, recta consilia aegrotis damus. Non timere? («Все мы, когда здоровы, легко даем хорошие советы больным». Не боишься?).
Марк Кокцей мгновенно парировал:
– Do – noli timere: terrebis – ne feceris: et fecerunt – non me paenitet.! («Делаешь – не бойся, боишься – не делай, а сделал – не сожалей!»)…
Завершая «Высший совет», Тиберий, насупившись, проворчал:
– Faber est suae quisque fortunae («Каждый сам кузнец своей судьбы»73.
Итак, в середине сентября, после «Пира Юпитеру», который давался 13 сентября во время Великих Римских игр74, Тиберий, используя свои полномочия народного трибуна, созвал Сенат, официально для того, чтобы обсудить вопросы, связанные с последней волей приемного отца.
Солнечным утром 17 сентября 767 года от основания Рима75, высший орган власти Римской империи был готов принять жизненно важные для государства решения: наделение умершего Октавиана Августа божественным ореолом, оглашение завещания покойного и провозглашение так называемого «Статута об империи», в котором Август давал наказ не расширять существующих границ государства.
Накануне глашатаи разнесли эту весть по улицам и площадям «Вечного города» и с самого раннего утра по лестницам к Курии Юлия (Curia Iulia) – месту собраний Сената на Римском Форуме – застучали ноги, обутые в красные башмаки из тонкой кожи на высокой подошве, с двумя парами черных ремней и серебряными пряжками, – официальной обуви (calcei – кальцеи) шестиста римских сенаторов76.
Среди этой внушительной толпы «отцов нации» выделялся крупный широкоплечий мужчина – трибун Тиберий, богоравный в своем величии, в безукоризненно лилейной тоге, с небольшой свитой (второй консул Секст Аппулей, сенатор Марк Кокцей Нерва, претор Гай Веллей Патеркул), в сопровождении преторианцев и воинов-германцев, личных телохранителей почившего Октавиана Августа.
Отцы-сенаторы вместе взошли на Капитолий, чтобы, как обычно, совершить жертвоприношение, а также продемонстрировать свою почтительность перед пустым троном императора, как если бы Октавиан Август находился перед ними. Охрана, сопровождавшая Тиберия, окружила здание Курии Юлия.
Десятки тысяч римских граждан в тогах пришли послушать решения Сената на большую Капитолийскую площадь перед Храмом Юпитера, и запрудили все близлежащие улицы, ведущие к Форуму. Люди молча, с напряженными лицами, стояли плечом к плечу, а за ними тянулись старые стены важных религиозных и светских сооружений. – «Вот они мира владыки, народ, облекшийся в тогу!»77. (Тога́тус – «одетый в тогу» – самоназвание римлян, поскольку тога78 – национальная одежда и атрибут полноправного римского гражданина, а ношение тоги являлось обозначением социального статуса свободного человека и гражданина).
Эдилы79 внимательно следили за порядком в одежде, поскольку величавость внешнего вида, подчеркивала ответственность граждан, стоящих во главе мира по милости богов, и в силу своего государственного разума.
А в это время в здании Сената председатель собрания консул80 Секст Помпей, открывая заседание, как обычно, произнес сакральную фразу: «Quod bonum, faustum, felix fortunatumque sit populo Romano Quiritibus» («Ради блага, счастья, успеха и удачи римского народа»)81, а затем предоставил слово народному трибуну Тиберию.
С широкой скамьи поднялся статный, дородный мужчина, с красивым, но суровым точеным лицом, внешне спокойный, одетый в белую тунику, с широкой пурпурной вертикальной полосой (laticlaviа), прикрытую широкими складками белоснежной тоги82, сообщавшей известную величавость его внешности. Вся его фигура производила впечатление «серьезной важности» («gravitas»).
Он, слегка наклонив голову вперед, медленно осмотрел весь зал, заполненный «отцами нации» неторопливо поигрывая пальцами рук, сложенных вместе, шумно вздохнул, и, пожевав губами, наконец начал свою речь. Ему не пришлось напрягать свой глубокий низкий голос – едва он заговорил, наступила мертвая тишина.
Слова его, словно тяжелый металл, медленно падали в пространство и звенели в этой пронзительной тишине: – «Я не раз говорил и повторяю, отцы-сенаторы, что добрый и благодетельный правитель, обязанный вам столь обширной и полной властью, должен всегда быть слугой Сенату, порою всему народу, а подчас – и отдельным гражданам». – Он тяжело вздохнул и продолжил: – «Мне не стыдно так говорить, потому что в вашем лице я имел и имею господ и добрых, и справедливых, и милостивых и представляю собранию (referre, relatio)83 свое первое предложение: «Наделить Цезаря Октавиана Августа апофеозом (причислить к лику богов)». — Здесь речь его прервалась, он всхлипнул, словно не в силах превозмочь горе, и воскликнул с рыданием: – «Уж лучше бы мне лишиться не только голоса, но и жизни!», и закрыв лицо одной рукой, другой порывисто передал листы с речью для дальнейшего прочтения своему сыну Друзу84.
Нерон Клавдий Друз (Nero Claudius Drusus), развернув документ, «aрertо libro» («с листа, без подготовки») громко перечислил все титулы почившего Цезаря Августа: Imperator Caesar Divi filius Augustus, Pontifex Maximus, Consul XIII, Imperator XXI, Tribuniciae potestatis XXXVII, Pater Patriae – (Император85, сын Божественного Цезаря; Август; Великий Понтифик; Консул 13 раз; Император 21 раз; наделен властью народного трибуна 37 раз; Отец отечества»86. Далее перечислялись основные «Деяния божественного Августа», которыми он земной круг власти римского народа покорил, и пожертвований, которые он сделал государству и римскому народу»87.
Председатель собрания консул Секст Помпей призвал членов Сената обсудить первый вопрос: «Что следовало бы сделать по этому поводу?» — Но решение было принято без обсуждения, единогласно88.
Затем внесли завещание Августа, доставленного девами Весты. (Культ Весты89 был культом священного очага, как домашнего, так и общегражданского. В круглом храме Весты не было изображений богини – только священный огонь, который поддерживали шесть жриц-весталок. В весталки брали девушек из лучших семей, служение их продолжалось 30 лет. Они не состояли под отеческой властью, пользовались большим уважением, были обязаны блюсти строгий обряд целомудрия, при нарушении которого их заживо закапывали в землю).
Из скрепивших прелегат90 свидетелей Секст Помпей допустил в курию только лиц сенаторского сословия, остальные должны были засвидетельствовать свои печати перед входом. Оглашенное вольноотпущенником, с хорошо поставленным голосом, завещание начиналось такими словами:
«Сыновей моих, которых молодыми у меня вырвала Фортуна, Гая и Луция Цезарей91, чтобы почтить меня, Сенат и народ римский, когда им было пятнадцать лет, назначил консулами, чтобы они вступили в эту должность через пять лет. И с того дня, когда они были выведены на Форум, чтобы они участвовали в обсуждении государственных дел. Так постановил Сенат. А все римские всадники обоих их провозгласили начальниками молодежи, дав серебряные щиты и копья. Пусть теперь моим наследником в размере двух третей будет Тиберий Цезарь»92. (Август возлагал на Гая и Луция огромные надежды, но смерть отняла их у него. Гай погиб на Востоке, готовя войну с парфянами, а Луций умер по дороге в испанские провинции. Внезапная смерть двух знатных юношей вызвала множество толков в римском обществе. Нашлись даже такие, кто обвинял в смерти братьев жену Августа – Ливию Друзиллу. Отголоски этих слухов мы встречаем у Корнелия Тацита, который называет её «злой мачехой дома Цезарей»93).
Последняя воля Октавиана Августа содержала двусмысленность: с одной стороны – Тиберий главный наследник, с другой – наследник, обусловленный роковыми обстоятельствами, смертью прямых наследников – Гая и Луция Цезарей.
Остальная треть наследия Августа отходила по завещанию вдове его, Ливии Друзиллы (матери Тиберия). Она также принималась в род Юлиев и получала имя Августы (таким образом, Август удочерял свою вдову).
Сорок миллионов сестерциев94 получал весь римский народ, 3,5 миллиона — фабиева и скаптиева трибы,95 к которым принадлежал Цезарь Октавиан Август. Кроме того, в завещании были упомянуты многие друзья и приверженцы Августа, а также влиятельные лица, получающие подарки. Крупные суммы были оставлены войскам: по 1000 сестерциев получали преторианцы, по 500 — солдаты городских когорт, а легионеры – по 300 сестерциев. Эти деньги он велел выплатить единовременно, так как они были у него заранее собраны и отложены. Подарки, размером до двадцати тысяч сестерциев, были назначены разным лицам и должны были быть выплачены через год96.
Завещание Августа с формальной точки зрения являлось не более чем последней волей частного лица. Однако значительные денежные средства, отказанные плебсу, сторонникам и войскам, придавали ему характер официального документа, недвусмысленно указывая на Тиберия как на нового главу дома Цезарей и политического лидера римской гражданской общины, и все сенаторы прекрасно понимали, что суть «Завещания» – преемственность власти. Готовясь к уходу в царство мертвых, Август, для сохранения созданной им системы управления Римской империей, предусмотрел передачу не столько имущественных, сколько властных прав своему наследнику, и не просто наследнику, но полноправному преемнику, будущему единовластному правителю Римской державы.
В честь удочерения Августом Ливии Друзиллы, сенаторы предложили воздвигнуть специальный жертвенник, а её, как лицо государственное, с этого момента, обязаны были сопровождать 12 ликторов97. Сенаторы спорили, как лучше теперь её именовать: «Родительницею» или «Матерью отечества». (Необходимо отметить, что Ливия по происхождению, честности и верности была первая из римлянок. Она отличалась исключительной красотой, необыкновенным умом, и была дочерью знатного и мужественного человека – Друза Клавдиана из славного рода Клавдиев, а Ливией Друзиллой именовалась потому, что отец ее в 91 г. до н.э. был усыновлен Марком Ливием Друзом и, соответственно, принял его имя. Брак ее с Октавианом Августом оказался замечательно прочен. Она сумела оценить любовь Октавиана Августа и стала ему идеальной супругой. Даже такой ее ненавистник, как древнеримский историк Публий Корнелий Тацит, признавал: «Святость домашнего очага она блюла со старинной неукоснительностью, была приветливее, чем было принято для женщин в древности; была страстно любящей матерью, снисходительной супругой и хорошей помощницей в хитроумных замыслах мужу…»98).
Вдовствующая императрица отличалась сильным характером и железной волей, была внешне всегда дружелюбна и улыбчива, но, как заметил однажды сенатор Марк Кокцей Нерва (близкий друг Тиберия), — «С той же улыбкой она могла поставить на колени Сенат и весь римский народ!».
Тацит характеризует Ливию как mater muliebri inpotentia, «мать с ее женской безудержностью», которая навязала целому государству serviendum feminae, «рабское повиновение женщине»99.
К изумлению сенаторов, Тиберий резко воспротивился сильному возвеличиванию матери, объясняя это тем, что почести женщинам необходимо ограничивать (поощрять амбиции своей властолюбивой матери Тиберий не желал). Сам же он намерен придерживаться умеренности в определении их ему самому. И в этом слово свое сдержал. «Из множества высочайших почестей принял он лишь не многие и скромные»100. Некоторые сенаторы, несмотря на казалось бы вздорный характер Тиберия, предлагали, например, возвеличить достоинство приемника титулом «Отца отечества», но Тиберий прямо заявил что покуда он будет в здравом уме, он останется таким, как есть, и нрава своего не изменит; но все же, чтобы не подавать дурного примера, лучше Сенату не связывать себя верностью поступкам такого человека, который может под влиянием случая перемениться. И далее: «Если же когда-нибудь усомнитесь вы в моем поведении и в моей преданности, – а я молю, чтобы смерть унесла меня раньше, чем случится такая перемена в ваших мыслях, – то для меня немного будет чести и в звании „Отца отечества“, а для вас оно будет укором либо за опрометчивость, с какой вы его мне дали, либо за непостоянство, с каким вы обо мне изменили мнение».
Тиберий уже после обнародования завещания Августа долго не соглашался принять от сената верховную власть, хотя, в действительности не проявлял медлительности ни в чем, кроме речей. Причиной такого поведения была исключительная сложность обстановки: «Я держу волка за уши», – говорил о власти сам Тиберий101, и этому высказыванию нельзя отказать в меткости.
Перед процедурой инаугурации Тиберий эффектно разыграл небольшой спектакль. Сенат был готов немедленно провозгласить его Тиберием Цезарем Августом, но преемник, вместо благодарного согласия принять высшую власть стал «уклончиво распространяться о величии империи, о том, как недостаточны его силы. Что только уму божественного Августа была под стать такая огромная задача. Призванный еще здравствующим Августом разделить с ним его заботы, он познал на собственном опыте, насколько тяжелое бремя единодержавия, насколько все подвластно случайностям. Потому пусть не возлагают на него одного всю полноту власти в государстве, которое опирается на стольких именитых мужей; нескольким объединившим усилиям будет гораздо легче справляться с обязанностью по управлению им»102.
Разразился ужасный скандал: приемник высшей власти оказался упрямым человеком, который ссылался на то, что стар для этой должности и что подобная ноша слишком тяжела для него. Напыщенности было много, искренности ни на грош. Тиберий явно перестарался. Все прекрасно знали, что на деле верховную власть он по смерти Августа немедленно принял без каких-либо колебаний. Он эту власть уже реально осуществлял и, дабы ни у кого не было сомнений в этом, более того – желания воспротивиться – окружил себя многочисленной вооруженной стражей. Отказ Тиберия от власти был по сути самой циничной комедией: «Хотя верховную власть он без колебания решился тотчас принять и применять, хотя он уже окружил себя вооруженной стражей, залогом и знаком господства, однако на словах он долго отказывался от власти, разыгрывая самую бесстыдную комедию; то он с упреком говорил умоляющим друзьям, что они и не знают, какое это чудовище – власть, то он двусмысленными ответами и хитрой нерешительностью держал в напряженном неведении Сенат, подступавший к нему с коленопреклоненными просьбами. То с горькими жалобами на тягостное рабство, продолжал отказываться от власти. Но даже соглашаясь на нее, он постарался внушить надежду, что когда-нибудь ее сложит, – вот его слова: «… до тех пор, пока вам не покажется, что пришло время дать отдых и моей старости»103.
После таких слов собрание замерло, а сенаторы пребывали в замешательстве, они решили, что Тиберий ломает комедию, набивает себе цену, ведь одновременно с показной нерешительностью он несколькими точными назначениями уже поставил на ключевые посты своих доверенных лиц и рассылает вестников в провинции с новыми указаниями.
Наконец, сенатор Квинт Гатерий осмелился громко вопросить: «Как долго наше государство сможет жить без правителя?»104.
В зале заседаний поднялся страшный шум, одни кричали, что это пощечина Сенату, кто-то в лицо заявил Тиберию, что иные медлят делать то, что обещали, а он медлит обещать то, что уже делает. Некоторые «слуги народа» стали терять терпение – даже такой симпатизант Тиберия, как Публий Меммий Регул, среди общего шума громко воскликнул: «Пусть он правит или пусть он уходит!».
Неуверенность Тиберия в себе, непродуманность его заявлений, остро проявилась в его диалогах с сенаторами. Так Тиберий неосторожно заявил, что, «считая себя непригодным к единодержавию, он, тем не менее, не откажется от руководства любой частью государственных дел, какую бы ему не поручили». Тогда к Тиберию обратился сенатор Азиний Галл: «Прошу тебя, Цезарь, указать, какую именно часть государственных дел ты предпочел бы получить в свое ведение?» Растерявшись от неожиданного вопроса, Тиберий не сразу нашелся; немного спустя, собравшись с мыслями, он сказал, что его скромности не пристало выбирать или отклонять что-либо из того, отчего в целом ему было бы предпочтительнее всего отказаться. Тут сенатор Галл разъяснил, что со своим вопросом он выступил не с тем, чтобы Тиберий выделил себе долю того, что вообще неделимо, но чтобы своим признанием подтвердил, что тело государства едино и должно управляться волею одного. Он присовокупил к этому восхваление Августу, а Тиберию напомнил его победы и всё выдающееся, в течение стольких лет совершенное им на гражданском поприще»105.
Фактически Гай Азиний Галл прочел ему небольшую, но замечательно точную лекцию о смысле власти принцепса вообще и о том, чего принцепс никогда не должен говорить публично. Подчеркивая свою скромность, Тиберий не возвеличивал себя в глазах римлян, но представал человеком, не способным даже толком оценить собственные заслуги и достижения. Надо помнить, что скромность не входила в число римских добродетелей и, упирая на это сомнительное с римской точки зрения качество, Тиберий только проигрывал, что для человека, уже стоящего во главе государства, просто недопустимо. На это Азиний Галл прямо Тиберию и указал, не преминув напомнить об устоявшемся в государстве единовластии, каковое нельзя дробить, дабы не подвергнуть угрозе утраты единства саму державу.
Обидные слова пришлось выслушать Тиберию и от других сенаторов. Луций Арунций в своей речи повторил доводы Азиния Галла, чем еще больше рассердил Тиберия. К Луцию у него, правда, личной обиды никакой не было, но он не мог не вспомнить, что имя этого человека Август в одной из последних бесед с ним называл в качестве того, кто по достоинствам своим соответствует должности принцепса и, главное, способен дерзнуть, если ему представится счастливый случай. Слышать попреки от возможного претендента на высшую власть, да еще и от человека богатого, наделенного блестящими способностями и пользовавшегося славой в народе – так характеризовал Тиберию Арунция сам Август – это было совсем уж неприятно.
Сенатор Цестий Галл прямо и резко спросил Тиберия, доколе он будет терпеть, что государство не имеет главы? Здесь Тиберий не выдержал и даже обрушился на него с негодующими и, более того, непотребными словами.
Такие вот малоприятные речи видных сенаторов сопровождали официальное утверждение Тиберия полноправным принцепсом. Они показывают несправедливость представления о римском Сенате как о сплошь раболепном собрании. Хотя раболепия, увы, все равно была в избытке.
Однако большая часть сенаторов привыкла видеть в принцепсе гаранта общественного спокойствия и страшилась возможных смут в период междуцарствия. Стремясь скорее обрести нового господина, сенаторы, после долгих уговоров, «заставили» Тиберия принять принципат.
Председательствующий консул Секст Помпей обратился к Тиберию:
– К тебе, Цезарь, спаситель отечества, при котором сейчас согласие людей и богов захотело отдать власть над морем и сушей, взываем к тебе, при котором доблести небесным провидением благосклоннейше поддерживаются, а пороки будут осуждены и наказаны. Мы обращаемся к благоволению твоему, ибо если иная божественность обретается мнением, то твоя, по непоколебимой вере, видится равной небесным светилам твоего отца и деда, благодаря исключительной славе которых многое вошло в наши обряды почитания великой чистоты. Правь мудро и справедливо в полном согласии с Законом и Сенатом, во славу Рима и римского народа!
Зал буквально взорвался бурей аплодисментов.
На заседании было оглашено также содержание свитков, приложенных к завещанию. Из трех свитков в первом содержались распоряжения о погребении; во втором список деяний Августа, который он завещал вырезать на медных досках у входа в мавзолей; в третьем – книга государственных дел: сколько где воинов под знаменами, сколько денег в государственном казначействе, в императорской казне и в податных недоимках; поименно были указаны все рабы и отпущенники, с которых можно было потребовать отчет106.
Завершилось заседание Сената немаловажными постановлениями. Для своего усыновленного племянника Цезаря Германика Тиберий потребовал пожизненной проконсульской власти, что означало, что Германик становился персоной всеимперского масштаба. Родной сын Тиберия Друз был избран консулом на 15-й год.
Председатель закрыл собрание словами: «Отцы-сенаторы, мы вас более не удерживаем» («Patres-senatores, jam non tenuit»)107.
Таким образом, явившись в Сенат, Тиберий следовал привычкам и поведению своего предшественника, однако в нем не было ни его тактичности, ни грации. Но урок был понят, и Тиберий принял власть из рук Сената. Главное историческое событие свершилось – Тиберий был официально объявлен Принцепсом.
Впервые в римской истории единоличная власть оказалась пожизненной и была передана заранее назначенному преемнику законным образом. Причина этого очевидна: Октавиан Август не просто пребывал на троне, он создал новую, глубоко продуманную систему власти в Риме. Систему, как показала грядущая история Римской империи, жизнеспособную и эффективную.
Ровно в полдень правительственный глашатай вышел к народу. Все смолкли, когда он появился у дворцовых ворот. Так смолкают в день новолуния молящиеся, ожидая молодого месяца: он был скрыт облаками и невидим, а теперь появляется, и они радуются.
Глашатай с ораторской трибуны на большом Форуме зачитал «Завещание Августа» и возвестил постановление Сената об утверждении Тиберия — Цезарем Августом, а в литейной мастерской уже приступили к отливке текста из бронзы, чтобы навеки сохранить его таким образом в архивах города.
Вот что писал о том времени боевой соратник Тиберия и восторженный его поклонник Веллей Патеркул: «Не только мне, столь спешащему, но и тому, кто располагает временем, невозможно выразить, каким был тогда ужас у людей, каким – волнение сената, каким – замешательство народа, каким страхом был охвачен Рим, на каком узком рубеже между спасением и гибелью мы тогда находились! Достаточно того, что я передам общее мнение: мы боялись крушения мира, но даже не почувствовали, что он колеблется. Столь скромным было величие одного человека, что ни честным людям… ни против злодеев не понадобилось употреблять оружие. Все государство превратилось в театральную сцену, на которой сенат и римский народ сражались с Цезарем, добиваясь, чтобы он наследовал отцовское место, а тот – чтобы ему было дозволено быть гражданином, равным другим, а не Принцепсом, возвышающимся над всеми. Наконец, он был побежден скорее доводами разума, чем влечением к должности, поскольку мог видеть, что не взятое им под защиту погибло. И он – единственный, кто отказывался от принципата едва ли не дольше, чем другие бились с оружием, чтобы его захватить»108.
Гигантские статуи, колонны с изображениями богини Минервы – покровительницы Рима и основательницы монархии, бюсты Тиберия, ставшего главой государства, на углах улиц были украшены венками. По городу проходили оркестры, хоры, распевающие гимны божествам, декламаторы, прославляющие героев, на площадях лицедействовали актеры, раздавались деньги, хлеб109 и вино, рабы получали отпуска на волю. Тиберий покорил своими щедротами воинов, раздачами хлеба и вина – толпу и – всех вместе – сладостными благами мира!
Консулы Секст Помпей и Секст Аппулей первыми присягнули на верность Тиберию, затем приняли присягу у Сея Страбона, командующего преторианцами, а также у Гая Тиррания – префекта110 по снабжению Рима продовольствием. Потом присягнули Сенат, войска, народ. Среди всего этого раболепия, и покорства, и спокойного подчинения новым реалиям, Тиберий внутренне оставался неспокоен. Не случайно всюду его сопровождали воины. Где бы он в Риме не оказался – везде рядом была вооруженная стража.
(Пятьдесят семь лет прошло со времени убийства диктатора Гая Юлия Цезаря. В Риме едва ли осталось много людей, помнящих то время. Но могли найтись отчаянные люди, из числа немногих до сих пор скорбящих о свободе времен республиканских, возмечтавшие о повторении дела Брута и Кассия. С этой точки зрения усиленная охрана не была излишней. Кроме того здесь просматривалась демонстрация силы. Ей, впрочем, никто противиться в Риме и не собирался. Любопытно, что пока еще Тиберий не был избран Сенатом на высшую должность и не вступил еще в законное наследство согласно завещанию Августа, – он всеми уже воспринимался как глава государства. Многим были очевидны его достоинства — скромность, расчетливость, отвага, ум и т. д. Тиберий фактически сразу взял в свои руки верховную власть и применил её на деле, окружив себя многочисленной стражей из солдат, – в чем именно и выражалась сила и наглядное представление о верховной власти. Ежедневно одна из преторианских когорт назначалась на охрану дворца, пароль она получала не от префекта претория, а непосредственно от императора. Являясь во дворец, преторианцы снимали военные плащи и надевали тоги. В случае волнения в городе преторианцы помогали городским когортам в их полицейской службе).
Тиберий принял власть, будучи человеком, давно сформировавшимся, даже пожилым – середина шестого десятка, возраст почтенный. Потому неверно было бы думать, что свои странные качества он приобрел, став императором. Он всегда был человеком замкнутым, не склонным к откровенности. Кроме того, он не очень-то привык к публичности – быть постоянно в центре внимания окружающих. А новое его положение неизбежно превращало его в человека, к которому обращены самые что ни на есть заинтересованные взгляды.
Уловить настроение правителя, правильно оценить его пристрастие, предугадать его мнение по любому вопросу, ибо нет незначительных дел у того, кто правит империей, – это были неизбежные настроения окружения Тиберия с того времени, как стал он принцепсом. И было ему это непривычно и крайне неприятно. В армии отношения проще. Полководцу до́лжно повиноваться – с дисциплиной в римской армии все было в порядке с древнейших времен – потому там проблем в общении с людьми у Тиберия не возникало. От него ждали точных указаний, ясных приказов, и таковые он умело отдавал. Порой даже советовался с соратниками о лучшем способе ведения боевых действий, что для полководца также было необходимо. Во власти же государственной все намного сложнее: на первый взгляд, все покорны, даже раболепствуют, а что у них на уме на самом деле? Выступления на судьбоносном заседании Cената Азиния Галла, Луция Арунция, Квинта Гатерия показали, что отношение к нему сенаторов далеко не однозначно.
Учитывая это, в дальнейшем, Тиберий решил, что правителю лучше быть человеком, не разгаданным подданными. Природная скрытность дополнялась политической необходимостью. Быть загадкой для подданных, дабы самому легче было их разгадать, – так можно было бы сформулировать девиз принцепса Тиберия.
Каковы же первые дела Тиберия? Прежде всего была учреждена жреческая коллегия Августалов для отправления и поддержания культа божественного после смерти Августа. В нее вошел двадцать один человек, не считая самого Тиберия, его сына Друза, усыновленного Германика и племянника Клавдия.
Память Августа Тиберий дополнительно почтил, поддержав инициативу народных трибунов, предложивших устраивать за свой счет театральные зрелища, названные в честь почившего императора августалиями. Их необходимо было внести в фасты – государственный календарь. Таким образом, они были узаконены раз и навсегда. Пощадив средства народных трибунов, Тиберий великодушно отпустил на августалии средства из императорской казны.
К Сенату, заглаживая неловкости своего вступления во власть, Тиберий изначально отнесся с должным почтением, что было воспринято наилучшим образом. Как писал об этом Светоний, «он даже установил некоторое подобие свободы, сохранив за Сенатом и должностными лицами их прежнее величие и власть. Не было такого дела, малого или большого, государственного или частного, о котором бы он не доложил Сенату: о налогах и монополиях, о постройке и починке зданий, даже о наборе и роспуске воинов или о размещении легионов и вспомогательных войск, даже о том, кому продлить военачальство или поручить срочный поход, даже о том, как отвечать царям на их послания»111. Права Сената были даже расширены. К нему отошло право избирать должностных лиц, ранее принадлежавшее комициям – народным собраниям римских граждан, происходившим на Марсовом поле. (Последний реликт республики ушел в небытие, а значение Сената даже возросло).
К сожалению, злоба и мстительность оказались совсем не чужды Тиберию. Семпронию Гракху (любовнику жены) своего семейного унижения Тиберий не простил. Да, Юлию (дочь Октавиана Августа) он так и не сумел полюбить, но позор, от ее открытой во время их злосчастного супружества связи с Семпронием Гракхом, запомнился ему крепко. Обретя высшую власть, Тиберий немедленно вспомнил о нем. Гракх уже долгие годы находился в ссылке на острове Керкина близ африканского побережья Средиземного моря, у провинции Африка (современный Тунис). В ссылке незадачливый любовник Юлии отбывал по велению Августа. Тиберий счел эту кару недостаточной и, утвердившись на Палатине, немедленно отправил на остров убийц. Тацит так описывает трагический финал жизни Гракха: «Воины, посланные туда, чтобы умертвить его, нашли его на выдававшемся в море мысе не ожидающим для себя ничего хорошего. По их прибытии он обратился к ним с просьбою немного повременить, чтобы он мог написать письмо с последними распоряжениями своей жене Аллиарии. После этого он подставил шею убийцам; своей мужественной смертью он показал себя более достойным имени Семпрониев, чем при жизни. Некоторые передают, что воины были посланы к нему не из Рима, а Луцием Аспренатом, проконсулом Африки, по приказанию Тиберия, который тщетно рассчитывал, что ответственность за это убийство молва возложит на Аспрената»112.
В то же время Тиберий постоянно декларировал свободолюбивый характер своего правления: «В свободном государстве должны быть свободны и мысль, и язык»; «Я государь для рабов, император для солдат, первый среди равных – для всех остальных».
Однако провозглашенное равенство правителя и других граждан в свободе выражения мнений со временем переросло в судебные преследования за «оскорбления величия» этого самого правителя, кстати, по инициативе членов Сената.
Тиберий поначалу решительно выступал против наказаний за такие преступления – в пяти первых известных случаях 14—20 годов он проявил сдержанность. Однако в 15 году на прямой вопрос претора Помпония Макра113, нужно ли наказывать за личное оскорбление принцепса как за государственное преступление (практика при Августе), Тиберий ответил, что законы должны исполняться неукоснительно. Тем не менее, на деле Тиберий вначале не добивался применения закона и не применял суровых мер, предусмотренных законом. Этим он пресек возможные злоупотребления доносчиков, на показания которых полагалось римское правосудие.
Ко времени смены власти на Палатине внезапно возникла еще одна непредвиденная проблема – в легионах (войсках) накопилось предостаточно вполне основательных поводов для недовольства. Лишние годы службы, задержка жалования, усиление палочной дисциплины – все это, накапливаясь, ждало соответствующего момента, чтобы взорваться мятежом. Смена правителя империи была в жизни римлян событием новым, непривычным. Как-никак уже выросло два поколения людей, родившихся после окончания гражданских войн и не знавших другого владыки, кроме Августа. Потому уход из жизни престарелого императора стал событием, неизбежно будоражащим сознание всех римлян. А особенно тех, кто имел причины для недовольства. Реакция на все новое, непривычное всегда таит в себе неожиданности. Вот потому-то «смена принцепса открывала путь к своеволию, беспорядкам и порождала надежду на добычу в междоусобной войне»114.
Наивысшая концентрация недовольных была, естественно, в легионах. И именно там известие о смерти Августа имело самые серьезные последствия. Так смерть правителя империи развязала мятежи в римской армии в Паннонии и на Рейне.
Итак, вслед за вполне мирным и спокойным переходом от умершего Августа к его законному наследнику Тиберию высшей власти в Римской империи последовали мятежные выступления той самой силы, которая была главной опорой Августа и воплощала собой главную мощь римской державы. И эта сила была более всего знакома Тиберию, десятки лет с ней связанному. Такая вот злая ирония судьбы: взбунтовались легионы, расположенные там, где Тиберий одержал свои главные победы. Взбунтовались те, с кем он добыл свою воинскую славу.
Узнав о случившемся, Тиберий немедленно отреагировал на мятеж легионов. В Паннонию он тут же направил своего родного сына Друза и с ним ряд высших сановников государства. Среди них были такие люди, как префект преторианских когорт Луций Сей Страбон и его сын Луций Элий Сеян (его помощник). Две преторианские когорты, усиленные сверх обычного отборными легионерами, сопровождали Друза и его свиту. К ним присоединили также значительную часть преторианской конницы и даже лучших из воинов-германцев, служивших в личной охране самого императора.
Многоопытные Страбон и Сеян должны были помогать недостаточно искушенному Друзу в его крайне непростой миссии и на деле руководить всем. Самому сыну Тиберий не дал прямых указаний, но предоставил ему и его советникам действовать по обстановке. В сложившемся положении это было разумное решение. Власть не могла немедленно идти на уступки, ибо это могло иметь самые непредсказуемые последствия из-за такой демонстрации слабости верхов империи. С другой стороны, предъявленные требования не выходили за пределы разумного, и потому их следовало изучить и действовать сообразно сложившейся на месте обстановке. Провожая эту, довольно многочисленную делегацию, Тиберий высказал пожелание: «Да сопутствуют вам боги, решите возникшую проблему по-возможности миром! Не я, принцепс, жду от вас такого исхода, а воистину сами боги бессмертные: совершая жертвоприношения, я молил их даровать вам разум для благоприятного разрешения конфликта для меня, для Сената, для вас, для союзников и войск наших, – и они знамениями своими возвестили, что все завершится удачно и счастливо!».
Встреча Друза мятежными легионами не могла внушить гостям из Рима радужных надежд на быстрое успокоение. Легионеры вышли к сыну нового принцепса в подчеркнуто безобразно неряшливом виде, что вопиюще не соответствовало вековым традициям римской воинской дисциплины. На лицах их под напускной скорбью проглядывало очевидное своеволие. Никакой радости, каковая подобала при появлении в лагере столь важной персоны, проявлено легионами не было. Все выглядело как выполнение тягостной, малоприятной обязанности.
Даже когда Друз поднялся на трибунал115, в толпе зазвучали угрожающие возгласы. Смутный ропот перемежался дикими выкриками. Друз, подняв руку, требовал молчания.
Наконец эмиссар Тиберия смог огласить послание отца, в котором Тиберий напоминал мятежным легионам о проделанных ими под его руководством походах, о своей заботе о них и сообщал, что он, «как только душа его оправится от печали, доложит сенаторам о положении воинов; а пока он направляет к ним сына, дабы тот безотлагательно удовлетворил их во всем, в чем можно.
Требования легионов были незамедлительно озвучены. В них не прозвучало ничего нового: срок воинской службы – шестнадцать лет, отслуживших не переводить в разряд вексилляриев116, жалование легионеров – один денарий в день, ветеранам легионов при отставке – денежное вознаграждение.
Требования были разумные и вполне удовлетворительные, поскольку не выходили за пределы обещанного в свое время самим Августом, но форма их предъявления – мятежная, недопустимая. Так и было сказано Друзом мятежникам: «Сама причина требований была бы вполне основательна, если бы они просили о ней скромно, – но мятежу оправданий нет, чем бы он ни был вызван. Итак, если они согласны оставаться в строю и повиноваться приказам, он готов обратиться к Сенату по поводу их требований – кротостью они легче добьются желаемого, нежели упрямством».
Немедленно пойти навстречу – это дать мятежникам почувствовать свою силу и слабость высшей власти одновременно, что никак допускать нельзя. Рассуждая, должно быть, подобным образом, Друз далее заявил, что вопросы эти могут решать только Сенат и сам Тиберий.
Но легионам такая постановка вопросов решительным образом не понравилась. Речь Друза была прервана громкими криками. Воины справедливо негодовали: ведь сам Тиберий в письме сказал, что дозволяет сыну самостоятельно решить то, в чем можно пойти навстречу легионам. Ну а потом уже Сенат пусть решает, кого должно карать и миловать. А зачем тогда вообще Друз со товарищи прибыл, если он не имеет на деле полномочий улучшить жизнь воинов? Получается, что ведет он себя подобно своему отцу при Августе, когда тот отклонял требования воинов, прикрываясь именем принцепса. От Друза ждали совсем иного. Особое раздражение вызвали отсылки к Сенату. Прозвучали язвительные слова с предложением отныне посылать запросы в Сенат всякий раз, когда должно дать сражение или совершить казнь.
Обстановка крайне накалилась. Когда легионеры, так и не получили ожидаемого ответа, то стали грозить кулаками свите Друза и охранявшим ее преторианцам. При этом едва не погиб Гней Корнелий Лентул, старейший в окружении Друза, бывший консулом еще в далеком 14 г. до н. э. Недовольные воины решили, что он, превосходя всех годами и военными заслугами, удерживает молодого Друза от каких-либо уступок. Лентул едва не был забит камнями. Тяжело раненого его спасли прибывшие с Друзом преторианцы. Кровавая развязка казалась неизбежной (уже мелькнули мечи, и раздался громкий голос команды одного из центурионов легиона), но её предотвратило замечательно своевременное лунное затмение в вечерних сумерках117. Зазвучали нестройные голоса нескольких труб в легионах, так как существовало поверье, что звуки трубы помогают Луне преодолеть затмение118. Одновременно неожиданно грянул очень ранний для этого времени года холод. Солдаты приписали это гневу богов.
(Римляне во все времена были очень суеверны. Сам Тиберий известен крайне серьезным отношением к разного рода приметам. Пренебрегал приметами только далекий предшественник Тиберия – Божественный Юлий Цезарь, которого никогда никакие суеверия не вынуждали оставить или отложить намеченное предприятие. Но он-то и погиб, не приняв всерьез предостережения об опасности для своей жизни мартовских ид. Идами называли день в середине месяца. Иды посвящались богу Юпитеру, в это время его жрец приносил в жертву овцу. 15 марта – мартовские иды – в Древнем Риме был день особенный. Праздновался Новый год, чествовалась богиня Анна Перенна119. Однако эта дата получила еще и историческую известность – стала символом роковых событий – 15 марта 44 года до н.э. в Помпеях в курии (здании для собраний) в день заседания Сената был убит Гай Юлий Цезарь, великий диктатор, харизматичный правитель, талантливый полководец, замечательный писатель, выдающийся оратор. Через века реплика «Берегись мартовских ид!», благодаря Уильяму Шекспиру и его пьесе «Юлий Цезарь», стала крылатой фразой. Плутарх свидетельствует, что об опасности именно 15 марта предупреждал Цезаря прорицатель – задолго до этой даты. Однако в тот роковой день горделивый правитель, встретив пророка на ступенях Сената, произнес с усмешкой: «Мартовские иды наступили». – «Наступили, но ещё не прошли…», – услышал тиран в ответ – и через несколько минут погиб от рук заговорщиков).
Для обычных римлян знамения всякого рода всегда оставались либо руководством к действию, либо поводом остановиться. И вот теперь, после столь бурной сходки, взволнованные и разгоряченные происшедшим взбунтовавшиеся воины увидели, что луна вдруг начала меркнуть. Естественно, что явление немедленно было воспринято как знамение. Мятежные легионеры решили, что если луна вновь обретет свое сияние, то значит богиня Луны Диана, покровительствует им и сулит непременный успех во всех их начинаниях120. Ночное светило, однако, померкло и скрылось за облаками. Растерявшиеся вконец воины немедленно предались скорби, искренне полагая, что богиня отвратила от них свой лик, осуждая ими содеянное. «Ведь однажды потрясенные души легко склоняются к суевериям» – справедливо заметил по этому поводу Тацит121.
С прочими мятежниками справились уже без особого труда, и вскоре мятеж Паннонских легионов был подавлен. Успокоенные легионы получили большие обещания, обернувшиеся малыми уступками. Оскверненный мятежом лагерь был оставлен и легионы перешли каждый в свой зимний лагерь.
Так закончился мятеж трех легионов в Паннонии. Он не представлял собою какой-либо угрозы власти Тиберия. Требования мятежников были умеренные, ничтожество их предводителей не позволяло им бросить вызов высшей власти. Собственно, никто в мятежном лагере об этом и не помышлял.
Немедленная реакция Тиберия, разумные и решительные действия Друза и его советников вкупе со своевременным лунным затмением сделали свое дело. Все закончилось достаточно быстро и без серьезных последствий.
Но почти одновременно с мятежом легионов в Паннонии вспыхнул куда более грозный мятеж легионов на берегах Рейна, на самой опасной границе империи, где была сосредоточена крупнейшая военная группировка – восемь легионов, развернутых в две армии. В прирейнской области, именуемой Верхняя Германия легионы возглавлял легат122 Гай Силий. В Германии Нижней, на Нижнем Рейне легионами командовал легат Авл Цецина. Обе армии были подчинены усыновленному Тиберием по повелению Августа – Германику, сыну покойного брата Тиберия. Эти рейнские армии прямо отказалась признать Тиберия императором и предложили верховную власть Германику.
На сходке Германий обратился к солдатам с речью, где прославлял победы и триумфы Тиберия, завоеванные с этими самыми легионами. Затем стал упрекать их в утрате выдержки и воинской дисциплины.
В ответ воины с укоризной показывали ему следы от плетей, жаловались на бессмысленную изнурительность лагерных работ, жестокость и взяточничество центурионов. Многие требовали немедленной раздачи денег, завещанных божественным Августом. При этом они выказывали свою привязанность к Германику и изъявляли готовность поддержать его, если он захочет достигнуть верховной власти.
Далее у Тацита следует описание знаменитого эпизода: «Тут Германик, как бы запятнанный соучастием в преступлении, стремительно соскочил с трибуны. Ему не дали уйти, преградили дорогу, угрожая оружием, если он не вернется на прежнее место, но он, воскликнув, что скорее умрет, чем нарушит долг верности, обнажил меч, висевший у него на бедре, и, занеся его над своей грудью, готов был поразить ее, если бы находившиеся рядом не удержали силою его руку. Однако кучка участников сборища, толпившаяся в отдалении, а также некоторые, подошедшие ближе, принялись – трудно поверить! – всячески побуждать его все же пронзить себя, а воин по имени Калузидий протянул ему свой обнаженный меч, говоря, что он острее. Эта выходка показалась чудовищной и вконец непристойной даже тем, кто был охвачен яростью и безумием. Воспользовавшись мгновением замешательства, приближенные Цезаря увлекли его за собой в палатку»123.
Между прочим, в своих «Замечаниях на Анналы Тацита» А. С. Пушкин по поводу дерзкой реплики Калузидия записывает следующее: «По нашим понятиям слово сие было бы только грубая насмешка; но самоубийство так же было обыкновенно в древности, как поединок в наши времена, и вряд ли бы мог Германик отказаться от сего предложения, когда бы прочие не воспротивились…».
В конечном счете, раздачей денег и увольнением отслуживших свой срок легионеров, удалось погасить бунт и привести войска к присяге.
Племянник Тиберия был человеком незаурядным и пользовался большой любовью римлян. Светоний дал просто восторженную характеристику добродетелям Германика: «Всеми телесными и душевными достоинствами, как известно, Германик был наделен, как никто другой: редкая красота и храбрость, замечательные способности к наукам и красноречию на обоих языках (латинском и греческом), беспримерная доброта, горячее желание и удивительное умение снискать расположение народа и заслужить его любовь. Красоту его немного портили тонкие ноги, но он постепенно заставил их пополнеть, постоянно занимаясь верховой ездой после еды. Врага он не раз одолевал врукопашную. Выступать с речами в суде он не перестал даже после триумфа124.
Среди памятников его учености остались греческие комедии. Даже в поездках он вел себя как простой гражданин, в свободные и союзные города входил без ликторов… Даже к хулителям своим, кто бы и из-за чего бы с ним ни враждовал, относился он мягко и незлобиво»125. Тацит дал Германику более краткую, но не менее уважительную характеристику, противопоставив его Тиберию именно по человеческим качествам: «И в самом деле этот молодой человек отличался гражданской благонамеренностью, редкостной обходительностью и отнюдь не походил речью и обликом на Тиберия, надменного и скрытного»126.
Если сопоставить его с Тиберием, то они были сходны в образовании, равном владением греческим языком, мужестве на полях сражений. Что до преимуществ Германика, то они заключались, прежде всего, в исключительном умении Германика завоевывать любовь окружающих. Как близких, так и народа. Замкнутость и скрытность Тиберия здесь работали против него. Тиберий не искал специально популярности, Германик же заботился о ней постоянно. Насколько это естественно вытекало из его открытого характера и насколько это делалось сознательно – определить невозможно. Но гражданская благонамеренность, действительно ему свойственная, не позволяет предполагать наличие у Германика коварных властолюбивых замыслов.
Когда ситуация нормализовалась, на Тиберия и Ливию Августу обрушился мутный поток самой низкопробной и изощренной лести со стороны Сената.
Тацит: «Omnes exuta aequalitate iussa principis aspectare» («Забыв о еще недавнем всеобщем равенстве, все наперебой ловили приказания принцепса»)127; «Ruere in servitium patres, consules, eques» («Принялись соперничать в изъявлении раболепия сенаторы, консулы, всадники»)128.
В частности, было предложено переименовать месяцы сентябрь и октябрь в «тиберий» и «ливий». Но Тиберий категорически отказался, съязвив: «А что вы будете делать, отцы-сенаторы, когда у вас станет тринадцать цезарей?».
Всегда с раздражением Тиберий реагировал на всякое угодничество и лесть. Но его все глубже затягивали придворные интриги, борьба кланов. Ему приходилось принимать единоличные решения и, в конечном счете, охранять сложившуюся систему управления. В то же время для нового принцепса отношения с Сенатом имели решающее значение.
Созданный по преданию еще самим Ромулом129, Сенат был старейшим римским государственным учреждением и как бы олицетворял собой вечный и нерушимый Рим. Сенат играл видную роль в законодательстве, сенаторами высоких рангов (бывшие преторы, бывшие консулы) были наместники провинций и командиры провинциальных армий, наконец, Сенату принадлежала высшая юрисдикция по делам о вымогательстве (crimen repetundarum) и государственной измене (laesa majestas).
Отношения принцепса с Сенатом в это время часто характеризуют как отношения сотрудничества. Тиберий долго был на вторых ролях и, оказавшись на вершине власти, поначалу испытывал неуверенность, и, по-видимому, очень нуждался в поддержке высшего органа власти. Отсюда понятно его стремление наладить с Сенатом эффективный диалог.
В первые годы правления, Тиберий считал Сенат верховным сувереном130 римского государства, а принцепс являлся лишь исполнителем его воли. Сенат он намеревался поставить во главе государственно-административного аппарата. В одном из первых заседаний Сената Тиберий предложил выбрать коллегию из 20 знаменитых мужей – консуларов (principes civitatis) для управления государством. «Коллегия, – говорил он по этому поводу, – конечно, гораздо лучше справится с ответственной задачей управления, нежели один человек, ограниченный в своих силах и возможностях. Ведь только колоссальный ум божественного Августа был способен охватить всю громадность Римской империи (magnitudo Imperii) и поднять всю тяжесть власти»131. Но коллективного руководства не случилось, Тиберий не сумел воплотить свое намерение в жизнь из-за отказа сенаторов разделять ответственность с принцепсом.
И все же компетенция Сената при новом принцепсе значительно расширялась. Сенат был признан высшим судебным органом Римской империи, решения которого распространялись на самого принцепса и его агентов. Даже вынесение окончательного приговора по делам об оскорблении величия принадлежало Сенату132.
Кроме судебных функций в компетенцию Сената входили: прием посольств иностранных государств, организация продовольственного дела, установление и сбор податей, набор и увольнение солдат, назначение на командные посты, вручение чрезвычайных полномочий магистратам, сооружение и ремонт общественных зданий, прокладка дорог, постройка мостов и т. д.
Высшие посты в войске и администрации – консулы, преторы, квесторы133 и т. д. – замещались теперь лицами благородного, то есть сенаторского, звания. Выборы магистратов от комиций134 тоже перешли теперь к Сенату, а сами комиции прекратили свое существование.
Коротко говоря, все функции государственного управления переходили в ведение Сената, а сам Сенат превращался в высший административный орган Римской империи, в маховое колесо государственной машины. Но расширение функций Сената отнюдь не означало восстановления республиканских традиций. Власть Сената имела своим источником волю императора, и расширение сферы компетенции Сената означало, в сущности, усиление власти императора. Первым лицом Сената, а тем самым, следовательно, и главой всего государственно-административного аппарата, был сам принцепс. От него исходила инициатива законов, ему же принадлежали редакция декретов и составление обширных докладных записок и ответов Сенату. Разнообразные и многочисленные законодательные мероприятия Тиберия преследовали одну главную цель: создание сильной государственной власти, необходимой для сохранения гегемонии Рима над массой рабов и провинциалов.
Поэтому все, что так или иначе нарушало и подрывало государственную власть, каралось им с беспощадной жестокостью.
Для обеспечения общественного покоя и защиты граждан от покушения на их собственность по всей Италии были расставлены военные патрули (stationes militum), на обязанности которых лежали преследование разбойников и прекращение всякого рода уличных бесчинств, драк, оскорблений, ночных нападений и т. д. Выполнение полицейских функций возлагалось на преторианские когорты, сначала расквартированные в Риме, по домам отдельных граждан, а затем сконцентрированные в особом преторианском лагере. Полицейские мероприятия распространялись не только на разбойников и нарушителей внешнего порядка, но также и вообще на всех заподозренных в подрыве государственных основ, в особенности, конечно, на мятежников всех категорий – как рабов, так и свободных.
«Народные волнения (populares tumultus), – говорит Светоний, – он обуздывал строжайшими мерами, когда таковые уже возникли, и всячески старался не допускать возникновения таковых»135.
Государственно-административная деятельность Тиберия не ограничивалась одними только мероприятиями полицейского характера. В его правление была издана масса декретов и проведено много реформ, касавшихся различных сторон общественной жизни. Большая часть этих мер вызывалась действительными потребностями жизни и проводилась после тщательного обсуждения в Сенате при ближайшем участии самого принцепса, с присущим ему педантизмом вникавшего во все детали административно-законодательной работы. Он советовался с Сенатом, опирался на республиканские обычаи, намеревался сенаторское сословие сделать господствующим сословием Римской империи, подняв его во всех отношениях на должную высоту.
Принцепс неукоснительно соблюдал принятый в отношениях с Сенатом и магистратами декорум136: входил в курию без охраны, вставал при консулах и т. д. Такую же умеренность Тиберий проявлял во всем, что касалось внешнего блеска его высокого положения.
Однако все эти условности не стоит преувеличивать. Тиберий имел дело не с полновластным правительством республики, а с имперским Сенатом. Кроме того, многие представители сенаторского сословия зависели от принцепса в финансовом отношении, и все без исключения – по службе: значительная часть карьеры сенатора проходила в армии и императорских провинциях.
Один эпизод, имевший место вскоре после вступления Тиберия на престол, прекрасно иллюстрирует показной характер умеренности принцепса и его истинные отношения с Сенатом. Однажды, во время прений в курии, Тиберий попросил прощения у своего оппонента, если, возражая против его предложения, он позволил себе слишком резкие высказывания. Между тем, его оппонентом был не кто иной, как сенатор Квинт Гатерий, чуть ли не накануне вечером валявшийся у императора в ногах и едва не заколотый при этом германскими телохранителями принцепса.
Итак, в начале своего правления Тиберий стремился сочетать принципат с приоритетом Сената, но эта попытка потерпела неудачу из-за враждебности нобилитета137. Уже из начальных обстоятельств процесса принятия верховной власти выявилась неспособность нового принцепса найти общий язык с римской элитой, богатыми семьями, постепенно терявшими былое влияние ещё во время правления Августа и низведёнными до уровня придворных, но всё ещё способными интриговать и добиваться своего. Из двух сил – римских семей и римской армии – к концу правления Тиберия первая будет окончательно разгромлена и унижена. Центурионы преторианской гвардии через двадцать лет окажутся влиятельнее родовитых сенаторов, а постепенно, с годами, власть военных ввергнет Рим в столетний хаос «солдатских императоров».
Так почему же новый государь (будем честны, это был уже монарх) и старые влиятельные кланы не смогли найти общий язык? Наверное, потому, что они очень мало общались. Быть правой рукой Октавиана Августа Тиберию было не только почётно, но и очень хлопотно, наследник всё время был занят делом, ему не до сенаторов. Все их политические союзы, клики и свары проходят мимо него, и, в итоге, когда власть официально передаётся ему, новый принцепс оказывается для собственной элиты совершенно чужим.
Из этого начального изъяна (родовой травмы), кажется, и происходят все последующие болезни правления Тиберия. Каждый его шаг толковался сенаторами превратно, что и было сохранено для потомства в чеканной прозе историков (Светония, Тацита, Диона Кассия). Император тоже не понимал сенаторов, подозрительность его росла, заговоры, а, соответственно, и казни со временем стали мрачной обыденностью.
Мы уделили образу действий Тиберия в момент перехода власти столь большое внимание, так как на наш взгляд не только форма ее принятия, но и вся политика либерального периода, продолжающая традиции предыдущего принципата, имела целью – приобретение авторитета путем создания Тиберию имиджа верного последователя Божественного Августа в глазах римского общества.
Глава III.
Истоки официальной политической игры на Форуме или власть женщин в Римской империи
О, горе! Женщинам дарована богами
Столь пагубная власть над
лучшими мужами!
И жены слабые, бессмертных
теша взгляд,
Над сильными, увы, и смелыми царят!138
Пьер Корнель.
Без женщины заря и вечер жизни
были бы беспомощны, а её полдень
– без радости.139
Пьер Буаст.
Жены римских плебеев, также как жены аристократов сначала были полностью ограничены семейными обязанностями и во всех отношениях зависели от мужа, хотя их уважали как хозяек дома и управительниц всем домашним хозяйством. Но в римском частном праве не могло быть и речи о равноправии женщин. Содержание и формы жизни «молчаливых римских женщин», как их по праву называли, известны не столько по литературе, сколько по эпитафиям140. Например, эпитафия Амимоны, жены некоего Марка, гласит: «Она была самой лучшей и самой красивой, пряла шерсть, была благочестивой, скромной, доброй, чистой и домовитой». Эпитафия Постумии Матронеллы: «Несравненная супруга, хорошая мать, благочестивая бабушка, скромная, работящая, энергичная, внимательная, чуткая, принадлежавшая только одному мужчине, настоящая матрона по усердию и верности». Это были типичные женские качества, которые римляне идеализировали.
Женщины никогда не управляли Римом. В Древнем Риме не было цариц, а в более поздние времена — императриц, которые правили бы самостоятельно. Трон передавался только по мужской линии. Римские женщины никогда не были представлены в Сенате или на народных собраниях и они не могли оказывать непосредственного политического влияния.
Женщины древних времен, такие, как похищенные сабинянки, Лукреция, Ветурия, мать Кориолана и другие, упомянутые в старинных преданиях, были всего лишь пассивными героинями.
Тем не менее нужно отметить, что в эпоху поздней Римской республики начинается процесс, который с некоторыми оговорками можно назвать процессом эмансипации женщин римского правящего слоя. Общественные и экономические изменения привели к новым нормам брака, к так называемому браку без власти мужа над женой, когда муж не мог единолично управлять имуществом жены.
Кроме того, в правящем слое Рима преобладали политические браки. Цезарь для этих целей использовал свою дочь, Октавиан – свою сестру. За распадом политических союзов следовали разводы и заключение новых политических браков. Одновременно увеличивалось политическое влияние женщин на деятельность их мужей. Например, из переписки Цицерона видно, какое впечатление произвело на него то, что жены убийц Юлия Цезаря летом 44 г. до н.э. принимали участие в совещаниях своих мужей и делали это совершенно открыто.
Примером увеличивающегося влияния женщин правящего слоя на римскую политику являются три знаменитые римлянки поздней Республики: Корнелия, Клодия и Фульвия.
Корнелия, мать Гракхов, – первая выдающаяся женщина римской истории. Корнелия отличалась политическим чутьем и пониманием целей своих сыновей. Особенно ее влияние распространялось на младшего сына, однако это влияние не выходило за рамки традиционных семейных норм. Именно потому ее уважали, идеализировали и даже воздвигли ей статую.
Клодия известна по переписке и речам Цицерона и по знаменитым стихотворениям Катулла к Лесбии. Эта женщина, будучи богатой вдовой, добилась полной независимости и играла ведущую роль в общественной жизни. В моральном и сексуальном смысле она пользовалась большой свободой, за что была облита грязью Цицероном с помощью всех средств ораторского искусства в его речи в защиту Целия141:
Фульвия, жена Антония, приобрела известность благодаря гражданской войне. Если даже учесть, что ее образ в античных источниках был чрезмерно демонизирован, нельзя не признать, что Фульвия преданно поддерживала политику мужа и разделяла его интересы. Тревожной зимой 44—43 гг. до н.э. она в Риме представляла интересы Антония, Позже, ее имя было связано с проскрипциями и с осквернением трупа Цицерона. Она решительно отказалась вступиться перед мужем за богатых дам города Рима, когда триумвир142 обложил их имущество чрезвычайно высокими налогами. В течение первых двух лет пребывания Антония на Востоке, она фактически управляла Италией. Из-за этого она стала жертвой непристойных анекдотов и всяких поношений. Жена триумвира впервые использовала те возможности, которые позже будут предоставлены женщинам из дома принцепса. Она проложила путь Ливии и двум Агриппинам, из которых Агриппина Старшая (жена Германика) даже жила в военных лагерях, что для римлян было неслыханным скандалом. Не стоит удивляться, что после Фульвии Антоний считал Клеопатру143 равной себе по положению.
Всё это означает, что женщины время от времени приобретали огромную власть в республике, а позже участвовали в управлении империей, а также в формировании имперской политики.
Как отмечалось выше, влияние женщин в Древнем Риме распространялось естественным образом через материнство и брак. К примеру, матери Юлия Цезаря и Гракхов144 считались в римском обществе образцовыми женщинами, поскольку они способствовали правильному воспитанию и блестящей карьере сыновей. Они пользовались политической властью, их изображения чеканились на монетах и становились образцами красоты в искусстве. Жена Марка Антония, римлянка Фульвия, осуществляла командование во время военных кампаний, наводя порядок среди гражданского населения. Ее профиль украшал римские монеты того времени.
В правление своего сына вдова Августа – Ливия Августа (Ливия Друзилла) обладала большим влиянием, и была окружена всеобщим уважением и почетом. Косвенным свидетельством прочности позиций Августы в императорской семье могут служить посвятительные надписи с ее именем. В них вдовствующая императрица именуется дочерью божественного Августа, матерью мира (genetrix orbis) и новой Церерой145 (Cerera nova). Это заключение подтверждается и данными нумизматики: имя и изображение Ливии несколько раз встречается на относящихся ко времени Тиберия монетах, выпущенных провинциальными городами Римской империи. В частности, реверс бронзовой монеты из Гиспалиса (Бетика) украшает надпись «LIVIA AVGVSTA GENETRIX ORBIS» («Ливия Августа – матерь мира»), а монеты африканского города Лептиса показывают, что граждане провинциальных общин почитали вдову Августа как «мать отечества» (mater patriae), хотя официально этот титул и не был ей присвоен146.
Появление на римской политической сцене знатных дам, пользующихся большим влиянием, таких как Ливия Августа, Агриппина Старшая, Антония, Агриппина Младшая, было важной новацией эпохи принципата.
Октавиан под именем Августа сделался первым гражданином Вечного города, и дом Цезарей оказался, таким образом, во главе римской аристократии. Отношения внутри императорской фамилии, в которых далеко не последнюю роль играли женщины, естественно, самым непосредственным образом влияли и на большую политику.
Первое место среди женщин императорского дома после смерти матери Тиберия (Ливии Друзиллы) прочно заняла Антония, жена брата Тиберия; соответственно своему положению она, по примеру Ливии, стремилась играть роль охранительницы семьи и династических интересов Юлиев-Клавдиев, взяв под свое покровительство юного Калигулу и его сестру Друзиллу.
Недаром бытует пословица, что два лучших дара, которые Бог посылает человеку, – это хорошая мать и хорошая жена. Римская религия высоко поставила женщину: благоденствие государства находилось в руках девственниц-весталок, охранявших вечный огонь на алтаре Весты. Никому в Риме не оказывали столько почета, сколько им: консул со своими ликторами сходил перед ними с дороги; если преступник, которого везут на казнь, встретил весталку, его освобождали.
Культ Ларов, богов-покровителей дома и семьи, находился на попечении женщин; в доме отца девушка следила за тем, чтобы не потух огонь в очаге, и собирала цветы, которыми ее мать во все праздничные дни украшала сам очаг; первая жертва, которую новобрачная приносила в доме мужа, – эта жертва Ларам ее новой семьи.
В то же время, развитие римского частного права, которое являлось предельным выражением индивидуализма и наибольшей свободы правового самоопределения имущих слоев свободного населения, сводилось ко все большему правовому равенству женщины с мужчиной, которое в последний век республики было осуществлено за счет трех сил, до этого повелевавших женщиной: «patria potestas, manus и tutela mulierum».
Все три названных правовых института, которым на протяжении всей своей жизни была подчинена римлянка, со времен поздней республики претерпели определенные модификации. В принципе, у отца была patria potestas (отцовская власть) над дочерью, у мужа — manus (супружеская власть) над женой, а по смерти этих носителей власти каждая римлянка находилась под tutela mulierum — опекой ближайшего родственника по мужской линии — агната147.
А теперь, послушайте, юноши, старика, которого юношей слушали старики! – Он расскажет как на самом деле обстояло дело уже в республике, а затем в империи:
– Во все времена женщины, при всём их бесправии, отличались одним свойством – умением интриговать, строить козни и делать пакости руками других, а также необычайным умением приспосабливаться к обстоятельствам.
– В 195 году до н.э. консул Марк Порций Катон, при обсуждении возможности отмены Оппиева закона148, заявлял: «Предки наши не дозволяли женщинам решать какие-либо дела, даже и частные, без особого на то разрешения; они установили, что женщина находится во власти отца, братьев, мужа. Мы же попущением богов терпим, что женщины руководят государством, приходят на форум, появляются на сходках и в народных собраниях. Ведь, что они сейчас делают на улицах и площадях, как не убеждают всех поддержать предложение трибунов, как не настаивают на отмене Оппиева закона. И не надейтесь, что они сами положат предел своей распущенности; обуздайте же их безрассудную природу, их неукротимые страсти»149.
А римский писатель и философ Клавдий Элиан добавлял: «Каких только нарядов в погоне за роскошью не придумывали себе женщины в древности. На голову надевали высокий венок, на ноги – сандалии, уши украшали большими серьгами, хитон от плеч до рук не сшивался, а застегивался множеством золотых и серебряных булавок. Так одевались в глубокой древности, а про аттических модниц пусть рассказывает Аристофан150».
– Цезарь Август, рациональный и здравомыслящий, как лед холодный государственный муж, однажды стал добычей любви, и любовь к Ливии, прекрасной женщине, навлекла на его государство большое несчастье, причина которого – господство женщин151;
– Его наследника – Тиберия, «самого мужественного из всех римских мужей», постоянно осаждали женщины, капризные, своевольные и не самые приятные. Каждая из них была снедаема жаждой власти и в вечной игре интриг стремилась превзойти самое себя и оттеснить других, – в такой атмосфере и простому смертному было бы не по себе, не говоря уж о властителе!152
Тацит сообщает в «Анналах», о женах других римских императоров ведущих себя подобным образом: Валерия Мессалина153 per lasciviam, «своенравно» вела свою игру с римским государством154; Агриппина старшая155, внучка Августа, была властолюбива156, а ее дочь, носившая то же имя (Ю́лия Августа Агриппи́на, проще – Агриппина Младшая), не только «соблазнила» на брак императора Клавдия, своего дядю (это была последняя жена императора Клавдия, мать императора Нерона157), но и целенаправленно использовала свое «бесстыдство» и супружеские измены для достижения и укрепления своего господства158. Всем этим женщинам была присуща редкая порочность ума («Mira pravitate animi»).
Усвоив эту информацию, мы с легкой грустью замечаем, что на империи лежит печать женской безнравственности, коренящейся в безграничной женской жажде власти. На смену образу «нравственной» матроны времен республики приходит исчезновение строгих норм отношений в период поздней республики и всеобщая «безнравственность» времен империи, которая приравнивается к «эмансипации римских женщин».
Слово «эмансипация» означает, таким образом, уничтожение четкого общественного порядка в Римской империи и содержит негативный оттенок. Результатом этого процесса упадка представляется приобщение женщин к власти или даже «господство женщин».
Происходившие из аристократических семей, состоятельные, очаровательные, одаренные женщины, женщины без всяких моральных оков, исполненные жажды животного наслаждения, или жажды власти, или того и другого вместе, оказались на публичной сцене позднереспубликанского общества, которая открыла им широкий простор для деятельности. С установлением империи возможность развернуться на широкой сцене оказалась для них ограничена, однако она существовала, если они по рождению принадлежали к императорской семье или были в нее приняты. И в этом случае перед ними открывались еще большие возможности, чем прежде159.
Среди жен и матерей первых пяти Цезарей наибольшее влияние приписывается Ливии Друзилле. Ливия (родившаяся в 58 г. до н.э. и дожившая до преклонного восьмидесятисемилетнего возраста) уже родила одного сына, Тиберия, и была беременна вторым ребенком, когда ее муж, Тиберий Клавдий Нерон (Старший), «уступил» ее Августу160. Фактически этот развод стал законной и официальной формой прелюбодеяния.
Как сообщает Тацит, Август домогался ее «из страсти к ее красоте». В качестве важнейшего результата влияния Ливии на Августа называют то, что она добилась от мужа усыновления своего сына Тиберия и назначения его наследником престола161. Римские авторы сообщают при этом – впрочем, как слух, – что после смерти Августа она обеспечила успешное наследование власти, отдав приказ убить последнего возможного соперника – Агриппу Постума162. Помимо таких намеков историк Дион Кассий, писавший примерно через двести лет после этих событий, воспроизводит длинный монолог Ливии (как будто он присутствовал при разговоре!?), обращенный к ее мужу Августу, в котором она предпринимает попытку убедить его, что милосердие и кротость в отношении подданных – лучшее средство против опасностей, угрожающих монарху163. А Светоний в жизнеописании Августа считает нужным сообщить, что император всегда делал письменные заметки (боясь оскандалиться), готовясь к важным беседам со своей женой164.
Ливия Друзилла в период после смерти Августа характеризуется в исторических текстах нелестным определением muliebris inpotentia, «женской необузданности». Тиберию даже приходилось обороняться от властолюбия своей матери165. Мать Тиберия попрекала его, согласно Тациту, тем, что власть он получил от нее в подарок166. Этим обосновывается все более враждебное отношение Тиберия к Ливии167. Помимо таких высказываний и суждений о необузданности Ливии, из античных текстов нельзя извлечь каких-либо указаний на конкретное могущество матери императора. Помимо утверждений о влиянии Ливии, античные тексты сообщают лишь о её просьбах к Тиберию взять на себя защиту, попавшей под обвинение её подруги или проявить милосердие к сенатору, по неловкости навлекшему на себя гнев императора168.
Как же могут женщины влиять на государство, если они не обладают властью?
Противоречие здесь заключено в определении понятия «власть». При помощи данного Максом Вебером169 классического определения власти как «шанса осуществить собственную волю внутри социальных отношений даже вопреки сопротивлению, независимо от того, на чем этот шанс основан» мы не можем понять, что имеют в виду римские авторы с их жалобами на женщин из императорского дома. И потому главный вопрос должен звучать так: чем же обладали римлянки, которые не имели власти и тем не менее были «могущественны»?
На роль женщин как орудия в мужской игре за политическую власть уже было указано: дочь выходит замуж, потому что ее отец хочет закрепить политическую дружбу или союз родственной связью; за изменением этих политических отношений могут последовать развод («A mensa et toro» – «От стола и ложа» (отлучить170) и новый брак. На жену возложена важнейшая задача родить законных детей, и производство законного потомства ни в коей мере не является «частным» делом; для римского аристократа это двойной долг, который ему надлежит исполнить как гражданину по отношению к государству, а как отпрыску большой семьи – по отношению к своим предкам, род и имя которых он обязан продолжить. Из этих инструментальных функций может вырасти общественное уважение к женщинам, имеющее политический характер: как дочь важного отца она переносит его престиж на своего супруга и детей; она может также выступать в римском обществе как мать многочисленных детей, «надменная своей плодовитостью», как это сказано в «Анналах» Тацита171.
Может ли быть женское влияние действительно обозначено как «политическая власть женщин»? Чтобы ответить на этот вопрос, следует более подробно описать различие между формальной и неформальной властью в римском обществе. Различные сферы обладания властью можно понять как процессы, которые разыгрываются «на сцене» и «за кулисами» – on-stage и offstage. Римские структуры власти, как они описываются в античных текстах, идеально-типически можно обрисовать следующим образом.
Римское общество состоит из определенного числа больших аристократических семей, во главе каждой стоит соответствующий pater familias (отец семейства), который в своем доме распоряжается женой и детьми, рабами и имуществом. Эти отцы семейств собираются в сенате, чтобы совместно определять римскую политику; каждый представляет там свои интересы (т.е. интересы своей семьи, в известной степени им олицетворяемой), которые ему приходится отстаивать в условиях возможной конкуренции с интересами его коллег по сенату. Римские сенаторы равноправны между собой, различия в политическом значении каждого проявляются лишь в различиях между ступенями должностной карьеры, которая в принципе открыта для каждого. Только один из них – ПРИНЦЕПС – со времен Августа становится «первым среди равных». Император, впрочем, тоже должен предъявлять сенату свои решения. Так могут быть схематизированы представления римских авторов об отправлении власти на официальной сцене. Римские аристократы разыгрывают политический театр для римских граждан и подвластных Римской империи народов, но, в первую очередь, для самих себя, обеспечивая тем самым свою политическую идентичность. Точно так же, как действие на сцене, само собой разумеющимися являются и процессы, происходящие за кулисами: обсуждения между сенаторами, друзьями, дружба с которыми закреплена браками, общение в аристократических домах, – а здесь-то и располагается сфера политического влияния супруг, матерей и дочерей. Несмотря на скудость передаваемых римскими текстами свидетельств о существовании подобной практики «закулисного» общения, можно предположить, что женщины неизбежно составляли часть этих offstage-процессов и их роль полностью соответствовала той традиции, которая не оспаривается.




















