Читать онлайн Введение в систему Антонена Арто бесплатно
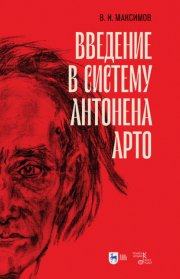
Maksimov V. I. An Introduction to the system of Antonin Artaud / V. I. Maksimov. – 2nd edition, revised. – Saint Petersburg: Lan: The Planet of Music, 2021. – 552 pages: ill. – Text: direct.
Antonin Artaud (1896–1948) was a French poet and author, screenwriter and playwright, theater and film actor, director and theater theorist, philosopher and publicist, artist and set designer.
In the work of Doctor of Art History, Professor of the Russian Institute of Performing Arts V. I. Maksimov «An Introduction to the system of Antonin Artaud» the Artaud’s philosophical and artistic concept is considered in its entirety, in the combination of science and art, theory and practice, theater and literature, philosophy and myth. The publication includes a full commented translation of «The Théâtre and its Double» (with the appendix of «Seraphim’s théâtre»), the main work by Artaud.
The edition is addressed to students of theater universities, theater experts and everyone interested in the history of theater.
© Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2021
© В. И. Максимов, текст, перевод, 2021
© Г. В. Смирнова, перевод, 2021
© Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», художественное оформление, 2021
К читателю
Антонен Арто (1896–1948) – один из ярчайших представителей авангардного искусства XX века. Он был известным киноактером в 1920-30-е годы, снимался у крупнейших европейских кинорежиссеров. Играл в спектаклях Люнье-По, Шарля Дюллена, Жоржа Питоева, Федора Комиссаржевского. Был сподвижником лидера сюрреалистов Андре Бретона, автором новаторских стихов, рассказов, пьес, публицистом, редактором авангардистских периодических изданий. Порвав с Бретоном, он создал сюрреалистический театр, просуществовавший два сезона. Это – в двадцатые годы, а в тридцатые – создал театральную теорию, попытался организовать театр совершенно иной эстетики. Писал романы и киносценарии. Он не удовлетворился ни одним своим совершённым деянием (фильм по его сценарию, единственный собственный спектакль 30-х гг. «Семья Ченчи»), всё время опровергая и перерастая самого себя. Бежав от Европы, участвовал в ритуалах мексиканских индейцев, описал свое путешествие. В дальнейшем многолетнее пребывание в лечебнице для душевнобольных было периодом полного отказа от личностного начала, преодолением индивидуализма. Неизбежность мировой войны и общечеловеческих бедствий Арто предчувствовал и прочувствовал как личную ответственность и трагическую невозможность спасти мир. После войны – последние отчаянные попытки создания провокационных произведений (книги, радиопередачи), разрушающих все обывательские ценности.
После его смерти – всплеск интереса ко всему его творчеству, переиздание сочинений. В 1956 году начинает издаваться (в издательстве «Галлимар») первое собрание сочинений Арто. В 1973 году – второе. Третье – в 1979 году. 25-й том его вышел в 1989 году. Потом в 1994 году – 26-й том. Все три издания незаконченные.
В 60-е – колоссальная популярность Арто как провозвестника революционного антибуржуазного протеста. Крупнейшие мировые режиссеры начинают осваивать систему Арто. Только в 80-е годы имя и значение Арто начинают открывать в России. Постоянно переводят его прозу, поэзию, драматургию, теоретические сочинения. Переводятся и зарубежные книги о нем. Однако в российскую культуру он так и не вписался. Исследования, научные статьи крайне редки. Влияния на театральный процесс в России он практически не оказал.
Но значение Арто не в создании театральной системы. Весь смысл его творчества направлен на выполнение одной задачи – преображение человека, освобождение его от механицизма обыденного существования, пробуждение творческого духа, преодоление индивидуализма ради обретения общечеловеческого языка.
Рано или поздно в обществе неизбежно возникнет потребность преображения – преображения коллективного и творческого, то есть катартического. Этот путь прочерчен Арто, не Брехтом и не Станиславским. Вероятно, новые художественные реформы не будут использовать слово «театр», но не обойдутся без этой театральной основы.
Рассмотрению собственно театральной системы Арто посвящено исследование «Введение в систему Антонена Арто», впервые опубликованное в 1998 году в издательстве «Гиперион». Текст был обсужден и одобрен в октябре 1996 года на кафедре зарубежного искусства Петербургской театральной Академии (зав. кафедрой, академик РАГН, профессор, доктор искусствоведения Л. И. Гительман; рецензенты – профессор Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов, доктор философских наук Ю. М. Шор и доцент СПГАТИ, кандидат философских наук В. В. Лецович).
Книга была исправлена и дополнена для переиздания в сборнике «Век Антонена Арто» (СПб.: Лики России, 2005) и переопубликована в сборнике «Эстетический феномен Антонена Арто» (СПб.: Гиперион, 2007).
В настоящее издание включен также полный комментированный перевод основной работы Арто «Театр и его Двойник» (с приложением «Театр Серафена»). Этот перевод был опубликован единственный раз в сборнике Арто А. «Театр и его Двойник: Манифесты. Драматургия. Лекции. Философия театра» (СПб.: Симпозиум, 2000). Сборник стал библиографической редкостью и послужил основой для новых переводов текстов Арто. Для настоящего издания перевод и комментарии исправлены в соответствии с появившейся за прошедший период литературой.
В качестве заключения книги публикуется статья «Век Антонена Арто» из сборника Максимов В. Век Антонена Арто (2005).
Введение в систему Антонена Арто
В. Максимов
– Но где же та молния, что лизнет вас своим языком? Где то безумие, что надо бы привить вам?
Ницше. Так говорил Заратустра.
– Это пристрастие задержаться – по праву художника – на форме, вместо того, чтобы, как осужденные на костер, благословить свое пожарище.
Арто. Театр и культура.
– Смотрите, я провозвестник молнии и тяжелая капля из тучи; но эта молния называется сверхчеловеком.
Ницше. Так говорил Заратустра.
Предварительные замечания
Еще в 1960-е годы Ежи Гротовский писал, что «ныне мы вступили в эпоху Арто». Общемировой интерес к личности и наследию Антонена Арто возникает в конце 50-х годов. С 1956 года выходит первое собрание сочинений Арто. Ряд произведений стал впервые доступен широкому читателю. Интерес нарастал вплоть до майских событий 1968 года, когда имя Арто звучало наряду с именами Ницше и Сартра. В те же годы об Арто пишут крупнейшие философы новой волны, определившие мировоззрение последующих десятилетий – Мишель Фуко, Жиль Делёз, Жак Деррида. Тогда же к идеям Арто обращаются ярчайшие режиссеры того времени – Питер Брук, Ежи Гротовский, еще раньше – Джудит Малина и Джулиан Бек. Стал ли угасать интерес к Арто в 70-е годы? Нет, его значение было раз и навсегда усвоено и осознано западной культурой. Однако сейчас, по прошествии еще четверти века, когда Арто вступает в свое второе столетие, неизбежно переосмысление этого явления. Уже как факта совершившегося, признанного, но таящего в себе еще не раскрытые глубины.
В разнообразнейшей деятельности Арто центральное место занимает театр, а основным сочинением является сборник статей «Театр и его Двойник». Однако пафос театральной системы Арто – это отрицание театра. Попытки воспринять эту систему как практическое руководство к постановке спектаклей не приводит к желаемому результату.
Все творчество Арто имеет одну общую задачу – вскрыть истинный смысл человеческого существования через уничтожение случайной субъективной формы.
Рассматривая театральную систему Арто, следует исходить из того, что речь не идет о той или иной форме театра, или о новой театральной системе, развивающей и опровергающей системы прошлого. Более того, речь не идет о театре вообще. Речь идет о том пути, которым в будущем пойдет человечество. Что человечество находится на пороге перехода в новое качество – накануне какого-то прозрения – стало почти очевидным на рубеже XIX–XX веков. Соборность, символизм, идея ноосферы по-разному разрабатывали это новое представление о человеке. Фридрих Ницше обнаружил, что человек оказался лишь временным переходным звеном на пути к сверхчеловеку.
По прошествии столетия с той поры оказалось, что ощущение «на краю бездны», «на пороге прозрения» было ошибочным. Начался всего лишь долгий переходный период: от человека к сверхчеловеку. И как любой переходный период он сопровождается страшными катаклизмами, прорывами вперед и обращением вспять.
Ницше показал идеальную модель нового сверхчеловеческого сознания – в соединении дионисийского и аполлоновского, в древнегреческой трагедии. Таким образом, идея театра была поднята на невиданную в христианском мире высоту. Далее театр существовал как бы на двух несоединимых уровнях: производство привычных спектаклей, удовлетворяющих традиционным запросам публики, и недосягаемая идея, раскрывающая смысл человеческого существования. Иногда эти два уровня сближались.
Эту реальную двойственность отразил в своей книге Антонен Арто. Лишь изредка, критикуя театр обыденный, повседневный – и, по существу, мертвый, – Арто находит проявление Идеи Театра в мировой истории. Этот Театр и является Двойником театра, то есть его подлинным лицом.
Творчество Антонена Мари Жозефа Арто можно разделить на три периода. Он родился в Марселе 4 сентября 1896 года. В силу тяжелого заболевания, перенесенного в детстве, он только в 1920 году, оказавшись в Париже, обращается к активной творческой деятельности. Первый период актерских и режиссерских исканий, литературного и публицистического творчества проходит под явным влиянием сюрреалистов во главе с Андре Бретоном. Этот период можно обозначить как сюрреалистический. Круг общения Арто не ограничивается сюрреалистами. Он работает с крупнейшими режиссерами-экспериментаторами Франции: О.-М. Люнье-По, Ф. Жемье, Ш. Дюлленом, Ж. Питоевым, Ф. Комиссаржевским. Много снимается в кино. Но все же первые поэтические сборники, первые пьесы Арто воплощают сюрреалистическую эстетику – столкновение подсознательных образов, автоматическое письмо, поэзия сна. В середине 20-х годов Арто становится редактором и автором ряда сюрреалистических изданий, возглавляет Бюро сюрреалистических исследований.
Созданный Арто вместе с Роже Витраком и Максом Робюром Театр «Альфред Жарри» просуществовал три сезона, с 1927 по 1930 год. Он стал крупнейшим явлением сюрреализма в театре, несмотря на то, что с группой А. Бретона Арто к этому времени отношения разорвал. В Театре «Альфред Жарри» ставились сюрреалистические пьесы Роже Витрака, а также драмы Поля Клоделя и Августа Стриндберга. Представления сопровождались эпатажем и скандалами, но главное было – утверждение новой эстетики, которая максимально расширяла границы сценической реальности, стирала черту между искусством и повседневностью, соединяла в единый «ошеломляющий образ» разноплановые явления.
В 1923 году стихи, посланные Арто в ведущий литературный журнал «Нувель Ревю Франсез», не были приняты к публикации. В письмах, написанных в связи с этим главному редактору Жаку Ривьеру, Арто старается объяснить, что невозможность адекватно выразить себя в творчестве свидетельствует не о слабости автора, а о глубине и принципиальной невыразимости мысли. Ривьер, пораженный письмами, предлагает опубликовать их. В 1950-е годы Морис Бланшо, выделявший письма в творчестве Арто, пишет об обозначении в них того, что невозможно достичь мыслью:
что факт мышления может быть только потрясением; что мыслимо в мысли то, что от нее отворачивается и неистощимо в ней истощается[1].
Главный парадокс мысли, сформулированной в письмах, – возможность помыслить немыслимое, способность понять невыразимое, но невозможность реализовать, осуществить, прожить это немыслимое, невыразимое. Преодоление невозможности стало задачей Арто. Противоречие беспредельности мысли и бессилия ее осуществления должен был разрешить крюотический театр.
Понятие «крюоте» («жестокость») – центральное в творчестве Арто второго периода (30-е годы) и третьего (с конца 30-х до самой смерти в 1948 году). Это понятие мы будем подробно рассматривать в последующих главах. Подчеркивая самостоятельность этого понятия, мы не станем употреблять привычное наименование «театр жестокости», ибо оно не отражает всей сложности явления. Наименование «крюотический театр» представляется нам более точным, так как оно не нарушает тот неповторимый смысл, который вкладывает в него Арто.
Сюрреалистический период Арто (имеющий, конечно, и самостоятельное значение) можно рассматривать как предварительный этап в создании Арто крюотического театра. В этом смысле сюрреалистический период будет интересовать нас только в связи с проблемами, возникающими в связи с книгой «Театр и его Двойник», в которой изложена система Арто.
В начале 1929 года закрылся Театр «Альфред Жарри». Весной следующего года Арто записывает подробные планы двух постановок, в которых проявляются уже новые тенденции. Но переломным событием, с которого начался второй период, стало посещение Колониальной выставки в Париже в июле 1931 года, где он увидел представления танцоров острова Бали[2]. Роль балинезийских спектаклей в формировании концепции крюотического театра трудно переоценить. Ее можно сравнить лишь с тем влиянием, которое оказали на К. С. Станиславского гастроли мейнингенской труппы в Москве в 1890 году. Под воздействием этих гастролей талантливый актер и постановщик-любитель Общества искусства и литературы К. С. Алексеев превратился в гениального режиссера-новатора, впоследствии сформировавшего свой творческий метод. Под воздействием гастролей балинезийцев у Арто сложилась театральная концепция, которая в течение следующего пятилетия разрабатывалась и превращалась в систему в книге «Театр и его Двойник».
Рассмотрению основ этой системы посвящено данное исследование.
Глава первая
Эстетический феномен
«Театр и культура». Проблема культуры у сюрреалистов, О. Шпенглера и Ф. Ницше. Идея активной культуры.
Духовный прорыв рубежа XIX–XX веков. Мысль и действие у Арто. Вещь как таковая. Магия. Манас. Театр и ритуал.
Основные требования к актеру. Тень. Предварительное определение понятия «Двойник». Актер, сжигающий формы. Незаинтересованное действие.
«Никогда еще за всю историю человеческой жизни, с каждым годом приближающейся к своему концу, так много не говорили о цивилизации и культуре. И напрашивается странная параллель между общим упадком жизни, вызвавшим современное падение нравов, и заботами о сохранении культуры, которая с жизнью никогда не совпадала и создана, чтобы ею управлять» (IV, 11)[3]. Этими словами начинается сборник статей «Театр и его Двойник».
Статья «Театр и культура» написана Арто специально, как предисловие к сборнику. Создавалась она в течение нескольких лет и была закончена в начале 1937 года, когда прочие статьи сборника были уже написаны. Арто касается здесь в основном общеэстетических вопросов и вопроса о месте театра в культуре XX века.
В 20-30-е годы остро встает проблема культуры как таковой. Для сюрреалистов культура становится совокупностью атрибутов искусственной цивилизации и синонимом буржуазной культуры. Тотальную революцию сюрреалисты понимают как разрушение культуры вообще. При этом они не ощущали границы между культурой и буржуазной обыденностью. В результате на место культуры была поставлена эстетика сна, подчинявшая себе и обыденную жизнь, и сюрреалистическое произведение. Таким образом, в сюрреализме оппозиция «художественное произведение – обыденная действительность» полностью снимается. «Буржуазная» культура полностью отрицается.
Арто выступает против такого смешения понятий. Он отрицает современное европейское искусство, противопоставляя ему вечные ценности культуры. По мысли Арто, искусство разъединяет людей, культура – объединяет.
«Проблема культуры» возникла отнюдь не в связи с сюрреализмом. После выхода в свет фундаментального исследования Освальда Шпенглера «Закат Европы» (первый том вышел в 1918 году) новые модернистские направления и общество в целом активно усваивали идею о том, что западная культура вошла в период «цивилизации», а на данной ее стадии происходит разложение государственных форм, становление гигантских «хозяйственных комплексов» социализма и империализма, перетекание народов в аморфную людскую массу, исчезновение стилей в искусстве, утилитарное использование культуры, конец чувства формы.
Новые художники воспринимали мир уже в ракурсе идеи уничтожения, но при этом недостаточно внимательно читали самого Шпенглера. Шпенглер же различает два типа художественных форм. Он признает неизбежность полного исчезновения атрибутов одной культуры: последняя скрипка Страдивариуса когда-нибудь исчезнет, мелодика Бетховена не будет понятна грядущим культурам, холсты Рембрандта погибнут, а Страсбургский собор будет казаться таким же курьезом, каковыми нам кажутся сооружения майя. Но…
Все это касается той другой формы, которая вскрывается в беспрерывном становлении и есть собственно живая, есть образ души. Произведение искусства также имеет душу: оно вообще есть нечто духовное, вне пределов пространства, границы и числа. Чтобы быть, этот образ не нуждается в действительности. Он возникает и не уничтожается. Даже утраченные – исчезнувшие из чувственного естественного бытия – трагедии Эсхила пребывают, не в написанной или устно переданной форме, не как материальные творения, не для дневного сознания каких-нибудь людей, а в той сущности, которая нерушима[4].
Произведениям культуры Шпенглер придает общечеловеческий смысл. Рождаются и бесследно исчезают культуры. Но сущность конкретных произведений неуничтожима, ибо она неформальна. Культурным актом является сам факт ее наличия. Состоявшееся произведение остается, по сути, навсегда. Некая глобальная преемственность культур имеет чисто эстетический характер. И другой преемственности быть не может.
Шпенглер, таким образом, конкретизирует знаменитый тезис Фридриха Ницше: «бытие и мир получают свое оправдание лишь как эстетический феномен»[5]. Для Ницше эта идея заключается в следующем: человек только в творческом акте постигает смысл мира, но мир сам по себе ничего не значит. Непреходящая сущность мира представляется Ницше неким «всемирным первохудожником», с которым отождествляется человек творящий. Смысл творчества не зависит от художника и тем самым признается его объективный характер.
Вся эта комедия, именуемая искусством, разыгрывается вовсе не для нас, не ради нашего здравия и просвещения. <…> Мы даже не творцы мира искусства – скорее всего можно предположить, что для подлинного творца этого мира мы является лишь образами и художественными проекциями[6].
Проявление высшего смысла «бытия и мира» возможно только в художественном творчестве, следовательно, мир раскрывается единственно как эстетический феномен.
Ницше развивает здесь концепцию, сложившуюся еще в античности и разработанную, например, орфиками: целью мира является создание некоего произведения, мистерии. Уже под влиянием Ницше эта концепция получила широкое развитие на рубеже XIX–XX веков, особенно в символизме. В частности, Стефан Малларме творит некую Книгу, а Скрябин – всеобщую Мистерию, в которой произойдет «развязка» мира.
X. Л. Борхес проводит параллель между идеей Гомера о человеческих злоключениях, как побудительной силе для создания великих произведений, и идеей Малларме «книга вмещает все». Борхес считает:
Мысль та же самая, мы созданы для искусства, для памяти, для поэзии или, возможно, для забвения. Но что-то остается, и это что-то – история или поэзия, сходные друг с другом[7].
Концепция некоего всеобщего театрального процесса разрабатывается Арто под заметным влиянием Ницше и Малларме. Идея некоего сущностного сверхчеловеческого акта как главной цели театра пронизывает всю книгу «Театр и его Двойник». Неудивительно, что Арто начинает книгу с постановки вопроса о культуре и соотнесения ее с обыденными и всеобщими человеческими проблемами. Сопоставление это сделано – как и все у Арто – парадоксально.
Арто, бесспорно, ближе ницшеанское объяснение мира, нежели пафос отрицания сюрреалистов, хотя он с сюрреалистическим азартом громит культуру как таковую. Но речь у Арто идет не о культуре вообще, а о культуре временных форм. Статья направлена на выявление «нерушимой сущности» (Шпенглер) культуры. Арто использует общепринятую в те годы шпенглеровскую терминологию «культура» и «цивилизация», но заявляет, что «культура» обозначает то же явление. Тем самым, у Арто современное понимание культуры приближается к шпенглеровской «цивилизации».
Самое неотложное, на мой взгляд, не защищать культуру, которая не спасла еще ни одного человека от забот о том, как жить лучше и не быть голодным, а постараться извлечь из того, что нынче называется культурой, идеи, равные по своей живительной силе власти голода.
Мы прежде всего хотим жить, хотим верить, что то, что велит нам жить, действительно существует, – и все, выходящее из наших таинственных глубин, не должно без конца возвращаться к нам самим вместе с элементарным желанием утолить голод (IV, 11).
Из первых абзацев статьи становится ясно, что в определении культуры Арто исходит, подобно 3. Фрейду, из первичных физиологических процессов и ставит культуру в прямую зависимость от них. Однако Арто далек от того, чтобы ограничиться подобным объяснением культуры. Он пытается понять, что есть культура. То ли это система, в которой существует человек, то ли самостоятельные образования (цивилизации), не связанные с человеком, то ли это внутреннее состояние человека, степень его развития. Во всяком случае, Арто подразумевает некую объективную данность, воздействующую на человека.
Оттолкнувшись от первичности физиологических процессов, Арто рассматривает эстетическую потребность как одну из основных, органически присущих человечеству. Отсюда параллель с физическим ощущением голода. При всей поэтичности языка Арто, в основе его образной системы – реалии. Художественная потребность и чувство голода оцениваются им как явления одного ряда.
С другой стороны, в отличие от сюрреалистов, художественная потребность осознается Арто как высший смысл жизни. В «таинственных глубинах» сознания он пытается вскрыть наиболее сокровенные пласты.
В глубине человеческого сознания естественно оказывается потребность в культуре. Так возникает «идея активной культуры». Человек активной культуры – это человек действующий, а не бесконечно осмысляющий свои действия. Кризис культуры в том, что мысль и действие разъединены:
Мы слишком любим разглядывать свои поступки и теряемся в рассуждениях о их мыслимых вариантах, вместо того, чтобы подчиняться им (IV, 11).
Требуя от культуры, чтобы она была «действенной», Арто закономерно пришел к отрицанию рефлексии, как главного принципа всей христианской эпохи развития культуры и как основного принципа существования художественного творчества. В ситуации кризиса христианской культуры художники-импрессионисты, писатели «потокасознания», сюрреалисты декларировали каждый на свой лад «бессознательную» основу творчества. Непосредственно у Арто это выражается в отсутствии какого бы то ни было осмысления вещи и в наименовании ее единственно возможным иероглифом. Пафос отрицания рефлексии сближает Арто с идеями Фридриха Ницше, первым до конца осознавшего начало кризиса сократовско-христианского мышления с его раздвоенностью и оторванностью от действия.
В «Рождении трагедии из духа музыки» Ницше писал:
Как и Платон, Еврипид решил показать миру нечто противоположное «неразумному» поэту; его эстетический принцип: «Чтобы быть прекрасным, все должно быть сознательным» соотносится, как я уже говорил, с сократическим тезисом: «Все добродетельное должно быть сознательным». А посему мы можем смотреть на Еврипида как на поэта эстетического сократизма[8].
Таким образом, осознание Антоненом Арто кризиса культуры, как разрыва мысли и действия, касается не только современного положения дел, а длительного, многовекового процесса эволюции сознания. Арто развивает ницшеанские идеи, когда оценивает стремление к рефлексии, к «разглядыванию своих поступков».
Это чисто человеческое качество. Я бы даже сказал, что это чисто человеческая инфекция искажает наши идеи, в принципе вполне способные сохранять свою божественную природу. Я не склонен считать сверхъестественное и божественное измышлением человека, но я думаю, что только тысячелетнее вмешательство человека могло извратить для нас идею божественного (IV, 13).
В развитии европейской культуры Арто выделяет последнее тысячелетие, которое, по его мнению, исказило подлинное предназначение человека. В предисловии Арто к изданию «Двенадцати песен» М. Метерлинка, написанном в декабре 1922 года, он уточняет хронологические границы «отступления» культуры (в данном случае – поэзии) от естественного развития и поясняет, в чем это выразилось:
Метерлинк первым ввел в литературу многогранное богатство сверхсознания. Образы его поэм организуются согласно принципу, не являющемуся принципом нормального сознания. Однако в поэзии Метерлинка предмет не восстановил еще своего сущего состояния – состояния предмета, ощутимого настоящими руками. Сенсация осталась литературной. Это возмездие двенадцати веков французской поэзии. Впрочем, современные писатели восстановили пошатнувшееся положение (I, 217).
По мнению Арто, вся французская поэзия, начиная с ее истоков – со Средневековья, метафорическая, чисто поверхностная.
Не вдаваясь в подробности отношения Арто к Метерлинку и символистам, определившим творчество Арто в момент его вступления в литературу, отметим лишь мнение самого Метерлинка на предшествующую историю культуры. Драматург в своем первом трактате «Сокровище смиренных» разделяет эпохи на духовные и материальные. Метерлинк пишет:
Бывают в истории подобные периоды, когда, подчиняясь неведомым законам, душа всплывает на поверхность человечества и проявляет с большей непосредственностью свое бытие и могущество[9].
К таким периодам относятся Древний Египет и Древняя Индия, Персия, Александрия, XIII–XIV столетия Средневековья. Противоположные им – Античные Греция и Рим, XVIII–XIX столетия в Европе:
Таинственные отношения отрезаны, и красота закрывает глаза[10].
И Метерлинк, и Арто недвусмысленно провозглашают наступление принципиально новой духовной эпохи, некоего духовного прорыва, перехода человека в иное качество. Это качественное изменение должно произойти на уровне сознания, и открывающееся человечеству сверхзнание есть не что иное, как реализация ницшеанской идеи о сверхчеловеке (которую, впрочем, сам Ницше не представлял в ближайшем будущем). Новое качество человеческого сознания, открывающееся «на краю бездны», достижимо, конечно, только с помощью культуры. Это и есть артодианская
активная культура, которая стала бы для нас чем-то вроде нового органа или второго дыхания (IV, 12; выделено мной – В. М.).
Здесь Арто отражает общее устремление наиболее глубоких и смелых умов начала XX века. Особенно сильно и особенно поэтично это общее усилие выразилось в стихах Николая Гумилева. Например, в одном из программных стихотворений «Шестое чувство» поэт сопоставляет новое состояние, в которое переходит человек, с вычленением из живого хаоса существа, ощущающего возможность взмахнуть крыльями:
- Как некогда в разросшихся хвощах
- Ревела от сознания бессилья
- Тварь скользкая, почуя на плечах
- Еще не появившиеся крылья;
- Так, век за веком – скоро ли, Господь? —
- Под скальпелем природы и искусства,
- Кричит наш дух, изнемогает плоть,
- Рождая орган для шестого чувства.
Николай Гумилев наиболее остро среди множества поэтов отразил это предчувствие сверхсознания, сверхчувства, пробуждаемое на рубеже XIX–XX веков. Человеческое существование рассматривалось как предчувствие неких глобальных изменений, сравнимых с переходом в иное измерение. Острота ощущения, предчувствие чего-то неведомого, реально проявлялось во взаимоотношениях людей, в открытии новых уровней общения. Но если для символистов речь идет о возможности прикоснуться к тому, что невыразимо в повседневности, противоположно обыденной жизни:
настанет время, когда души будут узнавать одна другую без посредства чувств. Нет сомнения, что область духа с каждым днем все больше и больше расширяется[11],
– то у Николая Гумилева и Арто сверхреальное содержится в самой окружающей нас жизни. Их внимание обращено не к потустороннему, а наоборот, как бы вглубь предмета, к его реальной осязаемой сущности. Предмет у Метерлинка не восстановил еще состояния предмета, ощутимого руками, – пишет Арто. Гумилевское «Шестое чувство» начинается с того, что предмет (вино, хлеб, женщина) рассматривается с точки зрения предназначенности для поэта. Предмет существует только в непосредственной связи с лирическим героем. В книге Арто мысль о преображении реальности выражена еще более ошеломляюще: «мысль и действие одно и то же» (IV, 13).
В статье «Театр и Чума» духовные взаимоотношения сравниваются с абсурдной логикой распространения чумы, преодолевающей время и пространство, игнорирующей любые препятствия. Чума подчиняет себе мысли исторических персонажей, возникающих в «Театре и Чуме». А мысль способна материализоваться, потому что (как сказано в «Театре и культуре») «мысль и действие одно и то же».
Проблема эпохи (то есть длительного периода, предшествующего современности), проблема этой самой «цивилизации» – в разрыве мысли и действия; предмета, вещи («систем, форм, знаков и обозначений») и ее, вещи, содержания, означаемого.
Смутные намеки на разрешение проблемы, содержащиеся в словах Арто «Поэзия пробивается с изнанки земного шара», сменяются решительным выходом из глобальных противоречий, накопленных цивилизацией.
Театр создан для того, чтобы вернуть к жизни наши подавленные желания; странная, жестокая поэзия выявляет себя в эксцентричных поступках, но отклонения от жизненной нормы говорят о том, что жизненная энергия ничуть не иссякла, и достаточно лишь дать ей верное направление (IV, 13).
В этой фразе кратко сформулирована концепция крюотического театра. Театр способен реализовать подавленные желания – нереализованные в повседневной жизни естественные стремления. Под действием обнажения вещи, можно сказать – жестокого обращения с вещью, а в художественном смысле – прямого ее называния, отождествляющего означаемое и означающее, – под действием этого «обнажения» течение жизни изменяется, приходит в соответствие с естественной структурой развития. Это позволяет человеку реализоваться, преодолевая «страх перед жизнью». Театр создан для того, чтобы сохранить «жизненную энергию» и раскрыть неисчерпаемые возможности человеческого духа (в условиях «действенной культуры») через прямое называние любой вещи, то есть прямое – жестокое – воздействие на нее.
В начале 30-х годов, когда создаются статьи «Театра и его Двойника», А. Ф. Лосев пишет большую работу «Самое само», где подробно разбирает понятие «вещь». Лосев ставит главной задачей познание, выявление сущности вещи. Вопрос ставится таким образом: что такое сама вещь? Тем самым философ старается определить абсолютную самость, некое единство всех вещей. Лосев приходит к выводу о неразличимости конечного и бесконечного. Не вдаваясь в философские размышления Лосева, отметим, что он обосновывает существование вещи как таковой, сущности вещи, которую надо увидеть, а не обмануться отдельными её признаками, пусть даже такими признаками будет материальная сторона вещи.
До всякого становления вещи и до всякой истории есть сама вещь. Вещь раскрывается в своей истории, присутствует в своем становлении. Но она не есть ни то, ни другое[12].
Но наличие этой сущности указывает на наличие единства всех вещей, некоей абсолютной сущности, конечной и бесконечной одновременно.
Точно так же в человеке наличествует «Я», которое не определимо никакими признаками человека. Характерно, что проявление «Я» Лосев видит прежде всего в человеческом общении и делает вывод о невозможности определения общения «при помощи тех или иных признаков»[13]. Тем не менее, сущностью «Я» является невыразимая тайна общения одной личности с другой.
Выявление вещи как таковой и установление реальных сверхбытовых связей между людьми – две стороны одной проблемы. Проблемы, поставленные на рубеже XIX–XX веков, к 30-м годам обрели попытки их разрешения как в практической деятельности (крюотический театр), так и в философской системе. Примерно в это же время (в 1929 году) фрайбургский профессор Мартин Хайдеггер в своей программной лекции «Что такое метафизика?», описывая процесс ускользания сущего и проявления Ничто, отмечает, что вещи в этом процессе предстают как таковые, «повертываются к нам» в своем «безразличии». Уходит все формальное, приоткрывается Ничто.
Расцвет творчества Хайдеггера в 30-е годы привел к признанию его идей. Судьба творчества Арто и Лосева складывалась куда трудней. Произведения Арто и Лосева оказались невостребованными. Система Арто не могла быть принята современниками, книга Лосева пролежала в рукописи шесть десятилетий.
Зато определенный резонанс в Европе имело другое философское сочинение – «Логико-философский трактат» Людвига Витгенштейна, опубликованный в 1921 году. Близость мировоззрений Арто и Витгенштейна поразительна. Философ стремится разрешить проблемы языка, ощущая трагический разрыв наименования и «факта». Как и Арто, Витгенштейн преодолевает разрыв мысли и действия, считая будущую философию не теорией, а деятельностью.
Заявив о том, что театр способен вернуть к жизни подавленные желания, направить жизненную энергию в нужную сторону, Арто должен был в пределах книги ответить на вопрос как это сделать. Ответом являются аналогии из нетеатральных областей, но эти области, собственно, и являются театром. Не говоря уже далее о театре, Арто произносит слово «магия»:
Но как бы громко ни звучали наши магические заклинания, в глубине души мы испытываем страх перед жизнью, целиком попавшей под начало истинной магии (IV, 13).
Те жизненные силы, которые лежат за пределами конкретных форм и энергию которых нельзя уничтожить, распространяются, воздействуют на нас с помощью магических законов – считает Арто. На протяжении всей книги Арто обращается к понятиям «магия» и «магический». Речь идет опять-таки об определенном воздействии на человека или вещь, противоречащем обыденной логике. Арто приводит пример с кораблем европейцев, проходящим мимо неизвестного острова. И, несмотря на то, что все европейцы здоровы, среди туземцев вспыхивают эпидемии европейских болезней. Такова магическая логика.
Магия, как известно, использует два основных принципа – гомеопатический и контагиозный. Гомеопатический принцип – закон подобия – заключается в том, что для воспроизведения реального действия необходимо произвести простое подражание ему. Подобное порождает подобное. Причина вызывает следствие, но и следствие воспроизводит причину. Этот магический принцип лежит также в основе практической каббалы, вызывающей пристальное внимание Арто и даже попытки ее использования. Контагиозный принцип – закон соприкосновения – гласит, что вещи, бывшие в соприкосновении, продолжают взаимодействовать и после непосредственного контакта. Таким способом воздействие на человека совершается через предмет, с которым он ранее соприкасался.
Арто подразумевает оба эти принципа, ибо «для того, чтобы вернуть к жизни наши подавленные желания», необходимо непосредственное воздействие на зрителей. Открытие глубинных человеческих способностей, выход на общечеловеческий уровень сознания – необходимые условия театра Арто. Театральный художественный процесс требует не просто зрительской грамотности, культурности, принятия условности, он требует «жизненной энергии», как бы заснувшей в человеке.
Подлинную культуру, основанную на жизненной энергии, Арто обнаруживает у архаических народов:
Подлинная культура противостоит нашей пассивной и незаинтересованной концепции искусства свою концепцию, магическую и безудержно эгоистическую, то есть заинтересованную (IV, 16).
В качестве примера приводится мана (манас) – меланезийское понятие, обозначающее тотальную способность к пониманию, восприятию, осмыслению и познанию. С санскрита это слово переводится как «ум», что вызывает аналогии с древнегреческим ноо. Однако в отличие от последнего, манас – не только причастность к космическому знанию, но и духовное единство человека и мира. У Арто мана возникает в таком контексте:
Мексиканцы улавливают манас, силу, дремлющую во всякой форме, но не высвобождающуюся при созерцании форм как таковых, она выходит наружу только в результате магического отождествления себя с этими формами. И древние Тотемы могут ускорить установление контактов (IV, 16).
Итак, вновь речь идет о высвобождении жизненной энергии, причем высвобождение происходит при отождествлении сущности и формы, так как манас, способный воздействовать на душу, принадлежит телу (является частью «тонкого тела»). Отождествление некоей внутренней энергии и внешней формы приводит, по Арто, к возникновению нового качества, чего-то иного по сравнению и с неведомой силой мана, и с внешней формой – иного, но близкого им. Так Арто постепенно подводит читателя к идее Двойника.
Вернемся к уточнению жизненной энергии и артодианского понятия «манас». В те же годы, когда только замышлялись статьи «Театра и его Двойника», Юнг разработал понятие «мана», которое, отождествляясь с сознанием «Я», вскрывает глубины личности, обнаруживая общечеловеческое «Нечто».
Это «нечто» нам чуждо, но все же необычайно близко, оно совсем наше, но все же неузнаваемо для нас, это виртуальное средоточие столь таинственного устройства, что может требовать всего – родства с животными и богами, кристаллами и звездами, не повергая нас в изумление, даже не возбуждая нашего непризнания[14].
Именно в связи с вселенским родством, с общечеловеческим взаимопониманием возникает у Арто понятие «манас». Связь с бессознательным обнаруживает Арто у архаических народов. Впрочем, нигде в тексте «Театра и его Двойника» мы не найдем непосредственного влияния Юнга. Что касается появления у Арто самого термина «манас», его источником могло быть произведение, принадлежащее автору, имевшему огромную популярность во Франции. В 1932 году опубликована последняя книга крупнейшего философа-интуитивиста Анри Бергсона «Два источника морали и религии». Здесь содержатся, в частности, рассуждения о магии и первобытном мышлении. Арто не мог пройти мимо этой и предшествующих книг Бергсона (таких как «Духовная энергия»). О мана Бергсон пишет следующее:
Нам говорят о полинезийском понятии «мана», аналог которого обнаруживается в других местах под различными названиями: «ваканда» у сиу, «оренда» у ирокезов, «пантанг» у малайцев и т. п. Согласно одним, «мана» является универсальным жизненным принципом и составляет, в частности, говоря нашим языком, субстанцию душ. Согласно другим, это скорее сила, которая является как избыточная и которую душа, как, впрочем, и любой другой объект, может заполучить; но она не принадлежит душе по существу[15].
Бергсон не склоняется однозначно к одному или другому представлению. Но важно, что явление, о котором идет речь, не сводится к нейтрально европейскому понятию «душа». И все же Бергсон сводит проблему к некоей потусторонней силе, сохраняющейся (или – не сохраняющейся) после земной жизни. Таким образом, мы имеем дело с традиционным религиозным подходом. Не отождествляя мана с душой, Бергсон ведет речь о «тени тела», как первопричине «деятельной силы». У Арто же нет и намека на потусторонность. Мана — реальное проявление реальной силы, содержащейся в любой форме и высвобождающейся при воздействии волевого акта.
Появление этого понятия у Арто – не единственный случай в театре того времени. Андрей Белый воспринимает Михаила Чехова в роли Гамлета как некую форму внутреннего знака, ассоциирующегося с «сошествием Манаса»[16].
По образу действия магических средств, по подобию внутренних сверхъестественных сил строится крюотический театр. Он должен сделать то, что не под силу в обыденной жизни – вывести человека один на один с реальностью. Культура американских индейцев оказывается ближе к крюотическому театру, к архетипическому в человеке, так как она находится на мифологической стадии развития. Эта культура опирается не на вычлененные художественные образы, а на устойчивые мифологемы. Арто в своем творчестве также отказывается от создания художественного образа. Элементарной смысловой моделью произведения крюотического театра является иероглиф.
Театральная теория Арто – одно из наиболее ярких проявлений общего интереса искусства XX века к мифу и мифологической структуре. Не случайно другим ярчайшим проявлением стала современная латиноамериканская литература. Ее выход на ведущее место в середине века – следствие неразрывной связи с мифологическим слоем при использовании достижений европейского искусства. Арто в конкретных своих оценках и в практической деятельности также предусматривал синтез мифологической структуры и композиции художественного произведения. В этом смысле Арто уловил направление движения к произведению искусства будущего.
Мало соответствующее действительности, но распространенное мнение о том, что Арто видел театр в формах ритуала, вызвано его страстным призывом обратить внимание на древний тотемизм, на ритуальные предметы, насыщенные энергетическими силами. Если уж говорить о прообразе крюотического театра, то, скорее, это миф. Но реалии ритуала возникают в размышлениях Арто как та основа, на которой строится архетипическое сознание.
Всякая истинная культура ищет опору в варварских примитивных средствах тотемизма, и я готов признать, что его дикая, то есть абсолютно стихийная жизнь вызывает у меня благоговение (IV, 15).
Речь идет о том, что на ритуальной стадии развития культуры формируется общечеловеческий архетип (см. работы 3. Фрейда «Тотем и табу», К. Г. Юнга «Проблемы души нашего времени»). В сценическом плане языком выражения архетипа является иероглиф. Рассматривая примеры архаической культуры, Арто беспрестанно возвращается к проблеме актера. Постепенно становятся ясны требования, предъявляемые к актеру крюотического театра. Это человек, не утративший связи с природой (с «дикой жизнью»), то есть способный отдаться скрытым в его сознании архетипам. Актер устанавливает на этом уровне контакт со зрителем, вскрывая духовные силы и природные стихии. Устойчивые архетипы глубоко вытеснены в подсознание, и выявление их сближает художественный акт с психоаналитическим сеансом. Зато способность отдаться архетипической стихии означает реализацию человеческого предназначения и знаменует переход от «рассуждений о мыслимых вариантах» наших поступков к «подчинению им». По Арто, «свободная жизнь» – в способности подчиниться самому себе, своим внутренним силам, не имеющим личностной окраски, то есть архетипическим.
Артодианская концепция актерского искусства тесно связана с образом тени, одним из важнейших в театральной системе Арто, хотя и принимающим различные наименования.
Всякий истинный образ отбрасывает свою тень, повторяющую его очертания, но как только художник, творя образ, начинает думать, что он должен выпустить тень на волю, иначе ее существование лишит его покоя, – в тот самый момент искусство гибнет. Как всякая магическая культура, выразившаяся в соответствующих иероглифах, истинный театр тоже отбрасывает свою тень (IV, 17).
Образ тени сходен с понятием манас, также высвобождающимся из конкретных форм. В дальнейшем в статьях Арто будут встречаться сходные образы, например, египетское Ка. При этом тень у Арто понятие достаточно конкретное. Ею обладает любая вещь или явление при наличии исчерпывающей формы-иероглифа. Из приведенной выше цитаты ясно, что художник не может ставить задачу создания («отбрасывания») тени. Это процесс бессознательный. Только тогда, когда рождается единый образ-иероглиф, адекватно отражающий вещь, или, точнее, этой вещью являющийся, рождается нечто иное, сущностное, существующее как бы параллельно. Тенью обладает и истинный образ, и актер, и театр, то есть это – всеобщее явление, всегда конкретное, но при этом неделимое, целостное. Но культура может быть лишена этого явления, задача которого состоит в том, чтобы её восстановить.
Наша окаменевшая концепция театра под стать окаменевшей концепции культуры, не признающей тени, и куда бы ни устремлялся наш дух, он наталкивается только на пустоту, тогда как пространство заполнено целиком (IV, 17).
Образ тени в статье «Театр и культура» имеет непосредственное отношение к ключевому понятию Арто – Двойник. Тень – это одно из наименований Двойника. Явление всегда конкретное и целостно-неделимое. Как Аристотель лишь однажды употребляет в своей «Поэтике» ключевое понятие катарсис, однако говорит о нем на протяжении всей известной нам части сочинения, – так и Арто не рассматривает специально вынесенное в заглавие понятие.
Использованный в статье «Театр и культура» образ тени связан с широко распространенными к тому времени мотивами философии Ницше, а позднее – Юнга. И связан он не столько с образами «Странника и его тени», задающими друг другу вопросы[17], сколько с идеей сверхчеловека, оказавшей разнообразное влияние на театр и тесно связанной с периодом становления режиссерского театра в целом (например, крэговская идея сверхмарионетки). В театральной концепции Арто тень – это Двойник, возникающий за спиной подлинного актера, персонифицированное архетипическое. Тень обезличена, как и подобает художественному началу, и несет общечеловеческое содержание.
Идея тени-двойника возникает у Арто еще до создания теории крюотического театра. В апреле 1931 года режиссер уже не существующего Театра «Альфред Жарри» составляет проект постановки пьесы Августа Стриндберга «Соната призраков». Персонажи воображаемого спектакля двойственны:
Постоянно кажется, что персонажи находятся на грани исчезновения, чтобы уступить место своим собственным символам (II, 128).
Переход персонажа в некое иное качество, благодаря актерскому и режиссерскому решению, исходит из символистских театральных концепций. Но в проекте уже просматривается новое решение театральной реальности – возникновение сущностного мира, преодоление субъективной обыденной формы непосредственно на сцене, здесь и сейчас.
В книге «Театр и его Двойник» тень — это не только обобщенно-архетипическое воплощение вещи, это и целостность, обладающая первопричиной, изначально творческой энергией. И вновь напрашивается вывод, что наибольшая близость в понимании тени обнаруживается у Арто с Анри Бергсоном. Философ, в связи с рассуждениями о мана, дает вполне каббалистическое толкование тени:
Если первоначально было принципиально признано, что тень тела сохраняется, ничто не может помешать оставить за ней первопричину, сообщающую телу деятельную силу. Мы получаем активную, деятельную тень, способную влиять на человеческие дела[18].
Развивая понятие тени, Арто соотносит его с творчеством актера. Рождающийся на сцене каждый раз заново жест, движение, насыщенное жизнью, разрушают привычные бытовые и театральные схемы. Сметая внешние оболочки, актер порождает тень, обладающую формообразующей силой.
Язык театра многогранен. Актер использует все языки, не укладываясь ни в один из них. Перечисляя их (язык жеста, язык слова…) Арто называет язык огня. Это понятно – тень рождается при наличии источника света. Но какова природа огня?
…Когда мы произносим слово «жизнь», надо понимать, что речь идет не о той жизни, которую узнают по внешней стороне событий, а о том робком, мечущемся огне, с которым не соприкасаются отдельные формы (IV, 18).
В конце статьи «Театр и культура» возникает яркая метафора костра, сжигающего формы, и фигура осужденного на костер. Эта метафора так остро поразила воображение режиссеров – наследников Арто, что стала едва ли не символом всей системы. Например, последняя фраза статьи в изложении Ежи Гротовского в его знаменитой статье «Он не был полностью самим собой, или О театре Жестокости» звучит так:
Актеры должны быть подобны мученикам, сжигаемым на кострах – они еще подают нам знаки со своих пылающих столбов[19].
Здесь происходит перемещение акцента. У Арто творческий акт направлен на самого себя, а отнюдь не на создание внешней формы. Важен процесс сгорания, но в то же время это не самоцель. У Гротовского важен не сам процесс сжигания, а подаваемый нам знак, рассчитанный на восприятие. Арто полагал, что естество «сжигаемого» само родит архетипический иероглиф. В действительности фраза Арто буквально следующая:
И если есть еще в наше время что-то сатанинское и воистину окаянное, так это пристрастие задержаться – по праву художника – на форме, вместо того, чтобы, как осужденные на костер, благословить свое пожарище (IV, 18).
Актер крюотического театра не благословляет свое пожарище, не посылает знаки с пылающих столбов. Задерживаясь на формах он, вероятно, «улавливает манас, силу, дремлющую во всякой форме», и которая
выходит наружу только в результате магического отождествления себя с этими формами (IV, 16).
Не менее емкий образ, выраженный почти теми же словами, что у Арто, предложил Андрей Белый, описывая в 1925 году Михаила Чехова в роли Гамлета:
Его игра – сжигание заметного кончика жизни[20].
Остается подлинная жизнь, которая незаметна, невидима.
Пожалуй, именно в этом глубинная близость двух великих современников. Исследователь творчества М. Чехова Лийса Бюклинг отмечает, наряду с существенными различиями, принципиальное сходство исканий М. Чехова и Арто:
обоих театральных новаторов объединяла идея обновления театра во имя чистой театральности и поиски «телесных» знаков, то есть театрального выразительного языка. Можно найти параллели между экспериментом Чехова и мышлением Арто. Арто – одновременно с Чеховым – стремился вернуться к истокам театра, что приводило к сопоставлению западной культуры с далекими от нее культурами[21].
Думается, что действительное сближение двух художников касается не их мышления и их театральных концепций, а именно их актерского творчества
Обобщая идеи «активной культуры», способы воздействия энергетических сил, сжигание форм и рождение тени, Арто использует противопоставление заинтересованной и незаинтересованной (фр. «desinteressee») культур:
Подлинная культура противопоставляет нашей пассивной и незаинтересованной концепции искусства свою концепцию, магическую и безудержно эгоистическую, то есть заинтересованную (IV, 15).
Арто называет современную культуру «незаинтересованной», но выдвигает идею незаинтересованного действия, то есть своего рода активности, преодоления покоя, но все же «незаинтересованного».
Вероятно, под идеей незаинтересованного действия подразумевается тенденция развития европейской культуры рубежа XIX–XX веков, выраженная, в частности, в концепции «статичного театра» М. Метерлинка. Арто, типологически связанный с французским символизмом, глубоко воспринял принципы этого художественного направления: отказ от внешнего действия способствует раскрытию крайне напряженного действия внутреннего, объектом внимания оказываются не внешние факты, а событийный ряд глубинного трагического конфликта. Арто в предисловии к метерлинковским «Двенадцати песням» писал:
Действие является принципом самой жизни, Метерлинк соблазнился оживить эти формы состояния чистой мысли. Пелеас, Тентажиль, Мелисанда – это зримые фигуры таких необыденных чувств (I, 217).
Прозревая театр будущего, Арто видел в основе его действие. Именно с его помощью театр способен открыть смысл жизни, саму жизнь.
Надо верить, что Театр может вернуть нам смысл жизни, преобразив его; тогда человек станет бесстрашным владыкой того, что еще не существует, и поможет ему обрести существование (IV, 18).
Глава вторая
Театр и архетип
Композиция книги. Двухчастное строение сборника «Театр и его Двойник». «Театр и чума». Чума как аналог актерского творчества. Театр – путь к подлинной реальности. Тотальная личность и отказ от субъективной индивидуальности. Возможность практического применения системы Арто. Чума и театр в «Граде Божьем» Августина Блаженного. Предварительное определение понятия Жестокость. «Аннабелла» Джона Форда – пример пьесы крюотического театра. «Символ-тип» Арто и «архетип» Юнга. Архетип соляного столпа. Две реальности – повседневная и художественная. Использование Арто катартической концепции Аристотеля. Безусловность сценической реальности крюотического театра. Уточнение Мерабом Мамардашвили катартического процесса в театре Арто. Преодоление формы и возникновение «Ничто» в развязке спектакля. «Ничто» у М. Хайдеггера.
Статьи, помещенные автором в сборник «Театр и его Двойник», расположены не по времени написания. Композиция книги сложна и строго продумана. Совершенно очевидно деление статей книги на две примерно равные части. Разделение на части нигде не отмечено автором, но строение книги не позволяет в этом сомневаться. Статьи, следующие за предисловием, рассматривают художественные произведения прошлого и архаические формы культуры, постоянно соотнося их с современной театральной ситуацией. Это статьи «Театр и чума», «Режиссура и метафизика», «Алхимический театр», «О балийском театре», «Восточный театр и западный театр». Некоторое подведение итогов, общие выводы и постановка новых проблем – в заключительной статье первой части – «Пора покончить с шедеврами».
Вторая часть открывается программной статьей общего характера – «Театр и Жестокость», частично связанной с предыдущей статьей. Далее следуют два манифеста «Крюотический театр», несколько Писем о Жестокости и о языке, объясняющие основные положения манифестов, статья «Аффективный атлетизм» и две рецензии, помещенные в Приложении. Таким образом, собственная театральная программа изложена во второй части, в первой же части развернута система мировоззрений, расширяющая театр до пределов человеческого познания. И именно такое понимание театра лежит в основании оригинальной театральной системы Арто.
Первая половина книги затрагивает принципиальные вопросы глобального характера, проецируя их на понятие театра как такового. Одновременно предваряется разговор о конкретном пути создания театра в современных условиях (другое дело, что речь здесь идет о создании идеального театра, то есть о задаче в чистом виде невыполнимой, но формирующей общий принцип будущего театрального развития).
Сразу после предисловия автора, в сборнике помещена статья «Театр и чума», опубликованная впервые 1 октября 1934 года в «Нувель Ревю Франсез» и написанная на основе лекции, прочитанной 6 апреля 1933 года в Сорбонне. В ней Арто подробно описывает различные формы чумы, стадии ее протекания и феномен воздействия чумы вне логики пространства и времени. Чума рассматривается как аналогия творческой ситуации, раскрывающей духовный потенциал человека. Болезни, эпидемия устанавливают особую связь между людьми, не соответствующую прямолинейной логике обыденного действия.
Уже в «Театре и культуре» читатель встречает упоминание о распространении болезни, как пример магического воздействия на сознание:
На каком-нибудь острове, не имеющем никаких контактов с современной цивилизацией, простое прохождение вблизи берегов судна, имеющего на борту абсолютно здоровых пассажиров, может вызвать вспышку заболеваний, прежде на острове неизвестных и являющихся принадлежностью наших краев… (IV, 14).
Этот образ детально развернут в «Театре и чуме». Арто описывает случай, произошедший с Сен-Реми, вице-королем Сардинии, которому в 1720 году приснился сон, в котором его королевство охвачено эпидемией чумы. Под воздействием сна вице-король отдает абсурдный приказ не пускать в порт корабль «Святой Антоний», приплывший из Бейрута, а в случае несогласия «Святого Антония» – потопить его. Через двадцать дней корабль прибывает в Марсель, и в городе, где уже существовала болезнь, вспыхивает пожар восточной чумы.
Почти все исследователи творчества Арто иллюстрируют этим и последующими многочисленными описаниями чумы экзотичность театральных взглядов режиссера. Однако здесь велика опасность впасть в прямолинейность трактовки, сводящейся к мысли об эпатаже и провоцировании читателя. Подобный мотив имеет место в эстетике Арто, но он не главный.
Так же как не первостепенно восприятие болезни в качестве метафоры актерской игры.
Пожалуй, главное в сравнении Арто – это констатация неких духовных связей, возникающих между актером и зрителем. Эти связи столь же реальны, как и тонкие связи в распространении чумы. И те и другие внешне хаотичны, но управляемы неким высшим смыслом.
В истории марсельской чумы для Арто привлекательна прежде всего фигура вице-короля Сардинии:
Между ним и чумой установилась какая-то пусть тонкая, но ощутимая связь, – слишком легко говорить, что такая болезнь переносится путем простого контакта. Эта связь Сен-Реми с чумой, достаточно сильная, чтобы вылиться в образах его сновидения, оказывается, однако, не столь сильна, чтобы вызвать в нем признаки болезни (IV, 21).
Арто устанавливает как бы две стадии погружения в невидимые духовные связи. Первая – восприятие явлений во сне, вторая – реальное включение в происходящие где-то процессы. Воображение актера вызывает реальный процесс (в данном случае – болезнь). Вице-король Сен-Реми, не будучи актером, способен лишь увидеть образ чумы. Актер же способен ее воспринять на любом расстоянии: не воссоздать чуму, а заразиться ею. Отсюда выводятся критерии актерского искусства. Жизнь актера на сцене реальна, более того – безусловна. В идеале действие актера является архетипическим, воздействующим на подсознание зрителя и заставляющим катартически переживать творческий акт.
Но дело не ограничивается способностью актера «заразиться». Невидимые связи имеют и обратное направление. Способность «заразиться» обращается способностью воздействовать на внешние процессы. Эта идея воспринята Арто из каббалистического учения, провозглашающего способность человека влиять через ритуал на божественные процессы.
Причиной эпидемий и великих социальных потрясений могут быть случайные и необдуманные действия людей.
На политическом или космическом уровне такого рода явления предшествуют катастрофам и бедствиям или следуют сразу за ними, причем те, кто их вызывает, обычно слишком глупы, чтобы их предвидеть, но не так уж извращены, чтобы действительно желать подобных результатов.
Каковы бы ни были заблуждения историков и врачей насчет чумы, я считаю, что можно согласиться с представлением о болезни как некой психической сущности, которую просто вирус привнести не в состоянии. Если поближе рассмотреть все случаи заражения чумой, которые предлагают нам история и мемуары, то нелегко выделить хотя бы один действительно бесспорный факт заражения через контакт… (IV, 23).
Рассматривая различные примеры возникновения и распространения чумы (эпидемия в Японии VII в. до н. э., афинская эпидемия V в. до н. э., чума 1337 года во Флоренции, чума 1502 года в Провансе и другие), Арто приходит к выводу о невозможности определения географических истоков, подлинных причин возникновения, логики гибели или выздоровления.
В той духовной свободе, с которой развивается чума, без крыс, без микробов и без контактов, можно увидеть игру какого-то непреложного и мрачного спектакля (IV, 28).
Арто описывает грандиозную сцену – город, зараженный чумой. Главное действующее лицо – чума, декорация – пирамиды трупов, загромождающие улицы. Театральное освещение – костры, на которых сжигаются трупы и которые горят у каждого дома. По ходу действия происходят стычки семейств на фоне костров. Потом сцена пустеет, оставшиеся жители покидают город. Но потом сцена вновь наполняется странными существами – больными, выползшими из домов. Болезнь «высвобождает себя в праздничных всплесках духа». (Ну как не вспомнить здесь: «Итак, – хвала тебе, чума, ⁄ Нам не страшна могилы тьма…» – только у Пушкина Вальсингам противостоит чуме своими «бешеными песнями», а персонажи Арто отдаются стихии чумы и в ней находят освобождение.)
Вот тут и начинается настоящий театр. Театр как открытая немотивированность (gratuite immediate), побуждающая к действиям, не имеющим ни пользы, ни выгоды для практической жизни (IV, 29–30).
Нет, это не метафора сильного художественного воздействия и не реальность, преображенная экстремальной ситуацией. Это иная реальность, не подражающая обыденности, и не имеющая для обычной жизни никакого значения.
Подлинная реальность проявляется, когда властвует чума. Или театр. По силе воздействия они равны, если, конечно, говорить о подлинном театре. Главное, что хотел прокричать Арто в первой статье сборника (не считая предисловия): театр – это опасное занятие. Опасность его в том, что человек оказывается один на один с реальностью, без обманной логичности повседневной жизни, без той маски, которую носит человек всю жизнь не живя, а играя личность. Чтобы сделать шаг к реальности, нужна большая жертва, нужна Жестокость.
Но если нужна большая беда, чтобы выявить столь безудержное своеволие и если эту беду называют чумой, то, может быть, удастся определить, что значит это своеволие для нашей тотальной личности (notre personnalite totale) (IV, 30).
«Тотальная личность» – еще одно важнейшее понятие крюотического театра, которое, однако, специально не формулируется и упоминается крайне редко. Основная идея крюотического театра (не как театральной системы, а как пути реализации человеческого предназначения) заключается в снятии субъективной индивидуальности, то есть в переходе от произвольного субъективизма к высшей, безличной объективности. Такая направленность содержится, собственно, уже в аристотелевской теории катарсиса: переход от частного к общему, от индивидуального к сверхличностному. В XX веке проблема личности стала во главу угла. Ницше поставил вопрос об утрате человеческих идеалов, утрате человека как такового и о тенденции развития общества к сверхчеловеку, а сознания – к сверхсознанию. Новые духовные связи, обнаружение неизвестных психических ресурсов и преодоление личностного становится возможным не только в творческом акте, но и в обыденной жизни (об этом впервые заявил Метерлинк). В этом смысле Арто стремится создать практическую программу для реализации тенденций, теоретически обозначенных Ницше.
Если система Арто – программа осуществления идеи Ницше, то это вовсе не значит, что в ней содержится возможность прямого перенесения на театральную практику.
Для этого необходима адаптация – слишком уж глобальна и широка программа Арто. Практические методы осуществления этой программы могут быть различны: спектакли непосредственных учеников Арто Жана-Луи Барро и Роже Блена, деятельность руководителей Ливинг Тиэтра («The Living Théâtre») Джулиана Бека и Джудит Малины, но прежде всего – «бедный театр» Ежи Гротовского. Гротовский воспринял две идеи Арто в качестве главных: отказ от условностей повседневной жизни ради обнажения подлинной реальности, и преодоление субъективной индивидуальности актером и зрителем. Конечно, на пути практического осуществления неизбежны существенные потери.
Арто противопоставляет тотальной личности состояние больного чумой и своеволие актера.
Состояние больного чумой, который умирает с непораженными тканями, неся на себе клеймо абсолютного и почти абстрактного зла, совпадает с состоянием актера, целиком подвластного контролю потрясающих его чувств, без всякой на то выгоды для обыденной жизни (IV, 30).
Арто проводит принципиальное разграничение между не связанными между собой обыденной жизнью и подлинной человеческой сущностью. Ю. М. Лотман в статье «Феномен искусства», подразумевая под реальностью обыденную повседневность, писал:
Подлинная сущность не может раскрыться в реальности, Искусство переносит человека в мир свободы и этим раскрывает возможности его поступков[22].
То, что к концу XX века уже не вызывает недоумения, во времена Арто воспринималось с трудом. Повседневность воспринималась либо как отражение сущностного мира (символизм), либо как единственная реальность (позитивизм), либо как материал для преображения творческой индивидуальностью (сюрреализм). Арто предложил нечто совсем иное: подлинная реальность объективно существует, но она не имеет никакого отношения к тому повседневному произволу, где господствует обыденная логика; подлинная реальность заключена в самом человеке, но она раскрывается в нем только через свободное изъявление внеличностного содержания.
Таким образом, Арто решительно выступает против современного «миметического» понимания искусства, то есть его способности подражать жизни. Но это вовсе не значит, что Арто противоречит принципу мимесиса в его аристотелевском понимании: искусство «подражает» внечеловеческой ноологической сущности, а не бытовым формам жизни.
Создав развернутый образ чумы как пример обнаружения этой жестокой реальности, Арто максимально расширяет границы образа. В этом ему помогает не кто иной, как Аврелий Августин Блаженный, который также использовал образ чумы как болезни, разрушающей душу. Арто приводит цитаты из основного сочинения Августина— «Града Божьего», написанного под впечатлением разграбления Рима ордами варваров под предводительством Алариха в 410 году. В своем сочинении Августин противопоставляет два вида человеческой общности: духовную общность «Града Божьего», построенного на любви к богу, и обыденную плотскую общность «града земного», построенного на себялюбии и корысти.
Христианский философ, в отличие от Арто, клеймит театр, как проявление язычества. Арто цитирует его слова, направленные против античных богов:
…все сценические игрища и непристойные спектакли были учреждены в Риме не из-за порочности людей, но по приказу ваших богов. Было бы более разумным воздать божественные почести Сципиону, нежели подобным богам; конечно они не стоили своего верховного жреца!.. Чтобы усмирить чуму, убивающую тела, ваши боги требуют в свою честь устройства сценических игрищ, а ваш верховный жрец, желая избежать чумы, развращающей души, противится строительству сцены (IV, 32).
Августин имеет в виду Публия Корнелия Сципиона Насику, прозванного «Corculum» («Разумный»). В 159 году до н. э. он был избран цензором, а в 155 году до н. э. консулом Римской республики. В это же время по решению городских властей стало впервые возводиться театральное здание. Сципион Насика добился постановления сената о разрушении строящегося театра как «вредоносного для римских нравов». Представления, как и прежде, разыгрывались на театральных помостах. Только через сто лет, в 55 году до н. э., был построен первый в Риме театр Помпея.
Активное неприятие Августином античного театра идет в русле общей борьбы отцов церкви первых веков христианства с формами языческого искусства. Причины этого понятны, однако следует помнить, что ко времени Августина основные трагические и комические жанры давно прекратили свое существование. То, что называлось театром, представляло собой либо развлекательные и жестокие зрелища, либо незначительные малые формы. Возможно, у Арто имеет место перекличка отрицания театра Августином с его собственным неприятием современного ему театра. Но главная причина обращения к Августину иная.
Августин объявляет действие театра столь сильным, что страсть охватывает людей, делая их безумными. Чума поражает тело, считает теолог, театр поражает душу, его воздействие более опасное и неотвратимое. Августин
относит театр к предметам, вредным для человеческой души, возбуждающим ненужные и беспричинные страсти[23],
– считает современный исследователь христианской эстетики. Арто, конечно, не принимает разрушительной оценки театрального воздействия, но для него важно, что даже Августин признает эту неведомую силу:
Августин Блаженный в своей книге ни на миг не подвергает сомнению реальность такого колдовства. При определенных условиях можно вызвать в сознании человека зрелищные образы, способные его околдовать, – и здесь дело не только в искусстве (IV, 33).
Арто через Августина Блаженного максимально расширяет границы идеи театра, но вместе с тем подводит читателя к стержневой проблеме театра (театра в широком понимании), к проблеме, которой будет посвящена вторая часть сборника. Если пораженный болезнью человек – материализация хаоса, то мир, наполненный конфликтами и катастрофами, представляется Арто также пораженным болезнью. Но оказывается, это лишь формальное воплощение хаоса, а не результат творческой стихии. Описываемая ранее чума – нечто иное, это чума, в которой заключена идея театра. Болезнь, «проходя через театр», разряжается, хаос уступает место гармонии. Болезнь мира излечивается через чуму театра.
Внешние события, политические конфликты, природные катаклизмы, программность революции и хаос войны, проходя через театр, разряжаются в чувствах тех людей, которые смотрят на них, будто захваченные эпидемией (IV, 32).
Для искоренения болезни необходима не микстура, необходим очистительный огонь, пожарище чумного города. Теперь Арто утверждает, что сходство чумы и театра не ограничивается тотальным воздействием на массы внебытовой логикой стихии.
В театре, как и в чуме, есть нечто победное и мстительное одновременно. Стихийный пожар, который чума разжигает на своем пути, очевидно, не что иное, как безграничное очищение.
Полный социальных крах, органический хаос, избыток порока, какое-то всеобщее заклинание демонов, которое теснит душу и доводит ее до крайности, – все это говорит о наличии предельной силы, в которой живо сходится вся мощь природы в тот момент, когда она собирается совершить что-то значительное (IV, 33).
Такая характеристика еще пока не названной, лишь в общих чертах обрисованной «предельной силы» указывает на основное понятие артодианского театра – Жестокость. Болезнь мира излечивается Жестокостью, ее очистительным огнем. И хотя слово «жестокость» еще не прозвучало в книге, Арто готовит читателя именно к нему. Чтобы противостоять обыденному миру с его жестокой логикой и изолированностью человека, необходимо не противопоставление ему, а преодоление через решительный волевой поступок, требующий «предельной силы».
Жестокость – многогранное понятие Арто, требующее отдельного рассмотрения, но уже очевидно, что оно – адекватная реакция на жестокость мира. Эта вселенская жестокость, лежащая в основе мироустройства и показана в статье «Театр и чума». Такое видение не является уникальным, наоборот, оно чрезвычайно распространено в первой трети XX века. Подобная характеристика встречается в поэзии уже упомянутого нами Николая Гумилева, которая интересна еще и тем, что воспринимается поэтом тоже в театральном аспекте. Я имею в виду прежде всего известное стихотворение Н. Гумилева «Театр».
Мир предстает здесь грандиозным театральным представлением, на котором все – «смешные актеры». Трубят ангельские трубы и каждый играет свою роль в рамках того спектакля, который заказали зрители – Господь Бог и Дева Мария. Божественные зрители сверяются с либретто – не вышел ли кто за границы предназначенного ему амплуа («Гамлет? Он должен быть бледным. ⁄ Каин? Тот должен быть грубым…») А далее:
- Жаль, если Каин рыдает,
- Гамлет изведает счастье!
- Так не должно быть по плану!
- Чтобы блюсти упущенья,
- Боли, глухому титану,
- Вверил он ход представленья.
- Боль вознеслася горою,
- Хитрой раскинулась сетью,
- Всех, утомленных игрою,
- Хлещет кровавою плетью.
Н. Гумилев, в отличие от Арто, однозначно определяет первопричину такого мироустройства – божественный порядок, построенный на жестокости и принуждении. И эта жестокость мира не знает пределов, продолжает усиливаться («Множатся пытки и казни…»). Развитие мира держится только на наличии боли и кровавой плети, управляющей желаниями, судьбами и историческими процессами. Физическое ощущение истории роднит Н. Гумилева и Арто.
Заканчивается стихотворение грандиозным вопросом, подобно безответному вопросу Сальери в конце «Маленькой трагедии» Пушкина. У Н. Гумилева:
- Что, коль не кончится праздник
- В театре Господа Бога?!
В вопросе явственно просматривается необходимость прекращения этого божественного порядка. Тревога возникает не от боли и несправедливости, а от ощущения бесконечности раз и навсегда заведенного порядка. Конечно, у Н. Гумилева нет того адекватного противодействия жестокости, которое все время подразумевается в книге Арто, но с какой поэтической точностью создан образ жестокого мира-театра. Идея театрализации жизни, существенная для Н. Гумилева, Н. Евреинова и многих художников начала XX века, для Арто естественна и не акцентируется нисколько. Зато разрушение «божественного» миропорядка возможно для Арто только через Театр, а не через, например, революцию, как полагали сюрреалисты.
Поэтому примером Жестокости, противостоящей жестокости мира, становится в «Театре и чуме» драматургическое произведение. Трагедия яркого представителя позднего английского Возрождения Джона Форда «Как жаль ее развратницей назвать», известная в континентальных странах под названием «Аннабелла», органично воспринимается на фоне костров чумы, описанных в статье, и становится первым прообразом крюотического театра:
Ясно, что страстный пример Форда – всего лишь символ гораздо большей по масштабу и чрезвычайно важной работы (IV, 37).
Пьеса Джона Форда, написанная в 1633 году, стала одной из главных причин яростных нападок пуритан на театр, хранивший традиции высокого ренессансного искусства. Борьба эта закончилась закрытием лондонских театров в 1640-е годы и завершением великой театральной эпохи. Хотя действие пьесы разворачивается в католической Италии, утверждающее новые ценности буржуазное сознание не могло смириться с появлением на сцене героев, отдающихся своей любви, невзирая ни на какие моральные обстоятельства. Читателям 1930-х годов «Аннабелла» была хорошо известна, так как существовала в переводе Мориса Метерлинка, выполненном в 1895 году для постановки О.-М. Люнье-По в символистском театре Эвр.
Метерлинк акцентировал в пьесе мотив ожидания смерти, столь близкий его творчеству, и преображения человека в трагической ситуации. Арто, типологически продолжающий символизм, акцентирует в пьесе другие моменты – проявление нескольких типов жестокости, в частности, жестокости как «акции протеста». Джованни, главный герой пьесы, любящий непреодолимой взаимной любовью свою сестру Аннабеллу, становится для Арто воплощением героического (и жестокого), оправдывающего любые действия против лживого мира. Любовь создала их друг для друга и противиться этой стихии они не в силах. Кроме того, важен мотив слияния преступления и благодеяния, извращения и подвига. Преступление, совершаемое Джованни и Аннабеллой, становится основой страсти, страсти очищающей. Для пьесы характерно противопоставление обыденной реальности, с ее кровавостью, миру людей, сметающих любые преграды на пути очищающей страсти.
Несколько сюжетных линий трагедии – своеобразного шедевра жанра «кровавой драмы» – сплетаются в тугой узел бесконечных заговоров, измен, убийств, отравлений. Это мир, где каждый грешен (включая алчного кардинала и подразумевая папу), каждый обречен на преступление, которое, в свою очередь, рождает следующее. Преступление Аннабеллы и Джованни, внешне подобное другим, имеет иную природу. Их любовь – протест миру «повседневных» преступлений, их любовь – та сила, которая этот мир разрушит.
По мысли Арто, Джованни – существо, призванное направить все свои силы на протест против заведенного миропорядка.
Оно ни минуты не колеблется, ни минуты не сомневается и этим показывает, сколь мало значат все преграды, которые могут возникнуть у него на пути. Оно преступно, но сохраняет геройство, оно исполнено героизма, но с дерзостью и вызовом. Все толкает его в одном направлении и воспламеняет душу, нет для него ни земли, ни неба, – только сила его судорожной страсти, на которую не может не ответить тоже мятежная и тоже героическая страсть Аннабеллы. «Я плачу, – говорит она, – но не от угрызений совести, а от страха, что не смогу утолить свою страсть». Оба героя фальшивы, лицемерны, лживы, во имя своей нечеловеческой страсти, которую законы ограничивают и стесняют, но которую они смогут поставить выше законов (IV, 35).
Говоря о пьесе Форда, Арто определил ее уникальное место среди елизаветинской драматургии: изначальная порочность и лживость ситуации (любовь брата и сестры, вступление Аннабеллы в брак, чтобы скрыть рождение внебрачного ребенка) оборачиваются утверждением высшей духовности. В финальных сценах, где любовники обличены, развязка конфликта очевидна, но герои делают все, чтобы максимально усугубить трагическую развязку и свои страдания. Через кровавые события развязки, через самоуничтожение героев искупается изначальная порочность мира.
Аннабелла, согласившаяся выйти замуж за Соранцо, не в состоянии скрывать свою любовь. Унижения и оскорбления, обрушившиеся на нее, вызывают у Аннабеллы лишь презрение к своим палачам. Она находит способ сообщить возлюбленному о грозящей опасности, но, несмотря на предупреждение, он устремляется в логово врага. Джованни приходит на торжество, зная, что это ловушка. Влюбленные клянутся, что они найдут друг друга после смерти. Джованни закалывает сестру, затем он приходит на пир с кинжалом, на острие которого наколото сердце Аннабеллы, затем убивает Соранцо, а сам погибает от руки слуги Васкеса с именем Аннабеллы на устах. Джованни
сумеет подняться над местью и преступлением благодаря новому преступлению, страстному и неописуемому, он преодолеет страх и ужас благодаря большему ужасу, который одним махом сбивает с ног законы, нормы морали и тех людей, у кого хватает смелости выступить в качестве судей (IV, 36).
Трагедия Форда «Как жаль ее развратницей назвать» стала для Арто моделью пьесы для крюотического театра. Задача драматургии видится Арто следующим образом:
Настоящая театральная пьеса будит спящие чувства, она высвобождает угнетенное бессознательное, толкает к какому-то скрытому бунту, которым, кстати, сохраняет свою ценность только до тех пор, пока остается скрытым и внушает собравшейся публике героическое и трудное состояние духа (IV, 34).
Высвобождая бессознательное, такая пьеса – и театр в целом – «завладевает действием и доводит его до предела», то есть заставляет работать сознание таким образом, что оно откликается на подсознательные действенные модели, таящиеся в глубине сознания. Они становятся понятны, и театр говорит со зрителем на языке глубинных взаимосвязей.
Помимо общеупотребимого абстрактного понятия «образ», Арто вводит новое понятие – «символ-тип». Театр, считает Арто,
вновь обретает понимание образов и символов-типов (symboles-types), которые действуют как внезапная пауза, как пик оргии, как зажим артерии, как зов жизненных соков, как лихорадочное мелькание образов в мозгу человека, когда его резко разбудят. Все конфликты, которые в нас дремлют, театр возвращает нам вместе со всеми их движущими силами, он называет эти силы по имени, и мы с радостью узнаем в них символы. И вот пред нами разыгрывается битва символов, которые бросаются друг на друга с неслыханным грохотом, – ведь театр начинается только с того момента, когда действительно начинает происходить что-то невозможное и когда выходящая на сцену поэзия поддерживает и согревает воплотившиеся символы (IV, 34).




















