Читать онлайн Государь. О военном искусстве бесплатно
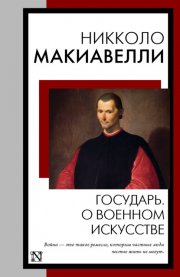
© Перевод. Г. Муравьева, 2015
© ООО «Издательство АСТ», 2023
Государь
Никколо Макиавелли —
его светлости Лоренцо деи Медичи[1]
Обыкновенно, желая снискать милость правителя, люди посылают ему в дар то, что имеют самого дорогого или чем надеются доставить ему наибольшее удовольствие, а именно: коней, оружие, парчу, драгоценные камни и прочие украшения, достойные величия государей. Я же, вознамерившись засвидетельствовать мою преданность Вашей светлости, не нашел среди того, чем владею, ничего более дорогого и более ценного, нежели познания мои в том, что касается деяний великих людей, приобретенные мною многолетним опытом в делах настоящих и непрестанным изучением дел минувших. Положив много времени и усердия на обдумывание того, что я успел узнать, я заключил свои размышления в небольшом труде, который посылаю в дар Вашей светлости. И хотя я полагаю, что сочинение это недостойно предстать перед вами, однако же верю, что по своей снисходительности вы удостоите принять его, зная, что не в моих силах преподнести вам дар больший, нежели средство в кратчайшее время постигнуть то, что сам я узнавал ценой многих опасностей и тревог. Я не заботился здесь ни о красоте слога, ни о пышности и звучности слов, ни о каких внешних украшениях и затеях, которыми многие любят расцвечивать и уснащать свои сочинения, ибо желал, чтобы мой труд либо остался в безвестности, либо получил признание единственно за необычность и важность предмета. Я желал бы также, чтобы не сочли дерзостью то, что человек низкого и ничтожного звания берется обсуждать и направлять действия государей. Как художнику, когда он рисует пейзаж, надо спуститься в долину, чтобы охватить взглядом холмы и горы, и подняться на гору, чтобы охватить взглядом долину, так и здесь: чтобы постигнуть сущность народа, надо быть государем, а чтобы постигнуть природу государей, надо принадлежать к народу.
Пусть же Ваша светлость примет сей скромный дар с тем чувством, какое движет мною; если вы соизволите внимательно прочитать и обдумать мой труд, вы ощутите, сколь безгранично я желаю Вашей светлости достичь того величия, которое сулит вам судьба и ваши достоинства. И если с той вершины, куда вознесена Ваша светлость, взор ваш когда-либо обратится на ту низменность, где я обретаюсь, вы увидите, сколь незаслуженно терплю я великие и постоянные удары судьбы.
Глава I
Скольких видов бывают государства и как они приобретаются
Все государства, все державы, обладавшие или обладающие властью над людьми, были и суть либо республики, либо государства, управляемые единовластно. Последние могут быть либо унаследованными – если род государя правил долгое время, либо новыми. Новым может быть либо государство в целом – таков Милан для Франческо Сфорца; либо его часть, присоединенная к унаследованному государству вследствие завоевания, – таково Неаполитанское королевство для короля Испании. Новые государства разделяются на те, где подданные привыкли повиноваться государям, и те, где они искони жили свободно; государства приобретаются либо своим, либо чужим оружием, либо милостью судьбы, либо доблестью.
Глава II О наследственном единовластии
Я не стану касаться республик, ибо подробно говорю о них в другом месте. Здесь я перейду прямо к единовластному правлению и, держась намеченного выше порядка, разберу, какими способами государи могут управлять государствами и удерживать над ними власть.
Начну с того, что наследному государю, чьи подданные успели сжиться с правящим домом, гораздо легче удержать власть, нежели новому, ибо для этого ему достаточно не преступать обычая предков и впоследствии без поспешности применяться к новым обстоятельствам. При таком образе действий даже посредственный правитель не утратит власти, если только не будет свергнут особо могущественной и грозной силой, но и в этом случае он отвоюет власть при первой же неудаче завоевателя.
У нас в Италии примером тому может служить герцог Феррарский, который удержался у власти после поражения, нанесенного ему венецианцами в 1484 году и папой Юлием в 1510-м, только потому, что род его исстари правил в Ферраре. Ибо у государя, унаследовавшего власть, меньше причин и меньше необходимости притеснять подданных, почему они и платят ему большей любовью, и если он не обнаруживает чрезмерных пороков, вызывающих ненависть, то закономерно пользуется благорасположением граждан. Давнее и преемственное правление заставляет забыть о бывших некогда переворотах и вызвавших их причинах, тогда как всякая перемена прокладывает путь другим переменам.
Глава III О смешанных государствах
Трудно удержать власть новому государю. И даже наследному государю, присоединившему новое владение – так что государство становится как бы смешанным, – трудно удержать над ним власть прежде всего вследствие той же естественной причины, какая вызывает перевороты во всех новых государствах. А именно: люди, веря, что новый правитель окажется лучше, охотно восстают против старого, но вскоре они на опыте убеждаются, что обманулись, ибо новый правитель всегда оказывается хуже старого. Что опять-таки естественно и закономерно, так как завоеватель притесняет новых подданных, налагает на них разного рода повинности и обременяет их постоями войска, как это неизбежно бывает при завоевании. И таким образом наживает врагов в тех, кого притеснил, и теряет дружбу тех, кто способствовал завоеванию, ибо не может вознаградить их в той степени, в какой они ожидали, но не может и применить к ним крутые меры, будучи им обязан – ведь без их помощи он не мог бы войти в страну, как бы ни было сильно его войско. Именно по этим причинам Людовик XII, король Франции, быстро занял Милан и так же быстро его лишился. И герцогу Лодовико потому же удалось в тот раз отбить Милан собственными силами. Ибо народ, который сам растворил перед королем ворота, скоро понял, что обманулся в своих упованиях и расчетах, и отказался терпеть гнет нового государя.
Правда, если мятежная страна завоевана повторно, то государю легче утвердить в ней свою власть, так как мятеж дает ему повод с меньшей оглядкой карать виновных, уличать подозреваемых, принимать защитные меры в наиболее уязвимых местах. Так в первый раз Франция сдала Милан, едва герцог Лодовико пошумел на его границах, но во второй раз Франция удерживала Милан до тех пор, пока на нее не ополчились все итальянские государства и не рассеяли и не изгнали ее войска из пределов Италии, что произошло по причинам, названным выше. Тем не менее Франция оба раза потеряла Милан. Причину первой неудачи короля, общую для всех подобных случаев, я назвал; остается выяснить причину второй и разобраться в том, какие средства были у Людовика – и у всякого на его месте, – чтобы упрочить завоевание верней, чем то сделала Франция.
Начну с того, что завоеванное и унаследованное владения могут принадлежать либо к одной стране и иметь один язык, либо к разным странам и иметь разные языки. В первом случае удержать завоеванное нетрудно, в особенности если новые подданные и раньше не знали свободы. Чтобы упрочить над ними власть, достаточно искоренить род прежнего государя, ибо при общности обычаев и сохранении старых порядков ни от чего другого не может произойти беспокойства. Так, мы знаем, обстояло дело в Бретани, Бургундии, Нормандии и Гаскони, которые давно вошли в состав Франции; правда, языки их несколько различаются, но благодаря сходству обычаев они мирно уживаются друг с другом. В подобных случаях завоевателю следует принять лишь две меры предосторожности: во-первых, проследить за тем, чтобы род прежнего государя был искоренен, во-вторых, сохранить прежние законы и подати – тогда завоеванные земли в кратчайшее время сольются в одно целое с исконным государством завоевателя.
Но если завоеванная страна отличается от унаследованной по языку, обычаям и порядкам, то тут удержать власть поистине трудно, тут требуется и большая удача, и большое искусство. И одно из самых верных и прямых средств для этого – переселиться туда на жительство. Такая мера упрочит и обезопасит завоевание – именно так поступил с Грецией турецкий султан, который, как бы ни старался, не удержал бы Грецию в своей власти, если бы не перенес туда свою столицу. Ибо только живя в стране, можно заметить начинающуюся смуту и своевременно ее пресечь, иначе узнаешь о ней тогда, когда она зайдет так далеко, что поздно будет принимать меры. Обосновавшись в завоеванной стране, государь, кроме того, избавит ее от грабежа чиновников, ибо подданные получат возможность прямо взывать к суду государя – что даст послушным больше поводов любить его, а непослушным бояться. И если бы кто-нибудь из соседей замышлял нападение, то теперь он проявит большую осторожность, так что государь едва ли лишится завоеванной страны, если переселится туда на жительство.
Другое отличное средство – учредить в одном-двух местах колонии, связующие новые земли с государством завоевателя. Кроме этой, есть лишь одна возможность – разместить в стране значительное количество кавалерии и пехоты. Колонии не требуют больших издержек, устройство и содержание их почти ничего не стоят государю, и разоряют они лишь тех жителей, чьи поля и жилища отходят новым поселенцам, то есть горстку людей, которые, обеднев и рассеявшись по стране, никак не смогут повредить государю; все же прочие останутся в стороне и поэтому скоро успокоятся, да, кроме того, побоятся, оказав непослушание, разделить участь разоренных соседей. Так что колонии дешево обходятся государю, верно ему служат и разоряют лишь немногих жителей, которые, оказавшись в бедности и рассеянии, не смогут повредить государю. По каковому поводу уместно заметить, что людей следует либо ласкать, либо изничтожать, ибо за малое зло человек может отомстить, а за большое – не может; из чего следует, что наносимую человеку обиду надо рассчитать так, чтобы не бояться мести. Если же вместо колоний поставить в стране войско, то содержание его обойдется гораздо дороже и поглотит все доходы от нового государства, вследствие чего приобретение обернется убытком; к тому же от этого пострадает гораздо больше людей, так как постои войска обременяют все население, отчего каждый, испытывая тяготы, становится врагом государю, а такие враги могут ему повредить, ибо хотя они и побеждены, но остаются у себя дома. Итак, с какой стороны ни взгляни, содержание подобного гарнизона вредно, тогда как учреждение колоний полезно.
В чужой по обычаям и языку стране завоевателю следует также сделаться главой и защитником более слабых соседей и постараться ослабить сильных, а кроме того, следить за тем, чтобы в страну как-нибудь не проник чужеземный правитель, не уступающий ему силой. Таких всегда призывают недовольные внутри страны по избытку честолюбия или из страха, – так некогда римлян в Грецию призвали этолийцы, да и во все другие страны их тоже призывали местные жители. Порядок же вещей таков, что, когда могущественный государь входит в страну, менее сильные государства сразу примыкают к нему – обычно из зависти к тем, кто превосходит их силой, – так что ему нет надобности склонять их в свою пользу, ибо они сами охотно присоединятся к созданному им государству. Надо только не допускать, чтобы они расширялись и крепли, и тогда, своими силами и при их поддержке, нетрудно будет обуздать более крупных правителей и стать полновластным хозяином в данной стране. Если же государь обо всем этом не позаботится, он скоро лишится завоеванного, но до того претерпит бесчисленное множество трудностей и невзгод.
Римляне, завоевывая страну, соблюдали все названные правила: учреждали колонии, покровительствовали слабым, не давая им, однако, войти в силу; обуздывали сильных и принимали меры к тому, чтобы в страну не проникло влияние могущественных чужеземцев. Ограничусь примером Греции. Римляне привлекли на свою сторону ахейцев и этолийцев; унизили Македонское царство; изгнали оттуда Антиоха. Но невзирая ни на какие заслуги, не позволили ахейцам и этолийцам расширить свои владения, не поддались на лесть Филиппа и не заключили с ним союза, пока не сломили его могущества, и не уступили напору Антиоха, домогавшегося владений в Греции. Римляне поступали так, как надлежит поступать всем мудрым правителям, то есть думали не только о сегодняшнем дне, но и о завтрашнем и старались всеми силами предотвратить возможные беды, что нетрудно сделать, если вовремя принять необходимые меры, но если дожидаться, пока беда грянет, то никакие меры не помогут, ибо недуг станет неизлечимым.
Здесь происходит то же самое, что с чахоткой: врачи говорят, что в начале эту болезнь трудно распознать, но легко излечить; если же она запущена, то ее легко распознать, но излечить трудно. Так же и в делах государства: если своевременно обнаружить зарождающийся недуг, что дано лишь мудрым правителям, то избавиться от него нетрудно, но если он запущен так, что всякому виден, то никакое снадобье уже не поможет.
Римляне, предвидя беду заранее, тотчас принимали меры, а не бездействовали из опасения вызвать войну, ибо знали, что войны нельзя избежать, можно лишь оттянуть ее – к выгоде противника. Поэтому они решились на войну с Филиппом и Антиохом на территории Греции – чтобы потом не пришлось воевать с ними в Италии. В то время еще была возможность избежать войны как с тем, так и с другим, но они этого не пожелали. Римлянам не по душе была поговорка, которая не сходит с уст теперешних мудрецов: полагайтесь на благодетельное время, – они считали благодетельным лишь собственную доблесть и дальновидность. Промедление же может обернуться чем угодно, ибо время приносит с собой как зло, так и добро, как добро, так и зло.
Но вернемся к Франции и посмотрим, выполнила ли она хоть одно из названных мною условий. Я буду говорить не о Карле, а о Людовике – он дольше удерживался в Италии, поэтому его образ действия для нас нагляднее, – и вы убедитесь, что он поступал прямо противоположно тому, как должен поступать государь, чтобы удержать власть над чужой по обычаям и языку страной.
Король Людовик вошел в Италию благодаря венецианцам, которые, желая расширить свои владения, потребовали за помощь половину Ломбардии. Я не виню короля за эту сделку: желая ступить в Италию хоть одной ногой и не имея в ней союзников, в особенности после того, как по милости Карла перед Францией захлопнулись все двери, он вынужден был заключать союзы, не выбирая. И он мог бы рассчитывать на успех, если бы не допустил ошибок впоследствии. Завоевав Ломбардию, он сразу вернул Франции престиж, утраченный ею при Карле: Генуя покорилась, флорентийцы предложили союз; маркиз Мантуанский, герцог Феррарский, дом Бентивольо, графиня Форли, властители Фаэнцы, Пезаро, Римини, Камерино, Пьомбино; Лукка, Пиза, Сиена – все устремились к Людовику с изъявлениями дружбы. Тут-то венецианцам и пришлось убедиться в опрометчивости своего шага: ради двух городов в Ломбардии они отдали под власть короля две трети Италии.
Рассудите теперь, как легко было королю закрепить свое преимущество: для этого надо было лишь следовать названным правилам и обеспечить безопасность союзникам: многочисленные, но слабые, в страхе кто перед Церковью, кто перед венецианцами, они вынуждены были искать его покровительства; он же мог бы через них обезопасить себя от тех, кто еще оставался в силе. И, однако, не успел он войти в Милан, как предпринял обратное: помог папе Александру захватить Романью. И не заметил, что этим самым подрывает свое могущество, отталкивает союзников и тех, кто вверился его покровительству, и к тому же значительно укрепляет светскую власть папства, которое и без того крепко властью духовной. Совершив первую ошибку, он вынужден был дальше идти тем же путем, так что ему пришлось самому явиться в Италию, чтобы обуздать честолюбие Александра и не дать ему завладеть Тосканой. Но Людовику как будто мало было того, что он усилил Церковь и оттолкнул союзников: домогаясь Неаполитанского королевства, он разделил его с королем Испании, то есть призвал в Италию, где сам был властелином, равного по силе соперника, – как видно, затем, чтобы недовольным и честолюбцам было у кого искать прибежища. Изгнав короля, который мог стать его данником, он призвал в королевство государя, который мог изгнать его самого.
Поистине страсть к завоеваниям – дело естественное и обычное; и тех, кто учитывает при этом свои возможности, все одобрят или же никто не осудит; но достойную осуждения ошибку совершает тот, кто не учитывает своих возможностей и стремится к завоеваниям какой угодно ценой. Франции стоило бы попытаться овладеть Неаполем, если бы она могла сделать это своими силами, но она не должна была добиваться его ценою раздела. Если раздел Ломбардии с венецианцами еще можно оправдать тем, что он позволил королю утвердиться в Италии, то этот второй раздел достоин лишь осуждения, ибо не может быть оправдан подобной необходимостью.
Итак, Людовик совершил общим счетом пять ошибок: изгнал мелких правителей, помог усилению сильного государя внутри Италии, призвал в нее чужеземца, равного себе могуществом, не переселился в Италию, не учредил там колоний.
Эти пять ошибок могли бы оказаться не столь уж пагубными при его жизни, если бы он не совершил шестой: не посягнул на венецианские владения. Венеции следовало дать острастку до того, как он помог усилению Церкви и призвал испанцев, но, совершив обе эти ошибки, нельзя было допускать разгрома Венеции. Оставаясь могущественной, она удерживала бы других от захвата Ломбардии – как потому, что сама имела на нее виды, так и потому, что никто не захотел бы вступать в войну с Францией за то, чтобы Ломбардия досталась Венеции, а воевать с Францией и Венецией одновременно ни у кого не хватило бы духу. Если же мне возразят, что Людовик уступил Романью Александру, а Неаполь – испанскому королю, дабы избежать войны, я отвечу прежними доводами, а именно: что нельзя попустительствовать беспорядку ради того, чтобы избежать войны, ибо войны не избежишь, а преимущество в войне утратишь. Если же мне заметят, что король был связан обещанием папе: в обмен на расторжение королевского брака и кардинальскую шапку архиепископу Руанскому помочь захватить Романью, – то я отвечу на это в той главе, где речь пойдет об обещаниях государей и о том, каким образом следует их исполнять.
Итак, король Людовик потерял Ломбардию только потому, что отступил от тех правил, которые соблюдались государями, желавшими удержать завоеванную страну. И в этом нет ничего чудесного, напротив, все весьма обычно и закономерно. Я говорил об этом в Нанте с кардиналом Руанским, когда Валентино – так в просторечии звали Чезаре Борджа, сына папы Александра, – покорял Романью: кардинал заметил мне, что итальянцы мало смыслят в военном деле, я отвечал ему, что французы мало смыслят в политике, иначе они не допустили бы такого усиления Церкви. Как показал опыт, Церковь и Испания благодаря Франции расширили свои владения в Италии, а Франция благодаря им потеряла там все. Отсюда можно извлечь вывод, многократно подтверждавшийся: горе тому, кто умножает чужое могущество, ибо оно добывается умением или силой, а оба эти достоинства не вызывают доверия у того, кому могущество достается.
Глава IV
Почему царство Дария, завоеванное Александром, не восстало против преемников Александра после его смерти
Рассмотрев, какого труда стоит удержать власть над завоеванным государством, можно лишь подивиться, почему вся держава Александра Великого – после того, как он в несколько лет покорил Азию и вскоре умер, – против ожидания не только не распалась, но мирно перешла к его преемникам, которые в управлении ею не знали других забот, кроме тех, что навлекали на себя собственным честолюбием. В объяснение этого надо сказать, что все единовластно управляемые государства, сколько их было на памяти людей, разделяются на те, где государь правит в окружении слуг, которые милостью и соизволением его поставлены на высшие должности и помогают ему управлять государством, и те, где государь правит в окружении баронов, властвующих не милостью государя, но в силу древности рода. Бароны эти имеют наследные государства и подданных, каковые признают над собой их власть и питают к ним естественную привязанность. Там, где государь правит посредством слуг, он обладает большей властью, так как по всей стране подданные знают лишь одного властелина; если же повинуются его слугам, то лишь как чиновникам и должностным лицам, не питая к ним никакой особой привязанности.
Примеры разного образа правления являют в наше время турецкий султан и французский король. Турецкая монархия повинуется одному властелину; все прочие в государстве – его слуги; страна поделена на округи – санджаки, куда султан назначает наместников, которых меняет и переставляет, как ему вздумается. Король Франции, напротив, окружен многочисленной родовой знатью, признанной и любимой своими подданными и, сверх того, наделенной привилегиями, на которые король не может безнаказанно посягнуть.
Если мы сравним эти государства, то увидим, что монархию султана трудно завоевать, но по завоевании легко удержать; и напротив, такое государство, как Франция, в известном смысле проще завоевать, но зато удержать куда сложнее. Державой султана нелегко овладеть потому, что завоеватель не может рассчитывать на то, что его призовет какой-либо местный властитель, или на то, что мятеж среди приближенных султана облегчит ему захват власти. Как сказано выше, приближенные султана – его рабы, и так как они всем обязаны его милостям, то подкупить их труднее, но и от подкупленных от них было бы мало толку, ибо по указанной причине они не могут увлечь за собой народ. Следовательно, тот, кто нападает на султана, должен быть готов к тому, что встретит единодушный отпор, и рассчитывать более на свои силы, чем на чужие раздоры. Но если победа над султаном одержана и войско его наголову разбито в открытом бою, завоевателю некого более опасаться, кроме разве кровной родни султана. Если же и эта истреблена, то можно никого не бояться, так как никто другой не может увлечь за собой подданных; и как до победы не следовало надеяться на поддержку народа, так после победы не следует его опасаться.
Иначе обстоит дело в государствах, подобных Франции: туда нетрудно проникнуть, вступив в сговор с кем-нибудь из баронов, среди которых всегда найдутся недовольные и охотники до перемен. По указанным причинам они могут открыть завоевателю доступ в страну и облегчить победу. Но удержать такую страну трудно, ибо опасность угрожает как со стороны тех, кто тебе помог, так и со стороны тех, кого ты покорил силой. И тут уж недостаточно искоренить род государя, ибо всегда останутся бароны, готовые возглавить новую смуту; а так как ни удовлетворить их притязания, ни истребить их самих ты не сможешь, то они при первой же возможности лишат тебя власти.
Если мы теперь обратимся к государству Дария, то увидим, что оно сродни державе султана, почему Александр и должен был сокрушить его одним ударом, наголову разбив войско Дария в открытом бою. Но после такой победы и гибели Дария он, по указанной причине, мог не опасаться за прочность своей власти. И преемники его могли бы править, не зная забот, если бы жили во взаимном согласии: никогда в их государстве не возникало других смут, кроме тех, что сеяли они сами.
Тогда как в государствах, устроенных наподобие Франции, государь не может править столь беззаботно. В Испании, Франции, Греции, где было много мелких властителей, то и дело вспыхивали восстания против римлян. И пока живо помнилось прежнее устройство, власть Рима оставалась непрочной; но по мере того, как оно забывалось, римляне, благодаря своей мощи и продолжительности господства, все прочнее утверждали свою власть в этих странах. Так что позднее, когда римляне воевали между собой, каждый из соперников вовлекал в борьбу те провинции, где был более прочно укоренен. И местные жители, чьи исконные властители были истреблены, не признавали над собой других правителей, кроме римлян.
Если мы примем все это во внимание, то сообразим, почему Александр с легкостью удержал азиатскую державу, тогда как Пирру и многим другим стоило огромного труда удержать завоеванные ими страны. Причина тут не в большей или меньшей доблести победителя, а в различном устройстве завоеванных государств.
Глава V
Как управлять городами или государствами, которые, до того как были завоеваны, жили по своим законам
Если, как сказано, завоеванное государство с незапамятных времен живет свободно и имеет свои законы, то есть три способа его удержать. Первый – разрушить; второй – переселиться туда на жительство; третий – предоставить гражданам право жить по своим законам, при этом обложив их данью и вверив правление небольшому числу лиц, которые ручались бы за дружественность города государю. Эти доверенные лица будут всячески поддерживать государя, зная, что им поставлены у власти и сильны только его дружбой и мощью. Кроме того, если не хочешь подвергать разрушению город, привыкший жить свободно, то легче всего удержать его при посредстве его же граждан, чем каким-либо другим способом.
Обратимся к примеру Спарты и Рима. Спартанцы удерживали Афины и Фивы, создав там олигархию, однако впоследствии потеряли оба города. Римляне, чтобы удержать Капую, Карфаген и Нуманцию, разрушили их и сохранили их в своей власти. Грецию они попытались удержать почти тем же способом, что спартанцы, то есть установили там олигархию и не отняли свободу и право жить по своим законам, однако же потерпели неудачу и, чтобы не потерять всю Грецию, вынуждены были разрушить в ней многие города.
Ибо в действительности нет способа надежно овладеть городом иначе, как подвергнув его разрушению. Кто захватит город, с давних пор пользующийся свободой, и пощадит его, того город не пощадит. Там всегда отыщется повод для мятежа во имя свободы и старых порядков, которых не заставят забыть ни время, ни благодеяния новой власти. Что ни делай, как ни старайся, но если не разъединить и не рассеять жителей города, они никогда не забудут ни прежней свободы, ни прежних порядков и при первом удобном случае попытаются их возродить, как сделала Пиза через сто лет после того, как подпала под владычество флорентийцев.
Но если город или страна привыкли состоять под властью государя, а род его истреблен, то жители города не так-то легко возьмутся за оружие, ибо, с одной стороны, привыкнув повиноваться, с другой – не имея старого государя, они не сумеют ни договориться об избрании нового, ни жить свободно. Так что у завоевателя будет достаточно времени, чтобы расположить их к себе и тем обеспечить себе безопасность.
Тогда как в республиках больше жизни, больше ненависти, больше жажды мести; в них никогда не умирает и не может умереть память о былой свободе. Поэтому самое верное средство удержать их в своей власти – разрушить их или же в них поселиться.
Глава VI
О новых государствах, приобретаемых собственным оружием или доблестью
Нет ничего удивительного в том, что, говоря о завоевании власти, о государе и государстве, я буду ссылаться на примеры величайших мужей. Люди обычно идут путями, проложенными другими, и действуют, подражая какому-либо образцу, но так как невозможно ни неуклонно следовать этими путями, ни сравняться в доблести с теми, кого мы избираем за образец, то человеку разумному надлежит избирать пути, проложенные величайшими людьми, и подражать наидостойнейшим, чтобы если не сравняться с ними в доблести, то хотя бы исполниться ее духа. Надо уподобиться опытным стрелкам, которые, если видят, что мишень слишком удалена, берут гораздо выше, но не для того, чтобы стрела ушла вверх, а для того, чтобы, зная силу лука, с помощью высокого прицела попасть в отдаленную цель.
Итак, в новых государствах удержать власть бывает легче или труднее в зависимости от того, сколь велика доблесть нового государя. Может показаться, что если частного человека приводит к власти либо доблесть, либо милость судьбы, то они же в равной мере помогут ему преодолеть многие трудности впоследствии. Однако в действительности кто меньше полагался на милость судьбы, тот дольше удерживался у власти. Еще облегчается дело и благодаря тому, что новый государь, за неимением других владений, вынужден поселиться в завоеванном.
Но, переходя к тем, кто приобрел власть не милостью судьбы, а личной доблестью, как наидостойнейших я назову Моисея, Кира, Тезея и им подобных. И хотя о Моисее нет надобности рассуждать, ибо он был лишь исполнителем воли Всевышнего, однако следует преклониться перед той благодатью, которая сделала его достойным собеседовать с Богом. Но обратимся к Киру и прочим завоевателям и основателям царства: их величию нельзя не дивиться, и, как мы видим, дела их и установления не уступают тем, что были внушены Моисею свыше. Обдумывая жизнь и подвиги этих мужей, мы убеждаемся в том, что судьба послала им только случай, то есть снабдила материалом, которому можно было придать любую форму: не явись такой случай, доблесть их угасла бы, не найдя применения; не обладай они доблестью, тщетно явился бы случай.
Моисей не убедил бы народ Израиля следовать за собой, дабы выйти из неволи, если бы не застал его в Египте в рабстве и угнетении у египтян. Ромул не стал бы царем Рима и основателем государства, если бы не был по рождении брошен на произвол судьбы и если бы Альба не оказалась для него слишком тесной. Кир не достиг бы такого величия, если бы к тому времени персы не были озлоблены господством мидян, а мидяне – расслаблены и изнежены от долгого мира. Тезей не мог бы проявить свою доблесть, если бы не застал афинян живущими обособленно друг от друга. Итак, каждому из этих людей выпал счастливый случай, но только их выдающаяся доблесть позволила им раскрыть смысл случая, благодаря чему отечества их прославились и обрели счастье.
Кто, подобно этим людям, следует путем доблести, тому трудно завоевать власть, но легко ее удержать; трудность же состоит прежде всего в том, что им приходится вводить новые установления и порядки, без чего нельзя основать государство и обеспечить себе безопасность. А надо знать, что нет дела, коего устройство было бы труднее, ведение опаснее, а успех сомнительнее, нежели замена старых порядков новыми. Кто бы ни выступал с подобным начинанием, его ожидает враждебность тех, кому выгодны старые порядки, и холодность тех, кому выгодны новые. Холодность же эта объясняется отчасти страхом перед противником, на чьей стороне – законы; отчасти недоверчивостью людей, которые на самом деле не верят в новое, пока оно не закреплено продолжительным опытом. Когда приверженцы старого видят возможность действовать, они нападают с ожесточением, тогда как сторонники нового обороняются вяло, почему, опираясь на них, подвергаешь себя опасности.
Чтобы основательнее разобраться в этом деле, надо начать с того, самодостаточны ли такие преобразователи или они зависят от поддержки со стороны; иначе говоря, должны ли они для успеха своего начинания упрашивать или могут применить силу. В первом случае они обречены, во втором, то есть если они могут применить силу, им редко грозит неудача. Вот почему все вооруженные пророки побеждали, а все безоружные гибли. Ибо, в добавление к сказанному, надо иметь в виду, что нрав людей непостоянен, и если обратить их в свою веру легко, то удержать в ней трудно. Поэтому надо быть готовым к тому, чтобы, когда вера в народе иссякнет, заставить его поверить силой. Моисей, Кир, Ромул и Тезей, будь они безоружны, не могли бы добиться длительного соблюдения данных ими законов. Как оно и случилось в наши дни с фра Джироламо Савонаролой: введенные им порядки рухнули, как только толпа перестала в них верить, у него же не было средств утвердить в вере тех, кто еще верил ему, и принудить к ней тех, кто уже не верил.
На пути людей, подобных тем, что я здесь перечислил, встает множество трудностей и множество опасностей, для преодоления которых требуется великая доблесть. Но если цель достигнута, если государь заслужил признание подданных и устранил завистников, то он на долгое время обретает могущество, покой, почести и счастье.
К столь высоким примерам я хотел бы присовокупить пример более скромный, однако же сопоставимый, и думаю, что его здесь достаточно. Я говорю о Гиероне Сиракузском: из частного лица он стал царем Сиракуз, хотя судьба не одарила его ничем, кроме благоприятного случая: угнетаемые жители Сиракуз избрали его своим военачальником, он же, благодаря своим заслугам, сделался их государем. Еще до возвышения он отличался такой доблестью, что, по словам древнего автора, «nihil illi deerat ad regnandum praeter regnum»[2]. Он упразднил старое ополчение и набрал новое, расторг старые союзы и заключил новые. А на таком фундаменте, как собственное войско и собственные союзники, он мог воздвигнуть любое здание. Так что ему великих трудов стоило завоевать власть и малых – ее удержать.
Глава VII
О новых государствах, приобретаемых чужим оружием или милостью судьбы
Тогда как тем, кто становится государем милостью судьбы, а не благодаря доблести, легко приобрести власть, но удержать ее трудно. Как бы перелетев весь путь к цели, они сталкиваются с множеством трудностей впоследствии. Я говорю о тех гражданах, которым власть досталась за деньги или была пожалована в знак милости. Такое нередко случалось в Греции в городах Ионии и Геллеспонта, куда Дарий назначал правителей ради своей славы и безопасности; так нередко бывало и в Риме, где частные лица добивались провозглашения себя императорами, подкупая солдат.
В этих случаях государи всецело зависят от воли и фортуны тех, кому обязаны властью, то есть от двух сил крайне непостоянных и прихотливых; удержаться же у власти они не могут и не умеют. Не умеют оттого, что человеку без особых дарований и доблести, прожившему всю жизнь в скромном звании, негде научиться повелевать; не могут оттого, что не имеют союзников и надежной опоры. Эти невесть откуда взявшиеся властители, как все в природе, что нарождается и растет слишком скоро, не успевают пустить ни корней, ни ответвлений, почему и гибнут от первой же непогоды. Только тот, кто обладает истинной доблестью, при внезапном возвышении сумеет не упустить того, что фортуна сама вложила ему в руки, то есть сумеет, став государем, заложить те основания, которые другие закладывали до того, как достигнуть власти.
Обе эти возможности возвыситься – благодаря доблести или милости судьбы – я покажу на двух примерах, равно нам памятных: я имею в виду Франческо Сфорца и Чезаре Борджа. Франческо стал миланским герцогом должным образом, выказав великую доблесть, и без труда удержал власть, доставшуюся ему ценой многих усилий. Чезаре Борджа, простонародьем называемый герцог Валентино, приобрел власть благодаря фортуне, высоко вознесшей его отца; но, лишившись отца, он лишился и власти, несмотря на то что, как человек умный и доблестный, приложил все усилия и все старания, какие были возможны, к тому, чтобы пустить прочные корни в государствах, добытых для него чужим оружием и чужой фортуной. Ибо, как я уже говорил, если основания не заложены заранее, то при великой доблести это можно сделать и впоследствии, хотя бы ценой многих усилий зодчего и с опасностью для всего здания.
Рассмотрев образ действий герцога, нетрудно убедиться в том, что он подвел прочное основание под будущее могущество, и я считаю не лишним это обсудить, ибо не мыслю лучшего наставления новому государю. И если все же распорядительность герцога не спасла его от крушения, то в этом повинен не он, а поистине необычайное коварство фортуны.
Александр VI желал возвысить герцога, своего сына, но предвидел тому немало препятствий и в настоящем, и в будущем. Прежде всего он знал, что располагает лишь теми владениями, которые подвластны Церкви, но всякой попытке отдать одно из них герцогу воспротивились бы как герцог Миланский, так и венецианцы, которые уже взяли под свое покровительство Фаэнцу и Римини. Кроме того, войска в Италии, особенно те, к чьим услугам можно было прибегнуть, сосредоточились в руках людей, опасавшихся усиления папы, то есть Орсини, Колонна и их приспешников. Таким образом, прежде всего надлежало расстроить сложившийся порядок и посеять смуту среди государств, дабы беспрепятственно овладеть некоторыми из них. Сделать это оказалось легко благодаря тому, что венецианцы, в собственных интересах, призвали в Италию французов, чему папа не только не помешал, но даже содействовал, расторгнув прежний брак короля Людовика.
Итак, король вступил в Италию с помощью венецианцев и с согласия Александра и, едва достигнув Милана, тотчас выслал папе отряд, с помощью которого тот захватил Романью, что сошло ему с рук только потому, что за ним стоял король. Таким образом Романья оказалась под властью герцога, а партии Колонна было нанесено поражение, но пока что герцог не мог следовать дальше, ибо оставалось два препятствия: во-первых, войско, казавшееся ему ненадежным, во-вторых, намерения Франции. Иначе говоря, он опасался, что войско Орсини, которое он взял на службу, выбьет у него почву из-под ног, то есть либо покинет его, либо, того хуже, отнимет завоеванное; и что точно так же поступит король. В солдатах Орсини он усомнился после того, как, взяв Фаэнцу, двинул их на Болонью и заметил, что они вяло наступают; что же касается короля, то он понял его намерения, когда после взятия Урбино двинулся к Тоскане, и тот вынудил его отступить. Поэтому герцог решил более не рассчитывать ни на чужое оружие, ни на чье-либо покровительство.
Первым делом он ослабил партии Орсини и Колонна в Риме: всех нобилей, державших их сторону, переманил к себе на службу, определив им высокие жалованья, и, сообразно достоинствам, раздал места в войске и управлении, так что в несколько месяцев они отстали от своих партий и обратились в приверженцев герцога. После этого он стал выжидать возможности разделаться с главарями партии Орсини, еще раньше покончив с Колонна. Случай представился хороший, а воспользовался он им и того лучше. Орсини, спохватившиеся, что усиление Церкви грозит им гибелью, собрались на совет в Маджоне, близ Перуджи. Этот совет имел мнoжecтвo грозных последствий для герцога – прежде всего бунт в Урбино и возмущение в Романье, с которыми он, однако, справился благодаря помощи французов.
Восстановив прежнее влияние, герцог решил не доверять более ни Франции, ни другой внешней силе, чтобы впредь не подвергать себя опасности, и прибег к обману. Он так отвел глаза Орсини, что те сначала примирились с ним через посредство синьора Паоло – которого герцог принял со всевозможными изъявлениями учтивости и одарил одеждой, лошадьми и деньгами, – а потом в Синигалии сами простодушно отдались ему в руки. Так, разделавшись с главарями партий и переманив к себе их приверженцев, герцог заложил весьма прочное основание своего могущества: под его властью находилась вся Романья с герцогством Урбино, и, что особенно важно, он был уверен в приязни к нему народа, испытавшего благодетельность его правления.
Эта часть действий герцога достойна внимания и подражания, почему я желал бы остановиться на ней особо. До завоевания Романья находилась под властью ничтожных правителей, которые не столько пеклись о своих подданных, сколько обирали их и направляли не к согласию, а к раздорам, так что весь край изнемогал от грабежей, усобиц и беззаконий. Завоевав Романью, герцог решил отдать ее в надежные руки, дабы умиротворить и подчинить верховной власти, и с тем вручил всю полноту власти мессеру Рамиро де Орко, человеку нрава резкого и крутого. Тот в короткое время умиротворил Романью, пресек распри и навел трепет на всю округу. Тогда герцог рассудил, что чрезмерное сосредоточение власти больше не нужно, ибо может озлобить подданных, и учредил, под председательством почтенного лица, гражданский суд, в котором каждый город был представлен защитником. Но, зная, что минувшие строгости все-таки настроили против него народ, он решил обелить себя и расположить к себе подданных, показав им, что если и были жестокости, то в них повинен не он, а его суровый наместник. И вот однажды утром на площади в Чезене по его приказу положили разрубленное пополам тело мессера Рамиро де Орко рядом с колодой и окровавленным мечом. Свирепость этого зрелища одновременно удовлетворила и ошеломила народ.
Но вернемся к тому, от чего мы отклонились. Итак, герцог обрел собственных солдат и разгромил добрую часть тех войск, которые в силу соседства представляли для него угрозу, чем утвердил свое могущество и отчасти обеспечил себе безопасность; теперь на его пути стоял только король Франции: с опозданием заметив свою оплошность, король не потерпел бы дальнейших завоеваний. Поэтому герцог стал высматривать новых союзников и уклончиво вести себя по отношению к Франции – как раз тогда, когда французы предприняли поход на Неаполь против испанцев, осаждавших Гаэту. Он задумывал развязаться с Францией, и ему бы это весьма скоро удалось, если бы дольше прожил папа Александр.
Таковы были действия герцога, касавшиеся настоящего. Что же до будущего, то главную угрозу для него представлял возможный преемник Александра, который мог бы не только проявить недружественность, но и отнять все то, что герцогу дал Александр. Во избежание этого он задумал четыре меры предосторожности: во-первых, истребить разоренных им правителей вместе с семействами, чтобы не дать новому папе повода выступить в их защиту; во-вторых, расположить к себе римских нобилей, чтобы с их помощью держать в узде будущего преемника Александра; в-третьих, иметь в Коллегии кардиналов как можно больше своих людей; в-четвертых, успеть до смерти папы Александра расширить свои владения настолько, чтобы самостоятельно выдержать первый натиск извне. Когда Александр умер, у герцога было исполнено три части замысла, а четвертая была близка к исполнению. Из разоренных им правителей он умертвил всех, до кого мог добраться, и лишь немногим удалось спастись; римских нобилей он склонил в свою пользу; в Коллегии заручился поддержкой большей части кардиналов. Что же до расширения владений, то, задумав стать властителем Тосканы, он успел захватить Перуджу и Пьомбино и взять под свое покровительство Пизу. К этому времени он мог уже не опасаться Франции – после того как испанцы окончательно вытеснили французов из Неаполитанского королевства, тем и другим приходилось покупать дружбу герцога, так что еще шаг – и он завладел бы Пизой. После чего тут же сдались бы Сиена и Лукка, отчасти из страха, отчасти назло флорентийцам; и сами флорентийцы оказались бы в безвыходном положении. И все это могло бы произойти еще до конца того года, в который умер папа Александр, и если бы произошло, то герцог обрел бы такое могущество и влияние, что не нуждался бы ни в чьем покровительстве и не зависел бы ни от чужого оружия, ни от чужой фортуны, но всецело от собственной доблести и силы. Однако герцог впервые обнажил меч всего за пять лет до смерти отца. И успел упрочить власть лишь над одним государством – Романьей, оставшись на полпути к обладанию другими, зажатый между двумя грозными неприятельскими армиями и смертельно больной.
Но столько было в герцоге яростной отваги и доблести, так хорошо умел он привлекать и устранять людей, так прочны были основания его власти, заложенные им в столь краткое время, что он превозмог бы любые трудности – если бы его не теснили с двух сторон враждебные армии или не донимала болезнь. Что власть его покоилась на прочном фундаменте, в этом мы убедились: Романья дожидалась его больше месяца; в Риме, находясь при смерти, он, однако, пребывал в безопасности: Бальони, Орсини и Вителли, явившиеся туда, так никого и не увлекли за собой; ему удалось добиться того, чтобы папой избрали если не именно того, кого он желал, то по крайней мере не того, кого он не желал. Не окажись герцог при смерти тогда же, когда умер папа Александр, он с легкостью одолел бы любое препятствие. В дни избрания Юлия II он говорил мне, что все предусмотрел на случай смерти отца, для всякого положения нашел выход, одного лишь не угадал – что в это время и сам окажется близок к смерти.
Обозревая действия герцога, я не нахожу, в чем можно было бы его упрекнуть; более того, мне представляется, что он может послужить образцом всем тем, кому доставляет власть милость судьбы или чужое оружие. Ибо, имея великий замысел и высокую цель, он не мог действовать иначе: лишь преждевременная смерть Александра и собственная его болезнь помешали ему осуществить намерение. Таким образом, тем, кому необходимо в новом государстве обезопасить себя от врагов, приобрести друзей, побеждать силой или хитростью, внушать страх и любовь народу, а солдатам – послушание и уважение, иметь преданное и надежное войско, устранять людей, которые могут или должны повредить; обновлять старые порядки, избавляться от ненадежного войска и создавать свое, являть суровость и милость, великодушие и щедрость и, наконец, вести дружбу с правителями и королями, так чтобы они либо с учтивостью оказывали услуги, либо воздерживались от нападений, – всем им не найти для себя примера более наглядного, нежели деяния герцога.
В одном лишь можно его обвинить – в избрании Юлия главой Церкви. Тут он ошибся в расчете, ибо если он не мог провести угодного ему человека, он мог, как уже говорилось, отвести неугодного; а раз так, то ни в коем случае не следовало допускать к папской власти тех кардиналов, которые были им обижены в прошлом или, в случае избрания, могли бы бояться его в будущем. Ибо люди мстят либо из страха, либо из ненависти. Среди обиженных им были Сан Пьетро ин Винкула, Колонна, Сан Джорджо, Асканио; все остальные, взойдя на престол, имели бы причины его бояться. Исключение составляли испанцы и кардинал Руанский, те – в силу родственных уз и обязательств, этот – благодаря могуществу стоявшего за ним Французского королевства. Поэтому в первую очередь надо было позаботиться об избрании кого-нибудь из испанцев, а в случае невозможности – кардинала Руанского, но уж никак не Сан Пьетро ин Винкула. Заблуждается тот, кто думает, что новые благодеяния могут заставить великих мира сего позабыть о старых обидах.
Так что герцог совершил оплошность, которая в конце концов и привела его к гибели.
Глава VIII
О тех, кто приобретает власть злодеяниями
Но есть еще два способа сделаться государем – не сводимые ни к милости судьбы, ни к доблести; и опускать их, как я полагаю, не стоит, хотя об одном из них уместнее рассуждать там, где речь идет о республиках. Я разумею случаи, когда частный человек достигает верховной власти путем преступлений либо в силу благоволения к нему сограждан. Говоря о первом способе, я сошлюсь на два случая – один из древности, другой из современной жизни – и тем ограничусь, ибо полагаю, что и этих двух достаточно для тех, кто ищет примера.
Сицилиец Агафокл стал царем Сиракуз, хотя вышел не только из простого, но из низкого и презренного звания. Он родился в семье горшечника и вел жизнь бесчестную, но смолоду отличался такой силой духа и телесной доблестью, что, вступив в войско, постепенно выслужился до претора Сиракуз. Утвердясь в этой должности, он задумал сделаться властителем Сиракуз и таким образом присвоить себе то, что было ему вверено по доброй воле. Посвятив в этот замысел Гамилькара Карфагенского, находившегося в то время в Сицилии, он созвал однажды утром народ и сенат Сиракуз, якобы для решения дел, касающихся республики; и когда все собрались, то солдаты его по условленному знаку перебили всех сенаторов и богатейших людей из народа. После такой расправы Агафокл стал властвовать, не встречая ни малейшего сопротивления со стороны граждан. И хотя он был дважды разбит карфагенянами и даже осажден их войском, он не только не сдал город, но, оставив часть людей защищать его, с другой – вторгся в Африку; в короткое время освободил Сиракузы от осады и довел карфагенян до крайности, так что они вынуждены были заключить с ним договор, по которому ограничивались владениями в Африке и уступали Агафоклу Сицилию.
Вдумавшись, мы не найдем в жизни и делах Агафокла ничего или почти ничего, что бы досталось ему милостью судьбы, ибо, как уже говорилось, он достиг власти не чьим-либо покровительством, но службой в войске, сопряженной с множеством опасностей и невзгод, и удержал власть смелыми действиями, проявив решительность и отвагу. Однако же нельзя назвать и доблестью убийство сограждан, предательство, вероломство, жестокость и нечестивость: всем этим можно стяжать власть, но не славу. Так что, если судить о нем по той доблести, с какой он шел навстречу опасности, по той силе духа, с какой он переносил невзгоды, то едва ли он уступит любому прославленному военачальнику, но, памятуя его жестокость и бесчеловечность и все совершенные им преступления, мы не можем приравнять его к величайшим людям. Следовательно, нельзя приписать ни милости судьбы, ни доблести то, что было добыто без того и другого.
Уже в наше время, при папе Александре, произошел другой случай. Оливеротто из Фермо, в младенчестве осиротевший, вырос в доме дяди с материнской стороны по имени Джованни Фольяни; еще в юных летах он вступил в военную службу под начало Паоло Вителли, с тем чтобы, освоившись с военной наукой, занять почетное место в войске. По смерти Паоло он перешел под начало брата его Вителлоццо и весьма скоро, как человек сообразительный, сильный и храбрый, стал первым лицом в войске. Однако, полагая унизительным подчиняться другим, он задумал овладеть Фермо – с благословения Вителли и при пособничестве нескольких сограждан, которым рабство отечества было милее его свободы. В письме к Джованни Фольяни он объявил, что желал бы после многолетнего отсутствия навестить дядю и родные места, а заодно определить размеры наследства; что в трудах своих он не помышляет ни о чем, кроме славы, и, желая доказать согражданам, что не впустую растратил время, испрашивает позволения въехать с почетом – со свитой из ста всадников, его друзей и слуг, пусть, мол, жители Фермо тоже не откажут ему в почетном приеме, что было бы лестно не только ему, но и дяде его, заменившему ему отца. Джованни Фольяни исполнил все, как просил племянник, и позаботился о том, чтобы горожане встретили его с почестями. Тот, поселившись в собственном доме, выждал несколько дней, пока закончатся приготовления к задуманному злодейству, и устроил торжественный пир, на который пригласил Джованни Фольяни и всех именитых людей Фермо. После того как покончили с угощениями и с принятыми в таких случаях увеселениями, Оливеротто с умыслом повел опасные речи о предприятиях и величии папы Александра и сына его Чезаре. Но когда Джованни и другие стали ему отвечать, он вдруг поднялся и, заявив, что подобные разговоры лучше продолжить в укромном месте, удалился внутрь покоев, куда за ним последовал дядя и другие именитые гости. Не успели они, однако, сесть, как из засады выскочили солдаты и перебили всех, кто там находился. После этой резни Оливеротто верхом промчался через город и осадил во дворце высший магистрат; тот из страха повиновался и учредил новое правление, а Оливеротто провозгласил властителем города.




















