Читать онлайн Неведомому Богу бесплатно
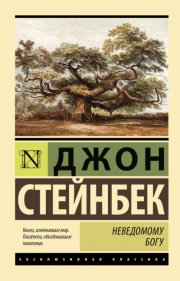
Серия «Эксклюзивная классика»
John Steinbeck
TO A GOD UNKNOWN
Перевод с английского Т. Осиной
В оформлении обложки использована картина неизвестного автора английской школы «Старый дуб». Цветная литография, ХIХ в.
Печатается с разрешения The Estate of Elaine Steinbeck и литературных агентств McIntosh and Otis и Andrew Nurnberg.
© John Steinbeck, 1933
© renewed by John Steinbeck, 1961
© Перевод. Т. Осина, 2020
© Издание на русском языке AST Publishers, 2023
Глава 1
Когда на ферме Уэйнов в Вермонте, неподалеку от Питтсфорда, убрали урожай, когда заготовили на зиму дрова, а земля покрылась первым легким снегом, на закате дня Джозеф Уэйн подошел к креслу возле камина и предстал перед отцом. Мужчины были очень похожи. Обоих отличали высокие крепкие скулы и крупный нос; казалось, их лица слеплены из материала более прочного и долговечного, чем человеческая плоть, – из не подвластной воздействию времени каменистой субстанции. Черная шелковистая борода Джозефа была достаточно редкой, чтобы позволить рассмотреть смутные очертания волевого подбородка, а длинная борода старика давно побелела. Время от времени он осторожно ее гладил, предусмотрительно закручивая концы внутрь. Потребовалось время, прежде чем отец поднял безмятежные, мудрые, небесно-голубые глаза и заметил присутствие сына. Глаза Джозефа – такие же голубые – горели нетерпением и любопытством молодости. Сейчас, стоя перед отцом, Джозеф волновался, не решаясь признаться в новой ереси.
– У нас слишком мало земли, сэр, – робко проговорил он.
Старик поправил на худых прямых плечах пастуший плед и спросил мягким, созданным для простых и правдивых речей голосом:
– На что хочешь пожаловаться, Джозеф?
– Слышали, что Бенджи ухаживает за девушкой, сэр? Весной собирается жениться. Скорее всего, осенью родится ребенок, а следующим летом подоспеет еще один. Земля не способна растягиваться, сэр. Всем места не хватит.
Старик медленно опустил глаза и посмотрел на свои вялые, сложенные на коленях пальцы.
– Бенджамин еще ничего мне не говорил. Впрочем, Бенджамин никогда не внушал доверия. Ты уверен, что он ухаживает всерьез?
– Рэмси объявили о помолвке в Питтсфорде, сэр. Дженни Рэмси ходит в новом платье и выглядит симпатичнее, чем обычно. Сегодня я ее встретил, но она сделала вид, что не заметила меня.
– А! Тогда, наверное, так и есть. Но Бенджамин должен сам сказать.
– Видите ли, сэр, на всех нас земли не хватит.
Джон Уэйн снова поднял глаза.
– Земли достаточно, Джозеф, – проговорил он невозмутимо. – Бертон и Томас привели жен домой, и все благополучно разместились. По возрасту ты следующий. Пора жениться, Джозеф.
– Всему есть предел, сэр. Земля не прокормит такое количество едоков.
Взгляд отца заострился.
– Ты сердит на братьев, Джозеф? Возникла ссора, о которой я не слышал?
– Нет, сэр, – ответил сын. – Просто ферма слишком мала. К тому же, – он склонился к отцу и заговорил тише, – я давно мечтаю о собственном хозяйстве, сэр. Читал, что на западе есть хорошая дешевая земля.
Джон Уэйн вздохнул, снова погладил бороду и закрутил ее концы внутрь. В комнате повисло задумчивое молчание. Джозеф стоял перед отцом, ожидая решения.
– Если бы ты подождал год, – наконец проговорил старик. – В тридцать пять лет год-другой ничего не значат. Если бы согласился подождать год – точно не больше двух, – я бы не стал возражать. Ты не старший из моих сыновей, Джозеф, однако мне всегда казалось, что благословение принадлежит тебе. Томас и Бертон – хорошие люди, верные сыновья, но благословение я хранил для тебя, чтобы ты смог занять мое место. Сам не знаю почему. В тебе больше силы, чем в братьях, Джозеф. Больше уверенности и глубины.
– Но идет заселение западных земель, сэр. Достаточно всего лишь прожить там год, построить дом и начать пахать, чтобы участок стал твоим. Никто и никогда не сможет его забрать.
– Знаю, слышал. Но представь, что уедешь сейчас. Лишь письма поведают мне, как ты живешь и что делаешь. А спустя год – не больше чем два – сам отправлюсь с тобой. Я уже стар, Джозеф. Да, отправлюсь с тобой – полечу по воздуху, над твоей головой. Своими глазами увижу, какую землю выберешь и что за дом построишь. Все это очень интересно. Может быть, время от времени даже смогу тебе помогать. Например, если вдруг потеряется корова, подскажу, где ее найти: ведь с высоты далеко видно. Подожди немного, Джозеф, и тогда уезжай.
– Но землю быстро разбирают, – упрямо возразил Джозеф. – Прошлый век закончился уже три года назад. Пока буду ждать, все хорошие участки займут. Мне нужна своя земля, сэр. – В голубых глазах вспыхнул лихорадочный, голодный огонь.
Джон Уэйн несколько раз кивнул и плотнее запахнул плед.
– Вижу, что тобою движет не минутное беспокойство, – проговорил он задумчиво. – Может быть, смогу найти тебя позже, когда придет мой час. – И продолжил уже решительно: – Подойти ко мне, Джозеф. Положи ладонь сюда… нет, вот сюда. Так делал мой отец. Старинный обычай не обманет. Хорошо, оставь ладонь там! – Он склонил седую голову. – Да пребудет с этим сыном благословение Господне и мое благословение. Пусть он живет в сиянии светлого Лика. Пусть любит свою жизнь.
Джон Уэйн на миг умолк и произнес главные слова:
– Теперь, Джозеф, можешь отправиться на запад. Я тебя отпускаю.
Вскоре пришла зима, на землю лег глубокий снег, а воздух насквозь промерз и стал колючим. Целый месяц Джозеф бродил по комнатам, не в силах расстаться с молодостью и теми вещами, которые живо напоминали о ней, однако отцовское благословение отсекло все связи. Он стал чужим в родном доме и почувствовал, что братья обрадуются отъезду. Отправился в путь еще до прихода весны, а когда прибыл в Калифорнию, увидел, что холмы покрыты сочной зеленой травой.
Глава 2
После долгих скитаний Джозеф приехал в обширную долину под названием Нуэстра-Сеньора, где занял и зарегистрировал участок земли. Нуэстра-Сеньора – названная в честь Пресвятой Девы протяженная долина в центральной Калифорнии – встретила его разноцветьем пышной растительности. В зарослях дикого овса желтели канареечные цветы горчицы. По узкому лесистому убежищу, по каменистому руслу с шумом мчалась река Сан-Францискито. Вдоль океанского берега тянулись две параллельные гряды холмов. Они замыкали узкое пространство, с одной стороны ограждая его от морской стихии, а с другой – защищая от прилетавших из долины Салинас резких ветров. Далеко на юге холмы расступались, чтобы выпустить реку на волю, а возле этого величественного портала приютилась церковь и вырос крохотный городок Пресвятой Девы. Глиняные стены храма стояли в окружении убогих хижин мексиканских индейцев. Хотя сейчас церковь часто пустовала, святые обветшали, черепица с крыши обвалилась и неопрятной кучей лежала рядом, а колокола разбились, эти люди по-прежнему жили здесь: отмечали свои праздники, танцевали хоту на плотно утрамбованной земле и спали на солнце.
Зарегистрировав право на землю, Джозеф Уэйн безотлагательно отправился на свой участок. Под широкополой шляпой возбужденно сияли голубые глаза; ноздри жадно вдыхали ароматы долины. Всадник был одет в новые джинсы с медными заклепками на поясе, голубую рубашку и жилет со множеством карманов. На новых сапогах с высокими каблуками сверкали серебристые шпоры. По дороге ему встретился старый мексиканец, который устало брел обратно в городок. Когда Джозеф подъехал ближе, загорелое морщинистое лицо вспыхнуло радостью. Незнакомец снял шляпу и отошел в сторону.
– Где-то праздник? – спросил он вежливо.
Джозеф рассмеялся.
– Получил в долине сто шестьдесят акров земли. Собираюсь здесь жить.
Глаза прохожего замерли на притаившемся под ногой Джозефа зачехленном ружье.
– Если увидите оленя, сеньор, и убьете, вспомните о Старике Хуане.
Джозеф поехал дальше, однако отозвался через плечо:
– Как только построю дом, непременно устрою праздник и приглашу тебя, Старик Хуан.
– Мой зять играет на гитаре, сеньор.
– Значит, он тоже придет, Старик Хуан.
Шурша копытами по сухим дубовым листьям, задевая железными подковами торчащие из земли камни, лошадь энергично пошла дальше. Дорога вела вдоль берега реки, по длинной лесной полосе. Под пологом деревьев Джозеф пережил робость и волнение, словно юноша перед свиданием с опытной и прекрасной женщиной. Лес заворожил и ошеломил. В переплетении веток и побегов, в прорезанном рекой среди деревьев длинном зеленом углублении, в блестящем подлеске присутствовала странная женственность. Бесконечные зеленые залы, коридоры и альковы таили смыслы столь же неясные и многообещающие, как символы некой древней религии. Джозеф вздрогнул и прикрыл глаза. «Может быть, я заболел, – подумал он. – Открыв глаза, пойму, что все это – лихорадка и бред». Чем дольше он ехал, тем больше боялся, что окружающая красота окажется горячечным сновидением и сменится сухим пыльным утром. Зацепившись за ветку толокнянки, с головы слетела шляпа. Джозеф спешился, чтобы ее поднять, а когда наклонился, бережно прикоснулся ладонью к земле. Хотелось поскорее сбросить странное ощущение нереальности. Он взглянул на верхушки деревьев, где в солнечных лучах трепетали листья и хрипло пел ветер. Снова сел верхом и понял, что никогда не утратит страстной любви к земле. Скрип седла, тихий звон шпор, скрежет лошадиного языка по мундштуку сливались в прекрасную, вторившую живой пульсации мелодию. Джозеф чувствовал себя так, словно очнулся от долгого забытья и внезапно обрел чувства; словно только что проснулся после беспробудного сна. В глубине сознания таилась мысль о собственной неверности. Прошлое, родной дом и все события детства утонули в туманной мгле; он понял, что должен найти способ сохранить воспоминания. Если не сопротивляться, новая земля захватит и поглотит целиком, без остатка. Чтобы что-то противопоставить силе природы, Джозеф начал думать об отце: о его спокойствии и умиротворении, о силе и бесконечной правоте. Постепенно различия исчезли; стало ясно, что никакого конфликта нет, что отец и эта земля – единое целое. Джозеф испугался.
– Отец умер, – прошептал он. – Должно быть, мой отец умер.
Лошадь вышла из прибрежного леса и зашагала по гладкой извилистой тропе, очертаниями напоминавшей след питона. Тропу эту протоптали копыта и мягкие лапы одиноких пугливых зверей, которые ходили по ней, словно радуясь даже призрачной компании. Бесконечные истории сменяли друг друга на каждом шагу. Вот тропинка почтительно огибала большой раскидистый дуб, где когда-то давным-давно пума поймала добычу и пометила место, чтобы преградить путь соперникам. А вот обходила стороной гладкий камень, где гремучая змея любила согревать свою холодную кровь. Не пропуская ни единого предупреждения, лошадь мудро выбирала середину дороги.
Неожиданно тропа привела на просторный луг, в центре которого, подобно зеленому острову посреди светлого озера, высилась дубовая роща. Подъезжая к деревьям, Джозеф услышал отчаянный предсмертный визг. Он обогнул рощу и увидел огромного кабана с загнутыми клыками, желтыми глазами и потрепанной рыжей гривой. Зверь жадно пожирал еще живого поросенка. Дикая свинья и пятеро уцелевших поросят в ужасе убегали прочь. Едва почуяв посторонний запах, вепрь на миг замер, однако лишь фыркнул, вернулся к визжащей жертве и продолжил трапезу. Джозеф натянул поводья. Лицо исказилось гневом; глаза побледнели, став почти белыми.
– Черт подери! – громко воскликнул он. – Ешь других тварей, а не собственных детей!
Он выхватил из чехла ружье и прицелился между желтых глаз. Однако в следующий миг напряженный палец ослаб, так и не нажав на курок, и ствол опустился. Джозеф коротко рассмеялся.
– Слишком много на себя беру, – проговорил он вслух. – Этот кабан уже произвел на свет полсотни поросят и произведет еще столько же.
И поехал своей дорогой, оставив зверя в покое.
Тропа повела вдоль длинного узкого холма, надежно защищенного кустарником: ежевика, толокнянка и дуб заостренный переплелись так плотно, что даже кроликам пришлось прогрызать в зарослях тоннели. Дорога поднялась на гребень и привела к полосе разнообразных дубов: здесь росли дуб американский, дуб виргинский и дуб белый. Среди ветвей возник крошечный белый клочок тумана и тут же легко взлетел над верхушками деревьев. Вскоре за ним последовал другой прозрачный лоскут, а потом еще и еще один. Становясь все больше и больше, они парили подобно частично материализованному привидению, пока не наткнулись на поток теплого воздуха и, став маленькими облачками, не поднялись в небо. По всей долине рождались и уносились ввысь хрупкие крошечные облачка. Наверное, точно так же из спящего города улетают души умерших. Казалось, они исчезали в голубом просторе, однако солнце отдавало им часть своего тепла. Лошадь подняла голову и принюхалась. На вершине холмистой гряды возвышались огромные земляничные деревья. С суеверным страхом Джозеф заметил, насколько эти странные создания напоминают человеческие мускулы: длинные красные сучья торчат, как освежеванная плоть, и извиваются, как тела на дыбе. Проезжая мимо, Джозеф прикоснулся к одной из веток: кора оказалась холодной, гладкой и жесткой. Однако на концах ужасных побегов росли блестящие ярко-зеленые листья. Земляничное дерево – жестокое и страшное растение. В огне оно кричит от боли.
Джозеф поднялся на вершину и посмотрел вниз – на простор своих новых владений, где от легкого ветерка перекатывались серебристые волны дикого овса, где в прозрачном вечернем свете синели островки люпинов, где маки на соседних холмах напоминали яркие солнечные лучи. Он остановился, чтобы впитать красоту обширных лугов, в которых царственно возвышались группы виргинских дубов, правя миром. Следуя собственному причудливому замыслу, по долине капризно струилась прикрытая деревьями река. Впереди, на расстоянии двух миль, возле огромного старинного дуба белело крошечное пятнышко: палатка, которую Джозеф поставил и тут же покинул, чтобы зарегистрировать право на землю. Сейчас он долго сидел неподвижно, любуясь долиной и чувствуя, как тело заливает горячая волна любви.
– Все это мое, – тихо, просто проговорил он. Глаза наполнились слезами, а сознание с трудом приняло удивительную новость. Он до жалости, до боли любил траву и цветы; деревья были его детьми; сама земля была его ребенком. На миг он воспарил и взглянул с высоты. – Это моя земля, – повторил уверенно, – и я должен о ней заботиться.
В небе собирались облака; целый легион спешил на восток, чтобы присоединиться к уже выстроившейся на холмистой линии армии. Из-за западных гор наступали скудные серые океанские тучи. Ветер налетел внезапно и вздохнул в ветвях деревьев. Лошадь легко пошла по спускающейся к реке тропинке, то и дело поднимая голову и принюхиваясь к свежему сладкому аромату подступающего дождя. Облачная кавалерия промчалась, и теперь на смену ей под ропот грома с океана медленно подступала огромная черная фаланга. Джозеф вздрогнул от радости, предвкушая разгул стихии. Что-то взволнованно бормоча встречным камням, река спешила по своим делам. И вот начался дождь: тяжелые капли лениво зашлепали по листьям. Гром прокатился по небу, как обоз с боеприпасами. Постепенно капли становились мельче и чаще, наполняя воздух и с шумом пробиваясь сквозь деревья. Уже спустя минуту одежда Джозефа промокла насквозь, а шкура лошади заблестела. Форель в реке заметалась, ловя утонувших насекомых, а стволы деревьев потемнели от влаги.
Тропа снова отступила от реки. Когда Джозеф подъехал к палатке, тучи уже откатились с запада на восток, подобно занавесу из серой шерсти. Позднее солнце осветило умытую землю, засверкало на мокрой траве и зажгло искры в серединках цветов. Джозеф спешился, расседлал лошадь, бережно протер тряпкой ее мокрую натруженную спину, отпустил усталое животное пастись и остановился перед палаткой. Закатное солнце играло на темных висках, вечерний ветерок шевелил бороду. При взгляде на протяженную долину голод в его глазах сменился алчностью. Жажда обладания переросла в страсть.
– Все это мое, – проговорил Джозеф нараспев. – Мое с начала и до конца – вширь и вглубь, до самого центра мира. – Он потоптался на мягкой земле. Ликование переросло в острую боль вожделения, горячим потоком захлестнувшего тело. Он бросился на траву и прижался щекой к мокрым стеблям. Пальцы впивались в растения, вырывали их с корнем и впивались снова. Бедра тяжело бились о землю.
Когда приступ неистовства иссяк, на смену пришли холод, недоумение и страх перед самим собой. Джозеф сел, стер грязь с губ и бороды.
– Что это было? – спросил, обращаясь к деревьям. – Что на меня нашло? Неужели вожделение способно овладеть мной с такой силой?
Джозеф попытался вспомнить, что случилось, и понял, что на миг земля стала его возлюбленной.
– Надо срочно жениться, – решил он. – Без жены здесь будет слишком одиноко.
Он устал. Тело болело, как будто пришлось поднять огромный камень, а внезапная страсть пугала.
Потом Джозеф развел небольшой костер и приготовил скудный ужин, а когда пришла ночь, сел возле палатки, посмотрел на холодные белые звезды и почувствовал, как мерно дышит его земля. Костер догорел, оставив лишь кучку углей. Среди холмов хохотали койоты, над головой с криком пролетали маленькие совы, вокруг суетились в траве мелкие зверьки. Через некоторое время за восточной грядой показалась медовая луна. Прежде чем золотое лицо поднялось над холмами, оно осторожно выглянуло из-за решетки сосен. На мгновенье острая верхушка пронзила диск и тут же пропала: луна взошла во всей красе.
Глава 3
Задолго до того, как появились повозки со строительными материалами, Джозеф услышал сладостный, хотя и грубый лязг колокольчиков – маленьких, но громких колокольчиков, предупреждавших встречные повозки об опасности столкновения на узкой дороге. Джозеф успел подготовиться к приему гостей: умылся, расчесал волосы и бороду. Глаза сияли радостным ожиданием, ведь уже две недели он не видел ни единого человека. Наконец среди деревьев показались большие телеги. Лошади двигались коротким напряженным шагом и с трудом тянули тяжелый груз по грубой, еще не утрамбованной дороге. Первый погонщик снял шляпу и приветственно помахал; на медной бляхе сверкнул солнечный луч. Джозеф вышел навстречу и уселся на козлы рядом с человеком средних лет, с коротко остриженными седыми волосами и смуглым, похожим на табачный лист лицом. Погонщик переложил поводья в левую руку и протянул правую.
– Думал, приедете раньше, – заговорил Джозеф. – Неприятности в пути?
– Не то чтобы неприятности, мистер Уэйн. У Хуанито подломилась ось, а у моего сына Вилли переднее колесо угодило в яму. Уснул, наверное. Последние две мили дорога никуда не годится.
– Ничего, – успокоил Джозеф. – Когда проедет побольше телег, земля уплотнится и дорога станет ровнее. – Он показал пальцем: – Разгрузим возле того большого дуба.
На лице погонщика отразилось сомнение.
– Собрались строить дом под деревом? Напрасно. Может отломиться большая ветка, и тогда крыше не поздоровится. Да еще, чего доброго, упадет на вас, когда будете спать.
– Это молодой крепкий дуб, – заверил Джозеф. – Не хочу строиться вдали от деревьев. Разве ваш дом стоит на голом месте?
– Нет. Потому и предупреждаю. Проклятая лачуга оказалась как раз под деревом. Сам не понимаю, как меня угораздило туда залезть. Немало ночей провел без сна, прислушиваясь к ветру и представляя, как ветка толщиной с бочку проломит крышу. – Он остановил лошадей и обмотал поводья вокруг тормоза. – Все, приехали! – крикнул товарищам.
Выгрузив доски, привязав лошадей головами к центру – так, чтобы в случае опасности животные смогли отбиться задними копытами, – и надев им на морды торбы с овсом, погонщики расстелили в повозках одеяла, а Джозеф тем временем развел костер и принялся готовить ужин. Держа сковородку высоко над огнем, он то и дело переворачивал куски копченой свинины. Старший из троих погонщиков – Ромас – подошел и сел рядом.
– Двинемся в обратный путь рано утром. Без груза скоро доберемся.
Джозеф убрал сковородку с огня.
– Почему не отпускаете лошадей пастись?
– Во время работы? Нет, ни за что. Трава не дает силы. Чтобы выдержать такую дорогу, нужно жевать что-нибудь обстоятельное. Если хотите приготовить мясо, лучше на минуту поставьте сковородку в огонь.
Джозеф покачал головой:
– Не знаете, как нужно правильно жарить бекон. Только на слабом огне и постоянно переворачивая. Иначе весь жир вытопится.
– Все равно еда, – возразил Ромас. – А еда и есть еда.
Хуанито и Вилли подошли вместе. На смуглом лице Хуанито ярко сияли голубые глаза. Покрытое пылью, но все равно бледное лицо Вилли обезобразил какой-то неизвестный недуг, а глаза смотрели воровато и испуганно: никто из посторонних не знал, какие приступы сотрясали по ночам его тщедушное тело и какие мрачные видения терзали во сне его расстроенный ум. Джозеф приветливо улыбнулся.
– Видите мои глаза? – заговорил Хуанито задиристо. – Я не индеец. Родился в Кастилии. У меня голубые глаза. Взгляните на кожу. Она смуглая, но это от солнца. А у кастильцев глаза голубые.
– Парень всем рассказывает свою легенду, – вставил Ромас. – Любит найти незнакомца и сообщить красивую историю. В Нуэстра-Сеньора каждый знает, что его мать родом из индейского племени. А кто отец – одному Богу известно.
Хуанито смерил обидчика гневным взглядом и прикоснулся к висевшему на поясе длинному ножу, однако Ромас лишь рассмеялся.
– Уверяет, что непременно кого-нибудь убьет этим ножом, и страшно собой гордится. Но сам знает, что никогда этого не сделает, а потому не особенно задается. Лучше поточи палочку, чтобы есть бекон, Хуанито, – посоветовал Ромас снисходительно. – А когда в следующий раз начнешь врать насчет Кастилии, заранее позаботься, чтобы никто из слушателей тебя не знал.
Джозеф поставил сковородку и осуждающе взглянул на Ромаса.
– Зачем вы на него нападаете? Что в этом хорошего? Оттого, что парень родился в Кастилии, никому не станет хуже.
– Это ложь, мистер Уэйн. А одна ложь ничем не отличается от другой. Если поверите в первую ложь, он тут же придумает следующую. Через неделю окажется кузеном испанской королевы. Хуанито – погонщик, причем чертовски хороший. Не могу допустить, чтобы он стал принцем и бросил работу.
Однако Джозеф покачал головой и снова взялся за сковородку. Не поднимая глаз, произнес:
– И все же я верю, что Хуанито – настоящий кастилец. Голубые глаза и что-то еще. Не знаю почему, но думаю, что так и есть.
Хуанито посмотрел твердо и гордо.
– Спасибо, сеньор. Вы говорите правду. – Он выпрямился. – Мы понимаем друг друга, сеньор, потому что оба – кабальеро.
С едва заметной улыбкой Джозеф разложил мясо по оловянным тарелкам и налил кофе.
– А мой отец считает себя почти Богом. Впрочем, так оно и есть.
– Не понимаете, что творите, – возмутился Ромас. – Что мне делать с этим кабальеро? Теперь наверняка откажется трудиться. Будет ходить и восхищаться собой.
Джозеф подул в кружку.
– Когда окончательно возгордится, найду ему применение. Здесь кастилец всегда пригодится.
– Проклятье! Он отъявленный мошенник!
– Знаю, – спокойно ответил Джозеф. – Джентльмены всегда таковы. Их не заставить работать.
Хуанито торопливо поднялся и уже собирался было скрыться в сгустившейся тьме, однако Вилли пришел ему на помощь и пояснил:
– Всего лишь лошадь запуталась в привязи.
На западе по-прежнему серебрился последний свет, но долина Нуэстра-Сеньора уже наполнилась тьмой вплоть до вершин окружающих гор. Появившиеся на стальном небе звезды мигали, тщетно пытаясь победить ночь. Четверо мужчин сидели вокруг догорающего костра; на сильных лицах играли тени. Джозеф гладил бороду; глаза смотрели задумчиво и отрешенно. Ромас обхватил руками колени. Сигарета у него во рту напоследок вспыхнула и погасла. Хуанито держал голову прямо и сквозь опущенные ресницы пристально наблюдал за Джозефом. Бледное лицо Вилли висело в воздухе независимо от тела, а рот время от времени искажался нервной гримасой под тонким длинным носом, напоминая клюв попугая.
Когда костер почти погас, оставив на виду лишь лица, Вилли вытянул худую руку, и Хуанито с силой сжал его пальцы. Он знал, как пугает товарища темнота. Джозеф опустил в костер ветку, зажег огонек и обратился к старшему из погонщиков:
– Ромас, трава здесь сильна, а земля тучна и свободна. Нужно лишь вспахать. Почему же она до сих пор пустовала? Почему никто ее не взял?
Ромас выплюнул окурок в костер.
– Не знаю. Люди не спешат приходить в этот край. Слишком далеко от большой дороги. Думаю, если бы не засушливые годы, кто-нибудь обязательно бы здесь поселился. Они надолго нас задержали.
– Засушливые годы? Когда они случились?
– О, между восьмидесятыми и девяностыми. Тогда вся земля пересохла, колодцы истощились, а скот пал. – Он мрачно усмехнулся. – Уж поверьте, было так худо, что хуже не бывает. Половине из тех, кто здесь жил, пришлось уйти. Кто смог, перегнал скот к реке Сан-Хоакин. Там на берегах еще оставалась трава. Коровы дохли прямо на дороге. Я тогда был молодым, но до сих пор помню мертвых коров с раздутыми животами. Мы в эти животы стреляли, и они сдувались, как проткнутые воздушные шары. Вонь стояла нестерпимая.
– Но дожди все-таки вернулись, – торопливо возразил Джозеф. – Сейчас земля полна влаги.
– Да, через десять лет наконец-то пошли дожди. Целые потоки. Тогда трава снова начала расти, а деревья зазеленели. Помню, как мы радовались. Люди в долине танцевали прямо под дождем; только гитаристы сидели под крышей, чтобы не намочить струны и не испортить инструменты. Все напились допьяна и плясали в грязи. Причем не только мексиканцы. А потом пришел отец Анджело и заставил прекратить праздник.
– Но почему? – удивился Джозеф.
– Потому что люди творили в грязи непотребное. Отец Анджело страшно разозлился. Сказал, что мы призываем дьявола. Прогнал дьявола, заставил всех разойтись по домам и вымыться. На каждого наложил епитимью. Да, тогда отец Анджело не на шутку рассердился. Остался с нами до тех пор, пока дождь не кончился.
– Говорите, все были пьяны?
– Да, целую неделю. И делали плохие вещи – раздевались догола.
Хуанито перебил:
– Они радовались. Прежде колодцы стояли пустыми, сеньор. Холмы стали белыми, как пепел. А когда пришел дождь, люди обрадовались. Просто не могли сдержать восторг и от счастья делали плохие вещи. Люди всегда делают плохие вещи, когда слишком счастливы.
– Надеюсь, такое больше никогда не повторится, – тихо проговорил Джозеф.
– Отец Анджело решил, что это было наказанье за прегрешенья, а индейцы сказали, что на памяти стариков такое уже дважды случалось.
Джозеф нервно поднялся.
– Не хочу думать о плохом. Уверен, что больше такое несчастье не случится. Смотрите, какая высокая и сочная трава.
Ромас развел руками:
– Возможно. Но особенно рассчитывать на милость нельзя. Пора спать. Нам вставать с рассветом.
Джозеф проснулся, когда холодная заря только занималась. Разбудил его пронзительный крик. «Наверное, сова, – подумал он. – Во сне звуки кажутся громче и страшнее». Однако, прислушавшись, различил сдавленное рыданье. Натянул джинсы, сапоги и выбрался из палатки. Из повозки доносился тихий плач. Рядом, перегнувшись через борт, стоял Хуанито.
– Что случилось? – спросил Джозеф, приглядевшись и поняв, что тот держит за руку спящего Вилли.
– Ему часто снятся страшные сны, – тихо пояснил Хуанито. – Иногда не может проснуться без моей помощи. А иногда, проснувшись, думает, что это сон, а то, что было, – явь. Ну же, Вилли, ты уже проснулся. Да, сеньор, ему снятся ужасные сны, и потому я его щиплю. Ему страшно.
Из соседней повозки донесся голос Ромаса:
– Вилли слишком много ест на ночь, а потом страдает кошмарами. С детства. Ложитесь спать, мистер Уэйн.
Однако Джозеф склонился, увидел на лице Вилли ужас и попытался успокоить:
– Не бойся, Вилли. Ничего плохого не случится. Если хочешь, иди в мою палатку.
– Ему постоянно снится какое-то ярко освещенное место – сухое и мертвое. Из нор выходят люди и начинают отрывать ему руки и ноги, сеньор. И так почти каждую ночь. Смотри, Вилли, я рядом. А вокруг собрались лошади и смотрят на тебя. Иногда, сеньор, лошади ему помогают. Он любит спать возле них. Как будто оказывается в этом страшном, сухом, мертвом месте, но добрые лошади защищают от злых людей. Ложитесь, сеньор, я с ним побуду.
Джозеф прикоснулся ко лбу Вилли и ощутил каменный холод.
– Сейчас разведу костер, чтобы он согрелся.
– Бесполезно, сеньор. Он всегда такой холодный. Никогда не может согреться.
– Ты хороший парень, Хуанито.
Хуанито отвернулся.
– Вилли – мой товарищ, сеньор.
Джозеф согрел ладонь о теплый бок лошади и вернулся в палатку. В слабом свете утра сосновая роща на восточном гребне казалась черной зазубренной линией. Трава лениво колыхалась при вздохах пробуждающегося ветерка.
Глава 4
Скелет квадратного дома, разделенного внутренними стенами на четыре равные комнаты, стоял в ожидании кожи. Огромный одинокий дуб простер над крышей хранительную руку. Почтенное дерево сияло молодыми листьями, желто-зелеными в лучах утреннего солнца.
Постоянно потряхивая сковородку, Джозеф поджарил на костре бекон. Потом, прежде чем приняться за завтрак, подошел к новому сараю, где стояла бочка. Налил полный таз воды и, зачерпывая ее пригоршнями, тщательно умылся: щедро намочил волосы, бороду и особенно старательно промыл глаза, чтобы прогнать остатки сна. Ладонями стер воду и явился к завтраку с сияющим влагой лицом. Роса на траве вспыхивала искрами. Возле палатки, с дружеским любопытством вытягивая клювы, прыгали три луговых жаворонка в желтых жилетках и светло-серых сюртучках. Время от времени они надувались, задирали головы, как самовлюбленные примадонны, и разражались восторженной песней, а потом косились на Джозефа, словно спрашивая, оценил ли слушатель мастерство. Джозеф поднял оловянную кружку, допил кофе, а гущу выплеснул в костер. Встал, потянулся на уже ярком солнце, подошел к каркасу дома и откинул прикрывавший инструменты кусок парусины. Жаворонки побежали следом, время от времени останавливаясь, чтобы привлечь внимание отчаянной песней. Две стреноженные лошади приковыляли с пастбища, подняли головы и приветливо фыркнули. Джозеф взял молоток, повязал фартук с полными гвоздей карманами и раздраженно повернулся к жаворонкам.
– Отправляйтесь искать червей! – приказал он строго. – Хватит кричать. Из-за вашего шума скоро самому захочется поймать червяка. Уходите!
Взглянув удивленно, три жаворонка запели в унисон. Джозеф взял с кучи досок широкополую черную шляпу и надвинул на глаза.
– Отправляйтесь за червяками! – повторил он сердито. Лошади снова фыркнули, а одна пронзительно заржала. Джозеф тут же с явным облегчением бросил молоток.
– Привет! Кто к нам едет?
Из-за деревьев, с дороги, послышалось далекое ответное ржание, а через некоторое время показался всадник на усталом коне. Джозеф поспешил к дремлющему костру, разбудил огонь, снова поставил кофейник и довольно улыбнулся.
– Сегодня не хотелось работать, – признался он жаворонкам. – Летите за червяками, теперь мне некогда с вами разговаривать.
В этот момент подъехал Хуанито. Легко спрыгнул на землю, двумя движениями расседлал лошадь, а потом сорвал с головы сомбреро и с улыбкой замер в ожидании приветствия.
– Хуанито! Рад тебя видеть! Ты ведь еще не завтракал, верно? Сейчас что-нибудь поджарю.
Осторожная улыбка Хуанито мгновенно превратилась в широкую и радостную.
– Ехал всю ночь, сеньор. Явился, чтобы стать вашим вакеро[1].
Джозеф подал руку.
– Но у меня ведь нет ни одной коровы, Хуанито. Некого пасти.
– Появятся, сеньор. Готов выполнять любую работу. Я хороший вакеро.
– Сможешь помочь в постройке дома?
– Конечно, сеньор.
– А оплата, Хуанито? Сколько я должен тебе платить?
Голубые глаза торжественно прикрылись густыми ресницами.
– Мне уже доводилось работать вакеро, сеньор. Хорошим. Те люди каждый месяц платили мне тридцать долларов и называли индейцем. Хочу стать вашим другом, сеньор, и работать бесплатно.
Джозеф на миг растерялся.
– Кажется, понимаю, о чем ты говоришь, Хуанито, но, когда поедешь в город, деньги понадобятся, чтобы пропустить стаканчик и встретиться с девушкой.
– Когда соберусь в город, можете что-нибудь мне подарить, сеньор. Подарок – это не плата за работу. – Улыбка вернулась. Джозеф налил кофе.
– Ты – верный друг, Хуанито. Спасибо.
Хуанито запустил пальцы за ленту сомбреро и достал письмо.
– Вот что я вам привез, сеньор.
Джозеф взял письмо и медленно отошел в сторону. Он знал, о чем оно. Больше того, ожидал этого известия. Да и сама земля тоже знала: трава замерла, жаворонки улетели, и даже коноплянки прекратили щебетать в ветвях дуба. Джозеф сел на доски под дубом и осторожно надорвал конверт. Письмо пришло от Бертона.
«Томас и Бенджи попросили написать тебе, – начал брат. – То, что, как мы знали, должно было случиться, случилось. Смерть потрясает даже тогда, когда понимаешь, что она неминуема. Три дня назад отец отошел в царство вечности. Все мы оставались с ним до последнего мига. Все, кроме тебя. Надо было подождать.
В последнее время сознание отца помутилось. Он говорил очень странные вещи. Дело не в том, что он часто упоминал о тебе, но он беседовал с тобой. Сказал, что мог бы прожить столько, сколько сам решит, однако очень хочет увидеть твою новую землю. Эта новая земля захватила воображение отца целиком. Конечно, его разум померк. Он заявил, что не знает, сможет ли Джозеф выбрать хорошую землю. Не знает, хватит ли у сына опыта. А потому должен отправиться туда и посмотреть сам. Потом много рассуждал о полетах над землей; ему казалось, что он летит. Наконец уснул. Бенджи и Томас вышли из комнаты. Отец бредил. Не следовало бы повторять его слова, потому что он уже не был собой. Заговорил о спаривании животных. Сказал, что вся земля – это… Нет, нельзя повторять такие слова. Я попытался уговорить отца помолиться вместе со мной, но он уже почти отошел. Меня беспокоит, что последние его мысли не были христианскими. Другим братьям я ничего не сказал, потому что слова эти предназначались тебе. Он беседовал с тобой».
Далее следовало подробное описание похорон, а заканчивалось письмо так:
«Томас и Бенджи считают, что, если на западе еще осталась свободная земля, все мы могли бы туда переехать. Дождемся твоего ответа и тогда решим, что делать дальше».
Джозеф выронил письмо и закрыл лицо ладонями. Сознание молчало в оцепенении, но печали не было. Он спрашивал себя, почему не испытывает горя. Бертон осудил бы его, узнав, что в его душе растет чувство радости и счастливого предвкушения. Он слышал, как на землю возвращаются звуки. Жаворонки строили маленькие хрустальные башенки мелодий, земляная белка сидела у входа в нору и о чем-то громко рассуждала. Ветер пошептался с травой, а потом задул сильно и уверенно, разнося по долине ароматы растений и влажной земли, а огромное дерево ожило и заволновалось. Джозеф поднял голову, посмотрел на мощные, свободно раскинувшиеся ветки. В глазах вспыхнуло узнавание и приветствие, ибо сильная и простая суть отца, в юности воплощенная в облаке счастья, теперь вселилась в дуб.
Джозеф приветственно поднял руку и тихо произнес:
– Рад, что вы пришли, сэр. До сих пор не сознавал, как мне вас не хватало.
Дерево едва заметно кивнуло.
– Теперь сами видите, насколько хороша эта земля, – негромко продолжил Джозеф. – Вам здесь понравится, сэр.
Он встряхнул головой, чтобы прогнать остатки оцепенения, и рассмеялся – то ли устыдившись хороших мыслей, то ли удивившись внезапному ощущению родства с дубом.
– Наверное, это от одиночества. Хорошо, что теперь со мной Хуанито и что приедут братья. А то уже начинаю разговаривать сам с собой.
Вдруг нахлынуло чувство вины. Он поднялся, подошел к ставшему родным дереву и поцеловал кору. Вспомнил, что Хуанито, должно быть, наблюдает, и с вызовом посмотрел на парня. Однако тот сидел, опустив голову и пристально изучая землю. Джозеф вернулся к костру.
– Наверняка видел… – начал он сердито.
– Ничего не видел, сеньор, – возразил Хуанито, не поднимая глаз.
Джозеф сел рядом.
– Мой отец умер.
– Глубоко сожалею, друг мой.
– Хочу об этом поговорить, Хуанито, потому что мы с тобой друзья. Я не печалюсь: верю, что отец здесь.
– Мертвые всегда здесь, сеньор. Они никогда от нас не уходят.
– Нет, – серьезно возразил Джозеф. – Дело в другом. Отец живет в этом дереве. Отец и есть дерево! Глупо, но хочется верить, что это так и есть. Можешь немного со мной поговорить, Хуанито? Ты родился в этом краю. А я, как только сюда приехал, в первый же день понял, что эта земля полна призраков. – Он растерянно помолчал. – Нет, неправильно. Призраки – всего лишь слабые тени настоящего. А то, что здесь живет, более реально, чем мы. Мы – призраки здешней реальности. Что это, Хуанито? Неужели разум мой ослаб от двух месяцев одиночества?
– Мертвые никогда не уходят, сеньор, – повторил Хуанито и посмотрел прямо перед собой глазами, полными огромного горя. – Я обманул вас, сеньор. Я не кастилец. Моя мать была индианкой и многому меня научила.
– Чему же именно? – требовательно уточнил Джозеф.
– Отец Анджело осудил бы мои слова. Матушка говорила, что земля – наша мать; что все живое черпает из нее силы для существования и уходит обратно в ее чрево. Вспоминая об этом, сеньор, и чувствуя, что верю, потому что все вижу и слышу, начинаю думать, что я не кастилец и не кабальеро. Я – настоящий индеец.
– Но я же вовсе не индеец, Хуанито, а сейчас тоже начинаю все видеть.
Хуанито взглянул благодарно и сразу опустил глаза. Некоторое время мужчины сидели, глядя в землю, и Джозеф спрашивал себя, почему не пытается защититься от той силы, которая наступала с непреодолимым упорством.
Наконец Джозеф поднял голову и посмотрел сначала на дуб, а потом на стоящий под деревом каркас дома.
– По большому счету, все это не важно, – проговорил он решительно. – Мои чувства и мысли не убьют ни призраков, ни богов. Надо работать, Хуанито. Вот дом, который необходимо построить, а вот ранчо, где надо завести скот. Будем трудиться, не обращая внимания на призраки. Пойдем, – добавил Джозеф поспешно, – некогда сидеть и раздумывать.
И они отправились строить дом.
Тем вечером Джозеф написал братьям письмо:
«Рядом с моим участком есть свободная земля. Каждый из вас сможет получить по сто шестьдесят акров, и тогда всего у нас получится шестьсот сорок акров единым массивом. Трава здесь высока и густа, а землю нужно лишь обработать. Нет никаких камней, Томас, о которые может затупиться твой плуг, никаких торчащих валунов. Если приедете, станем жить новой общиной».
Глава 5
Когда братья приехали и устроились на земле, трава уже созрела для покоса. Старший, сорокадвухлетний Томас, был плотным сильным человеком с золотыми волосами, длинными желтыми усами, круглыми румяными щеками и по-зимнему холодными голубыми глазами под полуопущенными веками. Томас интересовался всяким животным. Часто сидел на краю яслей, пока лошади жевали сено. Протяжный стон начавшей телиться коровы будил его в любой час ночи, и он спешил убедиться, что отел идет нормально, а при необходимости оказать помощь. Когда Томас шагал по лугу, лошади и коровы поднимали головы, нюхали воздух и направлялись к нему. Своими сильными тонкими пальцами Томас мог тянуть собак за уши до тех пор, пока те не начинали скулить от боли, но, как только он прекращал, снова с готовностью подставляли уши. Томас всегда держал несколько полудиких животных. Не успел он прожить на новом месте и месяца, как, помимо четырех дворняжек, собрал вокруг себя енота, двух койотов-подростков, которые бегали за ним по пятам и рычали на чужаков, целый ящик хорьков и краснохвостого сарыча. Он не проявлял доброты к животным – по крайней мере, больше той, какую они проявляли друг к другу, – но, должно быть, вел себя с понятной им последовательностью, поскольку все существа ему доверяли. Когда одна из собак неосторожно напала на енота и потеряла в схватке глаз, Томас сохранил полную невозмутимость. Выковырял разорванный глаз карманным ножом и прищемил собаке лапу, чтобы та забыла о ране. Томас любил и понимал животных, а если убивал, то не испытывал чувств более глубоких, чем испытывали они сами, убивая друг друга. Природное начало проявлялось в нем слишком определенно, чтобы допустить присутствие сентиментальности. Он ни разу не потерял ни одной коровы, потому что инстинктивно знал, куда та может забрести. Редко охотился, но если выходил из дома с ружьем, то отправлялся прямиком к убежищу зверя и убивал с быстротой и точностью льва.
Томас понимал животных, но вот людей не понимал и не очень им доверял. С людьми ему не о чем было разговаривать; такие вещи, как торговля и вечеринки, религия и политика, его пугали. Когда приходилось присутствовать на многолюдном сборище, Томас Уэйн появлялся и молчал, с нетерпением ожидая освобождения. И только Джозеф внушал брату родственные чувства; с ним Томас мог говорить подолгу и без тени страха.
Женой Томаса была Рама – сильная полногрудая женщина с почти сросшимися на переносице черными бровями. Она неизменно осуждала мысли и поступки мужчин. Опытная, умелая повитуха, она вселяла ужас в озорных детей и, хотя никогда не порола трех маленьких дочек, те боялись вызвать недовольство матери, поскольку она умела найти уязвимое место в душе и нанести точный удар. Рама хорошо понимала Томаса и обращалась с мужем как с прирученным зверем: содержала в чистоте, тепле и сытости и редко пугала. Рама с любовью создавала свой мир: стряпня, шитье, рождение детей, уборка представлялись ей самыми важными делами на свете; намного более важными, чем все, чем занимались мужчины. Когда дети знали, что за ними нет никаких провинностей, они обожали Раму, так как она отыскивала и ублажала самые нежные уголки души. Ее похвала могла оказаться столь же тонкой и точной, сколь ужасным бывало наказание. Она сразу принимала под свое крыло всех окружающих детей. Двое детей Бертона ставили авторитет тетушки намного выше непостоянных правил собственной матери: законы Рамы никогда не менялись; зло всегда оставалось злом и получало наказание, в то время как добро обладало вечным, восхитительным благом. В доме Рамы хорошее поведение сулило неоспоримое счастье.
Второго брата, Бертона, природа создала для религиозной жизни. Он боялся и сторонился зла, находя его почти во всяком тесном общении с людьми. Однажды после церковной службы Бертон получил похвалу с кафедры. Когда пастор заявил, что Бертон Уэйн – «человек, сильный в Боге», Томас шепнул Джозефу на ухо:
– Но слабый желудком.
Бертон обнимал жену четыре раза и имел двоих детей. Воздержание было для него естественным состоянием. Он никогда не чувствовал себя хорошо. Бледные впалые щеки выдавали тайное недомогание, а в глазах читалась жажда недостижимого на земле наслаждения. В каком-то смысле слабое здоровье его устраивало, ведь оно доказывало, что Бог думает о нем достаточно, чтобы заставлять страдать. Бертон обладал силой и выдержкой хронического больного: худые руки и ноги были крепки, как канаты.
Женой Бертон управлял сурово – в строгом соответствии с указаниями Священного Писания. Скупо сообщал собственные мысли и решительно укрощал ее чувства, когда те выходили за рамки положенного. Он точно знал, когда жена преступала установленные законы. А когда порою, как время от времени случалось, в сознании Хэрриет что-то ломалось, погружая ее в состояние бреда, Бертон молился возле постели жены до тех пор, пока ее губы вновь не обретали твердость и не переставали что-то невнятно бормотать.
Младший из четырех сыновей Джона Уэйна, Бенджамин, доставлял братьям немало неприятностей своей ненадежностью и распутным поведением. При любой возможности Бенджи напивался до состояния романтического тумана и, радостно распевая, бродил по округе. Выглядел он таким молодым, таким беспомощным и таким потерянным, что многие женщины жалели милого хмельного парня. Поэтому Бенджамин почти постоянно попадал в переделки. Увидев пьяненького сладкоголосого симпатягу с потерянным взглядом, женщины мгновенно уступали желанию прижать его к груди словно малого ребенка, чтобы оградить от ошибок. А потом с удивлением обнаруживали, что ребенок их соблазнил, и не могли понять, как это произошло: ведь он казался таким беспомощным. Бенджамин настолько плохо справлялся с жизнью, что все вокруг старались ему помочь. Молодая жена Дженни неустанно трудилась, чтобы избавить мужа от неприятностей, а когда ночью слышала пенье и понимала, что тот опять пьян, начинала молиться, чтобы он не упал и не разбился. Пение удалялось. Дженни понимала, что до наступления утра какая-нибудь растерянная, испуганная девушка обязательно бросится в объятия Бенджи, и тихо плакала от страха за мужа.
Бенджамин Уэйн жил счастливо и всем вокруг дарил счастье пополам с болью. Он непрестанно лгал, понемногу воровал, жульничал, нарушал обещания и злоупотреблял людской добротой. Однако все его любили, прощали и защищали. Отправившись на запад, братья взяли Бенджи с собой, опасаясь, что, оставшись один, тот погрузится в нищету и голод. Томас и Джозеф следили за порядком на его участке, а сам он занял палатку Джозефа и преспокойно жил в ней до тех пор, пока братья не нашли времени построить ему настоящий дом. Даже Бертон, постоянно бранивший Бенджи, ненавидевший его образ жизни и молившийся за его исправление, не смог стерпеть, что брат прозябает в палатке, и принял участие в работе. Братья не знали, где Бенджи добывает виски; это оставалось тайной. В долине Нуэстра-Сеньора мексиканцы поили симпатичного парня, обучали своим песням, а тот ловко соблазнял их жен, когда они смотрели в другую сторону.
Глава 6
Семьи обосновались вокруг большого дома Джозефа. Братья построили кое-какие скромные лачуги каждый на своей территории, поскольку были обязаны сделать это по закону, однако ни на минуту не задумались о том, чтобы разделить землю на четыре участка. Шестьсот сорок акров составили единый надел, а когда все формальные требования переселения были соблюдены, хозяйство получило название Ранчо Уэйнов. Рядом с большим дубом выросли четыре квадратных дома и просторная общая конюшня с сеновалом.
Возможно, отцовское благословение сразу сделало Джозефа бесспорным вождем клана. На старой ферме далеко на востоке, в Вермонте, Джон Уэйн до такой степени слился со своими полями и покосами, что превратился в живой символ единства земли и ее обитателей. А теперь полномочия посредника перешли к Джозефу. Он вещал от имени травы, почвы, животных – причем не только домашних, но и диких. Джозеф Уэйн стал отцом фермы. Радуясь разросшимся вокруг постройкам, заглядывая в колыбель новорожденного ребенка Томаса, ставя метки на уши телят, он испытывал такую же радость, какую, должно быть, познал Авраам, увидев, что исполнение обета принесло долгожданные плоды; что и племя его, и скот начали плодиться и размножаться. Страсть к размножению крепла. Джозеф с радостью наблюдал за бесконечной, томительной похотью быков и терпеливой, безустанной тягостью коров. Подводил к кобылам сильного жеребца и подбадривал:
– А ну, парень, не посрамись!
Ранчо представляло собой не четыре отдельных владения, но единое целое, где он был отцом-основателем. Когда он ходил по полям с непокрытой головой, чувствуя, как ветер треплет волосы и бороду, в его глазах вспыхивало острое вожделение. Все вокруг – земля, скот и люди – плодилось и размножалось, а источником, корнем этого процветания служил он, Джозеф Уэйн. Вожделение придавало силы. Хотелось, чтобы то, что растет, выросло быстрее и как можно раньше принесло обильный урожай. Бесплодие представлялось тяжким грехом – нестерпимым и непростительным. Новая вера наполнила голубые глаза Джозефа яростью. Он безжалостно уничтожал не способных к размножению животных, но, когда сука приползала, распухнув от щенков, когда живот коровы раздувался, обещая скорое появление теленка, эти существа становились для него священными. Джозеф понимал истину не умом, а сердцем и напряженными мышцами ног, приняв наследие племени, в течение миллиона лет кормившегося у груди природы и жившего в браке с землей.
Однажды Джозеф стоял у ограды загона, наблюдая за быком и коровой, и нетерпеливо колотил кулаками по жерди; в глазах горел огонь страсти. Бертон подошел сзади в тот момент, когда Джозеф сорвал с головы шляпу, бросил на землю, дернул ворот рубашки с такой силой, что полетели пуговицы, и крикнул:
– Залезай, дурень! Она готова! Залезай сейчас же!
– Ты с ума сошел? – строго спросил брат.
Джозеф быстро обернулся:
– Сошел с ума? Ты о чем?
– Ведешь себя странно. Кто-нибудь может увидеть. – Бертон оглянулся, желая убедиться, что пока этого не случилось.
– Мне нужны телята, – угрюмо пояснил Джозеф. – Что в этом плохого, даже для тебя?
– Видишь ли, – заговорил Бертон уверенно и в то же время снисходительно, – все знают, что это естественно. Все знают, что это должно происходить, чтобы жизнь продолжалась. Но люди не должны наблюдать за процессом без крайней необходимости. Кто-нибудь может тебя увидеть.
Джозеф неохотно перевел взгляд с быка на брата.
– Ну и что? Разве это преступление? Мне нужны телята.
Бертон опустил глаза и стыдливо произнес:
– Если люди услышат то, что услышал я, то могут что-нибудь сказать.
– И что же они могут сказать?
– Право, Джозеф, я не должен объяснять. Писание упоминает о таких запретных вещах. Люди могут подумать, что твой интерес… личный.
Бертон посмотрел на руки, а потом быстро засунул ладони в карманы, словно испугался, что пальцы услышат его слова.
– Аа… – озадаченно протянул Джозеф. – Они могут сказать… понимаю. – Его голос внезапно окреп. – Могут сказать, что чувствую себя быком. Так и есть, Бертон! Если бы мог забраться на корову и покрыть ее, неужели думаешь, что я усомнился бы? Послушай, этот бык способен осеменить двадцать коров за день. А если бы страсть могла дать корове теленка, то я обслужил бы сотню. Вот что я чувствую, Бертон. – Джозеф заметил на лице брата серый, болезненный ужас и добавил мягче: – Ты не понимаешь, Бертон. Мне нужен приплод. Хочу, чтобы земля полнилась жизнью, чтобы все вокруг возрастало. – Бертон мрачно отвернулся. – Послушай, Бертон. Думаю, мне пора жениться. Все живое размножается, и только я бесплоден. Да, мне нужна жена.
Бертон пошел прочь, но остановился и, обернувшись, проговорил, словно плюнул:
– Больше всего тебе необходима молитва. Когда сможешь молиться, приходи ко мне.
Джозеф посмотрел вслед брату и недоуменно покачал головой.
– Интересно, что он знает такого, чего не знаю я? – проговорил он тихо. – В Бертоне есть какая-то тайна, из-за которой все, что я говорю или делаю, становится нечистым. Я услышал его слова, но для меня они ничего не значат.
Он провел ладонью по длинным волосам, поднял с земли грязную черную шляпу и надел. Бык подошел к ограде, склонил голову и захрапел. Джозеф улыбнулся и свистнул. На свист из конюшни высунулась голова Хуанито.
– Оседлай лошадь, – распорядился хозяин. – Поезжай и приведи с пастбища другую корову. Кажется, этот парень еще не устал.
Джозеф Уэйн трудился мощно, как трудятся холмы, выращивая дубы, – медленно, без чрезмерных усилий и сомнений в том, что эти самые дубы есть одновременно и наказание, и наследие.
Прежде чем горную гряду озарил свет утра, фонарь Джозефа уже мелькнул во дворе и скрылся в конюшне. Там предстояло продолжить работу среди сонных животных: починить упряжь, намылить уздечки, начистить мундштуки. Скребница заскрежетала по мускулистым бокам лошадей. В темноте уже сидел на краю яслей Томас, а рядом, на сене, спал щенок койота. Братья приветствовали друг друга коротким кивком.
– Все в порядке? – спросил Джозеф.
Томас ответил подробно:
– Голубок потерял подкову и поранил копыто. Сегодня ему нельзя выходить. Старушка, черная ведьма, выгнала из стойла Черта. Точно кого-нибудь убьет, если прежде сама не убьется. А Лазурь принесла жеребенка, поэтому я и пришел.
– Как ты узнал, Томас? Почему решил, что это случится именно сегодня утром?
Томас схватился за лошадиную гриву и встал.
– Сам не понимаю. Всегда чувствую, когда должен родиться жеребенок. Иди, посмотри на маленького сукина сына. Теперь уже кобыла разрешит: вылизала от всей души.
Братья подошли к стойлу и увидели жеребенка на тонких слабых ножках, с торчащими коленками и щеточкой вместо хвоста. Джозеф бережно погладил влажную блестящую спину.
– Боже мой! Почему же я так люблю малышей?
Жеребенок поднял голову, посмотрел невидящими, затуманенными темно-синими глазами и отстранился от ладони.
– Всегда тянешь руки, – укоризненно проворчал Томас. – Новорожденные не любят, когда их трогают.
Джозеф тут же отошел.
– Пожалуй, пора позавтракать.
– Эй, послушай! – крикнул вдогонку Томас. – Ласточки летают повсюду. Весной и в амбаре, и на мельнице появятся гнезда.
Братья отлично работали вместе – все, кроме Бенджи, тот отлынивал как мог. По распоряжению Джозефа за домами появились длинные грядки с овощами. На холме гордо возвышалась мельница и, как только ветер усиливался, воинственно размахивала крыльями. Рядом с большой конюшней красовался просторный хлев. Ранчо окружала колючая проволока. На равнинах и склонах холмов обильно росла трава и в положенное время превращалась в сено, а скотина исправно размножалась.
Когда Джозеф повернулся, чтобы выйти из конюшни, солнце поднялось над горами и заглянуло в квадратные окна. Джозеф остановился в полосе света и на миг распростер руки. Взгромоздившийся на кучу навоза рыжий петух посмотрел на него, захлопал крыльями и сипло закукарекал, заботливо предупреждая кур, что даже в такой чудесный день может случиться что-нибудь ужасное. Джозеф опустил руки и повернулся к Томасу:
– Запряги пару лошадей, Том. Давай проедем по холмам; поищем новорожденных телят. Если увидишь Хуанито, позови с нами.
После завтрака трое мужчин отправились в путь. Джозеф и Томас ехали рядом, а Хуанито замыкал строй. Молодой человек только на рассвете вернулся из Нуэстра-Сеньора, благоразумно и вежливо проведя вечер в доме семейства Гарсиа. Алиса Гарсиа сидела напротив, скромно разглядывая сложенные на коленях руки, а старшие члены семьи – опекуны и арбитры – расположились по обе стороны от Хуанито.
– Понимаете, я не просто служу мажордомом сеньора Уэйна, – объяснял Хуанито заинтересованным, но все же слегка скептически настроенным слушателям. – Можно сказать, что дон Джозеф относится ко мне как к сыну. Куда он идет, туда и я. В очень важных вопросах доверяет только мне.
Два часа подряд Хуанито хвастался красноречиво, но сдержанно, а когда, как предписывал порядок, Алиса удалилась вместе с матерью, произнес положенные слова в сопровождении положенных жестов и в конце концов с приличествующей случаю неохотой был принят Хесусом Гарсиа в качестве зятя. Одержав победу, страшно усталый, но невероятно гордый Хуанито вернулся на ранчо. Еще бы: Гарсиа могли доказать присутствие в родословной по крайней мере одного предка-испанца. И вот сейчас новоиспеченный жених ехал следом за Джозефом и Томасом, мысленно репетируя торжественное объявление.
В поисках заблудившихся телят всадники поднялись на освещенный солнцем травянистый холм. Сухая трава шелестела под копытами. Лошадь Томаса то и дело нервно вздрагивала: перед всадником на луке седла ехал отталкивающего вида енот с блестящими глазами-бусинками на черной, похожей на маску мордочке. Прищурившись от солнца, Томас смотрел вперед.
– Знаешь, в субботу я был в Нуэстра-Сеньора, – произнес он.
– Да, – нетерпеливо ответил Джозеф. – Бенджи, судя по всему, тоже там был. Поздно ночью я слышал его пение. Том, парень непременно нарвется на неприятности. Кое-что здешние люди не станут терпеть. Однажды найдем брата с ножом в шее. Честное слово, рано или поздно его прикончат.
Томас усмехнулся.
– Не переживай, Джо. Проживет дольше, чем Мафусаил[2], и успеет повеселиться лучше дюжины трезвенников.
– Бертон постоянно тревожится. Уже не раз об этом говорил.
– Послушай, – перебил Томас. – В субботу днем я сидел в салуне, и туда пришли ребята из Чиниты. Так вот, они обсуждали засуху восьмидесятых-девяностых годов. Ты что-нибудь об этом слышал?
Джозеф крепче сжал поводья.
– Да, слышал, – подтвердил он негромко. – Тогда случилось что-то плохое. Больше такое никогда не повторится.
– Но те ребята долго об этом говорили. Рассказали, что вся округа засохла, скот пал, а земля превратилась в пыль. Люди попытались перегнать коров через горы, на побережье, но по дороге от стада почти ничего не осталось. Дожди пошли только за несколько лет до твоего приезда. – Он с такой силой потянул енота за уши, что зверек обиделся и острыми зубами впился в его ладонь.
В глазах Джозефа вспыхнула тревога. Он пригладил ладонью бороду и завернул ее концы внутрь – точно так же, как когда-то делал отец.
– Да, Том, я об этом уже слышал. Но ведь сейчас все в порядке. Говорю же: тогда что-то пошло не так. Засуха больше никогда не повторится. Холмы полны воды.
– Откуда тебе известно, что не повторится? Те парни сказали, что подобное бывало и прежде. Почему ты так уверен?
Джозеф упрямо сжал губы.
– Потому что это невозможно. Ручьи обильно текут. Не представляю, как такое может случиться снова.
Хуанито пришпорил лошадь и догнал старших.
– Дон Джозеф, за холмом звенит колокольчик.
Всадники повернули направо и пустили лошадей галопом. Енот прыгнул на плечо хозяина и сильными маленькими лапками обнял за шею. В лощине за холмом паслось небольшое стадо рыжих коров, а между ними семенили два маленьких теленка. В следующий миг оба они уже лежали на земле. Хуанито достал из кармана баночку с мазью, а Томас раскрыл широкий складной нож. Блестящее лезвие высекло на ушах телят клеймо Уэйнов. Малыши беспомощно закричали от боли, а находящиеся неподалеку матери тревожно замычали. Томас опустился на колени возле бычка, двумя быстрыми движениями кастрировал его и нанес на рану мазь. Почуяв кровь, коровы испуганно захрапели. Хуанито развязал теленку ноги, и новый вол неуклюже заковылял к матери. Мужчины сели верхом и поехали дальше, но прежде Джозеф подобрал вырезанные кусочки ушей. Взглянул на маленькие коричневые лоскутки и сунул их в карман.
Томас внимательно наблюдал за братом.
– Джозеф, – спросил он неожиданно. – Зачем ты развешиваешь убитых ястребов на дубе, возле дома?
– Чтобы отпугнуть других ястребов от цыплят. Так все делают.
– Но ведь ты сам знаешь, что это не работает, Джо. Ни один хищник не пропустит курицу только потому, что мертвый собрат висит вниз головой. Если бы он смог, то съел бы и мертвого тоже. – Томас на миг умолк и невозмутимо добавил: – И кусочки ушей прибиваешь к дереву.
Брат сердито повернулся в седле.
– Да, прибиваю кусочки ушей, чтобы знать, сколько у нас телят.
Несколько минут Томас ехал молча, затем снова посадил енота на плечо; тот принялся старательно вылизывать хозяину ухо.
– Кажется, знаю, зачем ты все это делаешь, Джо. Понимаю, о чем думаешь. Боишься засухи? Пытаешься от нее защититься?
– Если мое объяснение тебя не устраивает, то не спрашивай, – упрямо проворчал Джозеф. В его глазах застыла тревога, а в голосе послышалась неуверенность. – К тому же я сам толком не понимаю, зачем это делаю. Если поделюсь с тобой, не скажешь Бертону? Он и так за нас переживает.
Томас рассмеялся.
– Забавно. Никто ничего Бертону не говорит, а он всегда все знает и переживает.
– Ладно, расскажу, – решился Джозеф. – Когда я собрался ехать сюда, отец меня благословил. Даровал старинное благословение. Кажется, о нем даже в Библии упоминается. Но, пожалуй, Бертону оно все равно бы не понравилось. Отец всегда внушал мне странное чувство. Сохранял абсолютное спокойствие. Мало походил на других отцов, но оставался последним пристанищем, к которому можно было прибиться, которое никогда не изменится. У тебя не возникало такого чувства?
Брат медленно кивнул:
– Да, понимаю.
– Приехав сюда, я все равно чувствовал защиту отца. А потом получил письмо от Бертона и на миг как будто провалился. Не знал, куда упаду. Дальше прочитал, что отец собирался навестить меня после смерти. Дома тогда еще не было. Я сидел на куче досок. Поднял голову, увидел это дерево… – Джозеф умолк и посмотрел вниз, на гриву лошади. А спустя мгновенье снова поднял глаза на брата, но Томас отвернулся. – Вот и все. Может быть, сумеешь понять. Просто делаю то, что делаю. Сам не знаю, почему и зачем. Нравится, и все тут. В конце концов, – продолжил он неловко, – у человека должно быть что-то свое, что не исчезнет утром.
Томас погладил енота нежнее, чем обычно обращался со своими животными, но на брата так и не взглянул. Лишь тихо проговорил:
– Помнишь, однажды в детстве я сломал руку? Мне наложили лубок, и она висела на груди, согнутая в локте. Было адски больно. Отец подошел, распрямил руку и поцеловал ладонь. И все. Трудно ожидать такого поступка от отца, но это был не столько поцелуй, сколько лекарство. Я почувствовал, как по сломанной руке потекла свежая вода. Странно, что я до сих пор ничего не забыл.
Далеко впереди звякнул колокольчик. Хуанито тут же подъехал к ним.
– В соснах, сеньор. Не понимаю, зачем они забрались в сосны. Ведь там нет еды.
Всадники повернули к поросшей темными деревьями гряде. Первый ряд сосен стоял словно караул. Прямые стволы напоминали мачты, а кора в тени казалась фиолетовой. Упругая, усыпанная коричневыми иголками земля не рождала травы. Тишину в роще нарушал лишь шепот ветра. Птицы здесь не селились, а мягкий хвойный ковер скрадывал звуки шагов. Всадники покинули желтое солнечное пространство и углубились в лиловый полумрак. Деревья росли все ближе друг к другу, склонялись, ища поддержки, и соединялись вершинами, образуя единый плотный полог. Между стволами пробивался подлесок – ежевика, черника и бледные, жаждущие света побеги малины. Заросли становились все гуще, пока наконец лошади не заупрямились, отказываясь пробиваться сквозь колючую изгородь.
Хуанито резко свернул влево.
– Сюда, сеньоры. Помню, что здесь есть тропинка.
Он вывел их на старую дорогу, усыпанную иглами, но свободную от кустов и достаточно широкую, чтобы двое всадников смогли проехать рядом. Через сотню ярдов дорога оборвалась, а братья натянули поводья и застыли в изумлении.
Их взорам открылась почти круглая и ровная, как водная гладь, поляна. Вокруг, подобно тесно стоящим колоннам, росли высокие прямые деревья. В центре возвышался огромный, словно дом, таинственный камень удивительной формы, сравнения для которой не находилось. Плотный, короткий темно-зеленый мох укрывал его мягким одеялом. Монолит напоминал древний, давным-давно растаявший и осыпавшийся алтарь. С одной стороны камня чернела небольшая пещера. Рядом простирали свои растопыренные лапы папоротники. Из темной глубины беззвучно вытекал маленький ручей, пересекал поляну и терялся в густых зарослях. Возле ручья, поджав передние ноги, лежал огромный черный бык – безрогий, с блестящими темными завитками на лбу. Когда появились всадники, бык лениво жевал жвачку и неподвижно смотрел на зеленый камень. Услышав посторонние звуки, он повернул голову и взглянул на людей налитыми кровью глазами. Потом недовольно фыркнул, поднялся, угрожающе нагнулся, но передумал нападать и, повернувшись, скрылся в чаще. Всадники успели рассмотреть хвост и черную, длинную – почти до колен – болтающуюся мошонку. В следующий миг бык исчез, оставив после себя лишь треск веток.
Все это произошло в считаные мгновенья.
– Это не наш бык! Никогда его не видел! – воскликнул Томас и беспокойно взглянул на брата. – Ни разу здесь не был. Как-то жутко. – Голос его дрожал. Он крепко сжимал енота под мышкой, а зверек царапался и кусался, пытаясь освободиться.
Джозеф смотрел на поляну широко распахнутыми глазами, но ничего перед собой не видел. Его подбородок напрягся, легкие до боли наполнились воздухом, а плечи, руки и ноги превратились в до предела сжатые пружины. Он отпустил поводья и сложил ладони на луке седла.
– Помолчи минуту, – медленно проговорил он, обращаясь к брату. – Здесь что-то есть. Тебе страшно, но я точно знаю. Когда-то, может быть, в давнем сне, я видел это место или ощущал его присутствие.
Он опустил руки и прошептал, словно пробуя слова на вкус:
– Это святое место и очень старое. Древнее и святое.
Поляна хранила безмолвие. По круглому небу, низко над верхушками деревьев, пролетел гриф.
Джозеф медленно обернулся:
– Хуанито, ты знал это место. Ты здесь был, правда?
Голубые глаза парня наполнились слезами.
– Матушка приводила меня сюда, сеньор. Она была индианкой. Я был маленьким, а она ждала второго ребенка. Мы пришли и сели возле камня. Долго сидели, а потом ушли. Матушка была индианкой, сеньор. Думаю, старики до сих пор сюда приходят.
– Старики? – быстро переспросил Джозеф. – Какие старики?
– Старые индейцы, сеньор. Простите, что привел вас сюда. Но когда мы подъехали так близко, индеец во мне заставил так поступить, сеньор.
– Скорее поедемте прочь отсюда! – нервно воскликнул Томас. – Черт возьми, надо найти коров!
Джозеф послушно повернул лошадь. Но, едва покинув безмолвную поляну и выехав на дорогу, обратился к брату со словами утешения:
– Не бойся. Здесь есть что-то сильное, хорошее и красивое. Что-то вроде вкусной еды и чистой прохладной воды. Давай сейчас забудем это место. А если вдруг когда-нибудь возникнет острая нужда, вспомним о нем, вернемся… и оно даст нам силы.
Дальше всадники поехали молча, прислушиваясь, не раздастся ли звон колокольчика.
Глава 7
В Монтерее жил шорник по фамилии Макгрегор – неистовый философ и яростный марксист. Возраст не смягчил воинственного настроя, и Маркс со своей благородной утопией остался далеко позади. От постоянной угрюмой гримасы и недовольства миром на щеках Макгрегора залегли глубокие морщины. Глаза его взирали мрачно. Он постоянно судился с соседями, которые якобы нарушали его права, и всякий раз сталкивался с неадекватной законодательной трактовкой конфликта. Макгрегор пытался держать в страхе дочь Элизабет, однако это удавалось ему так же плохо, как прежде с ее матерью, поскольку Элизабет лишь крепче сжимала губы и предпочитала держать свои взгляды при себе, никогда их не высказывая. Старик отчаянно злился от невозможности разрушить предрассудки дочери посредством собственных, ведь понятия не имел, в чем они заключаются.
Элизабет была не только хорошенькой, но и очень решительной девушкой с кудрявыми волосами, маленьким носиком и твердым подбородком, который стал таким от постоянного противостояния отцу. Но особую прелесть ей придавали глаза – серые, необыкновенно широко расставленные и обрамленные такими густыми ресницами, что казалось, за ними таится далекое сверхъестественное знание. Она была высокой; не худенькой, но подтянутой, полной сил и быстрой, порывистой энергии. Отец любил подчеркивать ее недостатки – точнее, недостатки, которые он сам в ней находил.
– Вся в мать, – укорял он. – Ум ограничен; ни капли здравого смысла. Во всем, что делаешь, руководствуешься чувствами. Вспомни свою мать. Она с севера Шотландии, и родители ее верили в эльфов. А стоило мне в шутку об этом упомянуть, сразу обижалась и захлопывала рот словно окно. Да еще утверждала, что некоторые вещи не поддаются пониманию, но все-таки существуют. Готов поспорить, что перед смертью она наполнила тебя эльфами.
Он рисовал будущее дочери.
– Настанет день, – вещал он пророчески, – когда женщины будут сами зарабатывать свой хлеб. Нет причин, мешающих женщине научиться полезному ремеслу. Вот ты, например. Уже не за горами то время, когда девушка вроде тебя сможет полностью себя обеспечить и откажет первому, кто захочет на ней жениться.
И все же шорник Макгрегор испытал глубокое потрясение, когда Элизабет начала готовиться к окружным экзаменам на должность учительницы. Он почти растрогался.
– Ты слишком молода, дочка. Всего семнадцать лет. Дай хотя бы костям затвердеть.
Однако Элизабет лишь торжествующе улыбалась и не произносила ни слова. В доме, где любое утверждение немедленно встречало сокрушительный отпор, она рано научилась молчать.
Профессия школьной учительницы представлялась воодушевленной юной особе чем-то бо́льшим, чем простое обучение детей. В семнадцать лет она могла сдать окружные экзамены и отправиться на поиски приключений. Это был приличный повод покинуть родной дом и город, где все слишком хорошо ее знали, и верный способ сохранить неустойчивое, хрупкое достоинство молодой особы. Там, куда ее пошлют работать, она окажется неизвестной, таинственной и желанной. Элизабет знала дроби и поэзию; немного умела читать по-французски и могла вставить в разговор пару умных словечек. Иногда она носила батистовое и даже шелковое белье – что было замечено, когда после стирки ее одежда сохла на веревке. В поведении обычной девушки подобные манеры могли показаться проявлением высокомерия, однако для учительницы они стали похвальными и даже ожидаемыми, как свидетельства общественной и образовательной значимости. Так Элизабет Макгрегор задавала в своей округе интеллектуальный и культурный тон. Люди, среди которых ей предстояло жить, не знали ее детского имени. Она охотно приняла титул «мисс». В семнадцать лет ее окутало покрывало тайны и учености. И если бы в течение полугода мисс Макгрегор не вышла замуж за самого завидного холостяка местности, это означало бы, что она страшна, как Горгона, ибо такая жена укрепляла положение человека в обществе. Ее дети считались бы умнее остальных детей. Так что при желании преподавание в школе могло стать элегантным и надежным шагом в направлении удачного замужества.
Элизабет Макгрегор была образованна даже шире большинства учительниц. Помимо знания дробей и французского языка она читала отрывки из Платона и Лукреция, помнила названия нескольких пьес Эсхила, Аристофана и Еврипида, а также обладала некоторым классическим багажом, основанным на произведениях Гомера и Вергилия. Сдав экзамены, она получила назначение в Нуэстра-Сеньора. Уединенность этого места казалась ей очаровательной. Хотелось все спокойно обдумать, разложить по полочкам и в результате создать новую Элизабет Макгрегор. В городке Пресвятой Девы она сняла комнату в доме семьи Гонсалес.
По долине пролетел слух, что новая учительница молода и хороша собой, так что стоило Элизабет отправиться в школу или бакалейную лавку, по пути ей тотчас попадались молодые люди, пристально изучающие свои часы, старательно скручивающие сигарету или рассматривающие некую далекую точку в пространстве, по всей видимости имеющую жизненно важное значение. Время от времени среди праздных зевак встречался странный человек: высокий, с черной бородой и пронзительными голубыми глазами. Человек этот беспокоил Элизабет, потому что смотрел так, как будто раздевал ее.
Услышав о приезде новой учительницы, Джозеф Уэйн начал упорно сужать круги, пока наконец не оказался в гостиной семьи Гонсалес – в респектабельной, устеленной коврами комнате – и уселся напротив Элизабет. Визит носил официальный характер. Мягкие волосы девушки очаровательно вились вокруг хорошенького личика, однако она была учительницей. Смотрела строго, почти сурово. Если бы она постоянно не расправляла на коленях платье, то можно было бы назвать ее спокойной. Время от времени глаза встречали пристальный взгляд гостя и тут же ускользали.
Джозеф надел черный костюм и новые ботинки. Подстриг волосы, расчесал бороду и, как смог, вычистил ногти.
– Вам нравится поэзия? – спросила Элизабет, взглянув в острые неподвижные глаза.
– О да. Да, нравится… во всяком случае, то, что читал.
– Конечно, мистер Уэйн, таких поэтов, как древнегреческие авторы, как Гомер, сейчас уже нет.
На лице Джозефа отразилось нетерпение.
– Помню, – подтвердил он. – Конечно помню. Один человек приплыл на остров и превратился в свинью.
Элизабет поджала губы, мгновенно снова став учительницей – холодной и высокомерной.
– Это «Одиссея», – пояснила она строго. – Считается, что Гомер жил за девятьсот лет до Христа и оказал глубокое влияние на всю греческую литературу.
– Мисс Макгрегор, – серьезно перебил Джозеф, – должно быть, есть какой-то определенный способ правильно вести себя в подобных случаях, но я его не знаю. Прежде чем явиться сюда, я пытался придумать, что вам скажу, но так и не смог, потому что никогда не делал ничего подобного. Пришла пора о чем-то говорить, но я не знаю как. К тому же любые уловки кажутся мне бесполезными.
Элизабет попала во власть его глаз и удивилась силе и свободе его речи.
– Не понимаю, что вы имеете в виду, мистер Уэйн. – Она почувствовала, как пошатнулось надежное основание учености. Вероятность падения испугала ее.
– Чувствую, что все делаю неправильно, – продолжил Джозеф, – но другого способа не знаю. Видите ли, мисс Макгрегор, я боюсь сбиться и запутаться. Хочу, чтобы вы стали моей женой, и вы должны это знать. У нас с братьями шестьсот сорок акров земли. Кровь наша чиста. Думаю, я мог бы вам подойти, если бы знал, чего вы хотите.
Эти слова Джозеф произнес, глядя на свои руки. А когда снова поднял глаза, увидел, что Элизабет покраснела и выглядит очень несчастной. Он поспешно вскочил.
– Кажется, я все сделал неправильно. Сейчас я очень смущен, но надо было сказать. А теперь я пойду, мисс Макгрегор. Лучше вернусь, когда оба избавимся от смущения.
Не попрощавшись, он вышел из дома, прыгнул в седло и умчался во тьму.
Горло горело стыдом и ликованьем. Выехав на берег реки, Джозеф остановил лошадь, поднялся в стременах и зычно крикнул, чтобы облегчить жар. Ему ответило гулкое эхо. Ночь выдалась очень темной. Высокий туман смягчал остроту звезд и заглушал звуки. Крик разорвал тишину и напугал его самого. Некоторое время Джозеф сидел неподвижно, ощущая, как от тяжелого дыхания вздымаются и опадают бока лошади.
– Ночь слишком невозмутима, – сказал он себе, – слишком равнодушна. Надо что-то сделать.
Он почувствовал, что время требует знака, конкретного поступка. Действие должно было объединить его с уходящим моментом, иначе этот момент просто улетит, не захватив с собой даже части его существа. Джозеф сорвал с головы шляпу и бросил во тьму. Однако этого показалось мало. Он нащупал висевший на луке седла кнут, сорвал его и с силой хлестнул по ноге, чтобы причинить себе боль. От свиста и звука удара лошадь испуганно заметалась и встала на дыбы. Джозеф бросил кнут в кусты, сжал бока лошади коленями, а когда животное успокоилось, рысью направил его в сторону ранчо. Сам же широко раскрыл рот, чтобы впустить в горло прохладный воздух.
Элизабет посмотрела на закрывшуюся дверь и подумала: «Внизу слишком большая щель. Когда подует ветер, в комнате станет холодно. Пожалуй, лучше переехать в другой дом». Она расправила юбку, провела по ней ладонью, так что ткань прильнула к ногам, подчеркнув их форму, а потом посмотрела на свои руки.
«Теперь я готова, – продолжила она начатое рассуждение. – Да, готова его наказать. Деревенщина, грубиян, простак. Никаких манер. Даже не умеет вежливо себя вести. И не понимает приличного обращения. Отвратительная борода. Смотрит в упор. А костюм просто жалок». Она задумалась о возможном наказании и медленно кивнула. «Сказал, что не знает, как надо говорить. И хочет на мне жениться. Придется всю жизнь терпеть эти глаза. Борода, возможно, жесткая, но я так не думаю. Нет, не думаю. Как мило с его стороны сразу перейти к делу! И этот костюм… Он будет меня обнимать…» Мысли своевольно блуждали. «Надо придумать, что делать». Обещавший вернуться человек оставался незнакомцем. Хода его мысли и реакции Элизабет не понимала. Она поднялась в свою комнату и медленно разделась. «В следующий раз надо будет посмотреть на ладони. Это многое прояснит». Она снова кивнула собственным мыслям, бросилась на кровать лицом вниз и расплакалась. Слезы подействовали так же бодряще и освежающе, как широкий утренний зевок. Спустя некоторое время Элизабет встала, задула лампу и придвинула к окну маленькое бархатное кресло. Поставила локти на подоконник и посмотрела в темноту. Воздух наполнился влагой тумана; освещенное окно соседнего дома предстало в ореоле тусклого сияния.
Элизабет услышала внизу, во дворе, стремительное осторожное движение и нагнулась, чтобы посмотреть, что происходит. Раздался глухой звук прыжка, шипящий, похожий на скрежет возглас, а потом хруст костей. Взгляд проник сквозь серую завесу и выхватил длинную, приземистую, похожую на тень кошку, убегающую с каким-то мелким существом в зубах. Над ее головой с писком кружила летучая мышь. «Интересно, где он сейчас, – подумала Элизабет. – Наверное, едет, и борода развевается по ветру. Вернется домой очень усталым. А я вот преспокойно сижу здесь и отдыхаю. Так ему и надо». С противоположного конца городка, со стороны салуна, приближались звуки гармоники, а вскоре нежный и безнадежный, словно усталый вздох, мужской голос запел:
– «Прекрасны Максвелтона склоны…»[3]
Пошатываясь, мимо проходили два человека.
– Подожди! Неправильный мотив! Забудь свои мексиканские песни. Давай заново. Опять не так! – Мужчины остановились. – Жаль, что не умею играть на твоей гармошке.
– Можете попробовать, сеньор.
– Попробовать, черт возьми! Уже пробовал, да она только ржала как лошадь.
– Ну что, сеньор, еще разок «Максвелтона»?
Один из мужчин подошел вплотную к забору, поднял голову и посмотрел в окно.
– Спуститесь, – позвал умоляюще. – Пожалуйста, спуститесь.
Элизабет сидела, боясь пошевелиться.
– Я отошлю индейца прочь!
– Сеньор, я не индеец!
– Отошлю этого джентльмена домой, если спуститесь. Я так одинок.
– Нет, – произнесла Элизабет и испугалась собственного голоса.
– Если спуститесь, спою вам красивую песню. Послушайте, как хорошо могу петь. Играй, Панчо! Играй «Над волнами»!
Песня наполнила воздух испарившимся золотом, а голос окрасил мир восхитительной печалью. Исполнение закончилось так тихо, что Элизабет перегнулась через подоконник, чтобы расслышать последние звуки.
– Теперь спуститесь? Жду…
Дрожа, Элизабет встала и потянула раму вниз, чтобы закрыть окно. Но голос проник даже сквозь стекло:
– Не хочет, Панчо. Может быть, попробуем в соседнем доме?
– Там живет старушка, сеньор. Лет восьмидесяти, не меньше.
– А в следующем?
– Там есть девочка. Тринадцать лет.
– Что ж, попробуем выманить тринадцатилетнюю. А сейчас… «Прекрасны Максвелтона склоны…»
Все еще дрожа от потрясения и страха, Элизабет легла в постель и с головой накрылась одеялом.
– Еще немного, и я бы вышла, – пробормотала она в отчаянье. – Если бы он еще раз позвал, не устояла бы и спустилась…
Глава 8
Прежде чем снова явиться к Элизабет, Джозеф выжидал целых две недели. Осень принесла с собой низкое серое небо и пушистые ватные облака. Изо дня в день они приплывали со стороны океана, некоторое время сидели на вершинах холмов, а потом уходили обратно, как небесные разведчики. Красноплечие черные трупиалы собирались в эскадроны и проводили маневры в полях. Незаметные весной и осенью голуби выбирались из своих убежищ и компаниями рассаживались на заборах и сухих деревьях. По утрам солнце вставало за осенним занавесом из воздушной пыли, а по вечерам заходило красным шаром.
Бертон вместе с женой поехали в Пасифик-Гроув[4] на религиозное собрание.
– Ест Бога, как медведь накануне зимы ест мясо, – ехидно заметил Томас.
Самого его приближение зимы печалило, пугая ветрами и сыростью, от которых не спрячешься ни в одной пещере.
Дети на ранчо почувствовали, что Рождество уже не за горами, так что можно было начинать торжественную церемонию ожидания. Они задавали Раме осторожные вопросы относительно наиболее угодного волхвам поведения, и мудрая женщина старалась как можно полнее использовать их нетерпение.
Бенджи лениво болел, а молодая жена пыталась понять, почему никто вокруг не обращает внимания на его страдания.
Работы на ранчо оставалось немного. Высокая сухая трава у подножия холмов могла кормить скот всю зиму. Амбары были забиты сеном для лошадей. Джозеф подолгу сидел под дубом и думал об Элизабет. Вспоминал ее позу: тесно сдвинутые ноги и высоко поднятую голову – казалось, что если бы не шея, то голова оторвалась бы и улетела. Хуанито подходил к нему, устраивался рядом и тайком заглядывал в лицо, чтобы понять настроение друга и определить линию поведения.
– Возможно, еще до наступления весны женюсь, Хуанито, – однажды признался Джозеф. – Она будет жить здесь, в этом доме, и перед обедом звонить в маленький колокольчик. Только не коровий. Я куплю серебряный. Думаю, тебе понравится слышать его голос и знать, что пришло время обедать.
Польщенный откровенностью хозяина, Хуанито наконец-то раскрыл свой секрет:
– Я тоже, сеньор.
– Тоже женишься, Хуанито?
– Да, сеньор. На Алисе Гарсиа. В их семье есть документ, доказывающий, что дед родился в Кастилии.
– Рад слышать, Хуанито. Поможем тебе построить здесь дом, и тогда больше не придется ездить. Будешь жить на ранчо.
Хуанито рассмеялся от счастья.
– Я тоже повешу возле крыльца колокольчик, сеньор. Но обязательно коровий, чтобы по звуку понимать, у кого из нас готов обед.
Джозеф запрокинул голову и с улыбкой посмотрел на переплетенные ветки. Несколько раз хотелось шепнуть дубу насчет Элизабет, но осуществить намеренье мешал стыд.
– Послезавтра собираюсь поехать в город, Хуанито. Думаю, захочешь составить мне компанию.
– О да, сеньор. Сяду на козлы, а вы сможете сказать: «Это мой кучер. Отлично разбирается в лошадях. Никогда не беру в руки поводья».
Джозеф рассмеялся.
– Наверное, хочешь, чтобы я сделал то же самое для тебя.
– Нет-нет, сеньор.
– Выедем рано, Хуанито. По такому случаю нужно купить тебе костюм.
Пастух взглянул недоверчиво:
– Костюм, сеньор? Не обычные штаны? Настоящий костюм с пиджаком?
– Да, с пиджаком и жилетом. А в качестве свадебного подарка в жилетном кармане появятся часы на цепочке.
Это уже было слишком.
– Сеньор, – проговорил Хуанито, вставая. – Надо срочно починить подпругу.
Он ушел в амбар, чтобы как следует подумать и о костюме, и о часах на цепочке. Костюм требовал как серьезного размышления, так и особой тренировки.
Джозеф прислонился спиной к стволу. Улыбка в глазах медленно растаяла. Он снова посмотрел вверх, на ветки. Прямо над головой шершни слепили шар и вокруг этого ядра принялись строить бумажное гнездо. Внезапно вспомнилась круглая поляна среди сосен. Перед глазами возникла каждая деталь таинственного пейзажа: необыкновенный, покрытый мхом огромный камень; темная, обрамленная папоротником пещерка и прозрачный ручей, беззвучно вытекающий из таинственного мрака и куда-то украдкой спешащий. Вспомнился даже растущий в воде кресс-салат с нежными подвижными листочками. Захотелось пойти туда, сесть возле камня и провести ладонью по мягкому мху.
«В этом месте можно спрятаться от печали, разочарования или страха, – подумал Джозеф. – Сейчас такой необходимости нет. Не случилось ничего плохого, чтобы бежать. Но надо о нем помнить. Если вдруг потребуется утешение, лучшего места не найти». Вспомнились высокие прямые стволы сосен и почти осязаемый покой. «Надо когда-нибудь заглянуть в пещерку и посмотреть, где начинается ручей».
Весь следующий день Хуанито добросовестно трудился, приводя в порядок упряжь, двух гнедых лошадей и бричку. Он мыл, натирал, чистил и расчесывал, а потом, испугавшись, что не достиг совершенства, начинал процесс заново. Медный набалдашник на дышле ослепительно сиял; каждая заклепка блестела серебром; упряжь выглядела лакированной. Посреди хлыста красовался красный бант.
В знаменательный день, еще до полудня, Хуанито выкатил экипаж, чтобы убедиться, что тот не скрипит. Потом запряг лошадей, привязал их в тени и вошел в дом, чтобы разделить с Джозефом обед. Съели мало: всего-то по паре кусочков размоченного в молоке хлеба. Закончив скромную трапезу, они кивнули друг другу и встали из-за стола. В бричке уже сидел Бенджи и терпеливо ждал. Джозеф рассердился:
– Куда собрался, Бенджи? Ты же болен.
– Уже поправился, – ответил брат.
– Беру с собой Хуанито. Для тебя места нет.
Бенджи обезоруживающе улыбнулся.
– Ничего, заберусь в ящик.
Он перелез через сиденье и улегся на досках.
Хуанито повел бричку по неровной, изрезанной колесами дороге. Настроение было испорчено неожиданным появлением Бенджи. Джозеф перегнулся через спинку сиденья:
– Ни в коем случае не пей. Ты болен.
– И не собираюсь. Всего лишь хочу купить новые настенные часы.
– Не забудь, что я сказал, Бенджи. Я запрещаю тебе пить.
– Не проглочу ни капли, Джо, даже если капля случайно попадет в рот.
Джозеф сдался, понимая, что уже через час после приезда в город брат напьется и предотвратить безобразие не удастся.
Платаны возле ручья уже начали сбрасывать листья, и дорога покрылась шуршащими коричневыми лоскутами. Джозеф поднял поводья; лошади перешли на рысь, мягко ступая копытами по осеннему ковру.
Элизабет услышала на крыльце знакомый голос и поспешила наверх, чтобы снова спуститься. Она боялась Джозефа Уэйна и почти постоянно о нем думала. Разве позволительно отказаться выйти замуж, даже если она его ненавидит? Если откажется, может случиться что-нибудь ужасное. Вдруг он умрет или ударит ее кулаком? В своей комнате, прежде чем спуститься в гостиную, мисс Макгрегор призвала на помощь все свои знания: алгебру, даты вторжения Цезаря в Англию и Никейского собора и спряжение французского глагола être[5]. Таких премудростей Джозеф не постиг. Возможно, запомнил одну-единственную дату: 1776 год. Невежественный человек! Губы девушки презрительно сжались. Глаза прищурились. Сейчас она поставит его на место, как самоуверенного школьника.
Элизабет провела пальцами по талии, чтобы убедиться, что блузка аккуратно заправлена. Слегка взбила волосы, потерла губы тыльной стороной ладони, чтобы вызвать прилив крови к ним. Затем задула лампу и величественно спустилась в гостиную, где в ожидании стоял Джозеф.
– Добрый вечер, – проговорила Элизабет с достоинством. – Когда объявили о вашем визите, я читала драматическую поэму Браунинга «Пиппа проходит мимо». Вам нравится Браунинг, мистер Уэйн?
Джозеф нервно запустил пальцы в волосы и испортил аккуратный пробор.
– Вы решили? – спросил он строго. – Сначала я должен получить ответ. Не знаю никакого Браунинга.
Он смотрел такими голодными, молящими глазами, что ее высокомерие сразу испарилось, а разнообразные познания расползлись по своим норам. Элизабет беспомощно подняла руки:
– Я… я не знаю.
– Тогда я снова уйду. Вы еще не готовы. Если, конечно, не хотите поговорить о Браунинге. Или не желаете прокатиться. Я приехал в бричке.
Элизабет посмотрела на зеленый ковер с коричневой полосой вытоптанного ворса, а потом ее взгляд перешел на ботинки Джозефа, старательно намазанные плохим гуталином – не черным, а разноцветным: с зелеными, синими и лиловыми разводами. На миг сознание сосредоточилось на ботинках и немного успокоилось. «Должно быть, гуталин старый, да еще и закрыт был неплотно, – подумала Элизабет. – От этого всегда появляются разводы. То же самое случается с черными чернилами, если держать бутылку открытой. Наверное, он об этом не знает, а я не скажу. Если скажу, то больше никогда не смогу хранить секреты». Она спросила себя, почему он стоит так неподвижно.
– Можно поехать к реке, – предложил Джозеф. – Река чудесная, но приближаться к воде очень опасно. Камни скользкие. Поэтому пешком туда идти нельзя. А вот съездить ничто не мешает.
Хотелось рассказать ей, как будут шуршать по сухим листьям колеса, как иногда от соприкосновения железа и камня будут вспыхивать длинные синие искры, похожие на змеиные языки. Хотелось объяснить, какое низкое этим вечером небо – можно достать рукой. Но произнести такие слова он не мог.
– Было бы хорошо, если бы вы поехали, – проговорил Джозеф. А потом сделал короткий шаг вперед и разрушил хрупкий покой ее сознания.
Элизабет неожиданно повеселела. Она робко положила ладонь на его рукав, а потом осторожно похлопала по толстой ткани.
– Поеду, – ответила она, услышав, что говорит слишком громко. – Наверное, прогулка пойдет на пользу. Преподавание утомляет, так что надо подышать свежим воздухом.
Напевая про себя, она побежала наверх за пальто, а на лестничной площадке дважды коснулась пальцем носка ботинка, как делают девочки в танце вокруг майского дерева. «Компрометирую себя, – подумала она без сожаления. – Люди увидят, как едем вечером вдвоем, и это будет означать, что мы помолвлены».
Джозеф стоял возле лестницы и смотрел вверх, ожидая ее появления и сгорая от нетерпеливого желания открыть свое существо, чтобы она смогла увидеть все его секреты – даже те, о которых он сам не знал.
«Это было бы правильно, – думал он. – Она узнает, что я за человек, и сможет стать частью меня». Элизабет остановилась на площадке и улыбнулась, глядя сверху вниз. Она надела длинный голубой плащ, а выбившаяся из прически прядь зацепилась за ворсинки голубой шерсти. Джозеф ощутил прилив нежности к этим непослушным волосам, хрипло рассмеялся и поторопил:
– Пойдемте скорее, пока лошади не потеряли блеск или не прошел удачный момент. О, разумеется, я говорю об упряжи, которую Хуанито старательно начистил.
Он открыл дверь, подвел Элизабет к бричке, помог устроиться на сиденье, а сам отвязал лошадей и застегнул на мартингалах пряжки из слоновой кости. Лошади нетерпеливо пританцовывали, и это радовало.
– Вам тепло? – спросил Джозеф.
– Да, тепло.
Лошади тронулись рысью. Хотелось единым жестом обнять и подарить спелые звезды, наполненную чашу неба, усеянную темными деревьями землю, увенчанные острыми гребнями волны гор, застывшую на пике движения бурю или бесконечно медленно движущиеся на восток каменные рифы. Можно ли найти слова, чтобы рассказать о красоте мира?
– Люблю ночь, – проговорил он. – Ночь сильнее дня.
С первого мига знакомства Элизабет напряженно готовилась отразить нападение на свой огражденный и защищенный мир, но сейчас вдруг случилось что-то неожиданное и странное. То ли интонация и ритм, то ли глубокая искренность его слов разрушили старательно возведенные стены. Кончиками пальцев она прикоснулась к руке Джозефа, вздрогнула от восторга и отдернула руку. Горло сжалось, не позволяя вздохнуть. «Он услышит, что я дышу, как лошадь. Стыдно», – подумала Элизабет и тихо, нервно рассмеялась, понимая, что ничуть не стесняется. Мысли, которые она всегда держала взаперти в самых потаенных уголках сознания, как можно дальше от поля умственного зрения, внезапно вылезли из своих убежищ и оказались вовсе не мерзкими и отвратительными, словно слизняки, как она всегда полагала, а легкими, веселыми и благочестивыми. «Если он вдруг коснется губами моей груди, я обрадуюсь, – подумала она. – Радость так меня переполнит, что я обеими ладонями подниму грудь к его губам». Она представила, ка́к это сделает, и поняла, что́ почувствует, изливая навстречу мужчине горячий поток своего существа.
Лошади громко фыркнули и метнулись в сторону: посреди дороги стояла темная фигура. Хуанито быстро подошел и заговорил с Джозефом:
– Едете домой, сеньор? Я вас ждал.
– Пока нет, Хуанито.
– Тогда подожду еще, сеньор. Бенджи уже пьян.
Джозеф нервно поерзал на сиденье.
– Я знал, что так и будет.
– Ходит по городу, сеньор, и распевает во все горло. С ним Вилли Ромас. Вилли счастлив. Вполне возможно, что кого-нибудь убьет.




















