Читать онлайн Искусство видеть. Как понимать современное искусство бесплатно
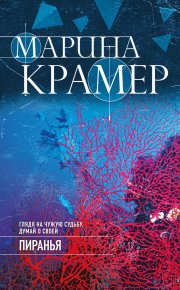
Lance Esplund
The Art Of Looking
How To Read Modern And Contemporary Art
Copyright © 2018 by Lance Esplund
© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2021
© ООО «ABCдизайн», 2021
* * *
1. Эдуар Мане
Завтрак на траве. 1863
2. Пауль Клее
Воющая собака. 1928
3. Леонардо да Винчи
Святая Анна с Мадонной и младенцем Христом
После 1503
4. Ханс Хофман
Ворота. 1959-1960
5. Пит Мондриан
Композиция с синим
1926
6. Плененный сатана
Эфиопия. Начало XIX века
7. Бальтюс
Кот перед зеркалом I
1977-1980
8. Марсель Дюшан
Фонтан. 1917
(позднейшая реплика)
9. Ханс Арп
Рост. 1938
10. Пауль Клее
Знаки в желтом.1937
11. Ричард Серра
2000. Вид экспозициив музее Dia:Beacon
12. Роберт Гобер
Нога без названия
1989-1990
13. Ричард Таттл
Белый шарик, синий свет. 1992
14. Джереми Блейк
Кадр из фильма «Винчестер». 2002
Введение
За последние сто лет ландшафт искусства разительно изменился. Мы уже видели и «Черный квадрат» (1915) Казимира Малевича – абстрактное полотно с изображением черного квадрата на белом фоне, и скандально известный «Фонтан» (1917; ил. 8) Марселя Дюшана – фарфоровый писсуар с подписью художника. В середине века наступило время абстрактного экспрессионизма, с капельной живописью Джексона Поллока, и поп-арта, с шелкографиями Энди Уорхола, изображавшими Мэрилин Монро, банки супа «Campbell’s» и Председателя Мао. Расцвет неодадаизма и концептуализма был ознаменован серией Пьеро Мандзони «Дерьмо художника» (1961) – девятью десятками консервных банок, якобы содержащих по 30 граммов экскрементов самого автора. В 1971 году во время перформанса «Выстрел» руку Криса Бёрдена прострелили из винтовки 22-го калибра по его собственной просьбе. В 2007-м в рамках инсталляции «Ты» Урс Фишер отбойным молотком выдолбил огромный кратер в цементном полу галереи Гэвина Брауна в Нью-Йорке. А в 2016-м Маурицио Каттелан заменил фарфоровый унитаз в одном из общественных туалетов Музея Соломона Гуггенхайма интерактивной скульптурой «Америка» – действующей копией унитаза, отлитой из 18-каратного золота.
Стоит ли удивляться тому, что интересующиеся искусством люди не просто сбиты с толку, но и напуганы? Как им теперь относиться к тому диапазону возможностей, который предоставляют художникам галереи и музеи? Не значит ли это, что Анри Матисс, Пабло Пикассо и Поллок – дела давно минувших дней, а искусство двадцатого века в первую очередь должно озадачивать, шокировать и провоцировать? Может быть, современное искусство, с его мало кому понятными шутками, рассчитано исключительно на художественную элиту? Или объект шуток – мы? И если зрители не спешат выстраиваться в очередь, чтобы увидеть «Америку» Каттелана или ретроспективу Джеффа Кунса, Кары Уокер или Герхарда Рихтера, то они многое упускают? Или речь вообще о чем-то другом? Сегодняшняя публика вполне обоснованно задается этими вопросами. Всегда ли большинство людей шло «не в ногу» с искусством своего времени? А вдруг вся эта неразбериха, все эти сомнения – знак чего-то абсолютно нового, что свойственно исключительно новейшему искусству?
Ответы на эти вопросы – как и искусство, которое мы обсуждаем, – сложны и многогранны. Люди сталкивались с революционным искусством на протяжении всей истории: ошеломляющее натуралистичное изображение пространства, появившееся в начале четырнадцатого века, было таким же непривычным и революционным, как сбивающее с толку антинатуралистичное изображение пространства в кубизме, который в начале двадцатого века положил конец ренессансному подходу; то же самое можно отнести и к обескураживающей беспредметности концептуального искусства конца двадцатого века. Важно понимать, что искусство, несмотря на его отношения с современностью, само по себе является языком – языком, который существует вне времени. Этот язык постоянно эволюционирует и переизобретает себя, и даже сам себя цитирует. Но у новейшего искусства есть особенности, присущие исключительно ему.
В наше время определение искусства – так же, как и многих других понятий, которые используются, чтобы классифицировать его периоды, направления и «измы», – вызывает дискуссии и постоянно меняется. Так что вопрос о том, можно ли назвать то или иное направление действительно «современным» (то есть «недавним»), зачастую вызывает затруднения. Например, можно утверждать, что сюрреализм двадцатого века, который отчасти черпал энергию в бессознательном своих создателей, на самом деле достиг пика в фантасмагорических религиозных нарративах, созданных нидерландским живописцем Иеронимом Босхом (1450–1516); или что такие современные направления, как экспрессионизм и кубизм, в полную силу заявили о себе в угловатых удлиненных формах и изломанных пространствах испанского живописца Эль Греко (1541–1614); или что наиболее оригинальные произведения абстрактного искусства были созданы средневековыми монахинями и монахами или древними египтянами. В этой книге я пролью немного света на эти парадоксальные утверждения и, быть может, сделаю сами названные направления более доступными, выявив сходные черты современного искусства и искусства прошлого.
Для начала стоит обсудить терминологию, принимая во внимание, сколько в этой области проделано работы, сколько существует мнений, философских теорий, программ и подходов. «Современными» я называю произведения искусства, созданные с 1863 года, когда Эдуард Мане представил свое скандальное полотно «Завтрак на траве» (ил. 1) в «Салоне отверженных», не принятое академиками официального Парижского салона. Картина «Завтрак на траве», изображающая обнаженную женщину, которая отвлеклась от беседы с парой денди и смотрит на зрителя, была среди первых произведений искусства, вполне осознанно высмеивающих священные традиции и правила живописи. В данном случае именно сюжет превращает классическую обнаженную из богини в распутницу, чуть ли не проститутку, чему способствует и намеренно небрежный стиль живописи. Но мы могли бы взять за точку отсчета и более ранние бескомпромиссно-реалистичные полотна Гюстава Курбе или более поздний кубизм Пикассо и Жоржа Брака. Современное искусство включает в себя не только импрессионизм Мане, но и такие прогрессивные движения, как реализм и кубизм, а также символизм, фовизм, экспрессионизм, сюрреализм, дадаизм, абстракционизм и многие другие. Современный художник скорее не тот, кто связан с определенной эпохой или движением, а тот, кто выбирает определенную философию и позицию в отношении искусства и процесса его создания.
На этапе становления модернизм олицетворял освобождение и независимость. Модернисты создавали новые радикальные способы художественного выражения. Они осваивали новые материалы, технологии, новые художественные приемы и темы – включая фотографию, конвейер, машинную эстетику, кинетизм, пластмассу, абстракцию, экспрессионизм, мусор, железобетон и сталь – те же материалы, которые позволили создать небоскребы. Их вдохновляло искусство других культур – например, плоское пространство, орнаментика и бытовые сюжеты японских гравюр и свободная, вертикальная организация японской архитектуры; упрощенные формы так называемых «примитивных» масок и тотемов и другая всевозможная экзотика. Модернисты, свободные в выборе тем, также смотрели и внутрь, их занимали не только кабаре, бордели и скачки, но и они сами, их культура – как низовая, так и высокая, – и само искусство: то, как они чувствовали себя в мире, который менялся с нарастающей скоростью, становился всё более глобальным, наполнялся новым искусством, новыми культурами, новыми технологиями и изобретениями, а вместе с тем и новыми идеями, оставляя старое и знакомое далеко позади.
Модернисты отвергали многое из того, что считали устаревшим и академичным. Они больше не считали, что искусство должно рассказывать о мифологии и религии или о королях и королевах. Не считали, что искусство должно зеркально отображать мир или что перспектива должна быть организующим принципом картины (почему бы вместо этого не организовать ее в соответствии с чувствами художника, почему не сделать произведение искусства самоцелью?). Модернисты считали, что скульптура не обязательно должна быть обособлена и установлена на пьедестал, что она представляет собой концентрацию масс (поэтому пьедестал может быть ее неотъемлемой и равнозначной частью – как в примитивном тотеме, как в модернистских произведениях Константина Бранкузи и Альберто Джакометти?).
Модернисты стремились освободить пьедестал, скульптуру, массу и даже само неподвижное и неизменное произведение искусства: пространство – пустота – было превращено кубистами в объем; неподвижный объект стал свободным, получил возможность двигаться и взаимодействовать со зрителями, как, например, мобили американского скульптора-модерниста Александра Колдера. Но при этом модернисты, отдавая должное новым технологиям, новому к мышлению и новому чувствованию, с их главенством индивидуальности, не отвергали прошлое полностью. Они принимали новое наравне со старым, чтобы творить в настоящем, заново открывая прошлое и таким образом обеспечивая непрерывность художественной традиции. Французский живописец-реалист Гюстав Курбе, модернист-первопроходец 1800-х, говорил: «Я просто хотел обрести в полном знании традиции осмысленное и независимое чувство моей собственной индивидуальности. Знать, чтобы мочь, – так я рассуждал. Быть в состоянии выразить нравы, идеи, облик эпохи в соответствии с собственной оценкой, одним словом, творить живое искусство – такова моя задача».
Многие ныне работающие художники согласятся с Курбе. Важно понимать, что модернисты не просто реагировали на современный им мир и осваивали любой новый материал и технологию, которые попадали им под руку. Они были и остаются индивидуалистами, ценящими свои идеи, чувства и путь, по которому идет их искусство. Не так важно, что современные художники освоили новые материалы, технологии и сюжеты. Важно то, что художники делали и продолжают делать с обретенными сокровищами. Относительность пространства, присущую кубизму Пикассо и Брака, связывали с теорией относительности Альберта Эйнштейна, но кубизм не был иллюстрацией идей физики; он был порождением формальных интересов и внутренних потребностей своих создателей – порождением их независимости и индивидуальности. Тот занимательный факт, что современное искусство и современная наука иногда двигались по сходным траекториям, к делу отношения не имеет.
У искусства и художников свои пути. Несмотря на принадлежность к определенным направлениям, художники могут сами по себе быть направлениями. Современное искусство многообразно и всеядно – оно вбирает в себя и провокационные предметные полотна Мане, и абстрактный текстиль Анни Альберс, и сюрреалистическое фигуративное искусство Джакометти, и световые инсталляции Дэна Флейвина, и минималистическую скульптуру Дональда Джадда, и лэнд-арт Роберта Смитсона, и Мемориал ветеранов войны во Вьетнаме Майи Лин. Несмотря на популярное представление о том, что модернизму давно пришел конец, есть множество новейших художников, которые считают себя модернистами.
Важно помнить, что история искусства – штука своенравная. Художники входят в моду и выходят из нее. О некоторых художниках прошлого, которые восхищают нас теперь, никому не было известно десятилетиями и даже столетиями. Мы всё еще зажаты в тисках модернизма. Нам предстоит отойти на достаточное расстояние, чтобы объективно судить о модернизме, не говоря уж о многих модных художниках нынешнего времени, которых история искусства выбросит на свалку. Существует множество недооцененных, практически неизвестных сейчас, создающих новейшее искусство художников, которых оценят по достоинству лишь будущие поколения.
Что вообще такое «новейшее искусство»? Хотя может показаться, что дать ему базовое определение проще простого, для многих художников, искусствоведов, кураторов и художественных критиков это совсем не так. Однажды я участвовал в панельном обсуждении под названием «Что делает новейшее искусство новейшим?». Среди приведенных определений и требований фигурировали следующие идеи: чтобы новейшему искусству стать «новейшим», то есть «востребованным», оно должно освещать новейшие политические и социальные проблемы; оно должно использовать новейшие технологии и затрагивать тему глобализации; оно должно быть мультимедийным, революционным, критически оценивать, осваивать и ниспровергать искусство и художников прошлого – особенно «модернистов». Некоторые участники дискуссии утверждали, что новейшее искусство началось с поп-арта, или с концептуализма, или с постмодернизма; ориентировочно в 1945-м или 1970 году; или что к новейшему искусству можно отнести только произведения, созданные с 1990-го или 2000 года. Кто-то предложил считать представителями новейшего искусства всех художников, рожденных после 1950 года. Еще один оратор сказал, что произведение новейшего искусства по определению должно быть создано «сегодня» или хотя бы «вчера» художником моложе тридцати лет. Кроме того, я узнал, что самым видным новейшим художникам совсем не обязательно создавать произведения искусства; они скорее представители службы быстрого реагирования и активисты, которые, когда и если это необходимо, направляют свою энергию на борьбу с чрезвычайными ситуациями, социальной несправедливостью или способствуют политическим переменам. Следуя их примеру, некоторые кураторы новейшего искусства переквалифицировались из организаторов выставок в организаторов активистской деятельности.
Я не считаю, что новейшее искусство должно быть каким-то определенным или что его представители должны иметь политическую программу. Но я полагаю, что у лучших художников есть собственное мнение, им есть что сказать, и они обладают достаточными художественными средствами, чтобы сделать это хорошо. Это может быть всё что угодно: особые свойства света на закате, или вес и цвет лежащего на столе баклажана, или чувство утраты в истории об Орфее и Эвридике, или современная политика. Мне гораздо интереснее оригинальный натюрморт или пейзаж, чем эпигонский и скучный политический перформанс. Равным образом мне интереснее захватывающая мультимедийная инсталляция, чем банальный пейзаж, видео-арт или абстракция. Для меня «новейшее искусство» – это любое искусство, созданное любыми живущими или недавно ушедшими из жизни художниками, молодыми или старыми, вне зависимости от того, какие выразительные средства, материалы и объекты они используют.
Термин «постмодернизм» часто служит синонимом всего «новейшего» или «современного», но на самом деле постмодернизм – это подкласс направлений новейшего искусства. Как и модернизм, постмодернизм чрезвычайно эклектичен и охватывает самые разнообразные, порой взаимоисключающие явления. Он повлиял на современную культуру во всех ее проявлениях: от архитектуры, литературы, музыки, театра и танца до философии и критики. Как и модернизм, постмодернизм несет в себе освобождение – пусть это и освобождение от того, что называют оковами и идеалами модернизма.
Хотя истоки постмодернизма следует искать в девятнадцатом столетии, большинство исследователей относят его расцвет ко второй половине двадцатого; он появился как ответ на индивидуализм и воинственность абстрактного экспрессионизма – Виллема де Кунинга, Поллока и других, – а также на господствовавшую тогда послевоенную эстетику интернационального стиля в архитектуре, породившего безликие коробки из бетона, стекла и стали – машины для жилья. Однако многие считают, что постмодернизм возник примерно в 1915 году, с появлением реди-мейдов Дюшана – предметов, купленных в магазине или произведенных промышленным способом, которые экспонировались как произведения искусства. Дело в том, что постмодернизм, как и модернизм, определяется скорее философией художника, чем временем.
Приверженцы постмодернизма работают так, будто модернизма давно не существует или он тлеет, как угли, которые нужно раз и навсегда потушить. Есть и те, кто считают постмодернизм предсмертным хрипом или последним «ура» модернизма.
Мы определяем постмодернизм как любое искусство, возникшее наперекор модернизму. Постмодернизм, с точки зрения которого модернизм и особенно формализм изжили себя (в последних главах я коснусь ошибочности этого суждения), обращается к иронии, юмору, теории и плюрализму. Это искусство, соотносящееся исключительно с самим собой, искусство, которое намеренно критикует, а порой и высмеивает другое «Искусство» – искусство с большой буквы. Позиция постмодернизма антиэстетична и нигилистична, он отрицает любую иерархическую ценность чего бы то ни было и утверждает, что не существует таких эстетических различений, как «плохое» и «хорошее», «меньше чем» и «больше чем». С точки зрения постмодернизма всё искусство субъективно, не существует истин, есть только интерпретации, а так называемые ценности и авторитетные мнения модернизма незначительны и неизмеримы. Постмодернисты полагают, что смыслы и иерархии – элитистские изобретения, наследие прошлого, что обсуждать и оценивать формальные качества произведения искусства и верить, что Рембрандт, Пикассо или Поллок могут быть лучше, чем какая-то случайная мазня, – полнейшая чушь.
Приверженцы философии постмодернизма уверены, что важно создать равные условия для всех, они ценят инклюзивность и одинаково охотно принимают всё – как высокую, так и низкую культуру – и особенно случайность, уродство, дисгармонию и китч. Тому, что видится им как ограничивающий, пуританский рационализм модернизма, они предпочитают свободу и неупорядоченность иррациональности. Судя по всему, постмодернисты считают модернизм гораздо более однородным и гораздо менее хаотичным и всеядным, чем он есть на самом деле. И стремятся если не разнести его в пух и прах, то хотя бы нарушить эту цельность.
Многие постмодернисты полагают, что зритель-участник столь же важен, как и художник, если не более, и что намерения художника лишены смысла. Эта антиформалистская, антиэстетическая позиция привела к созданию таких движений, как процесс-арт, представители которого ценят непостоянство и бренность (их произведением может быть, например, сноп сена, оставленный под открытым небом, во власти стихии); или концептуальное искусство, в котором идея или концепция ценится больше, чем законченное произведение искусства, подчас вообще не находящее материального воплощения. Иногда в концептуальном искусстве сами зрители должны создать или попросту вообразить – увидеть внутренним взором – нематериальное «произведение» или художественное «действие».
Среди постмодернистов, как и среди модернистов, есть представители множества художественных подходов. Постмодернисты ценят иронию, концептуализм и деконструкцию. Они обращаются и к апроприации – одалживают, а иногда даже крадут и заново используют произведения других художников. Так, художник-апроприатор Ричард Принс, фотографируя и изменяя винтажные рекламы сигарет, приспособил образ Ковбоя Мальборо к своим целям. А Кристиан Марклей в 2010 году смонтировал тысячи фрагментов фильмов и телевизионных сюжетов в непрерывное двадцатичетырехчасовое видео «Часы». Постмодернисты также берут на вооружение ностальгию по академическому искусству, против которого изначально выступали модернисты. В постмодернизме то, что когда-то считалось «плохим» или безвкусным, считается «хорошим» – хотя бы уже потому, что это идет вразрез с модернистскими представлениями о «хорошем» и «плохом». Важно заметить, что постмодернизм, который сместил модернизм в 1980-х и 1990-х годах, сейчас является господствующей идеологией в галереях и музеях, на факультетах истории искусства и в художественных школах.
Постмодернизм – как и многие представители и произведения новейшего искусства – ставит протест во главу угла. Действительно, часто нам говорят, что одна из главных функций новейшего искусства – бросить нам вызов, призвать нас к радикальности. За прошедшие двести лет искусство часто было прогрессивным, спорным и провокационным, а рождение модернизма совпало с началом индустриальной революции и кровавыми революциями в США и Франции. Умышленно или неумышленно, но нередко модернистские художественные инновации были радикальными. Если человек раньше не видел ничего, кроме предметной скульптуры из бронзы и мрамора, то абстрактный кинетический мобиль Колдера однозначно вызовет у него сильные чувства. А иногда художникам, которых игнорировал истеблишмент, приходилось использовать революционные тактики просто для того, чтобы их услышали. Однако зачастую понятия инновации и революции ошибочно принимали за лозунги современного и новейшего искусства, их raison d’être. Поскольку некоторые наиболее значительные произведения современного искусства шокировали своей новизной, сейчас считается, что цель любого искусства состоит в том, чтобы нарушить статус-кво.
Если рассуждать об искусстве с той позиции, что оно должно быть каким-то определенным, мы рискуем упустить из виду много ценного в современном и новейшем искусстве, а также ограничить наши представления о сущности искусства. А полагая, что наше новейшее искусство для нас важнее и актуальнее, чем то, что было создано десять, сто или тысячу лет назад, мы принимаем позицию мнимого превосходства, точку зрения, которая, всё больше изолируя нас от нашей истории, отчуждает нас от самих себя. Когда мы последовательно концентрируемся на новом, мы принимаем каждую новинку по привычке, а не по необходимости. Когда провокация в искусстве становится привычной, она теряет пикантность, художники и искусство в целом начинают восприниматься как источник издевательств. Подрыв статус-кво сам становится статус-кво, и прошлогоднюю «революционность» каждый раз сбрасывают с пьедестала, чтобы освободить место для новой. Если мы слепо принимаем новейшее искусство как лучшее и более актуальное, чем предшествующее ему, то каждый раз, когда мы одобряем очередную модную вещь, мы отказываемся от части чего-то, что прежде было для нас значимо.
«Искусство видеть» учитывает взаимосвязь между искусством прошлого и искусством настоящего. Эта книга признает тот факт, что представители современного и новейшего искусства состоят в диалоге с искусством прошлого, перерабатывают и переосмысляют его. Хотя в основном я собираюсь говорить о том, как ориентироваться в современном и новейшем искусстве, я приглашаю вас к взаимодействию с искусством вообще, – а не только с тем, которое появилось за последнее столетие или десятилетие, – взаимодействию на самом глубоком уровне, ведь это даст возможность увидеть, что искусство недавнего прошлого и настоящего помогает нам открыться искусству прошлого. Я также призываю вас развивать эстетические суждения – критическое мышление, критический взгляд, – начать доверять себе и увидеть искусство так, как его видят художники.
Несмотря на разные философские подходы и ключевые идеи, искусство настоящего и искусство прошлого имеют много общих элементов и говорят практически на одном языке. Именно поэтому в своей книге я перемежаю рассуждения об искусстве разных периодов и культур, подчеркивая их преемственность. В большинстве случаев я говорю о живописи, поскольку она является одной из древнейших и наиболее последовательных и распространенных форм визуального искусства; она также заключает в себе большинство универсальных элементов искусства: цвет, линию, движение, форму, фигуру, ритм, пространство, напряжение и метафору.
Те же элементы встречаются и в современных ассамбляжах, перформансах, а иногда даже и в концептуальном искусстве. Когда вы сталкиваетесь с новым и необычным произведением искусства, имеет смысл поискать в нем ппереклички с более знакомыми произведениями, не фокусируясь исключительно на том, что кажется вам уникальным или радикальным. Обратившись к основам искусства, вы увидите: то, что сперва выглядело странным, может оказаться вполне привычным.
Я разделил «Искусство видеть» на две части. Первая называется «Основы». В этих пяти главах я рассказываю о своем личном опыте знакомства с искусством, исследую его элементы и языки, использование метафоры и ценность равнозначного обращения как к субъективности, так и к объективности при взаимодействии с произведениями искусства. В пятой главе после обзора подходов к искусству всех столетий мы поговорим о природе современного и новейшего искусства и затронем тему возникновения постмодернизма.
Второй раздел под названием «Близкие контакты» посвящен вдумчивому прочтению различных произведений современного и новейшего искусства: живописи, скульптуры, видео-арта, инсталляций и перформансов. Эти эклектичные работы открывают мир глубоких и удивительных переживаний, которые зрители могут испытать.
Я прекрасно понимаю, что подробная интерпретация опасна, так как она может нанести вред хрупкой, замысловатой, таинственной внутренней жизни произведения искусства, а также стать ловушкой, в которую попадают многие толкователи. Но, пожалуйста, наберитесь терпения и следуйте за мной сквозь эти главы, поскольку именно в разборе и толковании тонкостей произведений искусства, а также в анализе, чтении и попытках разобраться, для чего же нужны эти очертания и тропинки, куда они ведут и зачем, произведение искусства раскрывается и обнажает свою внутреннюю жизнь.
Мы ищем вопросы и возможности, а не ответы. Для искусства важны не столько ответы, сколько возможность вдохновить вас на то, чтобы вы расширили и углубили свой чувственный и интеллектуальный опыт. Я не считаю свои впечатления от произведений искусства, которыми делюсь, определяющими. Я представляю набор возможностей и ответов. Следуя за мной, не теряйте связи с самими собой, приблизьтесь к правде произведения и правде своих ответов – я делал и делаю то же самое. Сначала просто смотрите, доверившись интуиции. Потом начинайте задавать вопросы произведению искусства, мне и себе. Спросите себя, совпадают ли ваши ответы и ощущения с моими. Спросите себя, куда зовет вас это произведение, какие мысли вдохновляет; прекрасно, если работа вызывает чувства, нравится или не нравится, но гораздо лучше знать, почему происходит именно так, а для этого нужно ввести в оборот не только чувства, но и мысли, чтобы в своем восприятии произведения искусства вы смогли достичь точки, где идеи поддерживают, воспламеняют и развивают друг друга, где они объединяются.
Заключительная глава «Взгляд в будущее» содержит рассуждения об изменчивой природе художественных музеев, лакунах в использовании технологий и их вмешательстве во взаимодействие с искусством, а также о роли и значимости художника. Я также немного расскажу о том, как сохранить собственные суждения, путешествуя по изменчивой территории искусства.
«Искусство видеть» никоим образом нельзя считать энциклопедической, дающей ответ на все вопросы книгой (таких просто не бывает). Я написал о том, что для меня истинно, о том, что я выяснил, рассматривая картины всю свою жизнь; о том, во что верю. Эта книга скорее увлекательное введение в предмет, чем исчерпывающий текст о современном и новейшем искусстве, – некоторые идеи вы можете опробовать, взять на вооружение и бежать дальше. Книга такого размера и охвата не может и рассчитывать на то, чтобы учесть абсолютно всё. (Множество художников, направлений, философий, жанров и «измов» в книгу не вошло.) Я хочу сделать акцент на том, чтобы научить вас основам искусства и дать вам инструменты, которые позволят смотреть и думать за себя, помогут понять, что влечет вас самих. Когда вы нащупаете свои собственные точки опоры в искусстве, вы начнете доверять себе и своему опыту. Моя цель – помочь вам научиться верить своим глазам, сердцу и интуиции и чувствовать себя уверенно, самостоятельно интерпретируя произведения искусства, то есть помочь вам начать мыслить как художник. Это не искусствоведческая книга и не книга про арт-рынок. Это не сборник лучших произведений искусства. И не краткий справочник самых важных, новаторских, дорогих, революционных или шокирующих произведений искусства прошлого века или десятилетия. Хотя я трачу много времени и энергии на рассказ о том, что сам думаю и чувствую о произведениях искусства, я не пытаюсь убедить вас, что мой взгляд – единственно верный или что искусство, которое я люблю, должны полюбить и вы, что искусство, собранное на моем личном алтаре, украсит и ваш алтарь. Скорее, я хочу приобщить вас к языку искусства, помочь вам открыться искусству, которое может казаться непривычным, еще глубже взаимодействовать с искусством, которое уже интересует вас – будь оно современным, новейшим или древним, – и начать собирать свой собственный алтарь.
Моя цель – дать вам инструменты, чтобы вы могли сами приняться за работу. Считайте «Искусство видеть» руководством для оттачивания ваших навыков восприятия и умения фокусироваться на истинности собственного опыта. Вам не нужно соглашаться со мной, разделять мои художественные предпочтения или видеть то, что вижу я. Гораздо важнее, чтобы, стоя перед произведением искусства, вы сами начали видеть и чувствовать. Я не могу передать вам мой опыт или любовь к искусству. Вы должны получить свой собственный опыт и полюбить искусство по-своему. И вам просто необходимо увидеть произведения искусства вживую, потому что ничто не может заменить личную встречу с искусством.
Многие говорят, что не знают, как смотреть на произведение искусства: они переживают из-за того, что недостаточно образованны, не увидят чего-то важного или сконцентрируются не на том; искусство (особенно современное и новейшее) вызывает в них неуверенность и неловкость. Люди боятся, что свидания с искусством не приблизят их к глубокому чувствованию и пониманию предмета, а только обнажат их невежество, и это будет способствовать дальнейшему отчуждению. И наоборот, некоторые не замедлят подчеркнуть: они-де сами знают, что им нравится, а что нет, и когда дело касается искусства, им не нужны эксперты или арт-критики, указывающие, на что и как смотреть. Все эти чувства обоснованны и в той или иной степени свойственны каждому из нас. При этом абсолютно необходимо понимать, что искусство – явление невероятно щедрое, гостеприимное и вдохновляющее. Искусство – это подарок. И к нему нужно подходить с детским любопытством.
Великое искусство открывает бесчисленные двери и приглашает войти в ту самую, заветную, созданную специально для вас. Великое искусство простым языком рассказывает то, что вам нужно знать, и ведет вас туда, куда вы стремитесь попасть. Важно помнить, что ваше понимание искусства, хотя оно может быть и близко к общепринятому, по своей сути – как и ваше понимание любви – принадлежит только вам.
Отправляя своих студентов в музей, я напоминаю им, что искусство предполагает в чем-то похожую на первое свидание встречу, во время которой нужно быть достаточно открытым, чтобы суметь воспринять то, что искусство хочет нам поведать. Для успешного свидания необходимы флирт, соблазнение и химия. Кроме того, важно создать атмосферу доверия и достичь определенного уровня самоосмысления и самоуверенности. Прежде чем узнавать чужую правду, нужно понять свою. Крайне важно не забывать о собственных предубеждениях. Погружение в искусство подобно свиданию, так что задавайте вопросы и внимательно слушайте ответы; будьте любопытны, терпеливы и наблюдательны. Не делайте скоропалительных выводов, с ходу решая, что произведение искусства «не в вашем вкусе». Иначе, как на свидании, вы можете упустить вашу родственную душу или любовь всей своей жизни.
Часть 1
Основы
Глава 1
Знакомство с искусством
Когда мне было тринадцать, родители подарили мне на Рождество огромную книгу об искусстве. Том с картинами, рисунками и изобретениями Леонардо да Винчи. В книге были большие цветные репродукции: «Святая Анна с Мадонной и младенцем Христом» (ил. 3), «Мона Лиза», «Иоанн Креститель», а также разворот с впечатляющим изображением Тайной вечери. Еще в моей книге были пейзажи, анатомические наброски, новаторское оружие и летающие машины – и всё это выглядело невероятно круто. Я восхищался деталями и внимательно их разглядывал. Но лучше всего я запомнил то, что все эти полотна и рисунки не вызвали во мне отклика, и это всколыхнуло волну тайного стыда, ведь я знал, что Леонардо считался одним из величайших художников всех времен. Как же это характеризовало меня, искусство и Леонардо, если его творчество меня нисколько не трогало?
Что мне в то время нравилось, так это боевые искусства, музыка, участие в спектаклях и рисование своих собственных картин. Я гордился четкими карандашными картинками, которые делал с черно-белых фотографий, тщательно прописанными портретами друзей и рок-звезд и изображениями машин. Но в глубине души я осознавал, что всё это – не искусство, хотя понятия не имел, что такое искусство на самом деле и чего не хватает моему творчеству. Тогда я чувствовал, что мои собственные картины выходили из-под моей руки с подозрительной легкостью, притом что для них требовалось много времени; что для создания настоящего искусства нужно нечто большее, нечто другое. Школьные учителя и преподаватели колледжа приветствовали мое желание создавать произведения искусства на любые интересующие меня темы. Но Леонардо – а на самом деле искусство как таковое – оставался для меня вне досягаемости. Теперь я знаю, чего не хватало моим ранним, пусть и столь тщательно прописанным, фотореалистичным картинам. Они были иллюстративными, плоскими и бесформенными. В них не было структуры, света, ритма и музыки. Им не хватало поэзии, порыва, жизни. Тогда я был скорее копиистом, чем художником.
На занятиях по искусствоведению я узнал о периодах и стилях, символах, мифологии, историческом контексте и инновациях в искусстве. Мне рассказали, что Леонардо знаменит, помимо всего прочего, тем, что усовершенствовал воздушную перспективу – метод изображения удаленных предметов, предполагающий смягчение очертаний, обобщение деталей, уменьшение яркости цвета и создание иллюзии глубины заднего плана в сравнении с передним. Я также узнал о голландском художнике-абстракционисте Пите Мондриане, который, через четыреста лет после Леонардо, стал известен благодаря тому, что свел живопись к первичным элементам – вертикали, горизонтали и основным цветам – красному, желтому и синему, а также черному и белому. Но в какой-то момент я понял, что выдающимися этих художников сделало не новаторское стремление к правдивой передаче окружающего мира и не радикальный порыв к абстракции.
Действительно великие художники являются таковыми не потому, что включают в свои работы все необходимые символы, и не потому, что создают невероятно точные изображения мужчин, женщин, растений и животных, и не потому, что их творчество радикально. Я понял, что величайшие представители фигуративного искусства, такие как Леонардо, не подражают природе, а скорее – как и величайшие художники-абстракционисты, такие как Мондриан, – перевоплощают свое понимание реальности. Именно умение художника трансформировать свой опыт отличает его или ее от других. Я понял, что художники – поэты, а не копиисты и что в их творчестве важно не что, а как.
Прошло много времени, прежде чем я построил настоящие отношения с самим произведением искусства, а не с его сюжетом. Я долго не мог сойти со своего собственного пути – чтобы докопаться до правды произведения искусства, увидеть ее и оценить. Меня не интересовала книга с картинами Леонардо, потому что я был равнодушен к его изображениям святых и ужина группы людей за длинным столом. Меня не впечатляли абстрактные, плоские и разноцветные прямоугольники Мондриана, потому что я не чувствовал с ними связи и разве что ассоциировал его искусство с цветными узорами на автобусе семьи Партридж. Я не понимал, что любой сюжет – будь то христианские святые, греческие боги, вазы с фруктами или модернистские абстракции – под рукой настоящего художника становится откровением.
Для меня всё изменила написанная в 1928 году абстрактная картина Пауля Клее «Воющая собака» (ил. 2). Я увидел ее на выездной экскурсии в колледже и был поражен. «Воющая собака» не была первой увиденной мной вживую знаменитой картиной; а по размеру она примерно восемнадцать на двадцать два дюйма, так что и самым большим из тех, что я видел, это произведение не было. Но она стала первой картиной, которую я прочувствовал – первым произведением искусства и первым изображением, с которым у меня сложились отношения, и именно с ее помощью я отправился в путешествие. «Воющая собака» – первое произведение искусства, которое меня вдохновило. Пауль Клее скончался в Швейцарии в 1940 году в возрасте шестидесяти лет, но его «Воющая собака» с поразительной непосредственностью обратилась ко мне, парню, выросшему на американском Среднем Западе после войны. Искусство обладает такой силой. Оно преодолевает границы, континенты, десятилетия и даже столетия.
Я подошел к «Воющей собаке» Клее из-за своей любви к животным. Но заставил забыть обо всем и удержал меня не сюжет картины, а ледянистые оранжевые, зеленые и серо-лиловые тона, и позже я сказал другу, что, глядя на эту картину, я почувствовал ее «визуальное послание». Полотно Клее очаровало и ошеломило меня. С одной стороны, я влюбился в его оттенки, в прохладный свет, в сочетание ощущений реализма и взгляда сквозь стенки аквариума, будто перед тобой не просто картина, а целый мир, живая вселенная. Заинтриговала меня и сила притяжения, исходящая от композиции Клее. Почему, размышлял я, она заставляет меня остановиться перед собой? Вбирая в себя комичные формы, холодный свет и странную красоту картины, я задумался о том, что же здесь происходит: как так вышло, что «Воющая собака» больше похожа на рисунок, созданный пальцами ребенка, чем на правдивые формы Леонардо и Микеланджело? Может ли художник рисовать, как ребенок, и в результате создавать совсем не детские произведения? Картина Клее побудила меня к размышлениям, в моей голове зароились вопросы; я вступил в диалог, завязался обмен мнениями; я продолжил общение с произведением искусства, потому что оно само уже обратилось ко мне.
«Воющая собака» – абстрактное полотно с узнаваемыми образами. Картина представляет собой вихрь цветов, на фоне которого Клее поместил словно бы сделанную из проволоки белую собаку, из которой исходят кривые линии, как будто завывания животного прорвали холст и резонируют. Собака и ее шиповатый лай сплетаются в единый живой организм; завывания, рябью расходящиеся от собаки, больше, чем она сама, они будто обрели собственную жизнь. Я размышлял: что здесь первично? Краски кружатся в вихре вслед за звуками собачьего воя? Или и собака завыла, и краски закружились по воле полной луны? А может быть, это звезды завывают, обращаясь с мольбой к луне? Или собака, опутанная собственным воем, идет у него на поводу? В конце концов я пришел к выводу, что сияющая луна Клее – и причина, и зритель этого спектакля, в котором отголоски воя с их собачьими глазами, ушами и ртами отражают саму собаку, будто бы лая ей в ответ.
Погружаясь в краски «Воющей собаки», я понял, что тугие, мускулистые линии Клее обладают динамикой и объемом, что они взрезают картинную плоскость и разбухают в ней, парадоксально воздушной, подвижной и затвердевшей; что линии Клее не просто лежат на поверхности, но служат энергетической и каркасной структурой тела картины, ее кожи; что Клее превратил картину в космос, в живой организм; что его линия вздымается и опадает, открывается и закрывается, расширяется и противопоставляет себя изображению, дышит подобно кузнечным мехам. И я понял, что, раздуваясь, эти мехи вдыхают воздух и жизнь не только в собаку и ее вой, но и в картину как таковую. Клее написал не просто собаку, лающую на луну, – или что-то, подразумевающее, что вой одной собаки может вызвать ответный вой других. Художник вложил форму, причудливость и жизнь в разрастающиеся звуки лая: их вибрации будоражат воздух, доходят до луны и пронзают тихую ночь и широко открытый рот освещенного луной неба.
Благодаря картине Пауля Клее я понял, что взаимодействовать с искусством можно всем телом, получая опыт, в котором цвет, форма, пространство, вес, ритм, тембр и структуру можно не только увидеть, но и почувствовать. Искусство начинается с того, что задевает в нас физические и эмоциональные струны, и это происходит прежде, чем становится ясно, что оно изображает закат, Деву Марию или какую-то абстракцию. «Воющая собака» открыла для меня возможности произведения искусства. Благодаря этой картине я узнал о цвете, рисунке и пространстве не меньше, чем на лекциях по истории живописи; знакомство с этим полотном показало мне, как художник исследует тему, с которой работает. Для меня Клее открыл не только мир абстракции, но и мир искусства. «Воющая собака» пробудила во мне интерес не только к Клее, но к живописи вообще. Переживания, вызванные написанным в двадцатом веке абстрактным полотном с изображением воющей на луну собаки, позволили мне оценить и понять картину Леонардо «Святая Анна с Мадонной и младенцем Христом» (около 1503–1519). Всё произошло так же, как с полотном Клее. Меня затянул водоворот прохладных тонов; картина Леонардо манила безмятежным светом, который двигался, проникал внутрь форм и даже будто бы исходил из них. Я понял, что и Клее, и Леонардо были мастерами вымысла и цвета – света – и что их полотна дышали. Как Клее окрашивает звук, дарит ему форму и энергию, так Леонардо оживляет формы – и они сияют, светясь изнутри.
Я знал героев, атрибуты и символы «Святой Анны». Но я понял, что увидеть и назвать всё это – только первый, самый маленький шаг к пониманию смыслов, которые Леонардо вложил в это произведение. Я увидел, что пирамидальная группировка фигур превращает их в гору, вздымающуюся к небесам; что символическое синее одеяние Девы, несмотря на его плотность, прозрачно, как само небо; и что прекрасный пейзаж и дерево по сравнению с семьей выглядят игрушечными. Я понял, что младенец Христос, его мать, бабушка и ягненок расположены как проистекающие одна из другой формы, как будто набор матрешек. Я заметил, что Иисус раскачивается туда-сюда, что мать крепко держит его, одновременно подталкивая вперед. Христос сидит как пробка в бутылке, готовый в любую минуту вылететь; но при этом он отклоняется от своей семьи и обнимает жертвенного агнца. Я понял, что ребенок совершает «прыжок веры»; что он переступил черту и слился с ягненком, поднимая его с земли, – как будто они уже начали возноситься. И я осознал, что, перешагивая через ягненка, ребенок также жертвует собой, а взмах его ножки подобен удару меча, отрубающего голову животного. Я начал понимать, как Леонардо исследовал темы любви, родственных связей, милости, жертвенности и искупления. И мне вспомнились слова моей подруги о материнстве: родить ребенка – значит иметь собственное сердце вне тела; выпустить в мир стрелу. Как бы хорошо ты ни целился, когда стрела полетит, случиться может что угодно.
Понимание искусства – часть нашего миропонимания. Но мир искусства не похож на мир реальный. Искусство – это мир в себе. Все мы используем глаза, чтобы опознавать и классифицировать предметы вокруг нас. Глядя на работу художника, мы с радостью узнаем собаку, мать, ребенка, дерево, яблоко и даже плоский красный прямоугольник. Мы не можем не сравнивать то, что предлагает нам художник, с тем, что видим вокруг. Проблема в том, что слишком часто после того, как мы определяем сюжет картины и необычность, красоту или «точность», с которой художник передал этот сюжет, мы останавливаемся. С появлением фотографии так происходит всё чаще и чаще: именно благодаря ей закрепилось заблуждение о том, что беспристрастный объектив камеры – который считали истиной в последней инстанции – занял место далеко не объективного глаза художника. Правда в том, что, осмыслив отношения произведения искусства и известного нам мира, мы осваиваем лишь малую часть достижений художника.
Художники – это поэты. А произведения искусства – размышления на заданные темы. Художники стремятся выразить и вызвать определенные эмоциональные и когнитивные реакции. Они хотят развить наше воображение. Для этого есть разные способы; например, художники создают формы, цвета и ритмы и играют ими. Художники используют неожиданные аллюзии и аналогии. Мондриан, один из величайших художников-модернистов, строит композицию «Буги-Вуги на Бродвее» (1943) из сотни маленьких прямоугольников, и внезапно мы видим, что абсолютно абстрактные формы могут быть организованы так, что возникают пульсирующие ритмы, безотчетное возбуждение и сложные структуры не только буги-вуги и джаза, но и современного города. Мы видим, что Мондриан, чьи цветные прямоугольники как будто выдвинуты на нас, при этом парадоксальным образом оставаясь плоскими, – тоже уникальный колорист, хотя его голос и отличается от голосов Леонардо и Клее.
Как и все поэты, художники используют метафоры. Я уверен, что метафора – ценнейший ключ к пониманию современного искусства, да и искусства в целом. Слово «метафора» греческое и означает перенос акцента или значения с одного предмета на другой. Цель метафоры – расширить и помочь определить сюжет произведения искусства. В поэзии метафора – прием сравнения, в результате которого поэт посредством переноса качеств одного предмета на другой использует одно слово в качестве другого. Пример – лилия на картине с изображением Девы Марии. В христианском искусстве лилия символизирует целомудрие и чистоту Богоматери. Если художник просто изображает лилию невдалеке от Девы, как знак, то эта лилия сводится к своему символическому значению. Мы видим лилию, но не обязательно понимаем ее значение и связь с Богоматерью. Но если вместо этого художник изображает лепестки лилии и, возможно, одежды Девы Марии, наделяя их эротическими ассоциациями, которые указывают на то, что имеется в виду прежде всего орган размножения растения, мы понимаем не только, что именно символизирует лилия, но и чем физически пожертвовала Дева, оставаясь при этом непорочной. Мы видим в Марии и девушку, и самоотверженную мать, и цветок.
В изобразительном искусстве, как и в поэзии, используя метафору, художник рассказывает не о том, что, к примеру, Ева движется подобно змее, а о том, что она и есть змея. Это очень хорошо заметно на фрагменте барельефа с изображением наклонившейся обнаженной Евы (около 1130), который создал французский мастер Гизельберт, работавший в романском стиле. Изначально барельеф был выполнен для собора Сен-Лазар в Отене, Франция. Гизельберт создает метафору, совершая переход от Евы и змеи как отдельных существ в новое измерение, где они сливаются воедино и появляется новое существо, ни Ева, ни змея, но их совокупность – змеящаяся Ева, словно видение переплывающая прямоугольник барельефа по горизонтали. Исследуя схожую метафорическую территорию, через восемьсот лет после этого Джакометти создал «Лежащую женщину, которая мечтает» (1929) – сюрреалистическую бронзовую скульптуру, в которой голова женщины состоит из ложки, весла и якоря, а ее змеящееся тело – это и ковер-самолет, и волны, и те мечты, которые уносят ее. Иными словами, художник берет элементы известного нам мира и, совмещая, трансформирует их в нечто новое и неожиданное – нечто прежде неизвестное и невообразимое.
При помощи метафор искусство удивительным и парадоксальным образом позволяет предметам единовременно обладать несколькими сущностями, а нашим ощущениям, вызванным этими предметами, – формировать их общую оценку, накладываться друг на друга, вступая в противоречие. Например, глядя на Еву Гизельберта, мы прежде всего замечаем волнообразность ее волос и тела и то, как рука Евы, подобно пасти змеи, сжимает яблоко; или что груди Евы похожи на фрукты (круглые, твердые, налитые и зовущие), как будто это и есть запретный плод. Ева Гизельберта полностью обнажена и гораздо более натуралистична, чем большинство фигур на рельефах двенадцатого века (важнейшее отличие для романского искусства), но выделяет это произведение среди других именно то, как в изображении Евы слились – чудесно, реалистично и метафорично – черты женщины, растительного мира и змеи.
В искусстве метафора помогает преодолеть натурализм. Барнетт Ньюман в двух абстрактных полотнах «Адам» (1951–1952) и «Ева» (1950) использует как единственные отсылки к райскому саду, Древу жизни и человеческим формам вертикальные прямоугольные поверхности, полосы и красноватые и пурпурные тона земли, плодов и человеческих тел. Ньюману не нужны ветви, змей, человеческие фигуры и округлая спелость плода; художник обошелся без истории пробуждения самосознания, соблазна и эротизма и без ангела с мечом, который изгоняет пару из Рая. Если нам известна тема этих произведений Ньюмана, их цвета, формы и движения связываются в нашем сознании с образами Книги Бытия, борьбой и желанием; змеем, ветвью, деревом и ребром; краской стыда и жаром сексуальности; ощущением того, что разделению, искушению, расширению, повторению, эволюции и свободе воли – всему этому положено начало.
Адам Ньюмана – расположенная ближе к центру холста одинокая вертикальная красная полоса, которая слегка изгибается ближе к основанию, как будто она еще только появляется на свет и пока не думает о росте и ветвлении или как будто она пережила сейсмический сдвиг или слом и не знает, куда и как двигаться дальше. Это ощущение задержки, искривленности, сломленности, но при этом сохранении своего места на первом плане напоминает мне о «Святой Анне» Леонардо, о сомневающемся и замершем младенце Христе, который оглядывается на мать; я также вспоминаю ногу Адама на фреске Мазаччо «Изгнание из рая» (около 1424–1427) в капелле Бранкаччи во Флоренции. Создается впечатление, что на этой фреске Адам вытаскивает ногу из почти уже закрывшихся ворот Эдема, пока она не застряла или ее не отрубило. Чтобы выйти из рая, Адам неправдоподобно изгибает и выворачивает ногу, будто она резиновая; траектория движения Адама внезапно меняется: он двигался по диагонали и вдруг резко повернул, словно его тело физически преобразилось в момент изгнания, словно он переродился и стал другим существом, чтобы развернуться к Еве и воссоединиться с ней. Мазаччо дает нам возможность не только увидеть, но и почувствовать те насильственные изменения, которые несет изгнание: вход в Эдем закрывается, захлопывается, как ловушка, целый мир исчезает за ним.
Для художника творческое пространство метафоры – пространство, освобожденное для игры воображения. Метафора – ключ к пониманию творчества всех великих художников. Метафора создает переходное пространство, в котором мы можем сопоставлять, смешивать, сравнивать, преобразовывать и объединять самые разные представления и чувства. Именно это другое пространство метафоры – плодородное поле воображения – и является пространством искусства. Художник приглашает нас в пространство своих изобретений, и мы, как зрители, разделяем его творческий опыт. В поэзии метафоры строятся слово за словом, строка за строкой – в процессе чтения, то есть постепенно. А в визуальном искусстве, например в живописи, они доступны мгновенному восприятию, пусть и тоже, конечно, полностью разворачиваются только по ходу нашего «чтения» произведения: хотя и в этом случае мы можем полностью осмыслить метафору, лишь реконструировав ее генезис, она открывается нам сразу и целиком.
Рассматривая произведение искусства, важно побороть желание называть предметы, которые видишь (ведь это неестественным образом заставляет произведение, особенно чистую абстракцию, соответствовать нашим первым впечатлениям и ожиданиям). Если бы я попытался соотнести «Воющую собаку» Клее со стандартами реалистичности и назвать каждую форму, я вскоре отказался бы от этой идеи, либо потому, что не смог бы распознать некоторые из форм, либо потому, что звуки увидеть нельзя. Формы и цвета на картинах Ньюмана «Адам» и «Ева» тоже привели бы меня в замешательство, и я так и не приступил бы к анализу, остановившись на старте. Вместо этого я предлагаю разрешить нашему воображению пробуждать спонтанные ассоциации; начать приводить в порядок чувства, которые возникают в ответ на то, что мы видим и считываем, глядя на произведение искусства; взаимодействовать с настроением, формами, движениями и цветом; позволить особенностям и скрытым значениям произведения искусства остаться на втором плане, так же как это происходит, когда мы слушаем музыку или читаем стихи. Я не утверждаю, что искусству противопоказана однозначность, вовсе нет – великие произведения всегда очень ясные и точные. Я лишь предполагаю, что глубокое понимание произведения возможно не только при помощи анализа, но и благодаря чувственному восприятию.
Я начал рассматривать произведения искусства, когда был ребенком, а после – юношей, еще не понимая, что все художники – поэты и что они используют метафоры. Я не понимал, что произведения искусства обладают собственной формальной и поэтической ценностью – ценностью, которая по своей сути выходит за границы социальных и религиозных убеждений, а также времени и места, в рамках которых живут их создатели. Я ошибался, полагая, что художники – рабы того, что видят, прислужники мотива. Я ошибался, думая, что понимаю смысл портрета или натюрморта просто потому, что могу указать, где на нем голова, стол, крестьянин, цветы и фрукты. А еще в то время я считал, что новое и новейшее искусство – самое запутанное и сложное для понимания, а абстракция вообще выходит за его пределы. Однако позднее мне стало ясно, что модернизм не такие уж и непостижим, что многое роднит его с искусством прошлого и что произведения разных эпох могут таить в себе ключи друг к другу. Я понял, что могу пройти путь к пониманию Евы Гизельберта через «Лежащую женщину, которая мечтает» Джакометти и, наоборот, – к «Лежащей женщине» Джакометти через Еву Гизельберта.
Произведения искусства существуют в пространстве за пределами распространенных терминов и «измов», которые так часто используют для их описания и классификации. Хотя эти термины – древнее, современное и новейшее искусство, классицизм, импрессионизм и концептуализм – помогают определить происхождение произведений и наше к ним отношение, такая категоризация может исказить подлинность нашего опыта. Пикассо, этот прославленный художник-модернист, прекрасно сказал в 1923 году: «В искусстве нет ни прошлого, ни будущего. Если произведение искусства не может вечно жить в настоящем, тогда оно вообще не стоит внимания. Искусство древних греков, египтян, великих художников, живших в другое время, – это не искусство прошлого; возможно, сейчас их творения еще более живые, чем когда-либо». Пикассо подчеркивал, что искусству не страшна переменчивость моды. Своим абсолютно новым и радикальным творчеством он вновь пробудил наше любопытство к множеству художников и художественных периодов прошлого, расширил пантеон искусства. Неоклассические картины Пикассо 1920-х годов – равно как и искусство итальянского Ренессанса – проложили новый путь к пониманию Античности.
Не только Пикассо сформировал новое ви́дение прошлого. Современные художники подчеркивают важность внутреннего состояния, личного опыта, непосредственности, прямоты, осмысленности и чисто формальных ценностей в своем творчестве. Они побуждают нас к встрече с искусством один на один, а не в числе своего рода паствы, направляемой голосом священника. Возможно, давая своей картине имя «Без названия», современный художник хочет, чтобы мы хотя бы немного отвлеклись от сюжета произведения и вместо этого сконцентрировались на его формальной силе и эмоциональном заряде, оценили их, то есть прочувствовали содержание произведения до того, как его назвать и тем самым ограничить. Современные мастера призывают нас ценить не только уникальность, тембр и поэтичность каждого художественного голоса, но и качества, которые проявляются благодаря нашим субъективным реакциям.
В своем стремлении сделать искусство, обращенное к самим себе, своему опыту и чувствам, современные художники помогают нам открыть для себя личные переживания художников прошлого. Современное искусство, способы выражения которого столь же всеохватны и оригинальны, как и творческие импульсы модернистов, позволяет нам вновь открыть для себя давно вышедших из моды художников.
Благодаря современному искусству мы можем будто впервые увидеть и оценить некоторые произведения искусства прошлого, воссоздать то, что когда-то считалось давно утерянными традициями, и узнать о них больше. Мы узнаём, что художники разных эпох и культур могут обладать сходным темпераментом или голосом. Сквозь упрощенные формы современного искусства – например, гладкие, яйцеобразные формы румынского скульптора Бранкузи – мы видим, как новое искусство может быть созвучно искусству любого века: то, как Бранкузи интерпретирует полет птицы, соотносится с кикладскими фигурками, эллинистической Никой Самофракийской и африканскими племенными масками. Мы видим, что произведения искусства других культур, которые на Западе называли примитивными, детскими или абстрактными, на деле являются прекрасными, чистыми воплощениями самого ядра формы – сути вещей – и что западные художники-модернисты просто догоняли своих предшественников.
Изучив работы множества художников, я понял, что искусство – это не зеркало, а исследование. Один из ключей к искусству мне подарил Пауль Клее, который написал, что «искусство не воспроизводит видимое; оно делает видимым». Когда я нашел подтверждение этой важной истины в творчестве современных художников, она открылась для меня также и в творчестве старых мастеров, и произведениях художников древности, и в абстрактном, и в фигуративном искусстве. Я понял, что искусство делает видимым то, что хочет показать художник, но также я понял, что роль художника при этом довольно скромная, ведь он, каким бы провидцем он ни был, «только собирает и передает дальше то, что приходит к нему из глубин. Он не служит и не правит – он передает». Как только я отбросил привычный подход к пониманию искусства – сошел со своего пути, – мир искусства открылся мне, и я начал понимать, что такое искусство и как его создают. Я начал видеть, думать и чувствовать так, как видят, думают и чувствуют художники. Я смог подойти к искусству без претензий и, в свою очередь, дал искусству возможность дойти до меня.
Я понял, что путь к ви́дению и пониманию искусства предполагает остановку, готовность не спешить, присмотреться и заново научить глаза, сердце и ум не доверяться автоматизму, а доискиваться правды: не узнавать лишь привычное и ожидаемое, а проявлять интерес к новым языкам и способам ви́дения, задавать вопросы и постигать произведения искусства через их особенности и переклички. Я понял, что искусство обладает собственными правилами и условиями взаимодействия – собственным языком – и что этот сложный язык, подобный языкам математики и музыки, зачастую не имеет почти ничего общего с тем, что представляет из себя мир вне искусства.
После того как свершилось мое подлинное, глубокое знакомство с произведением искусства и я начал понимать, как взаимодействуют его части, для меня распахнулись двери новых возможностей. Наконец я начал распознавать другие достойные произведения, которые заслуживают моего внимания, питают меня, а не просто очаровывают, провоцируют или дурачат, – произведения искусства, которые затрагивают струны моей души и обогащают меня так, что хочется возвращаться к ним снова и снова.
Глава 2
Живой организм
Искусство – живой организм. Если визуально выделить в произведении искусства составные компоненты и системы, то начинаешь понимать, как функционирует каждый из элементов и как они взаимодействуют, – это похоже на изучение анатомии. Так можно прийти к пониманию внутреннего устройства произведения искусства, взаимосвязи его элементов и систем и того, какую роль они играют в нем как в целом.
Так приходит понимание того, что живое тело и произведение искусства похожи друг на друга и что каждый элемент отыгрывает свою роль согласованно с другими; как клетки являются «кирпичиками» живого организма, так и элементы произведения искусства суть «кирпичики», из которых оно состоит. Для такого организма, как человеческое тело, жизненно необходимы напряжение между связками и мышцами, циркуляция жидкостей, прочность костной ткани, функционирование органов, эластичность кожи, ритмы дыхания и сердцебиения. Если эти взаимозависимые элементы тела не работают целенаправленно и сообща, их существование бесполезно и даже опасно – пагубно – для организма как системы. То же верно и для уникальных независимых элементов произведения искусства (точек, линий, движений, контуров, форм, цветов, структур, энергии, напряжения, света и ритмов) – они должны существовать во всей своей функциональности и продуманной сочетаемости, работать в гармонии, которая послужит целому и позволит произведению искусства обрести жизнь.
Давайте начнем, к примеру, с точки – самого маленького элемента картины. Конечно, здесь важен контекст. Иногда точка изображает голову или зрачок, местоположение, большой взрыв, черную дыру, вселенную или рану, которую оставил вошедший в тело нож. Точка может быть веснушкой, луной, знаком-разделителем, семечком, микробом, поцелуем или рождением идеи. И конечно же, она может быть не одной, а многими из этих вещей одновременно. Несколько соединенных вместе точек образуют линию. Линию, которая движется, меняет направление под прямым углом и возвращается в исходную точку, может принять форму прямоугольника или квадрата. Направленность горизонтального прямоугольника, который движется вправо или влево, отличается от направленности вертикального прямоугольника, который стремится вверх или вниз; направленность прямоугольника не похожа на направленность квадрата, в котором ощущается статичность, правильность, завершенность и неизменность, отсутствующие в прямоугольнике. Но линии не обязательно менять направление под прямым или вообще под каким-либо углом. Точка, которая движется по кривой, возвращаясь к началу своего движения, может быть кругом, который, кажется, никогда не бывает в состоянии покоя и, в зависимости от контекста и окружения, может оказаться еще одной точкой, пусть и более крупной или ближе расположенной.
Точка, образованная пересечением двух линий, горизонтальной и вертикальной, создается столкновением или соединением двух противодействующих сил. Эта точка, результат взаимодействия горизонтального и вертикального, подобна оплодотворенному яйцу, она заряжена потенциалом расти и излучать энергию, подобно новой звезде, – не просто в двух измерениях, а во всех направлениях.
В разных произведениях искусства, которые исследуют разные сюжеты, это скрещивание вертикальной и горизонтальной энергий и точка в месте их встречи будут означать разные вещи, хотя формально и динамически они схожи. Например, в произведениях, изображающих распятие Христа, эта точка пересечения на кресте представляет собой не просто столкновение и слияние вертикальной и горизонтальной энергии, но воссоединение человека и Бога: горизонталь олицетворяет человека и всё земное, а вертикаль – Бога, всё небесное и духовное. На христианском кресте пересечение горизонтали и вертикали представляет собой ту самую точку, где встречаются и сливаются физическое и духовное, где горизонтальное и вертикальное преодолевают собственные границы и возвращаются в исходную точку творения. На самом деле круг или точка во многих культурах символизировала источник, семя вечности. Это всеобъемлющая форма без начала и конца, она может одновременно обозначать и начало, и конец – безвременье, бесконечность. Итак, в руках художника обычная точка может обрести глубокий смысл и символизм.
Пауль Клее предположил, что линия – это точка, которая «пошла на прогулку <…>, точка, движущаяся вперед». В изобразительном искусстве мы часто воспринимаем линию как обозначение определенной вещи или места: пряди волос, горизонт, контур – например, скулы или яблока. Но линия также может выражать абстрактные идеи о границах, месте встречи, энергии, слиянии и расколе. Линия может быть позвоночником или веной. Она может быть молнией, напряжением или стремлением. Когда две формы встречаются и соприкасаются, они создают новую линию – их детище – из столкновения и слияния двух границ: новая жизнь и энергия генерируются в этой зоне взаимодействия. Каждый элемент в произведении искусства способен через отношения и связь с другими элементами взрастить новые формы и жизнь – передать чувство роста и трансформации; показать, что произведение искусства, даже если его формы абсолютно неизменны, не статично, оно непрестанно движется, взаимодействует и создается. Это те качества, энергии и действия, которые мы наблюдаем, а следовательно, и воплощаем в произведениях искусства посредством нашего визуального опыта.
Возьмем обманчиво простые работы американского художника-минималиста Фреда Сэндбека (1943–2003) – линии, которые сознание фиксирует как грани, потаенную энергию, насечки. Минимализм, ставший популярным в 1960-х годах, вывел на сцену художников, работавших с простейшими элементами и материалами. Сэндбек прославился тем, что создавал свои произведения из пряжи, которую использовал весьма экономно. Он придавал форму открытому пространству, натягивая разноцветную пряжу от стены до стены, от пола до потолка, от пола до стены – горизонтально, вертикально, по диагонали, – чтобы создать иллюзию сплошных прозрачных плоскостей, ритмично закручивающегося, движущегося, расщепленного пространства. Ворсистые линии из цветной пряжи вдохнули в пустоту объем, заставляя воздух вибрировать, как будто разре́зали, поделили на части звенящими струнами пустую белую комнату.
Мне нравится, как Клее называет линию прогуливающейся точкой, а рисунок – прогуливающейся линией. Эти идеи напоминают нам о творческих действиях, взаимодействиях и замыслах, из которых и складывается произведение искусства. Они подчеркивают, что элементы произведения искусства наделены направленностью, решимостью, планомерно стремятся куда-то; что произведение не стоит на месте, а движется, меняется, развивается. Аналогии Клее показывают, что создаваемая художником композиция – это сочетание энергий и взаимоотношений, которое строится постепенно, элемент за элементом, кирпичик за кирпичиком. Наши глаза следуют маршрутом, который для нас проложил художник; мы совершаем те же движения, проходим через те же отношения и взаимодействуем с тем же, с чем и элементы произведения, и в конце концов приходим туда же, куда и они.
В изобразительном искусстве линия не обязательно является тем, что запечатлевает; она может представлять собой сложное путешествие. Рассмотрим путь улыбки Моны Лизы. Свести этот рот к одной лишь улыбке – значит лишить его таинственности и силы и не понять, куда ведет нас линия сомкнутых губ. Если следовать за ней, можно заметить различия в ширине, плотности, давлении и скорости этой линии. Мельчайшие изменения не дают нам моментально разгадать улыбку героини.
Посмотрите, слева линия загибается вверх, наводя на мысль о том, что героиня картины Леонардо рада нас видеть. Но, поднимаясь вверх, линия направляет улыбку внутрь, вглубь лица Моны Лизы, так что кажется, что героиня отодвигается, отстраняется от нас, будто отступая в нашем присутствии. На противоположном конце этой линии, в правой части лица, улыбка резко обрывается. Кажется, что посередине улыбки, там, где губы особенно полные, рот выдает скрытую двойственность. Нижняя губа Моны Лизы чуть смещена влево от центра, будто запечатлена в момент движения.
Линия рта героини постоянно стремится вверх, пытаясь сложиться в улыбку, и при этом постоянно стремится к печальному выражению. Задержка в «промежуточном состоянии» указывает на глубокую задумчивость, безразличие и пренебрежение. И такое впечатление создается не только при помощи рта. Каждый элемент изображения играет в этом свою роль. Неоднозначность выражения губ неразрывно связана с остальными элементами полотна, и это стимулирует нас на бесконечный поиск других противоречий. Так, хотя голова Моны Лизы дана в три четверти, некоторые части ее лица, например глаза, расположены неестественно фронтально. Мы ощущаем движение головы, которое выражает реакцию личности на мир. Встречаются ли глаза Моны Лизы с нашими? Она поворачивается к нам или, наоборот, отворачивается от нас? Мона Лиза смотрит сверху вниз, над плечом и скрещенными руками с беспокойными пальцами и зигзагообразными складками на алых рукавах – всё это ограждает героиню от наших попыток узнать ее ближе. Ее взгляд всё время смещается влево, как будто фокусируясь на чем-то вовне. Как и линия ее улыбки, глаза Моны Лизы оставляют нас где-то на периферии, сковывая ожиданием.
Формы в великих произведениях изобразительного искусства, к которым относится «Мона Лиза», ведут себя не так, как объекты реального мира. От них и нельзя ожидать иного. Но эти сложные формы часто пробуждают сложные реакции, сродни тем, которые мы испытываем в реальной жизни. В изобразительном искусстве деформации или искажения (я ни в коем случае не использую эти термины в уничижительном смысле с целью указать на неверности, иррациональность или фальшь) необходимы и осмысленны. Своим творчеством представители изобразительного искусства откликаются на мир, интерпретируя, изменяя, сплавляя и переосмысливая формы так, что они приобретают метафорические свойства. (Ни один рот, ни одна голова не ведут себя так, как рот и голова Моны Лизы.) Ключ не только в осознании этих искажений, но и в том, чтобы предвидеть их присутствие и задавать вопросы об их причинах. Каковы функции этих искажений, их возможные поэтические цели? Как они сочетаются, чтобы, как в случае с «Моной Лизой», убедительно передать характер персонажа? Следует исходить из предположения, что каждый элемент относится к замыслу художника, ни одна важная деталь им не упущена. Это напоминает мне историю французского модерниста Альбера Марке (1875–1947), который, как и его лучший друг Матисс, был одним из первых фовистов («диких») – художников, которые на пороге двадцатого века ради живописного и эмоционального эффекта использовали необычайно интенсивные, кричащие цвета. Позже Марке – один из величайших мастеров цвета – стал последовательным реалистом, создавшим прекрасные, натуралистичные, не перегруженные деталями, пропитанные светом морские пейзажи, которые он рисовал сразу начисто, легкими импульсивными мазками, моментально и точно ухватывая мотив. Как-то раз, когда Марке стремительно закончил изображающую акведук картину, стоящий неподалеку художник скептически поинтересовался: «Разве вы нарисовали все арки?» – «Не знаю, – ответил Марке, – я их не считал».
Очень важно понимать, что художник, создающий фигуративную картину, не копирует реальность, а интерпретирует ее, переосмысливает. Кроме того, он вкладывает в свою работу определенную идею и прилагает все усилия к тому, чтобы ее донести. Марке не волновало, все ли арки попали на его картину. Но ему было важно, чтобы на холсте отобразилось нечто гораздо более значимое, нематериальное и сложное – то самое освещение, которое он видел прямо перед собой: те же цвет, насыщенность, температура, влажность и воздушность. Зрителю важно задуматься о том, намеренно ли автор привнес в свое полотно некое отклонение от нормы – накренившуюся столешницу, бесформенную или лишенную веса фигуру; далекую гору, которая будто бы приближается, неясно вырисовываясь на переднем плане; ощущение, что пространство между двумя объектами схлопывается и исчезает; неестественные, слишком интенсивные цвета или те же отсутствующие арки. Это необходимо, чтобы по-настоящему осмыслить произведение.
В первую очередь следует понять, обладает ли объект картины, например Мона Лиза, осязаемым весом, формой и объемом, и присутствует ли ощущение пространства, воздуха и атмосферы вокруг него; а затем, если вы понимаете, что она невесома, а ощущение пространства отсутствует, нужно определить, была ли эта странность заложена художником в метафорических целях, или ему не хватило умения, чтобы придать форме тактильность, пространственность, естественность, движение, напряжение, связность, жизнь.
Изображенная Леонардо голова Моны Лизы кажется крупноватой для ее плеч, а пейзаж на заднем плане приближен так, что небо и земля как будто являются продолжением образа героини и кажутся немного неправдоподобными, словно по обе стороны от нее развернулся холст ее собственного воображения; хотя змеящаяся тропа будто бы берет начало в самой Моне Лизе и проходит сквозь нее, пересекая плечо и помогая ей слиться с окружающим миром, а ее живот растворяется в дымчатой, чернильной тьме – Леонардо здесь не ущербен, а поэтичен. Леонардо пишет свою модель, окруженную светом и свет излучающую, воплощая продуманную, правдоподобную форму и человеческую природу. Но художник дает нам гораздо больше. Он наталкивает нас на мысль о том, что Мона Лиза приближается и отступает, возникает и исчезает; что она – женщина, гора, небо и дух; она – здесь и сейчас, но при этом она так далека и недосягаема, она взмывает и растворяется в облаках; Мона Лиза безмятежна и возвышенна, она – идеальная натурщица для портрета и муза для творца, источник красоты, поэзии и света, исток мира.
Чем лучше вы станете разбираться в том, как действуют – и могли бы действовать – элементы произведения искусства, тем лучше вы начнете понимать возможности искусства вообще. Вы будете знать, что искать в произведениях искусства и чего от них ожидать. Вы станете сравнивать улыбку каждого портрета и каждый пейзаж с изображенным на полотне Леонардо. Нет, вы не будете искать Леонардо да Винчи в каждом художнике (это просто бессмысленно: ведь любой художник уникален), но научитесь ценить умение создавать формы и управлять ими так, чтобы они убеждали и трогали вас, вели в глубинные и высшие пространства, подобные тем, проводником в которые является Леонардо. И вы начнете искать в работах Пикассо, Рембрандта, Джакометти и Леона Коссофа ощущение формы, цели и света, противоречия, движения и взаимодействия – метафоры, а не просто скрупулезной фотографичной верности.
Вы увидите, что Пикассо и Джакометти, Леонардо и Рембрандт, несмотря на их разные голоса и работы, делают метафорически схожие вещи и ведут вас в те же глубины и на те же вершины. Вы увидите, что элементы произведения искусства делают гораздо больше, чем просто участвуют в описании предмета. В портретах вы научитесь отыскивать элементы, которые организуют и оркеструют себя сами, стягивают силы, сливаясь в реалистичную, противоречивую и сложную личность персонажа. А потом та же многогранность и тот же уровень метафоричности откроются вам не только в портретах, пейзажах и натюрмортах, но и в абстракциях, видео-арте, перформансах и ассамбляжах. В каждом произведении вы будете искать уникальный, захватывающий и убедительный голос. Вы станете ожидать большего, видеть больше, искать большего и находить большее.
Вы увидите, как работают небольшие сжатия и изменения пространства, как они ведут вас через произведение искусства не только вертикально и горизонтально, но и с переднего плана назад, в глубину, и снаружи внутрь. Вы заметите пространственное напряжение в мазках, очертаниях, формах и линиях. Вы обнаружите скрытые линии визирования, которые соединяют одну форму с другой; обнаружите, что художник может заставить вас совершить прыжок из одной точки в другую (как в пространственной арабеске улыбки Моны Лизы, которая будто определяет пропорции ее лица; или по линии чувственной, таинственной тропы, которая как будто проникает внутрь и движется сквозь руки и торс Джоконды, объединяя ее фигуру и окружающий пейзаж). Вы поймете, как художники трансформируют материал: как тяжелая мраморная, бронзовая или каменная скульптура может парадоксальным образом попирать законы гравитации, казаться гораздо тяжелее сверху, чем снизу, парить, местами казаться прозрачной, выглядеть так, словно ее элементы движутся, будто они податливы вопреки непреодолимой твердости и неподвижности скульптуры.
Вы научитесь позволять художнику вести вас словно в танце. И, двигаясь сквозь произведение, позволяя глазам перебегать и скользить от формы к форме, вы начнете улавливать его ритмы и мелодии. Вы почувствуете, как ваши глаза танцуют среди его элементов: то ускоряясь, то замедляясь, замирая и останавливаясь; чертят длинные лирические дуги и вживаются в ритм стаккато, как это происходит в «Буги-вуги на Бродвее» Мондриана, византийской мозаике и клетчатых узорах абстрактных средневековых страниц манускриптов. Вы поймете, почему в языке искусства и языке музыки столько одинаковых терминов: тон, ритм, мелодия, тембр, цвет, линия и динамика; и что тон – это не только оттенки светлого и темного, но порой указание на эмоциональный настрой произведения или его физическое состояние – мышечный тонус – его тела. Быть может, вы сумеете прочувствовать и описать элементы искусства так же, как еду: кислые, сладкие, маслянистые, горькие, с легким привкусом и передержанные. А может быть, вы, как и я, порой будете ловить себя за повторением ритмов и движений изображенных форм, за попыткой изогнуться, стараясь принять странные, нефизиологичные позы тел, увиденных на скульптурах и полотнах.
Если вы поймете, как работают эти силы, то сможете почувствовать не только элементы произведения искусства, но и само пространство, в котором они существуют: расстояние, атмосферу и воздух между формами, ощущение того, что эти пространства не только открыты и пригодны для исследований, но и заряжены светом и энергией и что эти пространства, подобно самим формам, будто бы дышат и снабжают вас воздухом, что они правдоподобны и обладают предназначением, а значит, живы.
Встречая на своем пути всё больше великих полотен, вы станете замечать явные различия между художниками, которые действительно создают и переносят форму и цвет на холст, и теми, что лишь подразумевают – иллюстрируют – форму и цвет. Вы увидите, что свет – цвет – картины не связан с тем, сколько белого или черного примешано к оттенкам, но с качеством и степенью тепла и прохлады, прозрачности и непрозрачности, весом, тоном, цветом и тембром, охватом и рефлективностью; что свет может быть грубым или зовущим и что он может глубоко влиять на нас; что он эмоционально, а быть может и духовно, выразителен.
Рассмотрим творчество Василия Кандинского (1866–1944), русского живописца и теоретика искусства, который написал несколько новаторских книг, включая созданный в 1912 году труд «О духовном в искусстве», в котором художник называл внутреннюю потребность источником искусства и говорил не только о его физическом, визуальном эффекте, но и о духовном воздействии. Кандинский преподавал в Баухаусе, просуществовавшей с 1919 по 1933 год немецкой художественной школе, участники которой взяли на вооружение и объединили все аспекты изобразительного и прикладного искусства – архитектуру, индустриальный и графический дизайн, дизайн интерьера, а также живопись, скульптуру, керамику, фотографию, переплетное дело и ткачество – и занимались традиционными ремеслами, наряду с искусством для массового автоматизированного производства. Среди известнейших деятелей этой школы были архитекторы Марсель Бройер, Вальтер Гропиус и Мис ван дер Роэ, а также художники и дизайнеры Анни и Йозеф Альберс, Герберт Байер, Лионель Файнингер, Йоханнес Иттен, Пауль Клее, Эль Лисицкий, Ласло Мохой-Надь, Оскар Шлеммер, Ян Чихольд, Тео ван Дусбург и Пит Зварт. В Баухаусе, который стал моделью для всех художественных учебных заведений, бок о бок существовали экспрессионизм, конструктивизм, фигуративное искусство, кинетическая скульптура, фотограммы и чистая абстракция. Размах и разнообразие творческого гения и революционных идей этой школы потрясал. Многое из привнесенного Кандинским и Клее в искусство и теорию всё еще не осмыслено и тем более не изучено полностью.
Абстракционизм стал ренессансом модернизма. Кандинский – один из нескольких европейцев, стоявших у истоков абстракции в начале двадцатого века, – придал своим полотнам качества музыки. В отличие от многих современников, Кандинский пришел к чистой абстракции не через кубизм, который дробил пространство видимого мира и трактовал его научно, с точки зрения чисто формальных отношений. На кубистском портрете кисти Жоржа Брака «Мужчина с гитарой» (1911) комната, пространство, архитектура, человеческая фигура, гитара и даже звуки музыки равнозначны, одинаково осязаемы и нематериальны, вещественны и эфемерны. Портрет не является чистой абстракцией (он изображает играющего на гитаре мужчину), но, чтобы разобраться в нем, нужно покинуть трехмерное пространство, знакомое нам по миру вне искусства, и позволить себе пойти путем ритмов и форм музыки, путем мыслей и движений музыканта, одновременно следуя за формами персонажа, его гитары и среды обитания. Необходимо не только позволить резонантному отверстию гитары кинематографично множиться – как будто оно находится в движении и в нескольких местах одновременно, подобно самому гитаристу, – но также увидеть, что в некоторых местах отверстие становится более выпуклым и плотным, чем сама гитара и гитарист, и что отверстие, струны, музыка и гитарист слились воедино.
Минуя кубизм, Кандинский начал свое путешествие к абстракционизму через переосмысление пейзажа: он быстро уходил от описательности в использовании линий и форм, пусть и сквозь многоцветную, сказочную перспективу. Кандинский использовал линейные, пространственные арабески – линии, не просто лежащие на поверхности, но расширяющиеся и сжимающиеся, двигающиеся в пространство и обратно, чтобы превратить пространство в нечто эластичное, податливое и непредсказуемое.
В ранних абстрактных пейзажах Кандинского 1911 года линия, цвет и форма освобождают себя от описательной роли существительных. Становясь активными глаголами, силами и энергиями, контуры и цвета смешиваются и растворяются, словно на витражах или детских пальчиковых рисунках; лошадь и ездок превращаются в необузданную молнию. Ко времени создания чисто абстрактного шедевра «Черные линии» (1913) с полотен художника бесследно исчезает ощущение перспективы: цвет, форма, объем, пространство и линия становятся абсолютно независимыми, свободными феноменами, так что пространственные арабески Кандинского одновременно остаются на плоской поверхности картины и трансформируют эту поверхность в эластичную мембрану, как если бы полотно было сделано из резины или тянучки или если бы его можно было продавить, скрутить или даже вывернуть наизнанку, словно поверхность воздушного шарика. Кандинский придал линиям, формам и контурам пиктографическую непосредственность и энергию. Иногда, как в более поздних шедеврах «Синий мир» (1934), «Полосы» (1934), «Последовательность» (1935), «Тридцать» (1937), «Разные части» (1940), «Синее небо» (1940) и «Разные действия» (1941), формы производят впечатление написанных или выгравированных иероглифов, и в то же время они похожи на неведомых существ и микроскопические организмы, а также на всплески электрического тока. Они напоминают символы и знаки, которые тем не менее кажутся живыми и подвижными.
В более позднем творчестве Кандинский окончательно освободил живописные элементы от отсылок к реальным опознаваемым источникам. Уйдя от фигуративной описательности, Кандинский обращается к становлению и трансформации. Теперь он пишет не птицу, а ее полет; не лошадь, а ее галоп; не деревья, облака, животных и звезды, а порывы, движения, взаимодействия внутри самой природы, ее энергию и смыслы. Кандинский очистил искусство, явив миру его суть. Например, полотно «Доминирующая кривая» (1936) расщепляет природу на однородные элементы и динамики: посланников сил и действий вселенной, ее бытия и перерождения. Как если бы мы стали свидетелями того, как каждый кирпичик вселенной возникает в воображении, обретает схематическое изображение, напитывается символизмом, рождается, а затем перерождается и исчезает. Так Кандинский дает нам возможность прочувствовать суть природы, ее движения и взаимодействия. Художник позволяет нам осмыслить не только природу природы, но и природу создания картин. Он подводит нас ближе, к самому сердцу, как свидетелей – в искусстве и жизни – к истоку истока.
Кандинский понимал, что каждая форма, цвет и движение в произведении искусства воздействуют на нас и что эти элементы влияют на физический и эмоциональный – и даже духовный – эффект целого. Живописец также был одним из первых приверженцев синестезии: он верил, что контур, движение или цвет произведения искусства в правильных пропорциях могут вызывать чувственный опыт, выходящий за рамки зрения, например, звук, физическое ощущение или вкус: и тогда можно услышать грубое звучание красного или мелодичную текучесть синего или почувствовать на языке кисловатое покалывание желтого. Кандинский понимал, что в произведении искусства каждый элемент одинаково важен, должен обладать внутренним содержанием и быть направленным на служение целому так же, как отдельные клетки организма; что «форма» относится не к очертаниям или объему, но к структуре, напряжению, целостности, жизни.
Художник должен контролировать свою вселенную. А еще художник должен передавать ощущение этой вселенной как органического единства – ощущение того, что каждая форма одинаково важна и необходима. В двухмерных произведениях искусства формы часто называют «позитивным пространством», а фон или пространство между ними – «негативным». Я предпочитаю термины «фигуры» (когда мы говорим о формах) и «поверхность» (когда речь заходит о пространстве вроде белой поверхности бумаги вокруг этих форм). Это не идеальные термины, но они соответствуют позитивному присутствию формы даже в белом пространстве рисунка. В таких произведениях искусства, как живописное полотно или рисунок, не может быть негативных или бесформенных областей (несмотря на то, что некоторые могут утверждать обратное), если, конечно, в работе действительно не присутствует дыра (хотя и она будет наполнена воздухом); каждый элемент – включая так называемое пустое белое пространство бумаги вокруг фигуры – вносит вклад в создание всей картины и является ее частью. Если форма или область произведения искусства не делает его лучше, не вносит своей лепты, значит, она ему вредит. Если между формой и пространством вокруг нее нет напряжения или взаимодействия, возникает впечатление, что форма отделена от окружающего ее пространства, а из-за этого и форма, и пространство вокруг кажутся безжизненными. Даже на портрете Моны Лизы, лицо которой зачаровывает, ни одному из элементов изображения на самом деле не отдан приоритет – так и в кирпичной стене ни один из кирпичей не важнее другого. Но если вытащить несколько кирпичей, стена – произведение искусства – рушится, распадается.
Это слияние фигуры и поверхности также отчетливо прослеживается на плоских, абстрактных декупажах Матисса. Например, когда смотришь на его «Икара» – произведение, созданное для книги «Джаз» (1947), – кажется, что мечтательный черный силуэт одновременно летит, падает, плывет, парит, вращается и спускается по воздушно-голубой поверхности декупажа. Матисс работает с плоскими, однотонными фигурами, но эти плоские фигуры, благодаря тому, как они вырезаны (нарисованы), передают ощущение объема, движения и даже изгибания на плоскости.
Обратите внимание, как Матисс дает нам возможность видеть сразу с нескольких точек зрения: мы смотрим вверх, находясь под Икаром, когда он пролетает над нами и падает к нам; мы над Икаром, и видим, как он резко снижается; и при этом мы стремительно падаем и взмываем ввысь вместе с ним. Кажется, что Матисс погружает нас в этот плоский мир. Икар окружен колючими желтыми формами, похожими на звезды, птиц, цветы и шипы – пронизывающими лучами света, которые расплавили его скрепленные воском крылья. Руки юноши напоминают эти самые крылья, а желтые звезды вспыхивают как искры в синеве. Посмотрите, как черное тело Икара и желтые шипы вокруг него будто бы несутся сквозь пространство, в то же время меняя направление; они как будто вращаются; и сам Икар, и эти звезды в синеве словно разбухают, а затем вновь становятся плоскими. Бумажные силуэты (фигуры) такие же плоские, как и синяя поверхность, но кажется, что они движутся и изгибаются, и именно это активирует плоскость поверхности. Посмотрите, как Матисс меняет местами фигуру и поверхность: черный силуэт мальчика засасывает взгляд кажущейся пустотой, а затем резко обретает объем; как синий то представляется водянистым и воздушным, то затвердевает; как Икар словно вздрагивает и вздымается подобно парусу корабля, его фигура наполняется воздухом, а затем будто внезапно плавится и замирает в бесконечном падении в море, и вот черный силуэт снова кажется пустым и выхолощенным, как будто это одновременно и тело Икара, и его могила.
Каждое произведение искусства – это окно, смотровая площадка с видом на уникальный мир, и художник хочет, чтобы мы разглядели этот мир и отважились его исследовать. И метафора окна – особенно со времен Возрождения, когда изобретение перспективы обеспечило нас глубокими, естественными пространствами, которые убедительно воссоздавали три измерения нашей реальности, – часто используется для описания иллюзионистических пространств живописных полотен. И порой картина раскрывается вглубь, словно открывая вид на другой мир.
Этот опыт, когда пространство будто бы раскрывается в пределах плоской поверхности, – одна из важнейших метафор живописи. Плоскость – непреложное условие (с нее картина начинается и ею же заканчивается), пространство должно быть создано в рамках этой плоскости, и полностью отмежеваться от нее нельзя. Художники должны учитывать плоскость, использовать ее как основной элемент и внутреннюю силу картины. Иначе у них ничего не выйдет.
Живопись, которая начала свое существование на стенах еще до того, как ее переместили на деревянные панели и на холсты, в какой-то степени всегда была видом украшения. Картины не могут существовать без поверхности, и эту поверхность нужно ценить, а ее лучшие стороны задействовать с максимальной пользой. Это значит, что живописи было необходимо одновременно подчеркнуть плоскость стены и будто бы чудесным образом бросить вызов этой плоскости. Живопись не могла стать видом плутовства. Сделать ее таковой значило бы обманывать зрителя, не вовлекая его в живопись. Ведь в этом и состоит магия и очарование картин: они одновременно плоские и объемные. Мы признаем это и восхищаемся тем, как художники создают и организуют пространство, будь то таинственно-глубокое пространство ренессансной живописи Яна ван Эйка или таинственно-плоское пространство полотен Мондриана. И чем больше художники признают и расширяют наш опыт в области последовательной дихотомии пространства и плоскости, тем более волшебными кажутся нам их картины.
Художники понимают: чтобы мы прочувствовали метафору раскрытия плоскости, им необходимо систематически усиливать эту метафору. Уводя нас в глубины, они должны напоминать нам о плоскости. И поэтому живописцы движутся в пространстве взад и вперед, усиливая наше ощущение плоскости живописного плана, даже когда они раскрывают эту плоскость, делая ее податливой. Визуально план остается цельным, но при этом гибким, способным двигаться внутрь и наружу, расширяться и сжиматься, быть открытым и закрытым, как если бы живописные формы и свет преобразовали плоскую поверхность, если бы им была дана способность меняться и двигаться. Художники обращаются с плоским пространством так, будто бы оно эластично, превращая его в территорию, по которой они могут вести нас глубоко вовнутрь, а затем снова наружу, а после – на средний план изображения, а затем вновь в ту плоскость картины, где всё начиналось.
Великие художники способны управлять пространством картины так, будто это тянучка, которую можно скручивать и растягивать, и при этом она никогда не рвется. Понятно, что разорвать ее – значит разорвать чары. Именно таким образом художники создают изменчивое пространство в плоскости, усиливая ощущение раскрытия этой плоскости и приобретение ею объема, одновременно с ее закрытием и уплощением. Таким образом, художник чтит наше истинное положение (лицом к лицу с плоскостью изображения и искусной подделкой пространства), при этом чтя и тот таинственный мир, который перед нами открывает картина, – мир искусства.
Чтобы охарактеризовать это парадоксальное сочетание плоскостности и пространственной глубины в опыте живописи, Ханс Хофман (1889–1966), видный живописец-абстракционист и влиятельный наставник множества знаменитых американских художников середины столетия, ввел в обиход английский термин «push and pull» («тяни – толкай», «туда – сюда» и т. п.), значение которого применительно к живописи он также описывал как «движение и контрдвижение», «действие и противодействие» или «пластичность». Под пластичностью Хофман понимал слияние всех элементов в картине и в то же время податливость ее пространства. «Push and pull» – это динамическое взаимодействие плоскости и глубины в картине или рисунке, парадоксальное ощущение плоскостности и глубины одновременно, характерное как для абстрактных, так и для фигуративных произведений. Ничего нового в этом «push and pull» не было: пластичность одинаково свойственна и изображениям быков в доисторических наскальным росписях, и фигурам богов на древнеегипетских фресках, и картинам эпохи Возрождения, и абстрактной живописи.
На великих полотнах все цвета излучают свет, но каждый из них также обладает приспособляемостью, пространственным присутствием и местонахождением по отношению ко всем остальным цветам и в зависимости от них. Все эти цвета направляют давление не только внутрь, но и наружу, на передний план холста. Глядя на живописное полотно, представьте себе не только передний, средний и задний планы, но и бесконечное количество прозрачных (словно окон) планов, разрезающих пространство на слои; а затем вообразите, что эти планы, хотя они и параллельны передней плоскости изображения, могут искривляться, закручиваться и соединяться по диагонали и что формы и цвета могут существовать во всех этих планах одновременно и соединять их.
Даже на абстрактном полотне, состоящем из цветных прямоугольников, две формы разных размеров (хоть и одного оттенка) не могут существовать в одной и той же плоскости. Возможно, крупным формам скорее свойственно приближаться, а более мелким – отдаляться. Хотя возможно и обратное. Помимо размера, такие качества, как яркость, интенсивность, непрозрачность, прозрачность, плотность, тепло, прохладность и в особенности местонахождение относительно других элементов, также влияют на то, как мы определяем точное положение цвета или формы относительно другого цвета или формы и каким образом ощущаем ритмичное биение, скорость и пульсацию – «push and pull» – этих форм, пока они будто бы перемещаются в пространственной вселенной картины.
Динамику «push and pull» можно почувствовать в картине Хофмана «Ворота» (1959–1960; ил. 4). На этом полотне цветные геометрические формы пронизывает тяжесть благодаря непрозрачности и импасто – толстому слою краски, которая густо и грубо размазана по холсту. Сначала кажется, что цветные формы движутся как-то вяло, будто бы еще застывая. Но Хофман придает этим формам разную скорость и степень пластичности. Большой золотисто-желтый прямоугольник, господствующий в верхней трети композиции, кажется глубоко пронизанным разными окружающими его зелеными оттенками, но также создается ощущение, будто бы он подвешен вдалеке перед ними. Он пробивается вперед. И если мы попытаемся фокусироваться только на золотисто-желтом прямоугольнике, попытаемся определить его пространственное положение на картине (например, ближе или дальше он от нас, чем большой, горизонтальный, электрически-красный прямоугольник под ним), нам нужно будет иметь в виду влияние окружающих его цветов на наше восприятие. Необходимо позволить цветным формам «тянуть и толкать» нас сквозь картину.
Прямо под золотисто-желтым прямоугольником расположена темно-синяя полоска цвета, которая подтягивает нижнюю часть желтого прямоугольника над ним ближе к зрителю. Поэтому нам кажется, что желтый прямоугольник существует в нескольких местах одновременно или что он не совсем плоский и находится не параллельно плоскости изображения, но у основания загибается в нашу сторону. Нам представляется, что желтый прямоугольник расположен дальше или глубже в пространстве полотна, чем красный прямоугольник под ним, но также создается впечатление, что он подкручивается вперед, как будто чтобы соединиться с красным.
Мы ощущаем, что каждая цветная форма «Ворот» обладает если не этой самой динамичной податливостью желтого прямоугольника, то, во всяком случае, сходным потенциалом, поскольку Хофман продемонстрировал, что определенное присутствие «push and pull» очевидно по крайней мере в одном из этих прямоугольников. Такая экономия создает ощущение вероятности, а вместе с ним и ощущение становления. Глядя на «Ворота», мы ощущаем то же, что и при виде куста, на котором расцвел единственный цветок: остальные бутоны тоже расцветут или, по крайней мере, могут расцвести. Каждая форма в этом пространстве как будто шагает вперед и/или назад; формы словно соревнуются за фронтальность. Если мы попытаемся определить, какая из форм Хофмана на самом деле ближе к нам в пространстве, а какая – дальше прочих, то обнаружим себя пробивающимися сквозь пространство картины, двигающимися туда-сюда вслед за живописными формами. Формы на картине Хофмана дышат, раскрываются и закрываются, распространяют давление вперед и назад, а порой даже раскачиваются в пространстве, исследуя не только метафору окна, но и метафору ворот.
Ворота Хофмана толкают, тянут, подчиняют нас своей воле – излучают жизнь. Введенное живописцем понятие «push and pull» отсылает не только к пространственной динамике, оно проникает в суть жизненных процессов: в мире картины формы взаимодействуют и противостоят друг другу так же, как мы взаимодействуем и противоборствуем в мире людей. Искусство Хофмана трогает нас потому, что ведет себя так же, как и мы. «Push and pull» его картин, как и динамика, свойственная практически каждому великому произведению искусства, выражает напряжение, лежащее в основе человеческого бытия: опыт физического существования под гнетом того, что в какой-то момент нам предстоит умереть. Тем не менее модернистское представление о произведении искусства как живом организме – на самом деле такое же древнее, как и само искусство; оно представляет собой неотъемлемый элемент не только визуального искусства, но и визуальной коммуникации вообще.
Древнее искусство китайской каллиграфии, которое эволюционировало из рисунков в абстрактные знаки через пиктограммы, действительно вобрало в себя эту метафору живого организма. Вдохновленная следами когтей животных и отпечатками птичьих лап, китайская каллиграфия сохраняет едва заметные признаки пиктографического происхождения от живого организма: скелета, плоти, мышц и крови. Скелет каллиграфии – ее традиция, структура и размер. Ее плоть – соотношение знаков и символов. Мышцы – ее внутренний дух и жизненная сила. А кровь – текстура, движение, вес и текучесть чернил. Все эти элементы вы найдете в любом великом живописном полотне или рисунке, вне зависимости от того, когда или где они были созданы.
В китайских иероглифах – условных скорописных знаках, – как в любом изобразительном искусстве, внимание сосредоточено как на том, что́ эти символы напоминают и олицетворяют, так и на их динамике: насколько они функциональны и жизнеспособны, как они движутся, текут по странице. Хотя китайская каллиграфия – язык чисто изобразительный (в отличие от буквенного и фонетического), его символы сообщают не о внешних признаках связанных с ними предметов, но об их жизни. Китайский иероглиф «рассвет» представляет собой восходящее солнце, словно излучающее напряжение от соприкосновения с линией горизонта; иероглиф «видит» – глаз с бегущими ногами, которые подчеркивают движение, акт ви́дения. Иероглиф «небо» может быть воздушным, легким, прозрачным, темным, мрачным, ясным, неподвижным, оживленным или неистовым. Иероглиф «человек» – две ноги в движении – может передать позу, походку, скорость движения человека, состояние его здоровья, его характер, философию и даже предчувствие невзгод, которые ожидают этого человека на пути. В книге Эрнеста Феноллозы под редакцией Эзры Паунда «Китайский иероглиф как проводник поэзии» автор напоминает нам о том, что в природе не существует чистых существительных и чистых глаголов: «Глаз видит существительное и глагол как нечто единое: вещи в движении, движение в вещах». В Китае каллиграфия традиционно считается высшей формой искусства, и когда она возносится до уровня искусства, мы понимаем, что не рассматриваем картинки или читаем знаки, но, скорее, – как в случае любого великого искусства, – чувствуем динамичные, живые формы и напряжение между ними, между их судьбами. В каждом мазке кисти, пишущей иероглиф, в его очертаниях, в поверхности, на которой он изображен, в его отношениях с другими иероглифами присутствует ощущение «push and pull».
Американский абстрактный экспрессионизм середины двадцатого века активно использовал элементы и принципы каллиграфии. В «капельной» живописи Поллока – которая по языку, духу и динамике сходна с каллиграфией – форма, содержание и выразительность слились воедино. Китайские каллиграфы работают в невидимой сетке, придавая каждому элементу иероглифа ощущение точного размещения, масштаба, структуры, ощущение присутствия в границах невидимого квадрата. Это может показаться удивительным, но Поллок чертил сетку на огромных, разложенных на полу холстах, перед тем как разбрызгивать и разливать краску по их поверхности.
Используя сетку, Поллок создавал внутреннюю структуру, в пределах которой мог перемещаться и в соответствии с которой действовал. Он использовал холст, как джазовый музыкант, который импровизирует в рамках заданной структуры, но при этом он так же, как старые мастера, которые создавали огромные фрески, заботился о внутренней организации своих композиций, о соотношении более мелких элементов с более крупными.
Сетка была для Поллока своего рода географической картой, она позволяла ему ориентироваться в пространстве и контролировать ритмы разбрызгивания и мазков. Каждый раз, когда брызги или мазки соприкасались с границей одного из внутренних прямоугольников сетки, Поллок добавлял краску и на соответствующий край холста. Таким образом, он не только отслеживал свое местоположение в более маленьком, внутреннем прямоугольнике, но и определял его взаимосвязь с картиной в целом. Движения Поллока отнюдь не бессистемны, он не бездумно выливал на холст одну краску за другой; напротив, каждый его жест становился элементом тщательно продуманной симфонии. В своей напоминающей фриз картине «Осенний ритм (№ 30)» – ее размер 266 × 525 см – Поллок динамично ведет нас по картинной плоскости и сквозь нее. Живописец погружает нас в паутину развертывающихся, набухающих и хлещущих мазков черного, белого, коричневого и темно-бирюзового, которые буквально прокатывают наш взгляд поперек холста и одновременно толкают и тянут сквозь пространство. Пляшущие и стекающие линии – это не просто линии, но кости, энергия и кровь полотна. Эти хлесткие, переплетающиеся линии нужны для того, чтобы создать сухожилия и мышцы форм, а также кожу картины. Все они построены так, чтобы соединиться в очень плотное, но при этом открытое и воздушное фронтальное присутствие, давление и свет картины, который изливается на нас. Выходящие из-под кисти Поллока пятна и петляющие, сталкивающиеся брызги очень эластичны. Они формируют пространственные арабески, создают слоистую поверхность, уходят вглубь пространства и возвращаются – толкают и тянут.
Существуя на, перед и внутри бесконечно расширяющейся картинной плоскости, взрывные мазки кисти Поллока создают иллюзию глубины, открывающейся среди живописных знаков на поверхности холста – плоского и при этом слоистого пространства, – пока линии, цвета, силы и сама поверхность переплетаются, становясь практически неразличимыми. Живописные линии и картинная плоскость соревнуются между собой за фронтальность. Чем тяжелее, плотнее и многочисленнее становятся живописные знаки, тем более живым, светлым, открытым и свободным представляется всё полотно: кажется, что оно пренебрегает гравитацией и буквально взлетает.
Китайская каллиграфия с первых своих шагов следовала идее о том, что «форма» (или визуальные и материальные элементы произведения искусства) и «содержание» (или значение произведения искусства) нераздельны по своей природе. (Попробуйте отделить мазки, отвечающие за форму, от мазков, отвечающих за содержание, в «Моне Лизе» Леонардо, «Осеннем ритме» Поллока или китайском иероглифе «рассвет».) И тем не менее люди часто полагают, что произведение искусства можно разложить на форму и содержание. Очевидно, что такое разделение невозможно. В искусстве выразительна каждая форма. И каждая форма обладает значением как репрезентация и выразительная структура. Формы в искусстве существуют для того, чтобы исследовать и выражать значения. Значение – содержание – не может существовать без формы. И если формы произведения искусства беспорядочны, запутанны или неоднозначны, таким же будет и содержание, которое они передают.
В эссе «О совершенстве, согласованности и единстве формы и содержания» искусствовед Мейер Шапиро напоминает нам о том, что, взглянув на две картины, изображающие один и тот же объект – к примеру, два портрета одного натурщика, написанные разными художниками, – мы увидим, что они передают разное содержание. Хотя предмет изображения, если оба живописца работали с натурщиком одновременно, остается неизменным, мы видим две разные художественные интерпретации этого предмета – два качественно несхожих типа форм, а значит, и два разных содержания. Шапиро писал: «В репрезентации любая форма и цвет суть составной элемент содержания, а не просто его подкрепление. Картина имела бы совершенно другой смысл, если бы формы изменились хотя бы немного». Значит, форма и содержание нераздельны. По мере того как мы получаем впечатление о форме произведения искусства, его содержание разворачивается и раскрывается – начинает жить внутри нас. Чем яснее, выразительнее и многограннее формы произведения искусства, тем яснее, выразительнее и многограннее его содержание.
Как живые существа, мы чувствуем, порой осознанно, а порой – бессознательно, неизменное экзистенциальное напряжение между жизнью и смертью. Мы сопереживаем внутреннему напряжению произведения искусства, его движениям, его витальности, его стремлению к жизни – например, умению отринуть гравитацию и устремиться вверх, противопоставляя себя давлению горизонтали. Мы ощущаем, что формы произведения искусства стремятся к движению, к самоутверждению, изменению и росту – к тому, чтобы всколыхнуться изнутри, освободиться от ограничивающей плоскости картины или твердой массы мрамора.
Я не имею в виду, что абсолютно каждое произведение искусства рассказывает о борьбе между жизнью и смертью; или что каждая вертикальная линия – это символ или метафора жизни, а каждая горизонтальная – смерти; или что любое произведение олицетворяет человека. Я не стремлюсь приписывать неоправданный повествовательный символизм всем произведениям искусства. Однако я полагаю, что формы и динамика произведений искусства воспринимаются нами как жизненные силы; что мы, как живые организмы, чувствуем связь с произведениями искусства, а они – с нами; и ведут себя соответственно. Как правило, совершенно не обязательно идентифицировать символические значения этой динамики, но важно чувствовать ее и понимать, как мы взаимодействуем с произведениями искусства, влияем друг на друга, как образуем с ними органическое целое, способствуем их развитию. Я полагаю, пора выяснить, в чем заключаются функции элементов произведения искусства и почему художники создают их и помещают в свои работы. Таким образом, мы выйдем за пределы чисто физических или формальных аспектов, относящихся к составным элементам произведения искусства, и подойдем к чему-то, что гораздо ближе к философии произведения искусства – его raison d’être[1].
Глава 3
Сердца и умы
Наше сердце и наш ум играют важную роль в том, как мы воспринимаем произведение искусства, оцениваем его красоту и гармоничность, понимаем его смысл. Способность искусства общаться с нами при помощи наших чувств и наших мыслей – а также нашего сознания и подсознания – делает произведение искусства участником как частной, так и общественной жизни. Великие произведения искусства говорят с каждым из нас лично и со всеми нами вместе.
Среди прочих таинств искусства именно эта удивительная его способность дарит любому произведению возможность говорить на универсальном языке. Великое произведение искусства объединяет нас в первую очередь как людей, но при этом оно достаточно открыто и всеобъемлюще, чтобы обратиться к определенной группе. Может показаться, что произведение искусства говорит одновременно для меня и со мной. Великое творение обращается ко всем, но негласно и доверительно, как если бы художник, который покинул этот мир сотни лет назад, создал его для меня, узнал меня издалека и говорит именно со мной – как если бы произведение искусства терпеливо ожидало меня, словно древнее зернышко, готовое дать росток. Именно так искусство стирает расстояние и время; так оно, благодаря нашему опыту и связи с ним, общается с нами и раскрывает в нас нечто доселе неведомое и недоступное. Это опыт, который помогает почувствовать, что художник – тот, кто ведет нас к нашей сути, – может знать нас гораздо ближе, чем друзья, любовники и члены нашей семьи.
С рождения мы учимся прислушиваться к миру, различать вещи и предпочитать одно другому – развивать и настраивать нашу рациональность наряду с личными предпочтениями. Конечно, в пути личный опыт раскрашивает и затуманивает наше объективное представление о мире. Порой, по крайней мере изначально, нам свойственно отдавать предпочтение картинам, в которых встречаются наши любимые цвета, вне зависимости от того, насколько удачно их изобразил художник. Важно отслеживать моменты, когда это происходит: например, морской пейзаж может оставлять нас равнодушными просто потому, что нам больше нравится лес, а абстрактные картины и скульптуры могут отталкивать нас просто потому, что мы их не понимаем, – лишь оттого, возможно, что они, как нам кажется, не говорят почти ничего о знакомом нам мире предметов, которые можно потрогать и подержать в руках. Это субъективный, чувственный опыт, который разительно отличается от объективного, осознанного опыта.
Для взаимодействия с искусством нам обязательно нужны как сердце, так и ум. Нам нужно уметь чувствовать и включать интуицию. Но при этом мы должны быть проницательны, должны уметь осмыслять наш опыт встречи с произведениями искусства. И еще мы должны различать две ситуации: когда сердце сбивает ум с толку и когда ум блокирует интуитивную работу сердца. Чтобы полноценно воспринимать искусство, необходимо научиться исследовать самые отдаленные уголки своих ощущений, научиться глубоко чувствовать и размышлять. И всёе же, взращивая собственную субъективность и объективность, не стоит забывать о тонком балансе этих полюсов восприятия. Это особенно важно при встрече с некоторыми из самых неожиданных и непонятных творений представителей современного и новейшего искусства.
Наша субъективная сторона (или сердце) вмещает всё то, что делает нас самим собой: наши интересы, воспоминания, пристрастия, предубеждения, вкусы, предпочтения, наследственность и личную историю. К примеру, красный вам больше по душе, чем зеленый, апельсины нравятся больше яблок, фигуративное искусство больше абстрактного, а сельские пейзажи больше морских. Это субъективные предпочтения, основанные на личных ощущениях. Может быть, вы чуть не утонули в детстве и с тех пор ненавидите озера, пруды и реки, так что любое водное пространство, даже запечатленное на великолепном пейзаже, вызывает у вас тревогу. А может быть, вы пацифист и поэтому ненавидите батальные сцены, или вы не христианин и поэтому проходите мимо христианского искусства, поскольку считаете, что оно не может обращаться лично к вам. Это так же субъективно, как если вы отдаете предпочтение всем батальным сценам или только им, потому что вы любитель военной истории, или если вы предпочитаете христианское искусство любому другому религиозному искусству – статуэткам буддийских бодхисаттв, египетским гробницам, африканским племенным тотемам или исламским минаретам – просто потому, что ваша религия противоречит мифам и догмам этих учений. Религиозные предпочтения могут заставить вас уделить одинаковое количество вашего драгоценного внимания любому изображению Христа (хорошему или плохому) просто из-за самого предмета этого изображения. Во всех этих случаях ваша реакция иррациональна, ее подпитывает ваша субъективность – ваше сердце.
Искусствовед Эрнст Гомбрих говорил, что «каких-то неправомерных причин, по которым может нравиться произведение искусства, не существует», но «в неприятии художественного произведения действительно присутствуют ложные мотивы». Он, как мне кажется, имел в виду, что у нас могут быть любые личные – исходящие от сердца – причины симпатизировать определенному произведению искусства. Может быть, портрет кисти старого мастера напоминает нам о нашем дедушке, а пляжная сцена Винсента Ван Гога – о летних каникулах в детстве. Гомбрих считал, что было бы досадно оставить без внимания произведение искусства, которое могло бы поведать нам о чем-то важном и неожиданном, из-за негативного отношения к его предмету или стилю. Искусствовед предупреждал нас об опасности увлечения только теми произведениями искусства, которые соответствуют нашим личным интересам и предпочтениям и кажутся знакомыми, притом что мы игнорируем те работы, которые, на первый взгляд, могут нам показаться странными или вызывающими. Эмоциональное восприятие предмета произведения искусства, его цвета и прочего не должно быть поставлено во главу угла. Произведение искусства не должно действовать сначала просто как возбудитель, потом просто как зеркало, а дальше – просто как сосуд для личных предпочтений и эмоций зрителя. Произведению искусства необходимо раскрыться перед зрителем, но и зритель должен быть ему открыт – именно так смотрящий сможет обрести нечто новое. Это дар искусства. Но чтобы его получить, придется поработать. Иногда произведение искусства сначала воспринимается как прекрасное и умиротворяющее (взывающее к нашим сердцам), и мы рады открыться ему, поддавшись соблазну; но вскоре – когда уже слишком поздно – мы понимаем, что глубинные смыслы произведения для нас болезненны. И это тоже один из даров искусства, ведь правда, сколь бы горькой она ни была, обладает своей прелестью. Соблазн и дезориентация – лишь две личины искусства среди множества других.
Вспомните некоторые великие произведения искусства, например абстрактное панно Анри Матисса «Танец» (1930), которое художник сделал для главной галереи коллекции Фонда Барнса, сейчас расположенной в Филадельфии. На этом панно восемь больших экстатических обнаженных женских фигур двигаются в беспорядке, падают, взлетают, опускаются, словно богини или акробаты, одновременно находясь в плоскости и вскрывая ее возникающими в некоторых местах объемами. Они практически абстрактны и напоминают ангелов или облака; и, хотя содержание изображения недостаточно ясно, эти прекрасные обнаженные завораживают. Рассмотрим резную статуэтку бодхисаттвы, которая вдохновляет на размышления о природе невероятной устойчивости, идущей рука об руку с невесомостью, близкой к левитации, – ее камень местами выглядит мягким и прозрачным, словно шелк. Или вспомним похожие качества изображений распятого Христа, глядя на которые кажется, что Христос, хоть и пригвожден к кресту, но при этом словно бы парит в воздухе, его набедренная повязка колышется, как флаг на ветру, пальцы рук и ног трепещут, словно крылья птицы, а тело будто бы растянуто между миром земным и миром небесным. Может статься, что в этих произведениях искусства совсем немного близкого вам, такого, что можно назвать частью вашего повседневного опыта, такого, что может подтвердить ваши личные убеждения. Но если вы отнесетесь к ним без предвзятости, то поймете, что их воздействие на вас таинственно и непредсказуемо и что обращены они к самым разным аспектам человеческого бытия.
Чтобы позволить себе открыться новому искусству, вы должны использовать объективность ума, а не только субъективность сердца. Здесь умственные способности олицетворяют возможность рассуждать – например, понимать, что дважды два четыре, что картина вертикальная или горизонтальная, что один цвет красный, а другой – зеленый, что этот плоский черный прямоугольник темнее, плотнее, холоднее и будто он расположен глубже в пространстве картины, чем соседний белый прямоугольник, или наоборот. Пусть черный вам милее белого, красный – зеленого, а сельский пейзаж нравится вам больше, чем морской, – всё это не имеет отношения к объективным фактам, которые ваш мозг способен распознать.
Художественный критик Клемент Гринберг писал, что, глядя на произведение искусства, необходимо дистанцироваться от своей субъективной, личной составляющей, чтобы не мешать объективности нашего мышления. Гринберг писал о современном и новейшем искусстве середины двадцатого века и знал, что многие люди считают это искусство чрезвычайно субъективным – по их мнению, художник просто переносит картины своего воображения на бумагу или холст, в металл или камень, особенно не задумываясь о мыслях или чувствах зрителей. Гринберг призывал людей постигать искусство всеми доступными путями: как сердцем, так и умом. Критик хотел помочь людям открыться всем тем впечатлениям, которые предлагает современное и новейшее искусство. Он писал: «Чем сильнее – или „чище“ отстранение… тем вернее становится ваш вкус или аргументация». Стать «объективнее», продолжает критик, – значит стать «безликим, но все отрицательные ассоциации с этим словом здесь исключаются. Становясь безликим, вы становитесь похожим на других людей – по крайней мере, в целом – а значит, более типичным человеком, таким, который может адекватно представлять весь свой вид». Гринберг утверждал, что для того, чтобы приблизиться к объективной правде произведения искусства – сущностной и, осмелюсь сказать, абсолютной, – зритель должен по мере возможности отбросить весь свой «эгоизм».
И Гринберг был прав. Он знал, что современное и новейшее искусство часто критикуют за субъективность, а художников – за их эгоизм и за то, что они якобы работают, не слишком заботясь о том, как их произведения, которые порой ничуть не похожи на искусство прошлого, воспримет публика. Гринберг понимал: то, за что он борется, идет вразрез с бытующим мнением – идеей, что все субъективные точки зрения одинаково важны, что функция произведения искусства – его raison d’être – быть чистым листом, на котором любой зритель сможет записать свою личную историю, и что зрители могут видеть и черпать из искусства что только пожелают, вне зависимости от объективной правды художественного произведения.
Мысль Гринберга заключалась в том, что подобный эгоизм в людях отрицает или, по крайней мере, спутывает историю, которую хочет рассказать каждое произведение искусства. Критик хотел, чтобы люди могли оценить уникальность и величие полотен Пикассо или Поллока или, например, искусно спаянную абстрактную металлическую скульптуру Дэвида Смита, при взгляде на которую некоторые зрители могут подумать, что ей место на свалке, а не в музее. Разумеется, каждый художник-модернист начинал с выражения собственных субъективных ощущений и мыслей. Но то же самое верно и для Джотто (1266–1337), и для Джорджоне (1478–1510) – художников, в творчестве которых мы ощущаем подлинное выражение чувств и мыслей. Современный художник не меньше, чем старые мастера, стремится придать этим субъективным чувствам объективную форму – форму произведения искусства, которое сможет говорить с широкой публикой универсальным языком. Произведение искусства будет замечено и сможет избежать предвзятого истолкования, если человек, стоящий перед ним в галерее или музее – стоящий перед чем-то неожиданным, странным и, может быть, даже оскорбительным, – будет достаточно открытым, чтобы не создать преград на пути своего общения с художником. Если посетитель проявляет эгоизм по отношению к произведению искусства, он ставит личный опыт выше универсального. Произведения искусства существуют не в вакууме. Опыт осмысления одного произведения может стать ключом к осмыслению других. Закрыться от него или создавшего его художника – значит обрубить свою связь со всеми остальными.
Одно из ценнейших ощущений, которое дарит произведение искусства, – чувство личной вовлеченности, особенно когда опыт одного зрителя подтверждается опытом другого. Особенно это чувствуется, когда я рассматриваю произведения искусства со студентами, или коллегами, или с моей женой-художницей. Часто мы с женой смотрим на одно и то же произведение и испытываем абсолютно разные ощущения. Но когда мы делимся своими впечатлениями от того, как работают разные формы и цвета, как эти элементы, взаимодействуя друг с другом, влияют на нас, обычно оказывается, что мы увидели и испытали много общего. То же нередко происходит и с моими студентами. Наш субъективный опыт оказывается объективным. Указывая на некоторые детали, которые еще не заметили другие зрители, мы можем обогатить опыт друг друга. И через этот тройной диалог (между произведением искусства, конкретным зрителем и всеми остальными зрителями) художественное произведение раскрывается не в личном, а в общечеловеческом масштабе.
Ведь в конечном счете произведение искусства предназначено не только для того, чтобы свидетельствовать о личном опыте художника или чтобы лишний раз заявить о его индивидуальности или подчеркнуть индивидуальность зрителя; его предназначение в том, чтобы свидетельствовать о всех впечатлениях – частных и общих, индивидуальных и универсальных. Таким образом, через специфическое, насыщенное, глубокое личное впечатление от произведения искусства зрители, если они честны, приближаются к тому, чтобы почувствовать то же, что чувствуют другие. Они сближаются не только с искусством, поэзией и художником, но и с другими людьми, они начинают глубоко мыслить и чувствовать, и не в одиночку, а вместе с дружественным сообществом. Личный художественный опыт открывает нам более глубокий опыт ви́дения, чувствования, мышления и жизни в другое время и в других культурах. Чем глубже наше взаимодействие с искусством – даже если мы одиноко стоим перед отдельным произведением, – тем глубже мы проникаем в суть жизни и того, что значит быть человеком. Даже если мы, как говорил Гринберг, не «становимся более похожими на других людей», глядя на великое искусство, тем не менее в данном конкретном произведении мы можем открыть для себя то же, что открыли в нем другие. Пребывание наедине с рисунком, скульптурой, инсталляцией, перформансом или ассамбляжем способно сократить разрыв между нами и художником, между нами и другими людьми.
Динамические отношения между сердцем и умом глубоко укоренились в истории современного искусства. Представители современного и новейшего искусства действительно часто ставят чувства на первое место. Но верно и то, что они хотят постичь свои чувства – они хотят использовать ум, чтобы понять и истолковать действия сердца.
Эту сложную динамику можно проследить в творчестве импрессионистов Клода Моне, Огюста Ренуара, Камиля Писсарро и их соратников, в тех радикальных работах, которые они создавали в третьей четверти девятнадцатого века. Импрессионисты, творившие непосредственно на пленэре, были зачарованы собственным субъективным опытом. На этих художников оказывали влияние меняющийся свет, непредсказуемая и необузданная стихия, растения, насекомые, животные и их собственные переменчивые настроения. Влияние мира на этих художников стало играть в их творчестве первостепенную роль. Но при этом импрессионисты хотели выразить свои ощущения рациональным, логичным образом. Импрессионисты на пленэре, покончив с глубоким пространством и замкнутыми контурами, изображали мир в виде множества сияющих капель разноцветного света. Этот подход отчасти был обусловлен тем, как на них повлиял свет. Как известно, Моне мечтал заманить этот яркий свет на свой холст. Импрессионисты хотели показать, как они на самом деле видели и ощущали природу, какое впечатление она на них производила. Глядя на мир, они следовали зову сердца. Но в их подходе к работе, в структуре композиций, которые они создавали для выражения личных чувств и ви́дения, присутствовала ментальная дисциплина. Можно сказать, что они договаривались со своими ощущениями.
Этот сложный танец сердца и разума продолжился в творчестве группы постимпрессионистов – Ван Гога, Поля Сезанна и Матисса. Ван Гог и Матисс разрешали сердцу и глазам в равной мере выбирать цвета для своих полотен, но лишь вдумчивый анализ позволил художникам понять, как организовать эти насыщенные цвета в композиции. Они знали: сильным чувствам нужна сильная структурная поддержка. Сезанн, который хотел живописным языком выразить свои реальные впечатления от природы, в конце концов стал писать не только то, что он видел, но свой опыт зрения. Живописец использовал кристаллические цветовые пятна, словно множество маленьких вспышек, чтобы передать ощущение движения глаз: акт зрительного восприятия жизни с разных, изменчивых точек зрения и перспектив. Тем самым Сезанн надеялся подвести зрителя ближе, чем когда-либо в искусстве, к экзистенциальной правде опыта. Таким образом, Сезанн разработал науку зрения, в равной мере используя силу интуиции и разума. По этим причинам сегодня он носит титул отца современного искусства. Он привел нас в новый мир и взрастил нечто новое.
Благодаря Сезанну движение, эмоции и тревога – мир, которым живут, а не просто видят его, изображают и интерпретируют, – стали насущными объектами искусства. Городских художников вдохновляли бесчисленные изменения и ускоряющийся темп жизни. Не удивительно, что кубисты – а именно Пикассо и Брак – предприняли дальнейшие шаги в развитии языка Сезанна и объединили традиции репрезентации и абстракции.
Взяв на вооружение прерывистость, пространственную неоднозначность, синхронную множественность точек зрения и геометрические упрощения Сезанна, кубисты представляли форму, пространство, место и время не как нечто застывшее и видимое с одной определенной наблюдательной позиции, но как относительное и текучее целое, каждый элемент которого двигается и изменяется в рамках единой структуры. Подобно импрессионистам, кубисты и абстракционисты обращались к силе ума, чтобы понять, о чем говорят их сердца. На изображающих современный город великих кубистских полотнах французского художника Фернана Леже скорость и натиск рекламы, света, шума, архитектуры, движения и людей слились в упорядоченную, классическую какофонию. Все великие художники-модернисты, даже экспрессионисты – те, творчеством которых руководило сердце, – понимали, что экспрессивное, дикое чувство является такой же формой общения, как и глубокие размышления, а значит, оно должно быть сформулировано художником, чтобы его принял и понял зритель. Великие экспрессионисты понимали, что человеческий крик – это форма общения, не менее ценная как предмет искусства, чем все остальные, но они также понимали, что сам по себе крик не обязательно достигнет уровня великого искусства. Если вы хотите, чтобы зритель потратил свое время на размышления о смысле, выразительности, индивидуальности и универсальности крика, если вы хотите донести до зрителя нечто важное о крике – тогда вам нужно делать нечто большее, чем просто орать ему или ей в лицо.
Важно помнить, что, хотя представители современного и новейшего искусства часто создают работы в первую очередь личного характера – в отличие от художников прошлого, которые в рамках четких предписаний рассказывали религиозные истории, писали официальные портреты и т. д., – это не значит, что ими движут исключительно личные цели. Они транслируют то, что считают невероятно важным, рассказывают о своих мыслях и чувствах. Таким образом они делятся глубокими личными переживаниями. Через глубокое самопознание они стремятся воплотить некую универсальную истину. К тому же факт, что некое произведение в первую очередь личное, экспрессивное, не означает, что оно было создано без определенной задумки, цели или умысла. Зритель, размышляющий о смысле произведения, способен преодолеть экспрессивную, личную, порой даже отталкивающую оболочку, чтобы обрести нечто универсальное.
Психолог Зигмунд Фрейд верил, что искусство говорит с нами не только на языке сердца и разума, но и другими способами, которые не осознаю́т ни художник, ни зритель. Он полагал, что существенная часть процесса творчества и общения художника и зрителя происходит на подсознательном уровне. Психолог утверждал, что создание произведения искусства – это акт трансформации и преображения, процесс, во время которого, благодаря уникальной и плодотворной способности художника обрабатывать различные материалы по своему желанию, как сознательный, так и подсознательный аспект внутреннего мира художника, включая его или ее фантазии, обретают физическую форму; то же самое – и на сознательном, и на подсознательном уровне – происходит, когда зрители осмысляют эти формы (эти овеществленные фантазии). Искусство служит связующим звеном между подсознанием художника и подсознанием зрителя, оно пробуждает и выявляет скрытые истины. Фрейд верил в то, что процесс преображения, соединения и откровения, в который мы включаемся при взаимодействии с искусством, может не только насыщать чувства, мысли и взгляд, но и избавлять как художника, так и зрителя от тревог. По мнению Фрейда, эта таинственная сила восхищать, умиротворять и воплощать наши фантазии в реальность – одна из главных целей искусства, которая объясняет, почему искусство притягивает нас, заставляя возвращаться к нему снова и снова.
Художники полагаются на то, что зритель привнесет в их работы свой субъективный и объективный опыт, мысли, чувства, фантазии и грезы. Они знают, что зародившиеся в них художественные произведения, происхождение которых не всегда можно точно определить, в свою очередь обратятся к зрителю и повлияют на него. Художники понимают, что люди не всегда могут уследить за каждой мыслью и чувством, которые испытывают, глядя на произведение искусства; что искусство, как жизнь, может пройти мимо, не оставив следа. Когда скульптор высекает фигуры переплетенных в экстазе любовников, когда художник пишет натюрморт с фруктами в вазе или скопление абстрактных форм, они ждут, что их произведения пробудят как личные воспоминания, так и коллективные импульсы – напомнят зрителям о том, как они сами сжимали кого-то в объятиях, о том, как спелый персик возбудил их аппетит, или о том, как их восхитила чистая динамика абстрактных фигур и форм. Великие художники знают, что пробуждает и удерживает наш интерес. Они признают, что вертикальная, горизонтальная и диагональная формы вызывают разные эмоции, что сходные предметы, сгруппированные друг с другом, могут, в зависимости от деталей, вызвать ощущение общности и причастности или клаустрофобии.
Когда абстракционист располагает цветные геометрические формы на холсте, он рассчитывает на то, что, потратив некоторое время на изучение композиции, зрители отреагируют на эти формы примерно так же, как реагирует на них он сам, и придут к схожим выводам об их функции и об их интеллектуальном и эмоциональном воздействии на восприятие. Возьмем «Ритм цвета» (1967) Сони Делоне, французской художницы и дизайнера украинского происхождения. Практически каждая форма на этом полотне будто бы стремится к чистой евклидовой геометрии и чистому основному цвету, хочет быть безупречным прямоугольником, кругом или треугольником. И всё же каждая фигура словно бы мешает другим: полукруги перекрывают или рассекают прямоугольники и треугольники; треугольники и прямоугольники перекрывают и рассекают круги; многие формы как будто недоделаны – их словно отпихивают, разрезают пополам, лишают опоры, коробят, выталкивают. А над основными цветами будто нависла угроза смешивания: чистый желтый оттеняет лаймовый, черный воздействует на белый, присутствие желтого сближает красный с оранжевым, а белый придает непрозрачность и густоту чистому синему.
В центре полотна прямые углы двух черных фигур стремятся друг к другу, но не соприкасаются. Вместо этого они лишь немного разделены – кажется, что центр картины не в состоянии противиться расширению или же они сами не могут соединиться, несмотря на сильное желание. Эти фигуры настолько сближены – и в то же время настолько обособлены! Между ними ощущается невероятное напряжение. Может быть, им удалось избежать столкновения или они отделяются друг от друга? Это похоже на напряжение между двумя людьми, которые только что поссорились – как в ситуации, когда вы ложитесь спать, не помирившись со своей второй половинкой. Вы ощущаете непонимание, отдаление, но физическая близость сохраняется, и вы чувствуете тепло тела партнера и слышите его или ее дыхание. А на физическом и эмоциональном уровне этот маленький разрыв между вами представляется таким же широким, как Большой каньон.
Тем, кто утверждает, что художники о таких вещах не думают – что они просто рисуют плоды в вазе, которые видят перед собой, или бездумно располагают цветные абстрактные геометрические фигуры на холсте, – я отвечу: да, конечно, случается и такое. Но истинные живописцы, готов поспорить, всё же думают. Когда мы рассматриваем натюрморты Шардена, Сезанна, Пикассо или Матисса, когда мы вглядываемся в абстракции Кандинского, Робера и Сони Делоне, Клее, Мондриана или Эллсворта Келли, когда мы замечаем, как округлые фрукты или чистые абстрактные геометрические формы словно бы принюхиваются, притираются друг к другу, поворачиваются и отворачиваются, притягиваются и отталкиваются, подталкивают друга друга и отскакивают друг от друга, наша мысль начинает течь вслед за мыслью художников.
В произведениях этих художников вы видите и чувствуете не просто вазу с фруктами или абстрактную композицию из цветов и фигур, но динамическую вселенную, совокупность отношений и сил. И вы не то чтобы ощущаете, как рассказывается история, но чувствуете, как разные отдельные формы отзываются, сливаются и взаимодействуют друг с другом, как одна форма будто сплющивается, а другая краснеет, в то время как остальные чем-то обеспокоены, и что иногда, возможно, эти фрукты сами видоизменяют или даже поднимают вазу и стол или проникают в стены комнаты и преобразуют их – что абстрактная композиция из пятен и цветов может самоорганизоваться и создать собственный космос.
В некоторых фигуративных полотнах мы ощущаем, что взаимообмен и взаимосвязь существуют не только между фруктами и вазами, но и между обитателями определенного места и его интерьером – как в гостиных Эдуара Вюйара, где члены эдвардианских семей, безнадежно далекие друг от друга, но будто сплавленные вместе, кажутся связанными и переплетенными, подобно узорам из цветов и лоз на обоях. Или в причудливо сочетающих в себе фантазию и домашний уют садиках, интерьерах и ванных комнатах Пьера Боннара, где люди, флора и фауна сливаются в одухотворенной, будоражащей мозаике цвета и света, наводящей на мысли об ослепительных закатах, благих вестях, сверкающих драгоценных камнях и пламени.
Иногда художник допускает, что сначала мы можем в чем-то не доверять тому, что открываем для себя в произведениях искусства, и поэтому не станем распространяться о своем опыте: мы будем думать, что навоображали себе чего-то и видим только то, что хотим видеть (наши фантазии и мечты берут над нами верх), что наши реакции и порывы надуманны, что мы улавливаем нечто, чего на самом деле нет, – что мы слишком субъективны. Художники сажают семена, пряча их на виду, так что мы чувствуем, будто мы – и только мы – сможем сделать так, чтобы их ростки принесли плоды. Однако художники понимают, что если они сделают наш поиск оправданным, то мы станем ухаживать за садом, который они посадили для нас. Они знают, что мы будем взращивать свой опыт, тем самым даря жизнь их произведению. Мы сможем перейти от общего к частному, наши мысли породят чувства, а наши чувства – новые мысли; сквозь личное мы придем к общечеловеческому.
Художники хотят, чтобы их творчество разожгло и огонь нашего воображения и эмоций, и огонь нашей рациональности. Они верят, что если нас вдохновлять и поощрять, то мы станем копать глубже и порождать спонтанные ассоциации. Они на это надеются. Художники создают свои произведения, поощряя личное и общечеловеческое, сознание и подсознание. Они верят, что нам доставит удовольствие смотреть внимательно, сердцем, отпустив на волю свои грезы. Художники знают, что если мы честны с собой относительно того, что видим и чувствуем, то со временем то же самое произойдет и с нашими мыслями. Они верят, что если мы действительно вдумчиво и рационально отнесемся к тому, что видим, то наши чувства не останутся в стороне и подтвердят выводы, к которым приведут нас их творения.
Глава 4
Художники-рассказчики
Художники рассказывают истории. Им есть что сказать. Часто люди считают, что художники – иллюстраторы историй или идей, нередко так и есть, но, поскольку художники суть поэты, их произведения не являются буквальным пересказом этих историй. В силу того, что художники учатся на творчестве других художников, центральная история, которую они рассказывают, – это непрерывная история искусства.
Художники могут разрабатывать сюжет древнего мифа, исследовать опыт поцелуя, трагедию войны, неразделенную любовь или напряжение между двумя прямоугольниками – но, вне зависимости от занимающего их предмета, все они говорят на одном языке, работают с одними и теми же элементами искусства. Язык искусства эволюционирует, меняется со временем, на нем говорят разные художники. Однако это не только язык роста и изменений, но и обновления и переработки.
Изучая свое ремесло и разрабатывая сюжеты – вне зависимости от того, воплощают они их в живописи, бронзе, мусоре или крови, причисляют себя к абстракционистам, реалистам или концептуалистам, – художники вдыхают новую жизнь в язык искусства, расширяя его словарь. Картина, скульптура, перформанс или коллаж рассказывают не только о своих предметах и темах, но и о самих художниках, их времени и развитии жанра, тем самым внося вклад в общую историю и язык искусства.
Чтобы охватить эту историю в ее связи с развитием современного и новейшего искусства, необходимо понять, что, хотя искусство и вобрало в себя практически бесконечное число сюжетов, материалов и форм, его основные элементы и язык почти не изменились. Допустим, что созданная Дэмиеном Хёрстом скульптура в виде акулы, помещенной в стеклянный аквариум с формальдегидом, и ассирийская скульптура царя-божества имеют дело с одними и теми же элементами – масштабом, весом, формой, цветом, текстурой, движением, силой, контрастом, энергией и юмором. Обе скульптуры что-то сообщают зрителю, при этом используя и исследуя язык искусства по-разному, с различными целями и с различной степенью успеха. Относительно свободно владея языком искусства, зритель может понять, что хочет сообщить произведение, как оно это делает и даже насколько хорошо это у него получается. Важно увидеть, что язык искусства, на котором художник говорит сегодня в бруклинской студии или говорил в пещере сорок тысяч лет назад, это тот же самый язык. Как только мы начнем понимать его, искусство прошлого сможет заговорить с нами так же, как и искусство настоящего, а искусство настоящего получит возможность обратиться к искусству прошлого и помочь его истолковать. Человек, свободно говорящий на языке искусства, получает доступ не только к одному произведению, но ко всему мировому искусству и его истории.
Абстракцию часто называют изобретением модернистов, и действительно, абстракция получила второе рождение в начале двадцатого века, но тем не менее абстрактное искусство существовало рядом с фигуративным искусством еще во времена палеолита. На протяжении всей истории репрезентация и абстракция, как правило, чередовались как способы художественного выражения, в зависимости от того, как общество относилось к внешнему миру. Именно об этом говорил искусствовед Вильгельм Воррингер в своей опубликованной в 1908 году революционной книге «Абстракция и эмпатия: исследование психологии стиля».
Хотя книга Воррингера и стала первым серьезным исследованием того, что впоследствии назвали современным искусством, она не посвящена современному искусству и абстракционизму как таковым. Воррингер завершил ее в 1906 году (Пикассо создал кубизм примерно в 1907-м). Ученый стремился выяснить, почему художники определенных культур, например греческой и римской, и определенных периодов, например эпохи Ренессанса, предпочитали фигуративный стиль, в то время как другие – древние шумеры и египтяне, а также те, кто творил во времена Византийской империи и в Средние века, и, конечно же, представители многих первобытных культур – отдавали предпочтение абстракции.
Изучая этнографические объекты коллекции музея, ныне известного как Музей Человека в Париже, Воррингер понял, что эти ранние, простые, абстрактные и примитивные произведения искусства, должно быть, считались красивыми и функциональными в тех обществах, которыми были порождены, и что мы ошибаемся, пытаясь навязать свои постренессансные европейские идеи о том, каким должно или не должно быть искусство, другим культурам, просто потому, что их произведения искусства отличаются от фигуративного искусства, которое мы ценим и называем прекрасным. Воррингер, наряду с многими современными художниками, поставил под вопрос давно сложившиеся общепринятые представления об эстетике, психологии, социологии и о том, что является, а что не является прекрасным, что является, а что не является «искусством».
Признавая мастерство, вложенное в создание примитивных предметов искусства, – как это делал Пикассо, глядя на те же работы в том же самом музее, – Воррингер пришел к выводу, что они представляют собой подлинные произведения абстрактного искусства и выражают определенное мировоззрение так же, как фигуративное искусство эпохи Возрождения. Ученый классифицировал эти два стилистически полярных, противоположных взгляда как абстракцию и эмпатию. Он утверждал, что, когда мы пребываем в гармонии с окружающим нас миром, как во времена Античности или Ренессанса, нам свойственно испытывать к миру эмпатию: идеализировать и воссоздавать его внешний вид в трех измерениях; мы хотим создавать предметы, которые объективируют наше восхищение. А когда мы ощущаем разлад с миром, как это было в Древнем Египте, в Средние века и в эпоху модернизма, – нам хочется абстрагироваться от мира и создавать произведения, которые затмят его в угоду нашим внутренним переживаниям; в эти эпохи зарождается состояние отчуждения, которое можно назвать «колоссальной духовной боязнью пространства».
Древние египтяне всю жизнь посвящали строительству собственных гробниц и подготовке к загробной жизни, и древнеегипетские художники, по сути, создавали абстракции больше трех тысяч лет. Древний Египет стал воплощением культуры, сосредоточенной вне реальности, воплощением жизни в постоянной тревоге. Рассуждая об одержимости египтян загробной жизнью, искусствовед Эрвин Панофский писал: «Если бы мы, не дай бог, были социологами, мы сказали бы, что вся египетская цивилизация была ориентирована на смерть, а не на жизнь; гораздо лучше этот контраст выразил Диодор Сицилийский: „Египтяне говорят, что их дома – всего лишь гостиницы, а гробницы – их настоящие дома“». Это экзистенциальное чувство смятения вновь вспыхнула во времена промышленной революции, когда европейские художники-модернисты не создали, а воссоздали абстракционизм.
Нидерландский живописец Пит Мондриан, один из главных представителей абстракционизма, свел элементы искусства к абсолютному минимуму: горизонталь, вертикаль, прямой угол и пять цветов – красный, желтый, синий, черный и белый. Его удивительно лаконичная «Композиция с синим» (1926; ил. 5) находится в Художественном музее Филадельфии. По форме это ромб: квадратный холст повернут на 45 градусов. «Композиция с синим» представляет собой подчеркнуто плоское абстрактное полотно со всего несколькими элементами – двумя пересекающимися черными линиями, белым полем и синим треугольником, но при этом она очень сложна и несет в себе невероятный заряд энергии.
Плоская поверхность картины лишь слегка намекает на взаимоналожение двух пересекающихся линий, одна из которых движется вертикально в левой части полотна, а другая тянется горизонтально через нижнюю треть белой плоскости холста. Маленький треугольник, образованный их пересечением и левой нижней диагональю холста, окрашен в глубокий холодный синий цвет. Остальные формы композиции совершенно белые. Эти плоские формы и черные линии исключают пространственную глубину, указывая на то, что каждый элемент одинаково фронтален, фронтальнее просто некуда. Если долго смотреть на белый цвет полотна Мондриана, начинает казаться, что это не черные линии рассекают белый фон, но белые формы расширяются, захватывают пространство и вытесняют слабеющую черную или синюю плоскость. Как будто белый вовсе и не фон, а ближайший элемент полотна – словно белая жидкость растекается по холсту. Напряжение между тем, что находится наверху, тем, что находится снизу, и тем, что врезано в плоскость изображения, равномерно меняется в зависимости от того, на что именно вы смотрите – как движутся ваши глаза – в пределах картины.
На внешних углах «Композиции с синим» черные линии выглядят нарисованными на белом, но по мере того, как вы продвигаетесь глубже, крупный белый элемент картины, по форме напоминающий основную базу в бейсболе, как будто разворачивается и начинает пикировать, словно ракета, туда, где вертикальная черная линия встречается с горизонтальной. Здесь, в этой динамической точке картины, белый наваливается на черный, давит на него и пытается взять над ним верх.
В зависимости от того, на какую точку картины Мондриана вы смотрите, меняется каждая форма, ощущение ее плоскости и объема и направление ее движения (вверх, вниз, влево, вправо, по диагонали, внутрь, наружу). Мы чувствуем, что в некоторых местах гладкая плоскость раздувается и дышит, что это тугая, эластичная мембрана, проталкивающаяся сквозь композицию, что ровная окрашенная плоскость картины Мондриана – живое существо. Это особенно верно, если рассматривать каждую форму отдельно среди прочих. Синий треугольник, несмотря на маленький размер и темный цвет, оказывает диагональное, направленное вверх давление на черный прямой угол у его вершины, как реактивный мотор, толкающий более крупную форму в виде бейсбольной базы.
Синий треугольник таит в себе огромную, готовую выплеснуться энергию, однако он действует и как краеугольный камень картины, и как точка ее равновесия. При этом Мондриан выводит из равновесия нас, заставляет наш взгляд двигаться в тщетных попытках встроиться в его композицию. На самом деле, перемещаясь по этому плоскому полю, невозможно найти центр – мы либо парим в белом пространстве, либо нас непрестанно тянет в разные стороны, во все стороны.
«Композиция с синим» проникнута ощущением динамического равновесия – не только невозможности вертикального, горизонтального и диагонального движения и не только подавления пространственной глубины, но и ощущением кругового движения в противовес балетному равновесию нижней точки холста. Полотно будто стоит на пуантах, делает пируэт, затем словно тянется сначала вправо, потом влево, а после поднимается и бросается вертикально вниз, ныряя подобно хищной птице.
В этой картине мы чувствуем вертикальное и горизонтальное давление на черные линии, усиливающееся в тех частях, которые располагаются дальше от их пересечения. Чтобы противостоять этому эффекту, Мондриан сделал горизонтальную черную линию чуть шире или толще, чем вертикальная. Это замедляет ее движение по горизонтали, но создает ощущение, что она разбухает и слегка приближается к нам, а также расширяется из линии в плоскость – в прямоугольник. Как и другие формы, черные линии усиливают динамизм и пластичность картины. Подобно машине, ромб Мондриана ритмично и синхронно совершает толчки в стольких направлениях, на стольких уровнях противоборствующих энергий и устремлений, что кажется, будто он готов к прыжку, будто хочет оттолкнуться от плоской стены и пуститься в пляс.
Что еще поражает в картине Мондриана, так это ощущение постоянного движения к чему-то, ощущение становления – несмотря на всю внутреннюю борьбу. Кажется, что маленький синий треугольник вылупляется, расширяется, прорывается и выпускает себя на свет. Но к наиболее впечатляющим особенностям этой картины я отнес бы то, что она всё время старается исправить себя – стать неподвижной, сойти с «паунта» и стать квадратом. (Балерина не может вечно делать пируэт.) Эта композиция похожа на четырехшаговый танец, в котором один партнер всегда отстает от другого на шаг. Возникает ощущение, что если хотя бы одна из многих динамических сил повела бы себя так, чтобы все остальные элементы синхронизировались бы с ней, то вся композиция обрела бы ритм – и наконец смогла бы остановиться.
Пока вы стоите перед «Композицией с синим», ее силы растут в геометрической прогрессии. Я, например, чувствую неизбежность лобового столкновения, как будто нахожусь на пути летящей навстречу мне фуры. Это нарастающее давление, наряду с тем, что композиция всё никак не может «исправиться», создает впечатление, словно она бесконечно толкает взгляд зрителя то вправо, то влево за границы ромба по линии своего горизонта, выталкивает вверх сквозь собственную вершину и будто ударом молота вбивает вниз. Под влиянием таких противоборствующих сил зритель оказывается везде и нигде, ощущая последствия этого давления где-то в груди.
За сто лет до того, как Мондриан написал «Композицию с синим», был создан эфиопский магический свиток «Плененный сатана» (ил. 6), предназначенный для исцеления одержимых. Это эмоциональное, абстрактное изображение краснолицего дьявола, заключенного в пересечении вертикальной и горизонтальной полос, – мощный графический образ. Хотя по структуре и динамике эта работа похожа на «Композицию с синим» Мондриана, она рассказывает совсем другую историю, историю другой культуры и эпохи. Несмотря на влияние персидских и исламских источников, «Плененный сатана» – это христианский оберег, священный молитвенный свиток, который использовали, по всей вероятности, после изгнания бесов. Для изготовления такого свитка приносилась в жертву овца, больного омывали ее кровью, давали ему ее жареное мясо, а из шкуры делали пергамент, который украшали предписанными молитвами и талисманами.
Кровь принесенных в жертву овец смешивалась с пигментами, полученными специально для определенного свитка, который потом постоянно носил или держал под рукой исцелившийся. В тексты большинства эфиопских магических свитков включены фрагменты Нового Завета. Каждый свиток содержит уникальное изображение (талисман) и специально выбранную цитату и обладает своим символическим и метафорическим значением. Объединяясь и усиливая друг друга, эти изображения и тексты становятся заклинаниями и магическими формулами. В основном такие свитки делались для неграмотных людей, и поэтому их смысл передан преимущественно метафорическими образами. Как писал Жак Мерсье в книге «Эфиопские магические свитки», одержимые, а также шаманы или «священники», назначавшие такое лечение, и ремесленники, создававшие эти свитки, считали их не «произведениями искусства», а «сильным лекарством».
На свитке «Плененный сатана» изображен вариант восьмиконечной звезды, образованной восемью пересекающимися петлями. Переплетающиеся ленты становятся решеткой, запирающей сатану в его тюрьме.
Древний символ восьмиконечной звезды обладает множеством значений. В средневековом исламском искусстве это печать пророков, а в христианском искусстве он может отсылать к крещению и возрождению – новой жизни. Считается, что такая звезда была изображена на кольце царя Соломона и что это талисман, защищающий владельца от опасностей, исходящих со всех основных и промежуточных сторон света (север, северо-восток, запад, юго-запад и так далее). Согласно записям Мерсье, Х-образные формы над и под основной фигурой являются «печатями, которые связывают сатану и снимают заклятия».
На свитке с изображением плененного сатаны переплетение линий, узлов и витиеватый орнамент связывают, сковывают и удерживают сатану – Х-образные знаки словно припечатывают его к месту, а волнообразное движение решетки отвлекает его и ограничивает. Толщина и размер решетки, узлов и орнамента варьируются; это не механически повторяющийся шаблон, а нечто органичное и динамичное, живое, как и сам сатана. В переплетениях и взаимодействии «прутьев» решетки чувствуется исходящее изнутри давление; видны разные степени натяжения, расширения и сжатия. Создается впечатление органической тюрьмы – укрощающих, сдерживающих сил, направленных против желания сатаны освободиться и причинять зло.
Голова сатаны похожа на раскаленный красный шар, готовый лопнуть; давление его выпученных глаз и головы, прижатой к вертикальным и горизонтальным «прутьям», настолько велико, что лицо дьявола становится единственным местом композиции, в котором мы чувствуем полноценный, нагнетаемый объем. Сатана висит внутри окружающей его плоской черноты и старается ей противостоять. Но изображение не абсолютно плоское, как части «Композиции с синим» Мондриана. Переплетающиеся «прутья» решетки уравновешивают друг друга: в каждом месте пересечения видно, что под одним «прутом» расположен другой, который, в свою очередь, регулярно оказывается сверху в других частях свитка, что в итоге создает пространство, в котором глубина в равной степени подтверждается и отрицается – как если бы «прутья» существовали и проявляли свою магическую сдерживающую силу изнутри свитка, а не на его поверхности. Мы ощущаем, что пространство не настоящее, не реальное, что это – метафорический конструкт.
И действительно, сатану сдерживает не множество «прутьев», а лишь один, перевивающийся сам с собой, подобно ленте Мёбиуса, и создающий пространство без верха и низа. Такое отрицание пространственной глубины в плоскости изображения указывает на то, что, хотя сам сатана и объемный, его так крепко скрутили в магическом мире свитка, что он (трехмерная форма) содержится в двухмерном (или иномерном) магическом мире. Его заключение подчеркивается тем, что вертикальные и горизонтальные «прутья», как небеса, не имеют начала и конца. «Прутья» змеятся вокруг сатаны, своей силой сдерживая его в тюрьме вне пространства и времени.
Ощущение несвободы сатаны усиливается движением «прутьев» решетки. Мощная механистичная энергия, пронизывающая по диагональным и круговым линиям полосы и петли «тюрьмы», создает динамическое равновесие, схожее с тем, которое мы ощущаем под влиянием диагональных и круговых сил в «Композиции с синим» Мондриана. «Плененный сатана» воплощает напряжение не только между плоскостью и объемной формой, но и между бесконечным круговым движением, которое окружает и заточает сатану, словно стена, и его неподвижностью – ощущением остановки его активности, подавления его сил, их ограничения плоскостью.
Эфиопский свиток, как и «Композиция с синим» Мондриана, одновременно полон энергии и неподвижен, статичен. Эта парадоксальная динамика создает дальнейшее напряжение форм в каждом из произведений: напряжение между действием и неподвижностью, ограничением и освобождением, жизнью и смертью – ощущение подавляемой внутри энергии, которую тем не менее невозможно удержать взаперти. Эта энергия напитывает оба изображения особой магией, напряжением оголенного провода.
Художники считают любое искусство любого периода живым, актуальным и современным. Они не думают, что искусство совершенствуется или существует в рамках хронологии. Искусство представляется им живым музеем. Музеи часто критикуют за то, что они помещают объекты за стекло и на пьедесталы, изымая ритуальные предметы и другие произведения искусства из религиозного и бытового контекстов, в которых они использовались: перемещенный в музей семейный портрет оказывается анонимным; магический тотем, увезенный из африканской деревни, становится скульптурой; алтарь, вынесенный из церкви, превращается в картину. Монументальный шедевр Эллсворта Келли «Скульптура для большой стены» (1957), созданный для вестибюля здания Транспортной компании Филадельфии, бо́льшую часть своего существования проводит – разобранный и скрытый от глаз людей – в хранилище нью-йоркского Музея современного искусства; а маленькая корзинка с горсткой безделушек – амулетов, игрушек, дешевых драгоценностей, датируемая примерно 1800 годом до н. э. и предназначенная для могилы маленькой египетской девочки, которая должна была взять ее с собой в вечное путешествие в загробный мир, прибывает, словно потерянный багаж, в нью-йоркский Метрополитен-музей. Но музеи превращают эти объекты в культурных эмиссаров, обеспечивая им всем одинаковые условия и давая нам возможность увидеть произведения искусства далеких стран и эпох в контексте других работ. Тысячам голосов представителей разных культур и эпох они позволяют общаться друг с другом и с нами, а нам дают возможность находить визуальные связи между произведениями, которые привлекают наше внимание и говорят нам о том, что любое искусство современно и актуально.
Подумайте о первобытном искусстве в парижском Музее Человека, где у Воррингера случилось прозрение, которое также повлияло на Пикассо и вдохновило его переосмыслить искусство других культур и создать кубизм; вспомните о том, что кубизм повлиял на множество других художников, и в результате появился абстракционизм. Подумайте о том, как экспрессивный живописный стиль Рембрандта повлиял на экспрессионизм Хаима Сутина; о влиянии картин Пикассо и Сутина на экспрессионистических «Женщин», написанных де Кунингом в 1950-х; о влиянии де Кунинга и африканского племенного искусства на неоэкспрессионизм Жан-Мишеля Баския в 1980-х; и о том, как Баския повлиял на современные граффити. Круг замыкается.
Посмотрите, как византийские мозаики и японские гравюры повлияли на Ван Гога, а исламское искусство – на Матисса, как эти два художника используют узоры, плоскость, объем, орнамент и цвет. А затем посмотрите, как повлияли Матисс и Мондриан на крупные цветовые плоскости полотен Эллсворта Келли: некоторые из его раздутых, но плоских форм как будто готовы, закрутившись, спрыгнуть со стен – готовы лопнуть, как голова сатаны, сидящего за решеткой, на эфиопском свитке.
Художники часто обнаруживают, что в своих одиноких путешествиях по миру искусства прибывают в одни и те же места. Посмотрите на созданные Пикассо в начале двадцатого века рисунки быков и на палеолитических быков, нарисованных сорок тысяч лет назад на стенах пещер Ласко, Альтамира и Шове.
И Пикассо, и художники палеолита используют одинаковые изгибающиеся линии для передачи поступи животного и схожим образом создают парадоксальное напряжение между плоскостью и иллюзией объема. Им важно не то, как выглядит бык, но его энергия, движение и жизнь. И Пикассо, и пещерные художники хотели, чтобы мы знали, что смотрим на быка, но важнее то, что они, используя выразительную силу линии, стремились показать зрителям движение, объем, вес, силу и грацию этого животного; ритм и скорость его бегущих ног; перемещение массивного тела, словно покрытого кожей балласта. Они хотели запечатлеть исходящее от быка ощущение мощи и скорости, жизненной и духовной силы.
Возможно, это легенда, но говорят, что, выйдя из пещеры Ласко во Франции или из пещеры Альтамира в Испании, Пикассо сказал своему проводнику: «Мы не изобрели ничего нового». Конечно, Пикассо, будучи одним из самых оригинальных художников современности, знал, что изобрел что-то новое. Но он также понимал, что в своем путешествии, полном открытий и изобретений, он прибыл туда же, куда до него прибывали другие художники. Я полагаю, что эти открытия одновременно обнадежили и осадили Пикассо.
Если сравнить, например, древнеримские фаюмские погребальные портреты и живописные портреты начала двадцатого века, в частности кисти Матисса и Андре Дерена, то вы почувствуете, насколько свежи, современны и актуальны первые. А если вы сравните некоторые из полотен Матисса, изображающие женщин, например его «Женщину в синем» (1937) из Музея искусств в Филадельфии, с византийскими мадоннами или «Мадонной Оньиссанти» (около 1310) Джотто, вы увидите схожее напряжение между плоскостью и объемом, ведь Джотто и Матисс, творившие в разное время, говорили на одном языке.
Одно из самых ошеломительных ощущений, которые я испытал при контакте с искусством, возникло у меня у подножия пирамиды Хеопса на плато Гиза. Больше 137 метров в высоту и 228 метров в ширину, Великая пирамида требует, чтобы вы покорились ее воле; чтобы вы осознали свое место, стоя у ее подножия; чтобы вы с уважением отнеслись к ее размерам; чтобы вы отдали должное этому колоссальному монументу.
Подобно «Композиции с синим», пирамида Хеопса хочет вступить с вами в противоборство: открыто, лицом к лицу. Стоя перед ней, вы ощущаете – из-за многочисленных динамических притяжений и отталкиваний (вверх, вниз, влево, вправо) – словно вас поднимает и подвешивает, растягивает как тянучку, подбрасывает и отпускает.
Стоя перед пирамидой Хеопса, крупнейшим архитектурным памятником на земле, вы ощущаете ее непостижимую величину, которая угрожает смять и уничтожить вас, но при этом вас тянет в самые дальние уголки этого сооружения. Рядом с огромным покатым телом пирамиды вы чувствуете, словно она бесконечно отступает назад, а вас тянет за ней, и вы бесконечно падаете вперед. Ощущение такое, будто вы стоите над пропастью, но при этом летите, словно бы вы уже спрыгнули и находитесь в свободном падении. Из-за огромной высоты фасада пирамиды и скорости восхождения вашего взгляда к ее далекой вершине вас как будто катапультирует и возносит в небо. Великая пирамида оказала на меня физическое воздействие, столкнулась со мной, выбила меня из себя. Я почувствовал бремя и силу притяжения, одновременно ощущая невесомость и освобождение.
Изначально пирамида Хеопса была облицована отражающим свет белым известняком. Могу лишь вообразить, каково было смотреть на ее ослепительно яркие грани – и какое глубинное значение мог бы придать этот опыт понятию «идти к свету». Именно стоя перед пирамидой Хеопса, я осознал, что испытывал этот чистый, абстрактный опыт и до этого – я также ощущал себя физически вытесняемым, но прикованным к месту, стоя перед картинами Мондриана.
Очарованный «Композицией с синим» Мондриана, я пытался найти центр этого активного и аморфного ярко-белого поля и ощущал, что, возможно, теперь я на шаг ближе к пониманию того, как мог чувствовать себя человек, стоящий у пирамиды Хеопса и ослепленный белым светом, исходящим от ее облицованных известняком граней. Именно так я познаю язык искусства. Когда я возвращаюсь к определенным полотнам Мондриана, то ощущаю их способность одновременно приковать меня к месту и перенести в другое, и они переносят меня обратно в Египет. Я представляю, что, вернувшись в Египет, к основанию Великой пирамиды, я продолжу свой опыт восприятия картины Мондриана. Такова история искусства.
Глава 5
Искусство – это ложь
Искусство – развивающаяся история. Как-то раз я слышал о весьма обеспеченной даме, проживающей в Верхнем Ист-Сайде, которая отстегнула пятизначную сумму на благотворительном аукционе и приобрела работу знаменитого художника-концептуалиста. Будучи произведением концептуального искусства, этот приз еще не был создан художником, так что дама понятия не имела, что именно выиграла. Когда художник приехал к женщине домой, чтобы доставить ей свое произведение, он спросил, есть ли у нее пылесос. Обеспокоенная, но заинтригованная, дама приказала горничной дать художнику пылесос, после этого художник открыл мешок-пылесборник и аккуратной кучкой вывалил его содержимое на персидский ковер в гостиной. И ушел.
Дама-филантроп почувствовала, что художник не просто ее обманул, но и посмеялся над ней. Она пожаловалась организаторам аукциона, требуя взамен другое произведение или денежную компенсацию. Сначала художник отказался, но после очень жаркого спора всё-таки согласился вернуться к своей инсталляции, которую сфотографировал до того, как кучка пыли вернулась на свое место в мешке пылесоса. Фотографию инсталляции распечатали, передали даме-коллекционеру и, насколько я помню, повесили невдалеке от места преступления на стене гостиной – что полностью удовлетворило даму.
Вполне возможно, что это всего лишь байка, но она вскрывает множество проблем, возникающих на территории современного искусства: концептуальное произведение может быть лишь идеей, не облеченной в физическую форму даже на бумаге, существующей только в голове художника; одна из функций творения художника-концептуалиста может быть в том, чтобы разыграть зрителя, застать его врасплох, привлечь его внимание, заставить его почувствовать себя некомфортно и взглянуть на искусство под совсем иным углом; возможно, возмущение или замешательство зрителя будет поощряться, оно может быть неотъемлемой частью концепции художника, интерактивным перформансом, в который вовлечены ваша горничная, ваша семья, организаторы благотворительного аукциона, художник и его агент.
Легко представить, какое удовольствие испытал бы американский художник-концептуалист Лоренс Винер (род. 1942), стань он свидетелем того, что произошло как-то утром 2007 года на его ретроспективе «Имеющий глаза да увидит» («As Far as the Eye Can See») в Музее американского искусства Уитни. Гуляя по выставке, я увидел, как зрителя отчитывает смотрительница. Ничего не подозревавший посетитель только что наступил на протоконцептуальную работу Винера «Одна пинта белой глянцевой эмали, вылитая прямо на пол и оставленная высыхать». Задуманная в 1968 году и реализованная как раз на выставке в Уитни, работа представляла собой именно то, о чем сказано в ее названии: высохшую лужу блестящей белой краски (которая была вылита на пол музея художником или его полномочным представителем). Смотрительница закричала: «Не наступать! Не наступать! Не наступать!» Ошарашенный зритель сначала взглянул на смотрительницу, затем на картину под подошвой ботинка, а потом быстро извинился: «Я не понял. Не заметил ее. Вокруг нет веревки!» Вздохнув и покачав головой, смотрительница сказала, как будто уже не в первый раз: «Я понимаю».
Не удивляет меня и готовность мексиканского художника Габриеля Ороско (род. 1962) признать вполне ожидаемым случай, происшедший в 2009 году на его выставке в нью-йоркском Музее современного искусства, где двухлетняя девочка радостно бросилась к одной из скульптур и скинула ее на пол, заставив подскочить. Эта работа под названием «Восстановленная природа» (1990) состоит из двух уже использованных камер от колес грузовика, вшитых одна в другую и надутых так, что получилась сфера, похожая на большой черный резиновый мяч. Сначала несчастную малышку обругали смотрители, затем орущую и брыкающуюся девочку вынес из галереи отец, а измотанная мать ребенка в это время умоляла о снисхождении. Смотрители прочитали женщине лекцию о неприкосновенности искусства и вернули ничуть не пострадавшую скульптуру на законное место. Некоторые утверждают, что «Возвращенная природа» Ороско, – которая сделана из отреставрированной резины и накачана до шарообразной формы, – является объектом «морфологической трансформации». Есть ли что-то заманчивое в бесформенном черном резиновом шаре Ороско? Может быть, всё же накачанные воздухом объекты достаточно привлекательны. Но в целом я бы сказал, что «Восстановленная природа» – достаточно инертный предмет искусства, и, может быть, именно поэтому та маленькая девочка захотела с ним поиграть, сдвинуть его с мертвой точки. И мне понятен ее импульс, я и сам подавил в себе задорный порыв пнуть «Восстановленную природу», чтобы объект покатился по полу галереи, как если бы это был мяч, а не скульптура.
Провокация продолжает быть популярным плацдармом и установкой многих современных художников. Некоторые полагают, что такое насмешливо-ироническое отношение зрителю инициировал французский художник-импрессионист Эдуар Мане (1832–1883), а именно его «шокирующие» полотна «Олимпия» и «Завтрак на траве» (ил. 1) (работа над обеими картинами завершилась в 1863 году). Мане, смешав высокое и приземленное, трактовал оба сюжета небрежно, без должной серьезности, а также использовал резкий свет как в фотографии – технике, которая приобретала популярность, хотя ее всё еще считали низшей формой искусства по сравнению с живописью. На картине «Олимпия» – ироническом полотне, исследующем священное и мирское, – Мане практически бесповоротно превратил богиню Венеру, образ, традиционно чтимый живописью, в проститутку. Привлекая внимание к понятию «мужской взгляд», художник, возможно, раскрыл реальные мотивы тех, кто желал видеть сладострастные полотна с обнаженными дамами на стенах своих гостиных: этих пошлых капиталистов, которым хотелось посмотреть на голые тела под прикрытием благородного образа Венеры. «Олимпия» и «Завтрак на траве» Мане обострили и без того натянутые отношения между художником и публикой, между авангардом и академической живописью.
Практически повсеместно любимый в наши дни, импрессионизм в свое время был в числе самых ненавидимых художественных направлений в истории искусства. К середине девятнадцатого века публика уже осознала, что художники создают искусство так, как им нравится, и на темы, интересные им самим. Однако, по мнению многих, импрессионисты, с их мозаичными полями света, зашли слишком далеко: они сделали пространство картины таким поверхностным, что ее мир стал будто бы наступать на зрителей, которым становилось всё сложнее в него войти и перемещаться в нем. Публика восстала не потому, что цвета Джеймса Уистлера и Мане были недостаточно приятны для глаз, но потому, что зрители чувствовали себя одураченными, как если бы краску из банок просто вылили на холст: импрессионисты лишили публику не только традиционных мифологических сюжетов, заменив нимф коровами, и не только полноценных, осязаемых объектов, но и самого доступного публике, освоенного ею пространства.
Понимая настроения публики, Мане своей «Олимпией» осознанно дразнил ее, одновременно провоцируя художников и коллекционеров и высмеивая само искусство, и в особенности – художественные традиции. Он открыл ящик Пандоры. Мане выставил публику на посмешище и тем самым способствовал росту общественного недоверия к художникам. Залп художника накрыл практически всех: и непросвещенную публику, и могущественных филистимлян мира искусства из академии, которые в свою очередь не признавали новое искусство. Картины Мане указывали на то, что между публикой и художниками-модернистами разверзлась пропасть. Однако, используя живопись не только как искусство, но и как игру, как продуманный механизм воздействия на публику, как своего рода оружие, Мане разрушил одну из стен, разделяющих искусство и зрителей, сделав возможной провокацию в искусстве и подчеркнув важность роли провокатора как таковой. Намеренно или нет, но Мане инициировал наступление, повлиявшее не только на общество и французскую академию, но и на художников и их творчество. Он разделил художников и публику; пропасть между ними стала расширяться, постепенно превратилась в одно из условий искусства, и с тех пор ее так и не удалось ликвидировать.
Пятьдесят лет спустя пришло время сверхпровокационных и сверхпроницательных реди-мейдов Дюшана (1887–1968), разочарованного в искусстве французского живописца и блестящего шахматиста, который в 1915 году купил лопату для уборки снега, подвесил ее под потолком своей комнаты и назвал это искусством. Это была не просто игра. Это была игра как искусство.
Названная «В предвидении сломанной руки», лопата Дюшана стала одним из первых реди-мейдов, подготовивших почву для постмодернизма и современного искусства. Многие не без основания считают, что именно реди-мейды – обыкновенные вещи серийного производства, которые художник перенес на священную территорию искусства, чтобы бросить вызов традиционным представлениям, – стали первыми проблесками постмодернизма. По мнению Дюшана, искусство должно было оставить заботу об эстетике – приятных глазу вещах, созданных в угоду сетчатке, – и переключиться на интеллектуальные задачи, на создание и развитие концепций и идей. Провокация Дюшана была попыткой подорвать традиционные представления об эстетической красоте, мастерстве и художественном гении как определяющих характеристиках искусства. Он покусился на извечную веру в исключительный статус художника – шамана, провидца, идеолога. Он бросил вызов представлению о том, что произведение искусства – уникальная вещь, обладающая особой силой.
Самой известной работой Дюшана стал «Фонтан» (1917) – фарфоровый писсуар, который он купил в магазине сантехнической фирмы «J.L. Mott Iron Works», собственноручно подписал именем «R. Mutt», уложил на спинку и установил на пьедестал, как скульптуру. Этот реди-мейд, поданный от имени Р. Матта на выставку Общества независимых художников, а затем утраченный, часто обыгрывают в своих работах современные художники. Среди подражаний Дюшану – золотой унитаз «Америка» (2016) Маурицио Каттелана и «Дерьмо художника» (1961) Пьеро Мандзони. «Фонтан» не был допущен к участию в выставке, его не признали произведением искусства, хотя по уставу Общества независимых художников любая работа автора, уплатившего членский взнос, должна была быть представлена публике. Реди-мейды обрели место в истории искусства только во второй половине двадцатого века и коренным образом изменили представление о художественном произведении, которое с тех пор уже не должно быть уникальным творением рук одаренного мастера: оно может быть чем-то найденным, купленным или взятым из типовой серии; оно может быть просто идеей, существующей в голове художника, как это и происходит в концептуальном искусстве. Как только установленные Дюшаном критерии произведения искусства были приняты и вошли в канон, всё – абсолютно всё что угодно, если только оно исходит от художника, – может называться искусством.
Дюшан посмеялся над верой в то, что искусство – это превращение обычного в необычное. Реди-мейд показывает, что высокий статус Искусства с большой буквы не имеет под собой никаких оснований, и заостряет внимание на товарной стороне художественного произведения. Найденный или купленный в магазине объект «превращается» в «искусство» мановением руки художника. Любой дешевый, купленный в магазине утилитарный предмет, очевидно доступный и, казалось бы, понятный каждому, может внезапно стать «художественным произведением», чем-то, что могут оценить, понять и тем более приобрести в свою коллекцию только избранные. Реди-мейд не столько ценен своей эстетической привлекательностью, сколько важен своим ироничным значением.
Дюшан провел различия между восприятием искусства разумом и глазами. С помощью своих антиэстетических реди-мейдов он попытался отделить идею произведения искусства от принимаемой ею формы. Он решил выставить писсуар в художественной галерее, предполагая, что своей вульгарностью, своей кажущейся несовместимостью с традиционными живописными полотнами и скульптурами он поразит зрителей и других художников, бросит вызов представлению о том, что является, а что не является искусством, столкнет искусство с пьедестала и навсегда сотрет различие между искусством и всем остальным. Дюшан полагал, что писсуар будет существовать только как идея реди-мейда, архетип найденного объекта – ведь на самом деле абсолютно любой найденный объект массового производства может выступать в качестве реди-мейда: это разрушило различие между искусством и жизнью. На первый взгляд, невозможная задача, ведь мы воспринимаем изобразительное искусство как глазами, так и разумом; тем не менее именно такой целью задался Дюшан.
Мы видим и оцениваем объекты и формулируем эстетические и интеллектуальные суждения о них как о произведениях искусства, не имея возможности отделить то, что видим, от того, что думаем. Наш разум не может отделять форму от содержания: формы выразительны; форма и содержание слиты воедино. Фарфоровый писсуар, хотя и отлитый в пресс-форме на фабрике, можно считать произведением искусства – реди-мейдом – или просто унитазом, но в любом случае он обладает формой, назначением и некой эстетической привлекательностью. Взглянув на фарфоровый писсуар, мы можем вспомнить о современных скульптурах серийного производства и ручной работы, которые также бывают глянцевыми, гладкими, минималистскими и изогнутыми. Писсуар, независимо от того, есть у его название, как у «Фонтана», или же это просто еще один утилитарный предмет, дает пищу нашим умам и глазам. Но сегодня реди-мейды встречаются повсеместно. И, в отличие от многочисленных натюрмортов, портретов, пейзажей и скульптур, которые тысячелетиями создавали художники и большинство из которых должны восприниматься как уникальные и индивидуальные, реди-мейд предназначен не для того, чтобы привлечь внимание к себе как таковому, но для того, чтобы привлечь внимание к идее реди-мейда как концепту, конструкту – конструкту, который превосходит сам этот реди-мейд объект.
Реди-мейды Дюшана – особенно его «Фонтан» – казались оригинальными, незаурядными, интригующими сто и даже пятьдесят лет назад. Но в музеях и галереях так много современных реди-мейдов, что возникает вопрос: сколько еще реди-мейды будут действительно провоцировать нас, бросать нам вызов, стимулировать развитие искусства? И как именно стимулировать? Сколько потребуется реди-мейдов, чтобы они изжили себя? Сколько их нужно, чтобы реди-мейд перестал ассоциироваться с авангардом и провокацией, превратившись в очередной маркер современного «академизма»? Вдвойне ироничен тот факт, что реди-мейд стал установившейся практикой в современном искусстве, потому что столетие назад его оригинальной идеей было спровоцировать «академию», бросить ей вызов и низвергнуть ее.
В начале двадцатого века многочисленные революционные художественные движения появлялись по обе стороны Атлантического океана. В 1915 году, когда Дюшан подвесил лопату к потолку своей студии, а Малевич написал «Черный квадрат», импрессионист Огюст Ренуар писал своих округлых пострубенсовских обнаженных «красного периода». Тогда, как и сейчас, существовало множество подходов к созданию искусства.
Но к 1915 году многое изменилось с начала девятнадцатого века, когда западные художники работали в фигуративной технике и с традиционными материалами – краской, глиной, деревом, мрамором и бронзой. Это изменение было вызвано тем, что художники больше не получали официальных заказов, которые сотни лет кормили их, одновременно обязывая писать на определенные религиозные и мифологические сюжеты. Краска переместилась в тюбики, и художники-модернисты осмелились выйти на пленэр, чтобы писать, основываясь на том, что видят и чувствуют, а не на эскизах, нарисованных в своих студиях. Дело не в том, что художники до реалистов и импрессионистов не рисовали того, что чувствуют, однако на природе впечатление художника от мира стало приоритетным, важнейшим предметом изображения. Без поддержки меценатов художники всё сильнее чувствовали себя покинутыми и непонятыми. Над ними нависла угроза остаться без средств к существованию. Но при этом они почувствовали, что могут говорить о чем угодно и использовать для этого любые доступные методы.
На пленэре импрессионисты приблизили искусство к абстракции: так появился первый реальный разрыв между тем, что делают художники, и тем, что привыкли видеть зрители, тем, что они ожидают от искусства. Французская академия отвергла художественное новаторство авангарда, в том числе импрессионистов Мане и Ренуара, реалистов (например, Курбе) и постимпрессионистов (например, Сезанна), методы, стиль и сюжеты которых всё чаще воспринимались как вульгарные и нелепые. Как и другие вспышки озарения, мазки Сезанна передавали не видимые предметы, а скорее экзистенциальный опыт ви́дения. Они объединяли множество точек зрения, позволяя почувствовать реакцию на меняющуюся динамику мира. Сделав живописное пространство практически плоским, Сезанн вывел отдаленные формы, например пики гор, прямо в плоскость изображения, на передний план, потому что они так на него влияли. К тому времени как в 1863 Мане написал «Олимпию», всё было готово к скандалу. А впереди ждали гораздо более шокирующие нововведения, включая теснящиеся, плоские узоры, энергичные мазки и эмоциональные, нереалистичные цвета Ван Гога, а также полотна и скульптуры Гогена, вдохновленные первобытными народами Океании, их произведениями искусства, традициями и мифами. После импрессионизма и Сезанна художники стали уделять бо́льшую часть своего внимания движению, эмоциям и тревоге – релятивистскому миру – и он стал их основным источником вдохновения.
Кубисты, в особенности Пикассо и Брак, перенесли открытия Сезанна на новый уровень. Работая с натюрмортом, портретом и пейзажем, Пикассо и Брак распрощались с понятием единой фиксированной точки зрения. Кубисты раскололи вселенную. В их представлении, форма, пространство, место и время раздроблены и перемешаны.
Матисс придал цвету такую интенсивность, что даже задавался вопросом, не ввязался ли он ненароком в какое-то колдовство, и боялся, что цвета могу его ослепить. Кубистская структура в сочетании с броскими цветами фовистов примерно в 1913 году подготовила почву для абстракции, в которой мир за рамками искусства был окончательно забыт и произведение искусства стало своим собственным сюжетом. Тем временем другие художники, например дадаист Ханс Арп, создавали поэзию и произведения искусства, основываясь на законах случайности, а экспрессионисты через свои произведения давали выход чувствам. Когда Дюшан купил ту самую лопату, он полагал, что ведет искусство, следуя его естественной траектории и истории, к кульминации, логическому завершению и последнему пристанищу. И если бы не он, то рано или поздно это сделал бы кто-то другой. Уже в 1915 году, когда модернизм еще был подростком, родился постмодернизм.
Но художников-модернистов это не испугало. После Второй мировой войны современное искусство перебралось из истерзанной Европы, где просуществовало больше столетия, в Америку, где ведущим направлением стал абстрактный экспрессионизм. Сочетая элементы чистой абстракции, сюрреализма и репрезентации, абстрактный экспрессионизм во главе с Аршилом Горки, де Кунингом, Поллоком и Филипом Гастоном был одновременно продолжением европейского модернизма и разрывом с ним.
Абстрактный экспрессионизм не возник бы без европейской живописи и скульптуры, и особенно без Пикассо, но в основе этого направления лежали истинно американское ощущение свободы и размашистая, лихая живописная манера. Среди главных целей абстрактных экспрессионистов было желание порвать связь с европейцами, и особенно с главным властителем дум – Пикассо.
Поклонники экзистенциализма, представители абстрактного экспрессионизма превозносили своего рода индивидуальную каллиграфическую скоропись. Кроме того, эти американские романтики высоко ценили восприимчивость, действие и, более всего, исповедальность. «Картина, – писал художественный критик Томас Хесс, – должна была превратиться из прекрасной в правдивую, достоверную репрезентацию или эквивалент внутренних ощущений и опыта художника. Если это значило, что полотно должно выглядеть вульгарно, потрепанно и неуклюже, – тем лучше». И эта идея прекрасно согласуется с позицией Дюшана о том, что искусство должно быть антиэстетичным, что оно должно служить не глазу, а разуму.
В 1953 году Виллема де Кунинга, восходящую звезду уровня Пикассо, навестил начинающий художник Роберт Раушенберг (1925–2008), который вскоре стал любимцем американского поп-арта. Раушенберг попросил де Кунинга подарить ему свой рисунок. Художники часто дарят друг другу работы или обмениваются ими, но Раушенберг хотел получить рисунок не для того, чтобы повесить у себя в студии, а для того, чтобы стереть его. Де Кунинг неохотно согласился и отдал Раушенбергу выполненный в смешанной технике рисунок, самый проработанный из тех, что были под рукой. Два месяца Раушенберг пытался стереть работу де Кунинга и наконец продемонстрировал публике практически чистый лист бумаги с парой пятен как свое произведение «Стертый рисунок де Кунинга» (1953). Де Кунинг признался, что после этого почувствовал себя «символически изнасилованным».
«Стертый рисунок де Кунинга» Раушенберга стал символом не просто присвоения и уничтожения произведения искусства; это было церемониальным, неодадаистским жестом пренебрежения святостью искусства. Это стало способом разорвать связь не только с европейским искусством, но и с понятиями аутентичности, высокой значимости, оригинальности и эстетической строгости – догматов и модернизма, и абстрактного экспрессионизма. «Стертый рисунок» указал на то, что теперь восстание против серьезности искусства идет изнутри, от собратьев-художников. Хотя «Стертый рисунок» был сродни саморазрушению, введенному «Олимпией» Мане, Раушенберг вывел эту игру на новый уровень. Стирание работы де Кунинга эпатировало не столько публику, сколько, подобно реди-мейдам Дюшана, само искусство.
«Стертый рисунок» запустил акт художественной трансформации в обратную сторону. Он не только вывел антиэстетическую теорию реди-мейда Дюшана на первый план, но и превратил акт разрушения в акт художественный. Это способствовало зарождению идеи о том, что отныне серьезное искусство и самовыражение возможны только в виде шутки: так были развенчаны эстетическая добросовестность и благородная идейность в искусстве и культуре.
В целом с приходом Раушенберга, Уорхола и поп-арта публика и многие художники вздохнули с облегчением. Если стандартам официально положен конец, если высокое и низкое теперь неразличимы и взаимозаменяемы, тогда, может быть, наконец-то нам можно просто немного расслабиться. Идеология поп-культуры, идеология присвоения и разрушения стала господствующей в современном искусстве. Такой образ мысли проявился, к примеру, в имитациях животных, «скрученных» из полихромных стальных «надувных шариков» Джеффа Кунса, или в «Ты» (2007) Фишера – той самой пробуренной в полу галереи Гэвина Брауна дыры.
И тут в игру вступает китайский диссидент и художник-постмодернист Ай Вэйвэй, прославившийся скандальным произведением искусства «Падение урны династии Хань» (1995). Работа состоит из трех снятых последовательно черно-белых фотографий, на которых видно, как художник действительно роняет на пол и разбивает на куски редкую и дорогую двухтысячелетнюю керамическую церемониальную вазу. Когда Ай Вэйвэй столкнулся с вполне ожидаемой критикой, он ответил: «Генерал Мао сказал, что мы сможем построить новый мир, только если разрушим старый». Ироничный ответ Ай Вэйвэя был и комментарием о ситуации в коммунистическом Китае, и замечанием о ценности искусства как в культуре, так и на взвинчивающем цены рынке.
Работа «Падение урны династии Хань» была признана канонической для традиционного авангарда. Перформанс Ай Вэйвэя – уничтожение произведения другого художника, которое, поскольку Ай Вэйвэй его купил, формально принадлежало ему, так что он мог распоряжаться им по собственному желанию, – сегодня считается просто еще одной работой в длинном ряду художественных присвоений и разрушений, с помощью которых авангард ниспровергает прошлое, чтобы построить будущее.
Такое искусство привлекает внимание к самой природе товара; оно ставит под вопрос настоящую ценность искусства и культуры, природу того, что такое ценность на самом деле и как ее измерить. Импрессионисты – первые художники, которых отвергли критики и публика, – также были первыми недооцененными художниками. Когда в начале двадцатого века прошел шок от импрессионизма, а стоимость произведений многих художников-модернистов стала расти, публика начала осознавать, что модернистов не поняли и недооценили. Очень многие проигнорировали современное искусство и упустили возможность извлечь из него финансовую выгоду. Как заметил Эрнст Гомбрих, это дало всем передышку: критики, коллекционеры и широкая публика стали более благосклонны ко всему, что делали художники, – как бы возмутительно это ни выглядело. Люди задумались о том, что, возможно, им следует принимать, поддерживать и ценить всё, что делают художники, чтобы в будущем не упустить экономической выгоды. Такое отношение способствовало еще большему раскрепощению искусства и художников и дало последним некоторый карт-бланш – не важно, захотят ли они не делать вообще ничего, как это бывает в концептуальном искусстве, или, как Ай Вэйвэй, решат уничтожать незаменимые культурные ценности.
Защитники Ай Вэйвэя считают «Падение урны династии Хань» великой акцией художественного присвоения, утверждая, что в этой акции Ай Вэйвэй воплотил идею культурной и политической критики, а также идею трансформации. Он спровоцировал нас, заставив сомневаться и в нашем настоящем, и в нашем прошлом, и в ценности искусства. Мы можем усомниться в нравственности разрушительного художественного жеста Ай Вэйвэя, который критикует идею сохранения культурного наследия. Однако того, что фотографии момента уничтожения урны были проданы намного дороже, чем Ай Вэйвэй заплатил за артефакт, и того, что никто и не помнит, как выглядел стертый рисунок де Кунинга, зато все помнят, как Раушенберг его стер, может быть достаточно, чтобы подтвердить целесообразность трансформации в работах Ай Вэйвэя и Раушенберга. Но трансформации во что именно и какой ценой?
Представители современного и новейшего искусства уже давно свободно выбирают темы, а также материалы и подходы к созданию искусства. И с тех пор как Дюшан изобрел реди-мейд, искусство – это то, что художник назовет искусством. Но стоит помнить, что когда художники творят, они принимают решения о том, почему и как они делают искусство и для кого они его делают. Мы также должны помнить, что искусство говорит о глубине опыта. Мы вправе принять или отвергнуть то, художник делает или создает, поверить ему или усомниться.
Ценность искусства, по крайней мере для меня, зависит от его уровня: насколько серьезно, убедительно и неожиданно художник действует, возбуждая мой интерес к предмету его творчества? В конечном счете здесь нет верного или неверного ответа. Всё зависит от степени. Как сказал Пикассо: «Искусство не правда. Искусство – ложь, которая делает нас способными осознать правду, по крайней мере ту правду, которая доступна для нашего понимания. Художник должен знать, как убедить других в правдивости своей лжи». Художник, высыпающий кучку пыли на ковер в вашей гостиной, может заинтриговать нас – заставить нас проявить интерес. Всё зависит от того, чего мы ожидаем, в чем нуждаемся, чего жаждем. Всё зависит от того, насколько убедительно произведение искусства, насколько хорошо оно может донести до нас определенный смысл.
А еще, как я полагаю, важен содержательный разговор. Любое произведение искусства, которое просто о чем-то заявляет, не вызывая на диалог, не сможет заинтересовать меня надолго. И я говорю не только о концептуальных работах или реди-мейдах. Художники, которые обожествляли Сезанна, написали не меньше никудышных натюрмортов, чем было создано копий «Фонтана» Дюшана. Мой совет – увидеть всё, что вы только можете, и смотреть внимательно. Но я советую вам искать произведения искусства не только в престижных галереях и музеях, но и вдали от проторенных троп. Великое искусство творят в удивительных местах. И в искусстве необходимо время и усилия, чтобы понять, какая ложь притворяется правдой, а какая открывает истину.
Часть 2
Близкие контакты
Глава 6
Пробуждение
Бальтюс: Кот перед зеркалом I
Художник, известный как Бальтюс – это было его детское прозвище, – в своем творчестве систематически исследовал тему обнаженной натуры. Он повлиял на историю обнаженной натуры, осмысляя не только сам предмет, но и его развитие в более широкой традиции искусства, а также его метафорические значения.
Бальтюс родился в Париже в 1908 году и сформировался как художник в период перехода от увядания девятнадцатого века (старого мира) к расцвету двадцатого (мира нового). Его отец Эрих Клоссовски был историком. Его мать Баладина и поэт Райнер Мария Рильке (наставник и защитник Бальтюса) были любовниками. Вместе с писателями Андре Жидом и Жаном Кокто и живописцем Боннаром Рильке часто посещал дом семьи Бальтюса. В 1917 году родители художника разошлись, и он вместе с матерью и братом переехал в Женеву, а затем, в 1921 году, в Берлин.
Бальтюс подружился с Пикассо, Матиссом и Джакометти, но так и не признал постулаты кубизма, фовизма и сюрреализма – то есть модернизма – в полной мере. Пока мир менялся и ускорялся, Бальтюс, наоборот, замедлялся, решительно цепляясь за прошлое. Избрав для себя тему переходного возраста, он создавал полотна, которые кажутся одновременно древними и современными – они вне времени.
Хотя Бальтюс писал портреты, пейзажи, натюрморты, интерьеры и взрослую обнаженную натуру, он беспрестанно возвращался к теме отрочества. В большинстве культур существовал ритуал перехода от детства к зрелости и обнаженная натура как художественный сюжет. Независимо от того, рассматривается ли подростковый возраст как роскошь Нового времени, навязанный период замедления развития или подлинный период сексуального пробуждения, кризиса личности и психологического дисбаланса, во время которого в человеке идет борьба между его детской и взрослой личностями, подростковый возраст повсеместно воспринимается как период созревания и изменений. Это переходный период, когда уходящее детство, пришедшее ему на смену новое «я» и воображаемое взрослое будущее должны соединиться в цельную личность.
Многие художники обращались к теме отрочества, но никого из них не демонизировали за это так, как Бальтюса. Не так давно нападкам подверглось его непревзойденное полотно «Мечтающая Тереза» (1938). Более одиннадцати тысяч благонамеренных, но сбитых с толку людей подписали петицию, требуя, чтобы эту картину убрали с выставки из нью-йоркского Метрополитен-музея или хотя бы переосмыслили ее презентацию, изменив сопутствующий текст.
На картине «Мечтающая Тереза» изображена девочка-подросток, которая сидит, поставив одну ногу чуть выше другой так, что юбка задирается, обнажая нижнее белье, в то время как кошка у ее ног двусмысленно лакает молоко из блюдца. Картина превращает пробуждение взрослой жизни, с ее манящей гаммой фантазий и возможностей, в синоним пробуждения сексуальности. Пока Тереза мечтает, ее голова откидывается назад, лицо вспыхивает румянцем, девочка будто не находит себе места, и ее мир охватывает вихрь смятения. Темнота наступает, словно искажая действительность и усиливая подростковую заносчивость. Скомканная белая скатерть буквально спрыгивает со стола. Фаллический хвост кота чувственно изгибается. Внутренний мир Терезы вливается в мир окружающий, и девочка как будто сползает вниз, при этом обретая монументальность богини. Бальтюс воспевает ускользающую детскость Терезы, ее пробуждающуюся женственность, и в особенности сказочный мир отрочества, в котором она парит. На других полотнах, изображающих девочек-подростков, Бальтюс – действительно уникальный в своем роде художник – рассматривает отрочество в первую очередь как период созревания и смерти (зимы детства, а не весны зрелости). «Лежащая обнаженная» (1983) Бальтюса воскрешает в памяти образ выжившего в кораблекрушении, который цепляется за камень или обломки корабля; это живописная цитата, отсылающая к древнегреческой скульптуре «Умирающий воин» с фронтона храма Афайи в Эгине; а некоторые части юного тела напоминают о перезрелых фруктах, о покрытых мхом и трещинами статуях и осенних листьях. Но при этом Бальтюс чудесным образом сохраняет и воспевает невинность молодости. Размышляя об образе юной девушки в своем творчестве, Бальтюс писал: «Живопись – это воплощенное и одухотворенное. Заниматься ею значит стремиться сквозь материю к сути. <…> Верить в извращенный эротизм моих девушек значит оставаться на уровне вещей материальных. Это значит ничего не понимать в юношеской истоме, <…> не ведать истин детства».
«Мечтающая Тереза» гораздо богаче по содержанию и проникает гораздо глубже в суть вещей, чем подростковые портреты популярного современного голландского фотографа Ринеке Декстры (род. 1959), на которых угрюмые дети и подростки – стоящие поодиночке, будто выставленные напоказ, не понимающие, куда девать свои нескладные конечности, – маскируют ощущение неловкости взрослым выражением лица. Декстра, как и Бальтюс, сопереживает своим героям-тинейджерам и дает им возможность быть собой: уязвимыми и задумчивыми, запертыми в собственных неуютных, взрослеющих телах. Но подростки Бальтюса, хоть и нарисованные с натуры, существуют вне рамок индивидуальности и архетипичности. В работах Декстры мы видим личности и сопереживаем им, особенно когда они напоминают нам нас самих в том же возрасте. Но, выходя за пределы личного, герои полотен Бальтюса выходят за пределы нас самих. Предмет Бальтюса – не сама Тереза, но отрочество и мечта. Обнаженную девочку-подростка художник трактует не как единичный сюжет, но как способ исследования тем детства и зрелости, развития и перехода, сна и фантазии во всех их бесчисленных формах.
Кажется, что девочки-подростки Бальтюса (которых он часто называл ангелами и видениями) не нарисованы; их как будто позвали на холст. Очаровательные и загадочные, будто зачарованные, они скользят где-то между предчувствием и твердой формой. Хотя девочки Бальтюса не имеют никакого отношения к традиционным религиозным сюжетам, тем не менее они напоминают ангелов и людей одновременно, исполняют двойственную роль небесных и земных созданий, как на полотнах, изображающих явление ангелов и благовещение. Даже запечатленные в одиночестве, эти девочки как будто воплощают встречу духа и тела. Формально строгие и реалистичные, они наталкивают на мысль о воплотившихся грезах и воспоминаниях – как если бы наше подростковое самосознание пробудилось и материализовалось. Переход – многогранная метафора для любого художника, и Бальтюс, работая с ней, создает незаурядные вещи. Он передает саму суть несуразности и пробуждения тел подростков – пережитки детских фантазий, стыдливость, невинность и проблески эротизма; их дерзость и страхи – на проникновенных, фантастических полотнах, которые исследуют не только отрочество, но и природу роста, трансформации и перехода.
Почему же обнаженные Бальтюса так таинственны? Во-первых, он помещает их в чудесную страну живописи, где бок о бок сосуществуют многие противоречивые, идущие вразрез друг с другом вещи: чистота и злонамеренность, юношеский оптимизм и меланхолическая ностальгия. Бальтюс пишет не для того, чтобы запечатлеть видимый мир, но и чтобы проникнуть внутрь, в самую суть секретов жизни, «окружить их, – как сказал художник о своих картинах с юными девочками, – ореолом глубины и безмолвия, поместить в центр тайфуна». И далее: «Я воспринимал их как ангелов. Существ иного мира, явившихся с небес, из мест идеальных, куда вдруг приотворился вход и ненадолго приподнялась завеса времен, явив черты восхитительные и чарующие, или, попросту говоря, отблески божьих картин». Персонажи Бальтюса индивидуализированы, однако детали их образов складываются не в уникальную личность, но в нечто большее и универсальное – в существ, которые олицетворяют природу отрочества и перемен как таковых, не только физическое, но и духовное перерождение.
О своей работе с этими темами Бальтюс, который утверждал, что всегда изображает свое собственное детство и вымышленные сюжеты, вдохновленные детством, писал следующее:
Самое рискованное, равно как и самое сложное – различить ясный взгляд, едва заметный пушок на щеке, явное и в то же время едва угадываемое выражение губ. Запечатлевая лица юных натурщиц, я стремился достичь чудесного музыкального равновесия. Целью было не столько изобразить тело или верно передать определенные черты, сколько уловить, что за ними скрывается, таится в тени и молчании.
Однако эта загадочность девочек не мимолетна, а основательна. Бальтюс создает свои поразительно эфемерные картины с формальным мастерством и почти механической точностью. Все элементы органично вписываются в его загадочные композиции, при этом как будто следуя нестабильной логике сна. Объединяя цивилизации и культуры, Бальтюс математически сплавляет искусство Древнего Китая и неоклассицизм Никола Пуссена. Как и любимые им Мазаччо, Пьеро делла Франческа, Тициан и Курбе, а также Пуссен и Сезанн, Бальтюс не отображает на холсте саму жизнь. Он возделывает ее под дышащей кожей холста, позволяя формам воплощаться свободно и непредсказуемо, в зависимости от опыта зрителя.
Глядя на произведение искусства, полезно осознать, что в нем влияет на вас в первую очередь и сильнее всего; и подумать об этом в связи с его большими и малыми формами и большими и малыми движениями.
На картине Бальтюса «Кот перед зеркалом I» (1977–1980; ил. 7) обнаженная девочка-подросток – в натуральную величину, если не больше, – подносит зеркало к коту. Обнаженная девочка здесь первостепенна. Она появляется внезапно, как яркая полная луна из облаков или расцветший в саду цветок – крупные формы и движения являются одними из главных элементов этой картины. Девочка вызывает вопросы. Кто она? Откуда она взялась? Чем занята? Куда идет? На кого похожа? Это настоящая девочка, или привидение, или персонаж сна? Она мраморная, воздушная или живая? Она играет с нами и котом? Она смотрит в зеркало, показывает коту его отражение, поворачивает зеркало к нам, или, может быть, всё это сразу? Кажется, что девочка радуется, а может быть, даже удивляется собственной красоте, невинности, присутствию, окружающему ее свету. И хотя она не смотрит прямо на нас, она будто открывается нам, превращает себя в своего рода дар.
Однако, вглядываясь в это полотно после того, как я отметил его большие движения и элементы, я немедленно оказываюсь поражен и пленен не изображенной в натуральную величину девочкой, не напоминающим сфинкса котом и не поблескивающим золотым зеркалом, а – словно при взгляде на полную луну – шероховатым, приглушенным светом. «Кот перед зеркалом I» передает ощущение взгляда в зеркало: парадоксальным образом светоносную и в то же время тусклую, бархатистую и глянцевую атмосферу. Передо мной вибрирующее, словно водная гладь на ветру, поле, по которому медленно движутся мои глаза, всматриваясь в каждую деталь, стремясь отыскать то, что скрыто в глубине. Но чтобы погрузиться на глубину, нужно начать с поверхности – с пленительной девочки, кота и зеркала.
Каждая форма на картине «Кот перед зеркалом I» – будь она плоская, сложенная, словно оригами, или выпуклая, как барельеф, – сцеплена, соединена с остальными и является частью странного пазла. Покрывала, похожие на резной камень, напоминают мне об уступах гор на фресках Джотто (1266–1337). Он был первым западным живописцем, который подарил изображаемым фигурам вес, объем и человеческие эмоции, соединив абстрактный мир средневекового искусства с фигуративным искусством Возрождения.
При этом в новаторских фресках Джотто сохраняются традиционные формы и приемы, например нимбы из сусального золота и упрощенная, условная интерпретация образов природы. Сходным образом смятые покрывала на картине Бальтюса представляют собой не какие-то определенные покрывала, но идею покрывал, с их складками, напоминающими лепестки и губы. Покрывала Бальтюса сродни горам Джотто: они выходят за пределы частного и становятся условным эквивалентом, который замещает собой все покрывала и одновременно напоминает каменную скульптуру и природные формы. Как и обнаженная девочка, они существуют в некоем промежуточном пространстве. И так же как она, эти покрывала покидают безопасную гавань индивидуальности и храбро бороздят моря универсальной значимости. Мне представляется, что Бальтюс, который делал отсылки к Джотто и на других полотнах, расширяет метафору взросления, включая в нее саму картину, ее переход от средневековой абстракции и символического обобщения к визуальным особенностям – реалистичным текстурам, свету, объему, трехмерному пространству и воздушной перспективе – фигуративной живописи Ренессанса.
Смешение на картине «Кот перед зеркалом I» происходит не только между такими элементами, как ткань и камень, но и пространственно: между близким и далеким, объемным и плоским. Бальтюс играет с нами, как девочка с котом, переключая наше восприятие то на почти что абстракцию, то на полноценную репрезентацию. В некоторых местах, например вокруг зеркала, головы и руки девочки, темно-бордовая плоскость заднего плана приближается невероятно близко к нам, как будто обволакивая тело девочки, которое кажется навечно врезанным в стену за ней. Недалеко от центра картины, у согнутого локтя девочки, бордовая плоскость ослабляет хватку и отступает. В остальных местах буро-фиолетовый фон как будто еще ближе придвигается к нам: к примеру, в области чуть выше изголовья кровати, где формы кажутся плоскими и уложенными вертикально, словно кирпичи. И хотя фон воспринимается как непрерывная плоскость – задняя стена, – он пластичен и кажется то фреской, то камнем, то жидкостью, то фиолетовой дымкой.
Здесь мы сталкиваемся с парадоксальной хофмановской пластичностью, «push and pull», – с эластичным пространством, которое одновременно соответствует нашему представлению о реальной трехмерной комнате и опровергает его. Чтобы постичь действия форм на полотне Бальтюса, мы должны вчитаться в то, что художник рассказывает нам своей картиной, а не пытаться привести ее в соответствие с тем, что мы, по нашим представлениям, знаем о спальне, коте и девочке. Мы должны присмотреться и попытаться понять, что именно делает художник и почему; увидеть, как в одной точке он подталкивает форму – например, девочку – к нам, а в остальных притягивает ее тело назад в пространство. Он дарит ее, а затем отбирает.
Я полагаю, что в каком-то смысле Бальтюс исследует образ девочки, балансирующей между двумя мирами: детства и зрелости, пробуждения и сна, реальности и мечты. Открываясь нам, девочка как будто поднимается с кровати и плывет в нашу сторону. Но взгляните, к примеру, на то, как резной голубой халат, письмо, которое держит девочка, и ее большой палец будто бы останавливают ее, пригвождая к кровати, словно она – экземпляр коллекции энтомолога. Кровать наваливается на девочку, подталкивая сначала чуть вверх, а затем в нашу сторону. Но она всё еще цепляется за свой фантастический нарисованный мир – буквально держится за него – большим пальцем.
Девочку сдерживают на месте, словно в коконе, но она вырывается на свободу; она хочет остаться там, где есть, но при этом стремится меняться и развиваться: всё это создает ощутимое напряжение. Складывается впечатление, что колеблющаяся девочка, разрываясь между детством и тем, что ждет в будущем, изо всех сил старается расцвести; что она расправляет крылья подобно бабочке. Опираясь на скамеечку для ног, девочка частично разворачивает тело (голову, правое колено и локоть, и отчасти торс) к коту – по направлению внутрь и от зрителя. А остальные части тела (застрявшую левую ногу и левое плечо) девочка поворачивает в противоположном направлении – от кота и за пределы картины – наружу, к нам. Раздираемая противоречиями, девочка одновременно закрывается и открывается зрителю.
Грациозная, но робкая, естественная и в то же время монументальная, обнаженная девочка-подросток Бальтюса поднимается, как колосс, словно перерастая свою спальню, как гигант или статуя, перешагивающая реку. Кажется, она одновременно встает с кровати и ложится в нее. Возможно, эта девочка – вестник, придерживающий письмо большим пальцем; а может быть, она залезает или слезает с ковра-самолета, выходит на берег или заходит в море. По мере того как она, подобно миражу, всё отчетливее материализуется на мерцающем бордовом поле, можно уловить, как кот отодвигается, превращаясь в воспоминание. А чтобы ваш взгляд мог вскарабкаться по телу девочки – отвесному, загрубелому склону утеса, – сначала нужно забраться по ее длинной, прямой правой ноге, подобной высокому дереву без веток. Эта нога – вход в картину и ее точка опоры – создает динамическое движение композиции. Наконец найдя опору, правая нога девочки неуверенно опускается на скамеечку, которая напоминает скейтборд, готовый умчать девочку прочь.
Однозначно являясь фигурой модернистского толка, обнаженная девочка Бальтюса – это слияние, воплощение множества произведений искусства и мифологий. Пока ваш взгляд перемещается по холсту вокруг нее, она ведет вас к другим произведениям искусства: античным статуям и византийским мадоннам, старинным куклам и древним реликвиям. Прочие художественные источники включают изображения Венеры, созданные Джорджоне, Тицианом, Рубенсом, Веласкесом и Энгром, и, конечно, скользящую по волнам на створке раковины скромную красавицу кисти Боттичелли; но прежде всего – властно-эротичного «Амура-победителя» (1601–1602) Караваджо – полотно, на котором обнаженный крылатый купидон стоит, обольстительно разведя ноги и опираясь на правую, в то время как левая лежит на столе и подогнута назад, под ягодицу. Но девочка Бальтюса вызывает в памяти не только Венеру Боттичелли, но и прибой, песок и раковину. Она напоминает Еву, выходящую из ребра Адама; Адама, выходящего из Эдема; животное с застрявшей в капкане ногой; вращающуюся фигурку балерины на музыкальной шкатулке; вилочковую кость, готовую разломиться в любой момент. Ее бледно-голубой заношенный пеньюар – явная отсылка к небесно-голубому одеянию Мадонны – открывает взгляду розовые и красные ромбы подкладки. Пеньюар – больше не пеньюар, он разворачивается, словно небесный свод, стекает с девочки подобно водопаду, падает с ее плеча, как сброшенная кожа.
Погружаясь в мир полотна Бальтюса, я вспоминаю ночь, лунный свет и Венеру-соблазнительницу, олицетворяющую священную и мирскую любовь, богиню секса, красоты и победы, которую нередко изображают с зеркалом. И я думаю о Диане – богине природы, любви, охоты и диких животных, которыми она управляла. Я вспоминаю, что наши древние предки охотились ночью, при свете луны, когда животные спали и были более уязвимы, и их проводника – богиню луны – часто почитали больше, чем ее брата, бога солнца. Я понимаю, что сияющее желтое зеркало в полночной бордовой плоскости картины подобно солнцу на фоне голубоватого лунного света, исходящего от девушки; что она красива, но внушает причудливый страх, одновременно и античная статуя и ребенок. Может быть, девочка освещена, омыта голубоватым лунным светом, или она сама – мерцающая луна, воплощение лунного света. И, размышляя над картиной, я вспоминаю, что нередко именно ночью, в оцепенелой тишине моей собственной детской, перед тем как я засыпал, мое воображение часто порхало в воспоминаниях и грезах, в сказочных и кошмарных мирах.
Полотна Бальтюса вдохновляют на игру спонтанных ассоциаций, воображения и ностальгии, но разнообразные достоинства картины заводят не только в закоулки памяти, они направляют гораздо дальше, не позволяя оставаться в одном и том же месте надолго. Кожа обнаженной девочки Бальтюса, хотя и кажется человеческой и молодой, – самая загадочная из тех, что мне доводилось видеть в живописи. Скроенную из множества матовых и полупрозрачных слоев цвета плоть девочки сложно описать. Она светится изнутри, но при этом в основном окрашена в бледно-голубоватый (хотя иногда на ней появляются отблески жемчужно-белого, матового темно-зеленого, золотистого и розового) и кажется то шелковой, то мучнистой, то полупрозрачной, то опаловой. Теплые губы, скулы и гениталии девочки глянцево-розовые, а кожа и волосы местами сияют, словно позолоченные. Она наводит на мысль об артефактах, куколках насекомых и облупившихся фресках. Бальтюс поддерживает происходящее на разных стадиях вероятности и перехода. Картина вызывает ассоциации, возникающие вспышками, поэтичные и ни на миг не прерывающие своего движения и игры, как если бы холст и формы на нем претерпевали алхимические трансформации, как если бы девочка была столь же мимолетна и непостоянна, как фантазия.
Однако, несмотря на всю неуловимость, сказочность и запутанность картины «Кот перед зеркалом I», кажется, что Бальтюс хочет рассказать нам историю, и он знает, как привлечь зрителей и удержать их интерес – околдовать их. Создается ощущение, что мерцающее ручное зеркало парализует девочку и кота, как часы, которые раскачивает гипнотизер. И я включен в эту игру. Бальтюс налаживает диалог между котом, девочкой, зеркалом и зрителем: наш взгляд скачет между ними, словно шарик в пинг-понге, следует за их загадочными взорами. Зеркало напоминает не только пятно солнечного света, но и огненный обруч, горящий факел или золотую замочную скважину на бордовом фоне. И вновь перекличка с Джотто: зеркало подобно нимбу, который девочка-ангел только что сняла с головы, – так что сама девочка, кот и зритель теперь могут лучше рассмотреть ее переливчатую красоту. Зеркало-нимб девочки, как и живописные или золоченые нимбы на средневековых полотнах – которые часто остаются плоскими, парадоксальным образом прикрепленными и к круглым головам владельцев, и к задней стене картины, – также выглядит одновременно и плоским, и объемным, показанным и спереди, и сбоку. И так же, как и живописные или золоченые нимбы, зеркало как будто поворачивается в пространстве и раскрывается окном, золотым световым порталом или мостом из одного мира в другой.
Но какова же история кота, этого таинственного наблюдателя с картины Бальтюса? Коты загадочны сами по себе. В названии полотна Бальтюс отводит центральное место коту и зеркалу, а не девочке, которую даже не упоминает. То же верно для названий многих картин Бальтюса, изображающих кошек, девочек и зеркала, – сюжет, который он тщательно исследовал последние двадцать пять лет своей жизни.
Живописец, у которого когда-то было целых тридцать кошек, хорошо знал этих животных – по крайней мере, настолько хорошо, насколько это возможно. Первое произведение Бальтюса – маленькая автобиографическая книжка с картинками «Мицу́», повесть без слов – была опубликована в 1921 году, когда автору было всего тринадцать лет; книга состоит из сорока сделанных карандашом и тушью рисунков, рассказывающих историю о том, как одиннадцатилетний Бальтюс нашел, полюбил, а затем потерял кошку, которую звал Мицу. Рильке написал предисловие к «Мицу» и содействовал публикации книги. В предисловии поэт задает вопрос: «Знает ли кто-нибудь кошек? Вот вы, например, думаете, что знаете?.. Кошки – это кошки, не больше, но и не меньше. И их мир – исключительно, во всех отношениях, кошачий… мир, населенный одними кошками, где они живут абсолютно непостижимым для людей образом».
Кошки Бальтюса – не просто домашние питомцы. Они другие, непознаваемые. Они возвращают нас во времена, когда животные были чужаками – посланниками извне. Кажется, что кот на полотне «Кот перед зеркалом I», балансирующий на стуле, словно гаргулья или инкуб, поднялся из кровати, подобно перископу. Или, может быть, она возникла из стены, как ангел-вестник из другого мира. Как писал Бальтюс в своих мемуарах: «Кошки и зеркала помогают во внутреннем странствии». И ещё:
Зеркало, часто воспринимаемое как символ тщеславия или знак высочайшего благородства, присутствует на многих моих картинах. Порой оно – в том смысле, который усмотрел бы Платон, мой частый спутник здесь, в Россиньере, – олицетворяет идею души, отголоски ее глубинных вариаций. Мои девушки часто им пользуются не чтобы себя разглядывать, это указывало бы на легкомысленность (мои девушки – не бесстыдные и распущенные лолиты), но чтобы исследовать глубины своего существа. <…> Занятие живописью – дело столь многосложное и тайное, что нельзя просто так изобразить предмет или существо, перегруженное смыслами, – зеркало или кошку – без риска вызвать ассоциации, которые стали неотъемлемой частью искусства и на языке живописи означают что-то конкретное. Зеркало явно отсылает нас к миру грез, к миру воображаемому. Я же хотел абсолютно другого. Зеркало для меня – словно неотъемлемый элемент картины. Некоторые изображенные мною девушки смотрят в зеркало, и картина устремляется неизвестно куда. И вам предстоит соединить нити, разбросанные посреди тумана.
«Кот перед зеркалом I» Бальтюса благодаря спонтанной ассоциации затрагивает множество метафор, источников и идей; все они собраны художником в течение жизни, полной наблюдений, чтения и размышлений, он сохраняет их и обыгрывает. Эти веяния, передающиеся от художника к художнику, проявляются на полотне Бальтюса в манерах, выражениях лиц и чертах, которые переходят естественным образом – благодаря природе и воспитанию – от родителей детям. Бальтюс никогда не рисовал просто кота, девочку и зеркало. И он никогда не делал пустых отсылок к устоявшимся в истории искусства символам, не заимствовал их. По собственному признанию художника, кошки, зеркала и даже обнаженная натура на его полотнах для него самого, по существу, не обладают никаким историческим или символическим значением. Хотя картины Бальтюса таят в себе отголоски прежнего искусства, его историй и значений, полотна художника – подобно снам – суть путешествия к самим себе.
Для Бальтюса живопись – «орфический труд», способ приблизиться к тому, что сам художник называл трещиной, тайной, разломом, открывающимся в неизведанное – к миру, в котором, как в поэзии Рильке, сливаются реальность и фантазии. Бальтюс, который всегда молился перед тем, как начать писать новую картину, верил, что художник только обеспечивает связь между физическим и духовным миром и что невероятно сложная задача создать свет на холсте действительно является способом приблизиться к Богу.
В «Коте перед зеркалом I» и других картинах Бальтюса наш опыт восприятия каждого элемента – это еще один ключ, еще один поворот циферблата кодового замка. Но каждый раз за открытой дверью появляется новая. В живописи Бальтюса есть противоречия, множество на первый взгляд взаимоисключающих ассоциаций, метафор и источников. Естественно переноситься от одного символа к другому, от одного периода искусства к другому. Но у Бальтюса символ всегда имеет еще одно дно, так же как кот, обнаженная девочка и зеркало всегда оказываются чем-то еще. Картины Бальтюса существуют за пределами того, что, как представляется нам, изображают.
Кажется, что чем больше мы видели произведений искусства, тем глубже способны понять картину Бальтюса и тем больше она рассказывает не только о себе, но и о живописной традиции в целом. Однако, чтобы оценить картину Бальтюса, зрителю не обязательно знать ни о каких аллюзиях, источниках, мифологических сюжетах, не обязательно знать историю живописи. На «Кот перед зеркалом I» и полную луну вполне можно смотреть со схожей нежностью и мечтательностью. И совсем не обязательно замечать, что обнаженная девочка своим сиянием напоминает луну, что она похожа на мрамор, старинную фреску или куколку, что ее образ отсылает к Караваджо, Боттичелли или Тициану, что кажется, будто она плывет, подобно облаку, или расправляет крылья, как бабочка. Ее пронзительная красота выходит за эти рамки. Когда-нибудь эта картина увлечет вас за собой, а может быть, наоборот, приведет туда, куда нужно вам самим. А пока достаточно просто погрузиться в мир образа Бальтюса, созерцая игру света и форм, – таинственные силы, властвующие на волшебном холсте, – и позволить всему этому озадачивать и удивлять, соблазняя странной поэтичностью, словно воплощенной мечтой.
Глава 7
Ощущение
Джоан Митчелл: Подсолнухи
Родившаяся в Чикаго художница Джоан Митчелл (1925–1992) превратила собственные ощущения и воспоминания в очаровательно-лиричные, яркие абстракции, которые погружают нас в своеобразные эмоции и состояния, времена года и суток, и, главное, в особое пространство мира художницы. Среди сюжетов Митчелл – ветер, горы, цветы, деревья и дождь; вид на озеро Мичиган с балкона дома, в котором она жила в детстве; стихи Т. С. Элиота, Джеймса Скайлера и Фрэнка О’Хары; песенка Билли Холидей; ее аналитик-фрейдист; парижское небо и любимые собаки художницы. Но сильнее всего в больших абстрактных диптихах и триптихах Митчелл – картинах-фресках, которые в равной мере можно считать своего рода инвайронментом, – меня захватывает их непосредственность, фронтальность и то, как они взвиваются вверх. Струящиеся цвета рвутся вверх, словно жар и пламя, создавая ощущение стремительности, которое может обжечь, от которого перехватывает дыхание, – сочетание силы, невесомости, стремления вверх и ускользания; ощущение отрыва от земли, которое я чувствую в величайших изображениях Вознесения Девы Марии. Самые известные абстракции Митчелл больше всего напоминают активную, каллиграфическую живописную манеру де Кунинга, Гастона и Поллока. Художницу часто причисляли к Нью-Йоркской школе и абстрактным экспрессионистам второго поколения. Но Митчелл, выделяющаяся среди нескольких женщин-художников, которые добились высокого положения в нью-йоркском мачистском мире искусства середины двадцатого века, во многом обязана как французской школе – художникам, работавшим в Париже до Второй мировой войны, – так и своим современникам – абстрактным экспрессионистам. Митчелл была свойственна метафоричность, и в свои абстрактные полотна она стремилась привнести нечто очень тонкое и личное. Она хотела создавать картины, которые достигли бы уровня лучших стихов, в которых камерность, такая сокровенная и обволакивающая, ощущалась бы как нечто крупномасштабное. Она хотела, чтобы ее работы превзошли то, что в американской традиции получило название «живописи действия» и прославилось своей смелостью, – картины, в которых первостепенным считался авторский почерк художника и правда, какой бы уродливой она ни была. А Митчелл хотела, чтобы ее творчество было красивым, но дерзким. За поддержкой и вдохновением художница обратилась к наследию почитаемых ею европейских живописцев. Так Митчелл – метафорическая абстракционистка и пейзажистка – пересадила свои американские корни на французскую почву.
Митчелл не впадала в экстаз при виде больших, дерзких, черно-белых абстрактных символов Франца Клайна или экстравертной живописи действия своего близкого друга де Кунинга, но восторгалась напряженной своеобразностью и интенсивностью работ Сезанна, тонко передающим оттенки цвета Матиссом, экспрессивной, мощной линеарностью ранних абстракций Кандинского и текучим, густым, хлестким стаккато мазков Ван Гога. Хотя Митчелл принадлежала к числу художников-абстракционистов, в глубине души она была пейзажистом и не боялась показать зрителю дерево, если ей удавалось при этом выразить те чувства, которые это дерево вызвало. Она стремилась не подражать своим американским соратникам, но подражала европейским художникам, тем самым, с которыми очень многие абстрактные экспрессионисты хотели разорвать связи.
В 1968 году, прожив девять лет в Париже, Митчелл обосновалась в Ветёе, небольшой деревушке примерно в тридцати пяти милях к северо-западу от Города Огней. Ее владения – сад с видом на Сену и небольшой дом, некогда принадлежавший импрессионисту Моне, – занимали около двух акров. Многие большие абстракционистские полотна Митчелл, написанные в Ветёе, отсылают не только к фронтальной, лирической, всепоглощающей интенсивности работ Поллока, но и большим, буйно цветущим, густо заросшим водяными лилиями холстам Моне.
Если что-то и имело первостепенное влияние на неподражаемые картины Митчелл, что-то, что пульсирует внутри, приводя их композиции в движение, так это пластичная, драматичная живописная манера Ван Гога, художника, мазки и цвета работ которого кажутся одновременно и почтительно описывающими природу, и глубоко личными и эмоциональными. Конечно, ощущается и воздействие Поллока. Но если Поллок работал с аналитической, раннекубистской монохромной палитрой серебристых, серых, черных, коричневых, кремовых и белых и в своих картинах делал отсылки к пейзажам – как на полотне прохладно-землисто-песочного цвета (такого, какой бывает у хрупких опавших листьев) «Осенний ритм (№ 30)» (1950), – то Митчелл, напротив, предпочитала сложные текстуры и яркие цвета природы: изумрудно-зеленый, кроваво-красный и маслянистый, землистый коричневый; мягкий, тусклый серебряный и голубовато-фиолетовый цвет штормового неба.
Вдохновленные природой, абстракции Митчелл излучают красоту. Художница достигает живого равновесия между структурным и органическим, абстрактным и буквальным. Это абстрактные картины, но при взгляде на них вспоминается как свирепость и порывистость, так и мимолетные явления природы. Мечты и кошмары, экстаз и жестокость идут рука об руку. Митчелл возносит нас на вершину блаженства, а после приходит грусть: ведь не существует роз без шипов. Некоторые поздние абстракции Митчелл – диптихи, на которых пары огромных цветовых вспышек сплетаются вместе, словно пышные, только что срезанные в саду букеты, эти снопы брызг напоминают и две сверкающие молниями бури, и крылья хищной птицы, и рога животного; кроме того, оборванные линии и растекшиеся капли вызывают в памяти картины с изображением Ирода, поднимающего только что отрубленную голову Иоанна Крестителя с серебряного блюда.
Большой многоцветный диптих «Подсолнухи» (1980) – живописное полотно, ширина которого почти четыре метра, – накрывает нас хлесткой волной цветов: оттенками оранжевого, желтого, розового, синего, красного и зеленого. Белая и кобальтово-фиалковая поверхность как будто поглощена фронтальной атакой желто-оранжевого и бирюзово-зеленого, которые с агрессивной вертикальностью противопоставляют себя плоскости, и нас накрывает таким жаром, словно перед нами открытая печь – или как если бы мы стояли у разверзшейся бездны преисподней. Эта картина красочна, роскошна и вместе с тем инфернальна; она одновременно затягивает в переплетение мазков и, подобно безудержному штурму или стене пламени, не подпускает близко.
Диптих Митчелл рассказывает историю двух подсолнухов или, по крайней мере, использует эти цветы как своего рода лакмусовую бумажку, чтобы выразить чувства и мысли о своем опыте взаимодействия с подсолнухами или, может быть, с определенным местом или человеком, который вызвал у художницы ассоциации с подсолнухами. Это своего рода портрет, и он выносит головы подсолнухов на первый план холста, подносит их прямо к нашим лицам и одновременно воскрешает впечатление, испытанное при виде поля подсолнечников, моря отдельных цветов, которые встраиваются в колоссальную колеблющуюся волну черного и золотого, где каждый подсолнух напоминает и лицо человека, и пылающий над полем солнечный диск.
Митчелл погружает нас и в это море, и в мир каждого отдельного цветка, которые она словно подносит нам на ладони. Она пишет не цветы, а наше впечатление от них; или, быть может, впечатление подсолнухов от того, каково быть подсолнухами. Митчелл осторожно подвешивает нас над пропастью прекрасного; а затем она забрасывает всех нас на поле и помещает в листья, стебли, лепестки и семена подсолнухов. Вихрем разноцветного пламени мы взлетаем в воздух – и нас как будто поглощает огонь или рассеивает сильный ветер.
Эта картина напоминает мне не только подсолнечные поля и творчество таких живописцев, как Поллок, де Кунинг, Гастон и Моне, но и алтарные диптихи, которые исследуют и прославляют священную историю, жизнь, свет, духовность, жертвенность и перерождение. Яркие, величественные и энергичные «Подсолнухи» наводят меня на мысль о картинах, изображающих Аполлона, бога солнца, который каждое утро рассекает по небу на золотой, запряженной лошадьми колеснице и тянет за собой пылающее солнце; весь день бог катит солнце вокруг земли и только ночью прячет его в темноте; Аполлон несет свет и тепло, его желтые кудри развеваются за спиной, а лошади несутся тяжелым галопом, и их черные копыта мелькают на пылающем небе.
А еще, глядя на «Подсолнухи», я думаю о поздних пейзажах Ван Гога размера «двойной квадрат», которые нидерландский художник написал незадолго до того, как покончил с собой, застрелившись на желтом пшеничном поле. На самом деле «Подсолнухи» – картина, на которой черные мазки выстреливают, прорастая в нижней части рамы; оранжевый, золотой и розовый поднимаются, словно жар, а бирюзово-зеленые «x» и «v» летают, как птицы, – может быть, данью позднему, если не последнему полотну Ван Гога «Пшеничное поле с воронами» (1890). Полотно «Подсолнухи» может быть предвестником более позднего диптиха Митчелл «Нет птиц» (1987–1988) – картины с широкими горизонтальными черными полосами над широкими вертикальными золотыми полосами, что вновь отсылает к «Пшеничному полю с воронами» Ван Гога: его иссиня-черные птицы – летающие «x» и «v» – усеяли маслянисто-синее небо над ярко-желтым колеблющимся на ветру пшеничным полем.
Митчелл расписывала парные холсты «Подсолнухов» по очереди, как будто отдельно друг от друга, но в одной палитре. Они прижимаются друг к другу, как два цветка в вазе или два целующихся лица. Сталкивая их, соединяя как сиамских близнецов, Митчелл вовлекает нас в процесс противопоставления и сравнения; процесс постоянного движения то влево, то вправо; процесс вычленения сходств и различий по обе стороны тонкой черной линии пустого пространства, разделяющего два холста.
Мы ощущаем, что картина дважды начинается с начала, что она – как два непохожих друг на друга подсолнуха – повторяется, но не совсем. Диптих вовлекает нас в движение от левого холста к правому и обратно, мы рассматриваем выпуклости и углубления, растяжения и сокращения, свертывания и растекания, замечаем и ценим тонкое эхо-взаимодействие между правым и левым, желтым и оранжевым, лиловым и зеленым, между цветами, которые смешиваются, сталкиваются, взрываются и контрастируют друг с другом. Подсолнухи помогают нам осознать, что одна сторона принадлежит к тому же роду и виду, что и другая, они даже встречаются в одной точке жизненного цикла, и, хотя каждый цветок заметно схож с другим и в то же время обладает заметными различиями, вместе они сливаются в единое целое.
Мне кажется, что «Подсолнухи» Митчелл – кожа, под которой шелестят и вынашиваются формы: их оболочка созревает, лопается, отслаивается и счищается. Несмотря на невероятно интенсивные противоречия, неистовые мазки и густой, перенасыщенный цвет, несмотря на опаляющий драматизм, диптих Митчелл производит впечатление чудесного цветного тумана, грубого зернистого марева кипучего света. Это обволакивающая, пьянящая атмосфера, от которой перехватывает дыхание, как если бы картина, как пожар, поглощала весь кислород в помещении. Но это кажется правильным. «Подсолнухи» дают столько же, сколько и забирают. Их энергия разливается по воздуху, как электричество во время грозы. И диптих Митчелл переливается и вскипает, как будто его нельзя сдержать или обуздать, так что мы ощущаем не только правильность и красоту хаоса «Подсолнухов», но и правильность и красоту хаоса природы и всего мира.
Глава 8
Рост
Ханс Арп: Рост
Обходя мраморную скульптуру Ханса Арпа «Рост» (193; ил. 9), высота которой немногим меньше метра, вы вспомните о камнях, костях, рогах, облаках, почках, плодах, тотемных столбах и классических обнаженных фигурах; эти образы будут мелькать и порхать в вашей голове, формы и ассоциации станут сливаться друг с другом и перевоплощаться из одной в другую. Эти метафорические ассоциации приходят так плавно и быстро, – словно птицы, стремительно пролетающие на периферии сознания, – что мне сложно за ними угнаться и уж тем более поймать. Тем не менее «Рост» Арпа акцентирует внимание не на различии составляющих его форм, а на нескончаемом развитии. Кажется, что поверхность произведения эластичная и податливая, а сами формы перекатываются, как монпансье во рту. Как если бы скульптура Арпа расширялась, сжималась и менялась, если бы «Рост», подобно живому существу, дышал, смещался, боролся и обновлялся – вылеплял себя сам где-то под кожей.
Жан (или Ханс) Арп (1886–1966) родился в семье француженки и немца в Страсбурге – немецком городе, который затем был присоединен к Франции; его искусство, как и его национальность, не знает границ. Арп считал себя поэтом и художником в равной степени. Его стихи, абстрактные рисунки, коллажи, картины, гравюры, рельефы, а также бронзовые, гипсовые и мраморные скульптуры рождены одним поэтическим порывом, и каждое его произведение подобно строфе в одной эпической поэме, которая была делом его жизни.
Арп был одним из основоположников и ведущим деятелем движений французских и немецких абстракционистов, дадаистов и сюрреалистов, он близко общался с такими художниками, как Клее, Кандинский, Пикассо, Амедео Модильяни и Робер и Соня Делоне, а также с поэтом и драматургом Гийомом Аполлинером. Однако как художник он в первую очередь известен как приверженец абстрактного языка биоморфизма – этот термин, хотя его и нельзя назвать неточным, представляет Арпа как создателя не поддающихся описанию органических «сгустков», которые можно счесть чем угодно, при этом не увидев в них ничего конкретного.
Безусловно, произведения Арпа можно назвать «органическими», в них прослеживается связь с основными формами флоры и фауны, амебами, яйцами. И в каком-то смысле Арп, – влияние которого более всего ощущается в абстракциях Жоана Миро и Колдера, – кажется самым простым и по-детски непосредственным художником. В своих стихах и произведениях искусства он как будто играет в детскую игру, принимая случай как один из множества творческих путей, ведущих к созданию готовой работы, которая, кажется, всегда находится на стадии зачатка, формирования.
В этих свежих, ничем не ограниченных, элементарных структурах и зарождающейся в них жизни – суть творчества Арпа, его несокрушимое очарование. При этом Арпа, который был истинным поэтом, нельзя назвать простым художником. Обезоруживающий, наивный, органический минимализм Арпа и его принятие случайности не сочетаются у зрителя с кристальной ясностью произведений художника и чистотой его зрения.
Стоя перед произведениями Арпа, я обычно обращаюсь к своим исходным мыслям и чувствам: глядя на «Рост», я спрашиваю себя, что вызывает во мне это стихотворение в мраморе. Обходя «Рост» кругом, я понимаю, что это – две слившиеся в симбиозе формы. Вертикальная скульптура похожа на тотем, и каждая из форм, словно символическая голова бога, будто бы формируется из той, что находится под или над ней. Но из-за резкого разворота, разрыва и похожего на открытый перелом смещения посередине скульптуры кажется, что «Рост» разделен на две большие формы или состоит из последовательности движений. Более крупная и тяжелая из двух форм находится сверху и вызывает ассоциации с колоссальной ношей, которую поднимает или поддерживает меньшая нижняя часть скульптуры.
В «Росте» символические отношения между верхней и нижней частью, чем-то схожие с отношениями паразита и носителя, создают ощущение баланса и статичности. Я полагаю, что верхняя форма отвечает за устойчивость нижней и что более слабая и податливая нижняя форма была бы незавершенной без груза верхней, и наоборот. Нижняя форма «Роста» словно бы делает плие и напоминает танцора, который поднимает партнера, или штангиста, который выполняет толчок. А еще мне вспоминаются классические греческие колонны, немного расширяющиеся перед тем, как сузиться у основания; эта эстетическая уловка подчеркивает естественность, с которой колонна сдерживает напор и массу фронтона и распределяет эту силу вовне.
«Рост» изящно и чувственно взлетает вверх и в то же время распрямляется, как скрученный корень. Он проталкивается наружу там и сям, соблазнительно выставляя свои многочисленные бедра и выпячивая многочисленные груди, которые затем превращаются в носы, пальцы ног, колени и подбородки. Спины становятся фасадами, а потом и профилями; семена трансформируются в почки, а те – в спелые плоды. Женский живот вытягивается шеей, а та превращается в грушу. Локоть оборачивается клювом, головкой члена, зевающим ртом. Как только вы решаете, что видите изгибы губ, ягодиц или грудей, формы в вашем воображении перестраиваются, превращаясь в тени, распустившиеся цветы, изменчивые облака. Ощущение того, что верхняя форма порождает нижнюю, и наоборот, противостоит эротизму скульптуры и заложенному в нее духу борьбы, одновременно усиливая их. Арп напоминает нам о присущей жизни жестокости и о том, что взаимозависимые отношения между матерью и ребенком – такая же несущая конструкция, как отношения между фронтоном и колонной. Глядя на «Рост», я вспоминаю, как одна женщина рассказала мне о своем опыте деторождения: «Натяните верхнюю губу себе на голову, а нижнюю – на колени. Вот такие ощущения». Это чувство красоты и жестокости, бесконечного взаимопревращения матери и ребенка, бремени и основания играет с нашим представлением о том, что именно находится сверху, а что – снизу; что появилось до, а что – после. Моя неспособность обозначить границы и эволюционные этапы жизни скульптуры играет с моим собственным ощущением хода времени и процесса развития. Неясно, смотрим ли мы на что-то растущее или, напротив, наблюдаем процесс разложения – или и то и другое.
Арп развивает метафору неоднозначности времени и последовательности при помощи других аналогий. Создавая такие гладкие, биоморфные формы – формы, которые кажутся плодами, почками, бедрами, а затем и колоннами, из торсов превращаются в деревья или скульптурные бюсты, – Арп активизирует не только огромное количество альтернативных историй прошлого и даже будущего, но и кажущийся бесконечным ряд альтернативных реальностей. Возможно, я смотрю на кость или скелет – внутреннюю структуру – когда-то живого, но уже умершего органического существа; а может быть, я вижу не что-то целое, а только часть – к примеру, ногу; или я смотрю на совокупность фрагментарных обломков античной архитектуры и скульптуры: сломанные и отсутствующие конечности, пьедесталы, головы и короны; или я столкнулся с чем-то вышедшим из-под контроля на клеточном уровне, например раком; или передо мной призрак всех этих вещей. Сочетая и совмещая в себе органическое и созданное руками человека, внутреннее и внешнее, ощущение от чего-то только зарождающегося и от видавшего виды памятника старины, «Рост» отсылает к различным культурным, символическим и органическим процессам. Работая в «до» и «после», на микро– и макроуровне, «Рост» Арпа сжимается и расширяется, изгибается, как исполнительница танца живота или спираль ДНК, несет в себе неистовство роста, эротизм, соблазн и примитивность палеолитических Венер, кропотливо прописанные полихромные черты которых стерлись и разгладились с течением времени и под действием погоды и множества прикосновений.
Если смотреть на «Рост» издалека и с определенного ракурса, то формы скульптуры напоминают приоткрытые губы, посылающие поцелуи через комнату, или скрюченные пальцы, которые стремятся ухватиться за манящие округлости. Арп соблазняет. И я подхожу ближе к «Росту», двигаюсь кругами, ласкаю глазами мягко вздымающиеся дуги, выпуклости и впадины, а формы «Роста» как будто отвечают на мое присутствие и движения, поворачиваясь и отшатываясь, играя в кошки-мышки; в скульптуре начинает чувствоваться суетливость, неряшливость, соблазнительность, а потом – скрытность, как если бы она взаимодействовала лично со мной. Я обхожу скульптуру, и мне вдруг начинает казаться, что мои глаза скользят по колыхающейся плоти – податливая поверхность произведения словно состоит из грудей, ягодиц, пупков, губ, мягких разломов и крутых бедер; затем внезапно эти формы заостряются и застывают, превращаются в локти, зубы, булавы, стрелы и акулу-молот. Продолжая движение вокруг скульптуры, я вдруг чувствую себя маленьким и покинутым, стоящим на отшибе, в то время как «Рост» будто трансформируется в высокомерно удаляющуюся фигуру в огромной короне.
Скульптуры Арпа, в основе которых лежат поэтические сюжеты – например, сюжет роста, – вдохновляют меня на спонтанные ассоциации и движение в их ритме, движение, которое никогда не приведет в конкретный пункт назначения; эти скульптуры требуют, чтобы я позволил своему разуму быть в состоянии потока, свойственном им самим. Взаимодействуя с «Ростом» Арпа, я понимаю, что абсолютно необходимо рассматривать эту скульптуру не только как воплощение ее названия, но также использовать это название как тематический мостик; необходимо позволить скульптуре оставаться в состоянии беспрестанного изменения и становления; принять тот факт, что скульптуры Арпа, как и его стихи, состоят из метафорических связей, наслоения метафор, отсылающего к множеству на первый взгляд противоречивых форм, идей и процессов, которые никогда не будут существовать как только одно определенное действие или вещь.
С Арпом нужно плыть по течению, ухватившись за любую зацепку, которую вдохновляет его скульптура, и следуя за ней везде и всюду. Я должен согласиться с тем, что «Рост» Арпа начинается не с обнаженного тела, распускающегося растения или рожающей женщины – форм, которые затем сливаются, превращаясь в слабые подобия или рудименты себя прежних, более полноценных, завершенных и сложных. Арп не сглаживает углы и ничего не преуменьшает. Скульптор ни от чего не «абстрагируется» и ничего не умаляет – скорее, он делает формы более конкретными и концентрированными, кристаллизует их, обнаруживая впечатляющий сплав чистой формы и чистого процесса, состояний и стадий действия, рост, формирование и становление.
Именно поэтому Арп, говоря о своих студийных художественных произведениях, предпочитал термин «конкретное искусство», а не «абстракция». Арп избавлялся от излишеств и деталей отдельных форм, чтобы раскрыть сущность всех форм. Он освобождал формы от их детерминированности как существующих в природе вещей, чтобы сосредоточиться на их взаимосвязях – на промежуточном пространстве, где группы вещей всегда не просто больше, чем одна вещь, но на самом деле ничто. Арп подбирался к природе природы. Он понимал, что сделать абстракцию – не значит избавиться от частностей, чтобы подчеркнуть редукцию и неопределенность. Он понимал, что «меньше – лучше», только когда «меньше» освобождается от внутренней спирали редукции и открывается миру безграничных возможностей и развития – миру поэзии. Формы в «Росте» указывают на рост и развитие на эмбриональной, клеточной, пубертатной и рудиментарной стадиях одновременно и таким образом, что мы даже не ощущаем сами обозначенные стадии, а вместо этого всё время парим в пространстве возможностей – в до и после.
Однако Арп, как бы далеко он нас ни заводил, практически всегда так или иначе приводит свои скульптуры обратно к человеческому телу. Как если бы каждую скульптуру он начинал и заканчивал с обнаженного торса, заключая нас в опыте самопознания. Если рассматривать «Рост» как обнаженный торс, он представляется гораздо менее специфичным и уклончивым, чем другие скульптуры Арпа, с которыми эта работа, по-видимому, перекликается. Но все скульптуры Арпа, подобно членам одной семьи, состоят в диалоге и помогают понять друг друга – так на большой семейной встрече тети, дяди, двоюродные братья и сестры рассказывают нам что-нибудь о нашей общей родословной, и это позволяет лучше понять каждого ее члена в отдельности. «Торс» (1931) Арпа гораздо больше, чем «Рост», основывается на форме классического античного торса, у которого отсутствуют ноги ниже ягодиц, руки отломаны по плечи и нет головы. Но тотчас же одно прорастающее плечо, закругленное и гладкое, как будто отполированное бесчисленными поглаживаниями океанских волн, вздуваясь, стремится наружу. Затем это плечо как будто вытягивается в шею, а потом и в голову, появляясь словно бы из утробы матери. Ягодицы скульптуры наталкивают на мысль о грудях, которые, в свою очередь, трансформируют торс обратно в формирующиеся лицо и голову. Если двигаться вокруг скульптуры, кажется, что торс невесом, словно призрак, как перышко опустившийся на пьедестал. Внезапно как по волшебству он превращается в опускающуюся вниз птицу, воплощенный полет или планирование и даже саму невесомость.
Названия, которые дает своим произведениям Арп, немедленно переносят нас в поэтическое, а часто и юмористическое пространство.
«Воображаемый цветок с губами» (1954) – настольная мраморная скульптура, которая вызывает сбивчивые ассоциации то с растениями, то с деревянными носовыми фигурами кораблей, то с перевернутой человеческой ногой в ботинке. Губы на вершине скульптуры как будто разворачиваются, смотрят через плечо и превращаются одновременно и в голову, и в машущие на прощание ладони. А булавовидная форма мраморной скульптуры «Торс-плод» (1960) также напоминает вазу, грушу и кеглю, трансформирующуюся в кикладского идола, или классическую обнаженную фигуру.
В творчестве Арпа нас привлекают те же строгие формы и характеристики, что и в классической мраморной скульптуре или дольке настоящего фрукта: ясная, лаконичная, признанная, естественная и неоспоримая чистота средств. Формы Арпа ограничены сами собой и при этом свободно развиваются в окружающей их среде. В их контурах, весе и внутренней цельности ощущается единение и ясность, которые как будто бы энергично вытесняются в мир сквозь их кожу. Мы принимаем скульптуры Арпа и проникаемся к ним любовью как к органическим формам благодаря их строгости, правильности и витальности. А как произведения искусства они становятся пищей нашего сознания и воображения. Как когда-то сказал Арп: «Искусство – это плод, который зреет в человеке, как плод на дереве, как ребенок в утробе матери. Но плод растения, плод животного и плод в утробе матери принимают независимую и естественную форму, но искусство, духовный плод человека, обычно до абсурдного схоже с чем-то другим… Искусство имеет естественное происхождение, и его возвышает и одухотворяет возвышение человека».
Глава 9
Воспламенение
Джеймс Таррелл: Яснее ясного
В 1980 году посетительница выставки художника Джеймса Таррелла в нью-йоркском Музее американского искусства Уитни приняла одну из световых скульптур за стену галереи. Сделав шаг назад, чтобы прислониться к «стене» и не встретив на пути никаких препятствий, кроме цветной плоскости проецируемого света, женщина упала и вывихнула запястье. В итоге она подала в суд на Уитни. На той же выставке еще одна женщина заявила, что почувствовала себя настолько «дезориентированной и сбитой с толку» иллюзиями Таррелла, которые волшебным образом трансформировали свет и воздух в твердые на вид формы, что ее буквально «сбило с ног». Она тоже подала иск.
Иллюзия в искусстве – не новость. Плиний Старший в своей «Естественной истории» (77–79 годы нашей эры) пишет, что во время состязания между двумя живописцами, Зевксисом и Паррасием, Зевксис настолько реалистично написал натюрморт с кистью винограда, что птицы слетелись поклевать ягоды. А когда Паррасий, натюрморт которого был скрыт покрывалом, попросил Зевксиса отдернуть его, оказалось, что само покрывало – живописная иллюзия. «Я обманул глаз птиц, – сказал Зевксис, – но Паррасий обманул глаз живописца».
Таррелл своими произведениями не пытается кого-то обмануть или сбить с толку, и уж тем более сбить с ног, хотя многие из его световых инсталляций находятся в темных комнатах и состоят из прорезанных прямо в стенах отверстий, из которых льется слабый непрямой искусственный свет. Световые скульптуры Таррелла создают множество иллюзий, включая и те, что преобразуют пустоту в объем. И настройка глаз на скульптурный свет Таррелла – медленный, хотя и благодарный процесс. Зрителям объясняют, что до того, как их зрачки расширятся достаточно, чтобы воспринимать все нюансы работы Таррелла, может пройти до пятнадцати минут. Но и при обостренном зрительном восприятии его произведения озадачивают не меньше.
Таррелл родился в Лос-Анджелесе в 1943 году в семье квакеров, в 1965 году получил степень бакалавра психологии восприятия, а в 1973 году – степень магистра искусств. Кроме того, он выучился на пилота и живет по принципам пацифизма. Таррелл объединил весь этот спектр интересов – психологию, полет и мир – в своем искусстве. Он наиболее известен как член существовавшего в 1960–1970-х калифорнийского минималистского движения «Light and Space» («Свет и пространство»), объединившего группу таких художников, как Ларри Белл, Роберт Ирвин, Крейг Кауфман, Джон Маккрэкен, Брюс Науман и Даг Уилер, которые создавали атмосферные инсталляции за счет взаимодействия архитектурных форм, зрителей, а также естественного и искусственного освещения.
Пока глаза привыкают к инсталляциям Таррелла с их яркими полями света, цветное воздушное пространство перед вами будто дышит, раскрывается вовнутрь и приближается к вам; оно словно твердеет, сжижается и растворяется, привнося хаос в наши ощущения: мы уже не понимаем, что является формой, а что ею не является, что есть чистое освещенное пространство, а что – отраженный свет, упавший на стену, что мы видим, а что – нет. Имея дело с этими дезориентирующими произведениями искусства, я часто робко выдвигал руку вперед, в их бархатистый свет, словно помещая ее в другое измерение, не зная, зависнет ли моя рука в пустом пространстве или упрется в нечто твердое. Как однажды сказал Таррелл: «Обычно мы смотрим на свет иначе, потому что видим, как он что-то освещает. Но мне интересна вещественность, телесность самого света».
Таррелл подразумевает опыт взаимодействия с его иммерсивной световой инсталляцией «Яснее ясного» (1991), которая экспонировалась на ретроспективе «К свету» в Массачусетском музее современного искусства. Внутри этой инсталляции-инвайронмента вам может показаться, что вы находитесь в свободном падении или плывете по морю цветного света, а может быть – что вы на дискотеке и на вас со всех сторон направлены огни спецэффектов. Инсталляция, состоящая из множества плавных и медленных переходов цвета, в нескольких местах разделенных пятнадцатисекундными стробоскопическими эффектами, проводится в белой комнате размером примерно с квартиру-студию и длится девять минут. Перед тем как подняться по обитым ковровой дорожкой и напоминающим зиккурат ступеням и войти в главный зал инсталляции, зрители должны снять обувь и надеть синие бахилы. Они помогают сохранить пространство чистым, как операционная. Фоточувствительным зрителям инсталляцию посещать не рекомендуется.
На самом деле «Яснее ясного» проходит в двух пространствах: большом белом зале ожидания, где вы надеваете бахилы, и главном зале, где на высоте девяти ступеней происходит само действо. Чтобы попасть в главный зал на вершине лестницы, нужно пройти в широкий, похожий на пещеру тоннель, который кажется одновременно и древним и футуристичным. Проход ярко светится, бросая карнавальные отсветы в зал ожидания, так что там то царят сумерки, то возникает атмосфера ночного клуба или парка аттракционов.
В зале ожидания участники попадают на предварительный просмотр того, что им предстоит испытать. Сквозь открытый дверной проем видны резко очерченные силуэты тел находящихся в главном зале участников, и кажется, что их обстреливают молнии; пропитанные цветным светом – розовым, медовым, лаймовым, фиолетовым, синим, – они будто излучают сияние. Цвета их одежд кажутся раскаленными, словно их тела наэлектризованы, их контуры иногда вибрируют, словно дематериализуясь и материализуясь. Этот эффект привносит иронию в сцену, которая может навести на мысль о крематории или казни на электрическом стуле.
Когда предыдущая группа закончит просмотр, пригласят зайти вашу группу, в которой может быть до шести участников. Опыт зрителя, находящегося в основном зале, разительно отличается от предыдущего опыта. Сделать шаг в «Яснее ясного» – всё равно что шагнуть в другую вселенную. Не почувствовав перехода, я оставил роль наблюдателя и попал в ситуацию, в которой меня дико мотало между сенсорной депривацией и сенсорной перегрузкой. Одно дело смотреть со стороны, и совсем другое – сесть на кружащуюся, петляющую карусель. Это была молниеносная световая атака, как будто бы всех нас подожгли, внезапно окунули в неистовые, хотя и абсолютно беззвучные потоки желтого: яркие лимонно-желтые стены, пол, потолок и свет, который вливался в кажущееся безграничным пространство, пока цвета не начнут меняться.
У пространства «Яснее ясного» высокий белый потолок и белый пол, вызывающий головокружение легким наклоном внутрь зала, будто бы навстречу пустоте неизвестности. Наклонный пол добавляет шаткости и драматичности, вызывает опасение потерять опору и соскользнуть прямо в глотку произведения искусства. Мне удалось заметить, что в комнате нет прямых углов: что потолок перетекает в стены, а стены – в пол. Я чувствовал, что художник играет с моим восприятием глубины и моей способностью различать верх и низ, переднюю, заднюю и боковые стороны. У дальней стены комнаты наклонный пол обретает четкость, а прямо за ним ярко, как лайтбокс, освещенная стена сияет, словно портал в портале.
Внутри «Яснее ясного» свет непрямой и в основном нерезкий, оживляющий как атмосферу, так и белые поверхности интерьера. Воздействие света очень активно. Он создает иллюзию того, что и пол под вашими ногами, и далекий горизонт стерты. Сильный яркий свет растворяет людей вокруг и вызывает сомнение в материальности даже вашей собственной руки, которую вы подносите к лицу. Когда освещение в «Яснее ясного» усиливается, вы и вовсе перестаете ощущать границы комнаты. Искажается ваше восприятие верха и низа, и ваши спутники кажутся такими же подвешенными в пространстве и изжаренными, как и вы сами: свет словно разъедает их. Иногда, особенно в паузах, когда включаются стробоскопические эффекты, свет атакует вас точечными ударами, как если бы вы со сверхсветовой скоростью неслись сквозь пространство, сквозь потоки падающих звезд или как если бы вы потерялись во время снежного шторма. А иногда, пока один цвет медленно перетекает в другой, пространство вокруг вас наполняется сгустившейся размеренностью и парящей тишиной, как будто разжижающиеся цвета, которые сначала лишь слегка подкрашивали воздух, начинают поглощать вас.
Таррелл создал «Яснее ясного», вдохновленный интересом к иллюзионизму и влиянием разных световых эффектов на наши физические и эмоциональные ощущения. Но это произведение привлекает нас так же, как и изобразительное искусство. И его абстрактность – способность ослабить наше ощущение трехмерного мира и заменить этот мир состоянием плавучести и подвешенности, которая ощущается практически как невесомость, – сама по себе является достижением.
«Яснее ясного» совсем не похожа на огромные инсталляции из ширм и флуоресцентных ламп, которые создает еще один художник «Света и пространства», Роберт Ирвин (род. 1928): в его работах нежные переходы света порождают медитативную атмосферу, создают среду, сквозь которую можно двигаться, созерцая призрачное присутствие других посетителей, скрытых полупрозрачными стенами. «Яснее ясного» также достаточно сильно отличается от скульптур и инвайронментов художника Дэна Флейвина (1933–1996), флуоресцентные лампы-скульптуры которого воспринимаются и как свет, и как объект. Дезориентирующий инвайронмент «Яснее ясного» стирает границы между произведением искусства и участниками перформанса, которые никогда не бывают простыми зрителями в традиционном смысле этого слова, но становятся активными элементами и силами произведения. Находясь внутри инсталляции Таррелла, вы просто не можете увидеть произведение с объективного расстояния – отделить себя и свой опыт от среды, как пловец под водой не может отделить себя от бассейна.
Привлекательность «Яснее ясного», как и многих других инсталляций Таррелла, заключается в ее способности придавать свету физическое присутствие и вес, уподобляя свет нашим телам, а наши тела – свету. Этот уникальный опыт так поражает воображение потому, что он практически полностью растворяет границы, играя нашими чувствами и встраивая нас в произведение. «Яснее ясного» достигает равновесия между светом, пространством и физическими телами. Стоя внутри этой инсталляции, я иногда ощущал, что она растворяет понимание того, где заканчивается мое тело и начинается внешний мир. По мере того как инсталляция Таррелла запутывала мое восприятие внешних границ среди вещей и света, когда, подобно импрессионистам, она атомизировала мир, превращая его в цветовую атаку, меня охватывала не просто импрессионистская световоздушная среда, но – чувство безграничности.
Таррелл создает не только инсталляции в рамках направления «Свет и пространство», но и инвайронменты и лэнд-арт. С конца 1970-х он занимается преобразованием кратера потухшего вулкана недалеко от города Флагстаф в северной части аризонской Пейнтед-Дезерт в «Кратер Роден», огромное произведение искусства с туннелями, проемами и обсерваториями – их художник называет «Skyspaces», – из которых можно невооруженным глазом наблюдать астрономические явления и первозданное небо пустыни. Хотя «Кратер Роден» еще не достроен и обычно недоступен для широкой публики, он служит местом паломничества, таинственной минималистской Меккой поклонников Таррелла, сопоставимой с монументальной «Спиральной дамбой» Роберта Смитсона – 457-метровым лэнд-артом, построенным из базальтов, солевых кристаллов, земли и воды на северо-восточном берегу Большого Соленого озера в штате Юта в 1970 году.
Таррелл играет с нашим пониманием того, где заканчивается произведение искусства и начинается внешний мир. В 2014 году огромная работа Таррелла «Aten Reign» превратила ротонду нью-йоркского Музея Соломона Гуггенхайма в шестиэтажную инсталляцию из естественного и искусственного света, цвета которой изысканно и органично изменялись в соответствии с хроматическим спектром. После того как я увидел «Aten Reign» и «Яснее ясного», я очень долго смотрел на окружающий мир по-новому. Бескрайнее синее небо над головой, серо-зеленая река за домом, густо-оранжевый закат и огни, отражающиеся и расплывающиеся в окнах нью-йоркских зданий, напоминали мне о насыщенности и движении света в работах Таррелла. Как будто хотя бы на несколько дней художнику удалось монополизировать мое мировосприятие, как будто он был в моей голове.
И не только он. Обращение каждого художника со светом – его темпераментом, цветом и тоном – влияет на то, как я вижу свет вне искусства. Когда я вижу закат или сумерки, я думаю о Яне Вермеере. В Париже я вижу бесчисленные серые оттенки Города Огней глазами Камиля Коро и Брака. Иногда цветной свет Таррелла переносит меня в другие места и к другим произведениям искусства: к вибрирующим абстрактным ромбовидным фигурам Марка Ротко; к разноцветным потокам экстатичного света, льющимся сквозь витражные окна парижского Дворца правосудия; к бурлящим водным потокам Уильяма Тёрнера; к небу Пуссена; к фейерверкам; к световым скульптурам Ирвина и Флейвина.
Искусство воодушевляет нас, влияет на нас, оно способно изменить наше мировосприятие. Я вырос в фермерском поясе Среднего Запада, но не думаю, что когда-нибудь действительно видел или ценил красоту и драматичность этих мест, пока не переехал в вертикально ориентированный Нью-Йорк и не провел там много времени; пока не объехал много стран и не увидел множество мест и пейзажей в природе и в искусстве и наконец не вернулся на просторы Среднего Запада. В Голландии я видел нидерландские пейзажи Якоба ван Рёйсдала, и они возродили во мне любовь к драматичности, свойственной необъятному, широкому, серому, синему, покрытому белыми облаками небу, и помогли насладиться медленным приближением и нарастанием надвигающейся летней грозы, которую замечаешь, когда она еще за десятки километров от тебя. Увидев множество работ Ван Гога, я смог наконец оценить тревожную красоту и мощь пашен и вздымаемой ветром пшеницы. Рёйсдал, Вермеер и Ван Гог среди прочих открыли мне глаза на все пейзажи. Они открыли для меня красоту американского пейзажа моей юности.
Возможно, Таррелл более всего известен и почитаем за его неповторимые «Skyspaces». По сравнению с выверенной атакой «Яснее ясного» «Skyspaces» – самые безупречные и сдержанные произведения Таррелла – кажутся какими-то безыскусными, неумелыми. Ими движет смирение и сдержанность. Такое ощущение, что Таррелл просто ткнул пальцем в кусок неба и сказал: «Смотри».
«Skyspaces» Таррелла представляют собой отверстия – круглые, овальные или квадратные дыры – прорезанные в потолке и открытые небу. «Skyspaces», как и окна, выполняют функцию рам. Они – движущиеся полотна, предметом и действием которых является небо. «Skyspaces» либо располагаются в специально построенных отдельных зданиях, либо интегрируются в существующие архитектурные сооружения. Некоторые из них достаточно большие, чтобы вместить множество зрителей. А некоторые так же малы, как ресторанные кабинки.
Таррелл показывает, а вы смотрите. Забираетесь внутрь одного из «Skyspaces», откидываетесь назад на диванчике, расслабляетесь, смотрите вверх в оправленное вырезанной Тарреллом рамкой небо и наблюдаете, как меняется свет и как птицы, облака, а порой и самолеты движутся в вашем поле зрения. Но главным образом вы наслаждаетесь изменениями света, цвета и массы неба, которое иногда может казаться меняющей плотность жидкостью, а порой даже быть пышным, как кусок пирога.
Некоторые из «Skyspaces» Таррелла круглые, и при взгляде вверх, в эти голубые круги, которые, кажется, начинают превращаться в шары, нельзя не вспомнить о том, каково смотреть на Землю с Луны, поэтому вы можете почувствовать себя так, будто переместились в пространстве.
Когда на «Skyspaces» Таррелла опускаются сумерки, голубое отверстие темнеет и звезды начинают светиться на фоне сгущающейся черноты, кажется, что Таррелл дарит нам что-то особенное, отчасти потому, что всё это так просто и естественно. Я чувствовал себя так, как будто раньше никогда по-настоящему не рассматривал небесный свод с такой сосредоточенностью и вниманием.
Каждое «Skyspace» уникально и фокусирует внимание на определенном куске неба. Каждый раз, когда я проводил время с одним из этих минималистских чудес, я ощущал чистоту и простоту, а иногда чувствовал, как будто небо трепещет или осторожно сдавливает меня, и я всегда удивлялся тому, каким спокойным, живым, благодарным и чистым я чувствовал себя после этого. По-видимому, другие ощущают то же самое. Похожее чувство испытываешь, когда лежишь, покачиваясь, на поверхности океана; накатывает расслабление и легкость, и ты паришь где-то между здесь и там.
«Skyspaces» Таррелла практически безмолвны в своей чистоте и простоте. Но ни в одном из этих пространств я не встретил зрителя, который не воспринял бы этот опыт всерьез. Люди реагируют на «Skyspaces» с благоговением, как если бы находились в живописном месте вроде Большого каньона или в святилище. Кажется, что все они – молодые и старые – понимают, что делает Таррелл, и они благодарны художнику за его уникальное ви́дение, его безыскусный подарок. Они более чем готовы увидеть мир сквозь настроенную линзу «монокля» Таррелла, посмотреть на мир его глазами. Когда смотришь на закат через «Skyspace» Таррелла, кажется, будто он первым добыл огонь. Скульптор дарит нам эти сгустки неба так, чтобы мы могли сосредоточиться и созерцать области, которые обычно воспринимаем как нечто само собой разумеющееся, и это позволяет нам не только вновь обрести кусочек природы, но и заново открыть для себя, разглядеть то, что всегда было у нас прямо под самым носом.
Глава 10
Эволюция
Пауль Клее: Знаки в желтом
По легенде, когда Пикассо побывал у Пауля Клее в 1937 году, испанец сказал швейцарскому художнику: «Я – мастер большого формата. А вы – мастер малого формата». И действительно, фигуративист Пикассо иногда работал с очень крупными холстами, а абстракционист Клее никогда не писал на холсте, который превосходил бы размером мольберт. Однако Пикассо, привлекая внимание к миниатюрному размеру произведений Клее, не делает ему сомнительный комплимент; он обращает внимание на силу внутреннего мира Клее.
Клее исследует умозрительный внутренний мир – портреты, зеркала, книги и фантазии – в личностном масштабе один к одному. Художники-фигуративисты стараются создать иллюзию трехмерного пространства на плоском холсте – иллюзию пространства, имитирующую реальный мир. Такие абстракционисты, как Клее, не привязывают нас к нашему трехмерному миру. Вместо этого, лишая нас комфортной навигации в живописном пространстве, которое дублирует реальность, Клее открывает нам другой, безграничный, неизвестный мир – мир абстракции.
Невероятно эклектичный – настоящий человек эпохи модернизма – Клее (1879–1940) был живописцем и педагогом, философом, натуралистом, концертирующим скрипачом и поэтом. Клее верил, что творческая энергия художника подпитывается энергией Вселенной и в ответ подпитывает ее. Созданные во время преподавания в Баухаусе и опубликованные после смерти художника «педагогические эскизы» «Природа природы» и «Мыслящий глаз» по основательности, глубине, остроте ума автора и широте охваченных тем сравнивают с тетрадями Леонардо да Винчи.
На многоплановое творчество Клее повлияли как иллюминированные рукописи, текстиль, племенное искусство, реклама, настольные игры и иероглифы, так и органические формы: растения, ракушки, окаменелости, кристаллы и клетки. Двумя главными темами художника были рыбы и птицы, обитатели нижнего и верхнего – иных – пространств моря и неба. Судя по всему, Клее предпочитал изображать низшие формы жизни, процессы формирования которых можно увидеть невооруженным глазом, а также детей и детство – ранние стадии человеческого развития. В своих картинах Клее исследовал как эмбриональное и клеточное развитие органических форм, так и формирование солнечных систем. Художник персонифицировал растения, животных, горы, леса, музыку и даже настроения, рассматривая всё это с точки зрения внутренней природы и как сюжет искусства.
Практически научные или как будто детские композиции Клее иногда ошибочно считают бесстрастными и простыми. Порой в его творчестве видят ответвление сюрреализма и фантастического искусства, а также примитивного искусства, но произведения Клее – плоды тщательного и рационального изучения природы изнутри. Он верил, что природа говорит и что работа художника – слушать. Синтез обширных интересов и знаний придает картинам Клее качества, которые кажутся чуждыми, но при этом знакомыми, фантастическими, но при этом научными, как истории и образцы, привезенные из дальних стран исследователем древних культур.
Энциклопедические знания Клее не мешают восприятию его картин. Вам не кажется, что художник вас чему-то учит. Он позволяет зрителю самому получать удовольствие от открытий: представляет всё ясно и поэтично, давая возможность вычленять скрытые метафоры. Меня Клее убеждает в том, что исследователь – я, а не он. Его произведения проникают в суть вещей; его простые архетипические формы многослойны и при этом прозрачны, они показывают существование предмета на нескольких уровнях – визуальном, эмоциональном, структурном и духовном, – и вы словно смотрите на них сквозь череду времен и пространств.
«Знаки в желтом» (1937; ил. 10) кисти Клее – вертикальная картина, на которой четкие черные линии взаимодействуют с прямоугольниками разных оттенков оранжевого и желтого. Работа выполнена в смешанной технике: пастелью на хлопке, который покрыт цветной пастой и приклеен на джутовую мешковину землистого цвета; размер картины примерно восемьдесят четыре сантиметра в высоту и пятьдесят в ширину. Для своих работ Клее часто делал рамы сам или использовал старые, придавая особое значение их цвету и размеру и учитывая уникальные характеристики. Так, в случае со «Знаками в желтом» художник продлевает картину до внешних краев деревянной рамы, тем самым превращая полотно в нечто схожее с алтарным образом или иконой.
«Знаки в желтом» содержат множество отсылок и аналогий. Во-первых, мешковина, которая обрамляет цветное пастельное поле и порой проглядывает сквозь цветные прямоугольники, указывает на связь картины с тканью или ковром, текстильным изделием, созданным при помощи основы и утка – системы, в которой энергии движутся горизонтально и вертикально, переплетаются, чтобы сформировать кусок ткани. Помимо аналогии с ткачеством, Клее подталкивает нас к метафоре пустыни – места, где, возможно, была произведена эта ткань. Делая джутовую основу заметной, а иногда и равнозначной хлопковой, художник передает постоянное изменение поверхности, ее перелицовку. Создающее иллюзию ткачества пастельное изображение на ткани своими цветами отсылает к желтому и оранжевому цвету жаркой пустыни, ее рассветов и закатов; а джут – к цвету земли и прохладного песка ночной пустыни. Джутовая граница и рама усиливают аналогию с огороженным пространством; как будто зритель смотрит на испещренную знаками карту реальной местности.
И действительно, название картины Клее указывает на то, что мы смотрим на знаки именно в желтом, а не на или под ним, что знаки встроены в основной цвет; что перед нами своего рода пазл; что нам даны какие-то элементарные вещи. Предлог «в» указывает на то, что эти знаки – силы, что они заложены в динамику картины и неотделимы от нее, особенно в связи с предложенной Клее аналогией пейзажа. «Знаки в желтом» напоминают мерцающий цвет, переливающуюся мозаику и подсолнечные поля. Кажется, мы смотрим на пейзаж с высоты птичьего полета и видим разноцветные лоскуты пашен и пески пустыни. А еще наслоение прямоугольников на полотне напоминает пласт почвы или геологические отложения в разрезе. Клее одновременно помещает меня над своим пейзажем, рядом с ним и внутри его.
Художник развивает растительную метафору на всём полотне: черные линии напоминают стебли, произрастающие из землистой джутовой поверхности. Рыжевато-коричневый джут превращается в грунт (буквально – грунтованную поверхность холста, а метафорически – в грунт, из которого зарождается желтое цветение картины). Пока я осматриваю холст, Клее управляет моим зрением так, что по мере того как я пересекаю очередную сторону прямоугольника, картина словно поворачивается вместе со мной: кажется, я никогда не покину нулевую линию этой карты. Картина Клее, переориентируясь и взаимодействуя со мной, идет туда же, куда иду я.
Благодаря этому вращению Клее не позволяет мне осознать, где у этой картины верх, низ или боковая сторона. Четыре нулевые линии пейзажа, проглядывающие из-под джута, постоянно меняются местами, как четыре горизонта; внутри картины каждое горизонтальное и вертикальное движение от края к краю прямоугольника становится еще одной нулевой линией и еще одним горизонтом. Поскольку каждая нулевая линия превращается в горизонт, а затем снова в линию, эта картина дарит мне свободу смотреть, позволив каждому своему элементу быть в процессе вечного становления. Вне зависимости от того, как далеко и долго я путешествую по полотну Клее, и независимо от того, как глубоко я постигаю его знаки, каждый из элементов картины останется, по крайней мере частично, символом чего-то грядущего.
Взаимозаменяемость и переплетение над и под, верха, низа и боковых сторон на полотне Клее может наводить на мысли о потустороннем мире. «Знаки в желтом» не дают мне возможности точно определить мое местоположение в картине, а если бы я смотрел на традиционный фигуративный пейзаж с фиксированной наблюдательной позиции, это не составило бы труда. Но это полотно переносит меня в пространство становления, во множество мест одновременно. В каком-то смысле Клее помещает меня сразу везде. Он делает меня вездесущим.
Приняв изменчивость моего положения и аналогий в «Знаках в желтом», я наконец могу позволить картине полностью раскрыться. Я осознал, что Клее превратил привычную горизонталь пейзажа в вертикаль портрета. Он создал абстрактный портрет пейзажа, который отсылает не только к пашням, пустыням и пластам почвы, но и к витражам, букварям, рождественским календарям и папирусным свиткам. Я понимаю, что смотрю на растения, семена, стебли, фрагменты знаков, пиктограммы – и в то же время, как ни странно, ни на что из этого. Я понимаю, что присутствующее в названии слово «sign» может быть и существительным, и глаголом. Существительное описывает объекты, характеристики или события – сигналы, симптомы или доказательства. А как глагол, sign, например, в значении «расписаться», может быть подписью – актом маркировки и идентификации. «Знаки в желтом» отсылают нас не только к первобытным знакам или древним иероглифам – но к эволюции письма – трансформации изображений в буквы. Клее объединил и расширил все эти аналогии. Он вдохновляет на ассоциации не только с ростом семени или точки, но с возникновением письма, искусства, сельского хозяйства и архитектуры. Элементы его картины накладываются друг на друга, словно кирпичики.
Клее верил, что произведение искусства – это вселенная-в-себе, с собственными правилами, историями и структурами. Он часто использовал геометрическую сетку (внутреннюю разделительную структуру прямоугольника) как композиционную основу своих картин, и «Знаков в желтом» в том числе.
Каждый раз, пересекая глазами горизонтальный или вертикальный маршрут прямоугольника одной из ячеек сетки, крупной или мелкой, я также в определенном смысле пересекаю (или, по крайней мере, вновь прокручиваю в памяти) каждый горизонтальный или вертикальный маршрут прямоугольника в масштабах всей сетки, включая внешние углы картины. Каждый раз, рассматривая один внутренний прямоугольник, я соотношу его с каждым отдельным прямоугольником из всего набора, а также с прямоугольником самой картины. Когда мои глаза останавливаются в нижнем левом углу внутреннего прямоугольника композиции, я чувствую связь этой точки, этого конкретного угла с каждым прямоугольником сетки, и с большим прямоугольником картины в том числе. Эта структура позволяет мне одновременно находиться в определенной точке и во многих других точках.
Для художника-абстракциониста блоки сетки и в буквальном и в метафорическом смысле являются базовыми строительными элементами композиции, пространственная и организующая структура которых оголена и вынесена наружу, как экзоскелет. Предпочитая вертикаль и горизонталь диагонали, а плоскость – глубине, сетка выносит всё прямо на передний план изображения. Как и в «Знаках в желтом», сетка в других произведениях придает каждому элементу равнозначное ощущение непосредственного присутствия. Отрицая пространственную глубину, определенное местоположение и последовательность, сетка – как если бы она показывала в магическом шаре разом всё на свете – также отрицает и ощущение времени.
В повествовательном искусстве первостепенным значением обладают время и место, причина и следствие: это случилось здесь, а потом то случилось там. Абстракция избавляется от линеарной последовательности. Однако это не значит, что абстрактное полотно с сеткой можно осмыслить в один прием или что в нем отсутствует глубина. Цвета, формы, линии и фигуры воспринимаются в пространстве. Плоская и пластичная мембрана абстрактной сетки подчиняется собственным пространственным законам, которые диктует художник. Оранжевый прямоугольник, пусть и сдерживаемый сеткой в плоскости, может считываться как более фронтальный или выступающий, чем примыкающие к нему желтые прямоугольники, которые также зажаты сеткой в плоскости. Это придает плоскости изображения сходство с податливой кожей: эластичной поверхностью (как у куска резины), которую можно вдавливать внутрь и вытягивать наружу, сильно растягивать и даже закручивать, не теряя ощущения плоскости и непрерывности ее поверхности.
Эта эластичная мембрана может растягиваться, складываться и выворачиваться наизнанку. Она одновременно может быть непрозрачной стеной и прозрачным окном, параллельно показывая нам свою внешнюю и внутреннюю поверхность; свою переднюю и заднюю часть, свое до и после. Поскольку абстрактная сетка не репрезентирует мир в виде, например, интерьера с сидящей у стола женщиной (изображение чего-то увиденного в природе), она может одновременно стать окном с видом на природу, в природу и даже вид из природы, которая оглядывается на нас.
Еще одна важная особенность сетки для таких абстракционистов, как Клее, заключается в способности этой структуры перестраивать и переосмысливать всё в формате прямоугольных кирпичиков, или форм, трансформирующих себя и встраивающихся в новую структуру, которая метафорически и буквально соединяет и сплавляет их вместе. Сетка становится новым, метафорическим игровым полем, где формы различных видов и материалов – камни, цветы, небоскребы, паруса корабля и песни птицы – приживаются, переосмысливаются и перерождаются.
Во второй главе я упомянул знаменитую цитату Клее о том, что «линия – это точка, отправившаяся на прогулку». Конечно, точка может быть одной из многих точек (или мест) на линии. Но точки, особенно на «Знаках в желтом» также могут быть периодами, символами начала и конца, атомами, почками, ягодами, растениями, глазами, ртами, пупками или порталами. На «Знаках в желтом» точки наводят на мысль о многих вещах одновременно: о первом росчерке пера, первом мазке или отметке на карте: Вы здесь. «Искусство, – писал Клее, – метафора Творения. Тому примером каждое произведение искусства, так же как всё земное – пример космического». И далее: «Точка космична в своей первозданности. Каждое семя космично. Точка как пересечение путей космична».
Конечно, в языке искусства линия начинается с отправной точки, с начала. Точки двигаются или скапливаются, вырастая в линию. Клее указывает на то, что линия многозначна: она может измерять расстояние, быть потоком, направлением мысли, дорогой, острием ножа или стрелой. В искусстве линия – самая базовая и примитивная составляющая коммуникации – может двигаться, менять направление и сходиться с собственным началом, становясь формой, плоскостью. Став плоскостью, линия может продолжить движение в пространстве по диагонали и создать еще одну плоскость – верх, низ или сторону, – трансформируя два измерения в три.
Точка и линия – основные составляющие знаков, заключающие в себе энергию, движение и развитие письменной коммуникации. Клее знал, что при помощи точек и линий дети рисуют спирали (движение и эмоция) и человечков типа «палка-палка-огуречек». Он понимал, что вертикальная линия безусловно была первым и простейшим символом, обозначающим человека (жизнь), а горизонтальная – простейшим символам, обозначающим горизонт (и смерть).
Художник знал, что изображения превратились в пиктограммы – простые символы, представляющие определенные предметы (например, круг или звезда означали «солнце»), которые затем превратились в идеограммы (изображение солнца стало воплощением «дня», «света», «рая» и «бога») и стали основой для эволюции письменности; Клее знал и о том, что после превращения пиктограмм в идеограммы, а идеограмм – в клинопись и иероглифы они трансформировались в каллиграфические символы и, наконец, в современные буквы.
В «Знаках в желтом» Клее использует все эти тематические элементы. Черные линии напоминают семена, растения, животных, орудия труда, фигуры, лодки, рыболовные крючки, камыши, линии горизонта, контуры и буквы. Они одновременно выполняют функцию картинок и знаков, олицетворяя все стадии трансформации из вещи в картинку, из картинки в пиктограмму, из пиктограммы в знак, из знака в букву, а затем обратно, к первым попыткам ребенка рисовать и писать.
Знаки Клее существуют в движении. Эти похожие на стебли и семена отметины поддерживают эволюцию картины и самого процесса сотворения искусства. Мы видим две точки, которые могут быть точками, мечтающими превратиться в линии, глазами в поисках лица, точками, желающими завершить предложение, сперматозоидами в поисках яйцеклетки. Экономичные, но исчерпывающие, они используют всю гамму данных им возможностей. Они независимы, хотя и примыкают к сетке. В некоторых местах черные отметины как будто меняют порядок и перестраивают сетку, так что напрашивается вопрос: что появилось раньше – пейзаж или семя?
Возможно, сначала был свет. В «Знаках в желтом» Клее исследует весь спектр желтого, навевая мысли о рассветах и закатах. Черный и желтый создают ощущение полновесного, чистого присутствия. Но при этом желтый часто находится в переходном состоянии. Оттенки золотого, оранжевого, красно-оранжевого, рыжевато-коричневого и кремового указывают на то, что на горизонте красный и белый – рассвет или закат.
Эти дополнительные цвета, к примеру оттенки оранжевого в сочетании с черными линиями, – «темные лошадки» за сеткой. Они сеют диагонали, изгибы и несомкнувшиеся кольца. В правом нижнем углу оранжевый – как будто водруженный на флагшток – выглядит оторванным от привычного места и независимым, как флаг, поднятый над захваченной землей. В других местах черные линии образуют кресты или меняют направления, превращаясь в плоскости. Эти линии намеренно транслируют о своем росте, и не в одном, а в трех измерениях: плоские линии вращаются через диагональ в круглое сечение, расширяют пространство спереди и позади себя и обретают объем.
В «Знаках в желтом» Клее посеял семена – знаки жизни, потенциала, намерения и свободной воли. Всё необходимое уже здесь, и оно прорастает, движется и развивается. Мне кажется, что Клее создал не просто абстрактный портрет пейзажа или свидетельство эволюции знаков, но и абстрактный портрет семян, корней и цветения – зарождения и эволюции цивилизации.
Глава 11
Взаимодействие
Марина Абрамович: Генератор
Марина Абрамович, сербский режиссер и художница, работающая в жанре перформанса, родилась в 1946 году в Белграде. Больше всего она наиболее известна своим интерактивным перформансом «В присутствии художника» (2010). Прошедший в нью-йоркском Музее современного искусства перформанс длился 700 часов, его посетило более 1400 зрителей, включая исландскую певицу Бьорк, влиятельного рокера Лу Рида и актрису и режиссера Изабеллу Росселлини: все эти люди часами стояли в очереди, чтобы затем в молчании сидеть за столом лицом к лицу с Мариной Абрамович так долго, как им хотелось. Еще около 800 000 человек смотрели прямую трансляцию перформанса. Перформанс, во время которого художница и ее партнер из числа зрителей иногда держались за руки, порой походил на игру в гляделки, а некоторые участники не могли сдержать слёз.
Во время других перформансов Абрамович танцевала, пока не упала в обморок от изнеможения, до крови расчесывала волосы и совершала действия, в результате которых пострадала от нейролептиков, ножей, сильных пощечин, льда и огня. В двухдневном ритуальном перформансе «Дом с видом на океан» в нью-йоркской галерее Шона Келли Абрамович, словно принявшая обет молчания монахиня, жила открыто, под неотрывным взглядом зрителей: пила воду, спала, мочилась, принимала душ и постилась в трех похожих на комнаты кукольного дома квадратных отсеках в полутора метрах над полом.
«В присутствии художника» – не первый раз, когда Абрамович, являющаяся также и мастером искусства выносливости, пригласила зрителей к себе за стол. В перформансе «Ритм 0» (1974) она поместила семьдесят два предмета – включая скальпель, розу, плеть, оливковое масло, перо и заряженный пистолет – перед собой на столе, за которым просидела шесть часов. В это время членам аудитории было разрешено по их желанию брать объекты со стола и манипулировать телом художницы, в том числе срезать с нее одежду и резать кожу.
Невозможно отделить Абрамович, как уязвимого художника, от произведений ее искусства, которые, как известно, заставляли зрителей почувствовать себя уязвимыми. В кратком биографическом очерке Абрамович в The New Yorker сказано, что она определяет свою «роль как художника в том, чтобы… вести своих зрителей через уязвимость к освобождению от всего, что их ограничивало». Во многом отношение Абрамович к собственной роли художника и цели своего искусства – шаманского и разделяющего некоторые фрейдистские идеи о терапевтической силе искусства – скорее похоже на экспериментальную терапию для художника и зрителей, чем на искусство. Но в терапевтическом лечении, как и в шаманском путешествии, вас, по крайней мере, будет сопровождать подготовленный специалист, который направит вас и поможет преодолеть тревожность, а не художник-перформансист, который просто заходит как случайных гость и сеет хаос.
В 2014 году я был приглашенным критиком на публичном обсуждении, посвященном «Генератору» Абрамович – интерактивному перформансу, который в то же самое время шел в галерее Шона Келли. Я знал, что некоторые люди пережили очистительный опыт, приняв участие в перформансах Абрамович; и хотя в юности я сам поставил несколько перформансов и за эти годы видел множество других, я не хотел участвовать в современных действиях такого рода. Те дни остались в прошлом. Я сильно сомневался, что много получу от произведения искусства, которое превращает зрителей не только в художников-перформансистов, но и в подопытных кроликов и буквально в главный акт события.
В отличие от других перформансов Абрамович, на которых художница действительно всегда присутствовала, «Генератор» показался мне слишком бессистемным, стихийным и вверяющим себя зрителю. Конечно, и сама Абрамович, наряду с более чем шестьюдесятью другими людьми, могла в любой момент поучаствовать в работе «Генератора». Но я был против заданной свободной формы «Генератора», предложенной для него структуры и ощущения манипуляции, которое он, казалось, излучал. Мне этот перформанс казался не искусством, а скорее социологическим и психологическим экспериментом. Я подумывал о том, чтобы не участвовать в «Генераторе», а затем в дискуссии привести доводы в пользу своего неучастия. Однако я понял, что раз уж я принял приглашение на обсуждение, то должен отбросить опасения и открыться «Генератору».
Для участия в перформансе я зашел в раздевалку, снял обувь, убрал ценные вещи, подписал отказ от претензий («Генератор» снимали на видео и делали прямую трансляцию), а затем надел повязку и беруши. Это не сработало. Я закрыл глаза, чтобы стало темнее, и попытался игнорировать приглушенный шум, который пробивался сквозь наушники. И всё же по ощущениям это было похоже на пребывание в камере сенсорной депривации, правда, вместо лежания в соленой воде нужно было ходить или ползти, периодически врезаясь в стены, опорные стойки и других людей. Что произойдет, когда вы вступите в контакт с другими людьми, зависит только от вас и от них, с поправкой на то, что ваше взаимодействие, так как вы практически глухи и слепы, исключает визуальное и вербальное общение. А когда «Генератор» вам надоест, просто поднимите руку, и сотрудник галереи подойдет к вам и поможет вернуться в раздевалку.
Сначала молодая, элегантная, одетая в черное сотрудница галереи, которая помогала мне в раздевалке, взяла меня за руку. Она провела меня в «Генератор» и оставила стоять где-то посреди ярко освещенного пространства галереи Шона Келли. Непосредственно перед тем, как отпустить меня в свободное плавание, она быстро подняла один из моих наушников и посоветовала мне «двигаться медленно» и «идти знакомиться с соседями». Знакомиться с соседями? Будучи практически полностью слепым и глухим, я не собирался ни с кем знакомиться. Мне никогда не приходило в голову поставить такую цель своего участия в перформансе. Я только хотел ни до кого случайно не дотронуться неподобающим образом и постараться, чтобы на меня не наступили и не нанесли мне какую-нибудь травму.
Чувствуя какую-то бесцельность в своем пребывании в открытом пространстве галереи, я захотел определить свое местоположение и начал двигаться опасливо и медленно, вытянув руки и осторожно исследуя ими пустоту перед собой и по бокам и неспешно скользя ногами по полу, не отрывая их от его поверхности. Вскоре, ощупав некоторые архитектурные части галереи, я обнаружил, что, судя по всему, в зале нет никаких предметов, есть только стены, колонны и, вероятно, остальные участники «Генератора», с которыми я еще не встретился. Наконец, к своему облегчению, я нащупал стену. И остался стоять, упершись в нее спиной. Я чувствовал себя более защищенным, зная, что могу быть подвергнут внешнему воздействию с меньшего количества сторон. А затем, вместо того чтобы ходить как обычно, я инстинктивно осторожно протянул руки сквозь пространство и снова заскользил ногами по полу. Шаркая в этом пространстве, я вспомнил об одном случае, который произошел со мной тридцать лет назад. Я об этом практически забыл. Но воспоминания высвобождались. Конечно, искусство, как прустовская «мадленка», может перенести вас куда угодно.
Вскоре после переезда в Нью-Йорк я собрался в Бруклин на вечеринку – возможно, это был мой первый самостоятельный выезд из Манхэттена на метро. Когда поезд подъезжал к станции, я почувствовал что-то странное. Я не мог понять, что это, но ощутил, что остальные готовящиеся к выходу пассажиры тоже почувствовали, что что-то не так. Даже когда поезд остановился и открыл двери, а мы вышли из безопасных ярко освещенных вагонов, я еще не понимал, что происходит. И только когда двери закрылись, а поезд с ярко освещенными вагонами стал отъезжать от станции, я понял, что на платформе подземки становится всё темнее и темнее…
Прокладывая себе дорогу – шоркая – вдоль голой стены в галерее Шона Келли, я перенесся прямо на ту темную платформу метро, где тридцать лет назад ощутил себя уязвимым и дезориентированным. В «Генераторе» я не почувствовал того резкого страха, который охватил меня, когда мы внезапно оказались запертыми на темной станции бруклинской подземки, но о себе напомнил тот же страх неизвестности. В обоих случаях мои чувства обострились, и я был проникнут нетерпением. Шаркая по цементному полу галереи, я вспомнил, что точно так же передвинул ноги на той платформе и произвел странный и угрожающий звук, который напугал некоторых моих попутчиков.
Мой мозг связал эти ситуации, и каждая из них пробудила во мне что-то глубокое и первобытное – настороженность, которая обычно дремлет где-то в подкорке. Эта проснувшаяся настороженность начисто избавила от забот, которые занимали меня до «Генератора», совсем как на той станции много лет назад: я боялся нападения грабителя, боялся, что обдеру ноги об острый угол деревянной скамейки или головой вниз полечу на рельсы, и они убьют меня ударом электрического тока.
Нахождение в галерее Шона Келли не могло сравниться с тем стрессом и напряжением, но и вызванная «Генератором» сенсорная депривация, и темнота на той платформе без обиняков поместили меня непосредственно в «здесь и сейчас». В «Генераторе» я держался за стену, чтобы почувствовать поддержку и безопасность и сориентироваться в пространстве. На станции в Бруклине я тоже попытался сориентироваться, но при этом понимал, что мне нельзя оставаться на месте. Как только звук уходящего поезда стих и платформа погрузилась в кромешную темноту, люди как будто мгновенно остановились; практически все молчали, словно приходя в себя и осмысляя ситуацию. Слышался шепот и восклицания, кто-то звал попутчиков, а кто-то радовался, что нашел своих, но в целом с отдалением поезда тишина нарастала.
В тихом затемненном пространстве «Генератора» мои ощущения обострились, особенно когда я, медленно продвигаясь вдоль стены галереи, дотронулся до застывшей на месте женщины. Она, подобно скалолазу, который не может пошевелиться и при этом мешает моему движению, дала понять, что я должен продолжить свой маршрут вдоль стены, обойдя ее.
Когда я проходил мимо, мне показалось, что тепло ее тела как будто образовало между нами пузырь. Я ощутил запахи и текстуры: тепло, шерсть, пот и духи. «Генератор» заставил меня полагаться на обычно не используемые в полной мере чувства, и, как будто через громкоговоритель, я услышал непривычный звук собственного дыхания. Я вспомнил, что некоторые посетители безэховых камер – звуконепроницаемых помещений, стены которых полностью поглощают любые звуки, – не могут там долго находиться из-за того, что звуки их собственного сердцебиения и дыхания становятся для них непереносимо громкими. В своих исключительно физических контактах внутри «Генератора» я не имел возможности верно или неверно истолковать выражения лиц других или продемонстрировать свое; там не было визуальных наблюдений или суждений, которые бы меня развлекли или отвлекли. Общение было телесным, непосредственным, максимально локализованным и выраженным только через физический контакт. Я задумался о трудностях – но в то же время об удобствах и свободе слепоты и глухоты; о том, как сильно мы зависим от того, что уже знаем или помним о мире и друг о друге, о том, почему мы воспринимаем всё это как должное. Я понял, как много необоснованных допущений мы позволяем себе, передвигаясь по миру. И я вспомнил героиню книги Энни Диллард «Пилигрим в Тинкер-Крик». Эта слепая от рождения женщина прозрела. Пораженная, она «немедленно захотела рассказать своему слепому другу, что люди совсем не похожи на деревья, и была потрясена тем, что у всех посетителей были абсолютно разные лица».
Еще один участник того же обсуждения описал свой опыт пребывания в «Генераторе» как «немного угнетающий» и «несколько насильственный» и заметил, что он, как ни пытался, не мог сохранить ориентацию в пространстве или пройти по прямой между двух колонн. Будучи практически лишен двух чувств, я старался это компенсировать. И не я один. Сталкиваясь, участники «Генератора» бурно выражали вежливость: за случайным столкновением или прикосновением следовало осторожное извиняющееся касание, означавшее: «Мне очень жаль, что я вторгся в ваше личное пространство и напугал вас», – ответом на которое становилось касание, означавшее: «Всё в порядке, очень приятно с вами познакомиться. Это весьма странная ситуация, не находите?» Так я понял, как быстро речь становится ненужной, словно с радостью сброшенное с плеч бремя.
Проведя в «Генераторе» некоторое время, я столкнулся с участником, который нуждался в контакте и общении так же, как и я сам, а может быть, как и все остальные оплетенные приглушенной темнотой люди. У стены дружелюбная, полная энтузиазма женщина схватила меня за руку и начала трогать. Наша активность резко возросла. Мы отошли от безопасной стены. Мы сомкнули кончики наших пальцев, а затем и ладони. Мы по очереди повторяли, зеркально отражали движения друг друга.
Затем мы взялись за руки и поочередно вели друг друга. Так начался наш танец на бескрайнем полу галереи. Я понял, что для танца нужна музыка. Не страшно: я включил ритм у себя в голове. Женщина умела вальсировать и позволила мне вести и кружить ее по залу. А потом вела она. Как ни странно, мы ни с кем не столкнулись. Потом мы остановились. Шатающиеся, напряженные и потные, под яркими прожекторами, тепло которых чувствовали особенно сильно, мы обменялись прикосновениями к лицам и волосам, обнялись и помассировали друг другу плечи. Несмотря на интимность, наше взаимодействие не приобретало излишней эротичности, хотя в какой-то момент женщина положила мои руки себе на грудь. Это было предложение? Провокация? Вызов? Или просто благодарность, демонстрация близости? Я не знал, ожидает ли она схожего жеста в ответ. Я замер, не убирая трясущихся рук и чувствуя, как ее грудь поднимается и опускается под ними.
И наконец – после того, как ради разнообразия мы немного покатались на полу, – женщина разорвала контакт. Может быть, я обидел ее или, что еще хуже, заставил заскучать? Интересно. Я одиноко стоял на полу галереи и ждал, осмысляя ее отсутствие, ее уход; чувствуя, как мое тело, лишенное контакта с ней и ее прикосновений, начинает охлаждаться, а мои хаотичные мысли замедляются. Я ждал. Я прислушивался к собственному сердцебиению и дыханию. Я вытянул руки в пустоту. Она исчезла. Может быть, кто-то другой займет ее место? Я подождал еще немного. Затем я поднял руку, и другая молодая, элегантная, одетая в черное сотрудница галереи провела меня из зала и раздевалку.
Опыт пребывания в «Генераторе», в отличие от, к примеру, опыта взаимодействия с картиной Матисса, практически полностью субъективен. Один из моих коллег-критиков сравнил его с «игрой против казино». А другая сказала, что чувствовала себя некомфортно и ожидала от «Генератора» большего, но ничего не произошло – «Генератор» оказался недостаточно гениальным, чтобы быть по-настоящему генеративным. Она также предположила, что, возможно, Абрамович слишком знаменита и мы охотно и слепо следовали за ее невероятной известностью художника-перформансиста, словно за гамельнским крысоловом. Безусловно, Абрамович, ее творчеству и школе присуще что-то терапевтическое и даже мессианское. И как только я вовлекся в личное взаимодействие с совершенно незнакомым человеком, я поддался уникальным характеристикам «Генератора» и доверился эксперименту. Я позволил «Генератору» захватить меня и увлечь: слепо, безмолвно и добровольно принял его уникальные дары, одним из которых был элемент чистой случайности – его движущая сила и ахиллесова пята.
Уникальность «Генератора», по крайней мере для меня, заключалась в том, что он создал островок личного пространства, освободительный и скрытый от посторонних глаз пузырь, который изменил мое представление о реальности. Встреча и взаимодействие с той женщиной для меня стали обретением плота в море неизвестности, она была моим спутником в толпе незнакомцев.
«Генератор» пробудил бессознательные, стихийные воспоминания тридцатилетней давности, но он и сам был стихийным опытом. Внутри его моя реальность сводилась к тому, что я был практически лишен зрения и слуха, меня освещал яркий свет и снимали камеры, а за каждым моим движением следили помощники Абрамович. Но реальность, которую я выбрал – реальность в моей голове, – заключалась в том, что мы с участницей-партнером были одни, в личном пространстве, где никто не видел нас и мы сами никого не могли видеть.
Я существовал в опрокинутой реальности. Мое восприятие, пусть и неверное и ребяческое, вернуло меня в детство, напомнило об играх в «понарошку», прятках и «семи минутах в раю». В реальности, которую я воспринимал, я был как ребенок, который – от стыда, из чувства невероятной незащищенности или просто потому, что хочет, чтобы его оставили в покое, хочет исчезнуть, – решает поверить, что если он закроет глаза и уши, то никто его не увидит и не услышит. Внешняя, настоящая реальность заключалась в том, что на меня смотрели, меня снимали и, возможно, оценивали. Но «Генератор» создавал альтернативную, внутреннюю, обманную реальность, в которой мы со спутницей исчезли, будучи у всех на виду. Не имея возможности видеть или слышать, как нас воспринимают, я чувствовал себя необремененным, будто и не было никакого восприятия, кроме моего собственного. Абрамович установила связь с моим внутренним ребенком, за меня закрыла мои глаза и уши и дала мне и моей спутнице возможность побыть одним и без стеснения играть, создавая и исследуя ту реальность, которую мы вообразим своей. Абрамович оставила нас незащищенными, забрав наш страх и даже наше осознание собственной незащищенности.
Однажды профессор писательского мастерства сказал мне, что письмо, так же как и сотворение искусства, подобно прогулке по сцене голышом: писатель и художник должны полностью, хоть и не буквально, оголиться. Но, добавил профессор, секрет в том, чтобы через акт обнажения и разоблачения себя заставить аудиторию не заметить наготу писателя, а почувствовать собственную оголенность и незащищенность. Таким образом, писатель, делая личные признания, становится каналом передачи для всего, что каждый из нас держит в секрете, иногда даже от самих себя.
Абрамович часто выступала обнаженной, но даже будучи полностью одетой, она идет по сцене голой и незащищенной. Даже будучи лишь зрителем ее перформансов, я практически всегда ощущал ее наготу сильнее, чем свою собственную. А в «Генераторе», даже если, как мне кажется, я взаимодействовал и танцевал с самой Абрамович, это глубоко подействовало на меня лично. Я чувствовал свое абсолютное присутствие в моменте. Мое предвзятое мнение о том, чем будет это произведение искусства, ни в коей мере не совпало с реальным опытом, который я-незащищенный прожил нутром. Я усвоил уже выученный урок: искусство, которое требует слепого прыжка веры, уводит в царство неожиданного.
Глава 12
Путешествие
Ричард Серра: Закрученные спирали и эллипсы в Dia: Beacon
Американский скульптор Ричард Серра (род. 1938) дарит нам неповторимый опыт, который объединяет искусство, архитектуру и природу. В движении сквозь монументальные «Закрученные спирали» или «Закрученные эллипсы» Серры – эти массивные, похожие на лабиринты скульптуры из ржавой стали, которые также напоминают места кораблекрушений, песчаные каньоны и огромные ракушки, – есть что-то примитивное, взывающее к глубинным чувствам, сбивающее с толку своей таинственностью. Высокие и покатые двойные стены этих скульптур неподвижны, но кажется, что они отвечают на ваше присутствие, как будто расширяясь и сжимаясь, склоняясь к вам и отшатываясь от вас, пока вы продвигаетесь вдоль них по узким коридорам. Исследуя эти извивающиеся каналы изнутри, я чувствовал себя так, как если бы меня проталкивали по пищеварительному тракту; словно меня сжали в тисках или заперли в лабиринте; будто я похоронен живьем или замурован в пещере. А когда в одиночестве выходишь из узких, покатых тоннелей к их внутренним открытым центральным площадкам овальной формы, где ты сам, свет и пространство вокруг внезапно обретаете освобождение вкупе с защитой, это вызывает ощущение уединения, балансирующее на грани ликования.
Четыре такие огромные скульптуры – «Закрученный эллипс I» (1996), «Закрученный эллипс II» (1996), «Двойной закрученный эллипс» (1997) и «2000» (2000; ил. 11) – установлены в Dia: Beacon Riggio Galleries, музее Dia Art Foundation – коллекции, которая в основном состоит из произведений минималистического искусства, созданных с 1960-х годов до наших дней. Эти четыре массивные скульптуры Серра выстроились в похожем на пещеру бывшем складе компании «Nabisco» с видом на реку Гудзон в городе Бикон, штат Нью-Йорк. Когда я в последний раз смотрел эту экспозицию, свет, лившийся сквозь расположенные ближе к потолку окна, медленно затухал и отблесками каминного пламени скользил по ржавым, испещренным царапинами стальным бокам скульптур. Тени сгущались и удлинялись, и высокие изогнутые стены скульптур темнели. Их оттенки менялись: бархатисто– и желтовато-красные бурели, мерцающие серовато-стальные чернели, а рыжие, золотисто-коричневые и охристые посверкивали красноватыми слезами и золотистыми прожилками.
Так сразу и не скажешь, что Серра, постминималист, промышленный классицист и создатель провокационно-грандиозных, монументальных стальных скульптур, – колорист или романтик. Иногда скульптор работает с огромными свинцовыми заготовками, которые, угрожающе свешиваясь с потолка, рассекают, моделируют и очерчивают пространство. Он создает как будто таящие в себе угрозу стальные ленты внушительных размеров, которые вспарывают ландшафт, как хлестко развернувшаяся на ветру ткань. Двустенные «Закрученные эллипсы» и «Закрученные спирали» Серры сделаны из пятисантиметровых листов прокатной стали, форму которым придали на судоверфи. Каждая из больших, завивающихся скульптур в «Dia» – по меньшей мере четыре метра в высоту и девять в диаметре и весит больше двадцати пяти тонн. Сначала кажется, что Серра больше по душе грубый размах и эффектность, чем деликатность и градации цвета и света, и что он берет свои безыскусные индустриальные материалы прямо из литейного цеха. Но, перемещаясь среди змеящихся чудищ Серры, понимаешь, что ржавчина, бархатистым налетом покрывающая квадратные метры их боков, прекрасна, что свет играет с ней, порождая практически все из существующих оттенков земли и огня, и что интимность и таинственность в скульптурах Серры на равных правах соседствуют со зрелищностью, провокационностью и грандиозностью.
Уроженец Сан-Франциско, Ричард Серра вырос среди песчаных дюн, а в студенческие времена проводил лето, работая на стройплощадках сталелитейной компании «Bethlehem steel» заклепочником, – он вставлял раскаленные заклепки в отверстия на стальных балках (отец Серра работал на судоверфи во время Второй мировой войны). Серра получил степень бакалавра по английской литературе в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре и профессионально занимался серфингом. Скульптуры Серры навевают воспоминания о песчаных дюнах, своевольных волнах и необъятном, вздымающемся и опадающем теле океана. Получив степень бакалавра изобразительных искусств Йельского университета, Серра путешествовал по Европе, Египту и Японии.
Серру влекли биоморфные субстанции, скульптуры Константина Бранкузи; скрученная мускулатура созданных в пятнадцатом веке скульптур Донателло; и «эллипс Борромини», который Серра увидел в Сан-Карло алле Куатро Фонтане в Риме – церкви семнадцатого века, где архитектор Борромини дублировал овал пола овалом потолка. Всё это оказало значительное влияние на фирменные «Закрученные эллипсы» и «Закрученные спирали» Серры. Кроме того, на творчестве скульптора отразился опыт посещения древнеегипетских храмов и гробниц, которые впечатляют не столько занимаемым пространством, сколько его переосмыслением, скульптурированием, использованием, а также своим взаимодействием с песками Сахары, водами Нила и небом. Помимо этого, Серру вдохновляли японские сады, сквозь которые вы проходите дугами и кругами, и они открываются вам через движение, пространство и время, а также память, природу, искусство и ожидание.
Серра решил бросить живопись и стать скульптором после того, как увидел «Менин» (1656) Веласкеса в Прадо. Такая реакция может показаться странной, ведь «Менины» считаются апогеем европейской живописи, но Серру на этой картине впечатлило пространство – а именно то, как на зрителя проецируется иллюзионистский интерьер полотна. В «Менинах» Веласкес написал себя у мольберта за работой над семейным портретом, и Серра понял, что он сам, а не королевская семья – главный предмет изображения, что Веласкес смотрит на него. Этот ошеломляющий подход к пространству произвел на Серру глубокое впечатление, и он заинтересовался скульптурой, снятой с пьедестала, – не созданием статуй и их размещением, но организацией осязаемого пространства и интерактивной среды.
Чтобы принять и полюбить задумки Серры, потребуется время. На экспозиции в Dia: Beacon я сначала подумал, что четыре скульптуры выглядят как гигантские накренившиеся пни и что они, по сути, не отличаются друг от друга. Но вскоре я понял, что, хотя каждая из них может существовать как самостоятельное произведение искусства, вместе они подобны тематической композиции. Подобно деревьям, эти скульптуры в любой момент как будто готовы перерасти выделенное им пространство. Кренящиеся то в одну, то в другую сторону, большие овальные скульптуры кажутся живыми: они будто поигрывают мускулами, запугивая и нейтрализуя окружающее их пространство. Но становится ясно, что Серра не подавляет пространство, а созидает его – что он создает путешествия, в которых каждый элемент, будь то сталь, свет или воздух, взаимодействует со зрителями и обладает физическим присутствием и ощутимым напряжением. Со временем – когда скульптуры стали словно пробуждаться и потягиваться – я почувствовал, что нахожусь не в галерее, наполненной стальными объектами, но прохожу по клетке между четырех гигантских чудовищ.
Со временем скульптуры Серры начинают казаться более мирными и не такими угрожающими. Подобно японским садам, «Закрученные спирали» играют с памятью и ожиданиями озадачивающим, удивительным образом. Нас удивляет их бесконечное разнообразие. Если смотреть на скульптуры издалека, они могут показаться громоздкими и инертными. Но они втаскивают нас внутрь, как водовороты, заставляют выделывать всё новые и новые восьмерки вокруг их будто бы непрерывных фасадов. Поняв, что внешняя оболочка каждой скульптуры уникальна и что неожиданно перед вашими глазами появилось отверстие, чем-то схожее с возникающим между двумя скакалками в дабл-датч, вы решаетесь войти.
Внешняя оболочка каждого «Закрученного эллипса» в Dia: Beacon расщеплена только в одном месте узкой, высотой с человека, щелью и заставляет вас зайти и выйти в одном и том же месте. Каждый такой вход смотрит в определенном направлении: запад, юго-восток, юго-запад или восток. У входов стены эллипсов отклоняются в разные стороны, как будто выплескиваясь наружу от самого основания или падая на зрителя. Заходя внутрь, вы как будто мобилизуетесь, стараясь убедиться, что этот карточный домик стабилен, потому что скульптура, вызывая головокружение, уже начинает выводить вас из равновесия и даже заставляет усомниться, что пол ровный.
Глядя на скульптуры снаружи, вы ожидаете, что изнутри они будут полыми. Но, заходя внутрь, вы немедленно понимаете, что скульптуры Серра, составленные из высоких изогнутых коридоров разной ширины, спиралью сходятся к собственному центру. Стены коридоров как будто грозятся вас раздавить, и вас, слегка покачивая, толкает вперед, а затем наружу. Вы чувствуете себя так, словно управляете качающимся на бурных волнах кораблем. Серра привносит во внутреннее пространство своих скульптур заряженную атмосферу, которая временами как будто трансформирует пустоту в объем. Кажется, что вы находитесь внутри кубистской или конструктивистской скульптуры. Иногда пятисантиметровые стальные стены слегка отрываются от пола, как будто поднимаясь и присаживаясь в плие; солнечный свет украдкой заглядывает через стены скульптур сверху и снизу, вливается, как прибой, темнеет силуэтами на высоких красноватых фасадах и разрезает серо-зеленый цементный пол своей острой, яркой белизной.
Продвигаясь между изогнутых стен, кренящихся, расширяющихся и сжимающихся коридоров и открытых пространств, я чувствовал себя словно крот, всё глубже и глубже роющий нору в пустотах скульптуры. Это было похоже на исследование пещер или древних гробниц. Последний раз я чувствовал подобную жажду тайн и приключений внутри произведения искусства, когда двигался сквозь проход, соединяющий погребальные залы Великой пирамиды в Гизе.
Когда я одиноко стоял в «Dia», во внутреннем пространстве одной из скульптур Серры, и разглядывал пару окруженных ореолами пятен под царапинами, напоминающими длинные диагональные отметины от когтей или пиктограммы дождя, я чувствовал себя так, словно видел древние знаки. Я ощущал, что нахожусь не в произведении современного искусства, не в древней гробнице и не на природе, но в каком-то странном соединении того, другого и третьего. И я пережил нечто сродни тому, что испытывал раньше во время долгих послеполуденных прогулок по лесу, когда мои чувства обострялись, а притихшее пространство темнело, становилось прохладнее, насыщеннее и как будто пробуждалось, готовясь раскрыть свои секреты. В этот миг, когда солнце еще высоко, но на лес уже наступают сумерки, в этот смутный миг, когда тени удлиняются и природа четко очерчивает прежде невиданные вами вещи, лес – как в пещере, древней гробнице или скульптуре Серры – заставляет вас выбирать между привычным самоустранением и даром открытия.
Глава 13
Провокация
Роберт Гобер: Нога без названия
В черно-белом фильме Альфреда Хичкока «Не тот человек» (1956) – правдивой истории о невиновном человеке, которого ошибочно обвинили в ограблении, – есть короткая, вызывающая приступ клаустрофобии сцена в тюремной камере. В этой сцене Генри Фонда – заурядный американец – заперт в полном одиночестве, и факт неправомерности его заключения овладевает всем его существом. Хичкок дает Фонду крупным планом, не отпуская, напряженно фиксируя каждую деталь.
Нам крупным планом демонстрируют сильно затемненную камеру и голову внимательно рассматривающего помещение Фонды в обрамлении решетки. Хичкок показывает камеру фрагментарно, как пазл, который всё никак не сложится: проволочная клетка; покрытые трещинами обшарпанные стены и темные углы; железные прутья и изгибающаяся сетка их теней; сжатые кулаки Фонды; его ноги, шагающие по полу. В завершение сцены камера Хичкока сосредотачивает внимание на лице актера, поднимаясь и опускаясь, как морские волны, которые затягивают на глубину, ускоряясь и вращаясь, подобно выходящей из-под контроля психике Фонды.
Однако самый пронзительный и тревожный кадр сцены, длящийся всего несколько секунд, сфокусирован на висящей на стене белой фаянсовой раковине. В отличие от скамьи или койки, которая представляет собой просто приделанную к стене доску без матраса, раковина – узнаваемый предмет домашнего обихода. Он должен бы действовать успокаивающе. Но эта раковина такая чистая, пустая, странная – если не сюрреалистичная, – потому что, хоть она и намекает на домашний уют, ее гладкая форма и яркая белизна поверхностей вопиют об обратном. Словно бы лишенная крана, ручек и куска мыла, раковина выглядит голой, безликой и никуда не годной.
Тюремная раковина Хичкока, которая производит такое сильное впечатление исходящим от нее унынием и расползающимся безмолвием, как мне кажется, побудила американского скульптора Роберта Гобера к созданию его лучшего произведения. И не только потому, что Гобер иногда работает с настенными белыми раковинами.
Гобер (род. 1954) переворачивает реди-мейд Дюшана – найденный или купленный в магазине объект, экспонируемый как искусство, – с ног на дадаистическую голову. Работая с нуля, художник и его ассистенты тщательно воссоздают знакомые бытовые объекты, например одноразовые подгузники, газеты, женские коньки из белой кожи и белые фарфоровые раковины и унитазы, делая их произведениями искусства, которые, хотя они и не обладают абсолютно никакой практической пользой, иногда совершенно неотличимы от товаров массового производства, вдохновивших их создателей.
Порой Гобер увеличивает эти неореалистские объекты, например пачку сливочного масла без обертки, до гаргантюанских размеров; или вырезает маленькое окно почти под потолком галереи, подсвечивает его так, словно за ним виднеется голубое небо, а затем устанавливает на нем решетку, трансформируя музей в тюрьму как для посетителей, так и для искусства. А бывает и так, что художник совмещает обыденные формы – такие как фарфоровая раковина и штакетник; раковина и надгробие; раковина и мужской торс; мужской торс и свечу; кресло и канализационную трубу; треугольный кусок швейцарского сыра и туфельку, из которых прорастают человеческие волосы. Эти скульптуры быстро превращают заурядное в сюрреалистичное и обратно. Похожего эффекта можно добиться, если зажечь спичку и потушить ее, а затем, как по волшебству, чиркнуть ею еще раз и снова зажечь.
Помимо «Фонтана» (1917) Дюшана – белого фарфорового писсуара-скульптуры, – на Гобера также повлияли классические сюрреалистические произведения искусства, такие как «Завтрак на меху» (1936) Мэрет Оппенгейм – чайная чашка, блюдце и ложка, покрытые мехом, а также реалистичные, сделанные в натуральную величину (хоть и не живые) человеческие фигуры работы одного из ярчайших скульпторов-реалистов 1970-х Дуэйна Хэнсона. Его гиперреалистичные имитации в традиции Мадам Тюссо отлиты с живых людей (тучных туристов и смотрителей музеев); благодаря настоящим волосам, веснушкам, реквизиту и одежде эти скульптуры вызывают смутную тревогу и желание приглядеться получше. Но если скульптуры Хансона так сильно и бездумно сосредоточены на подражании своим объектам, заводя отношения произведения искусства и зрителя в тупик, то реалистичные фигуративные головоломки Гобера раздражают, одурачивают и нервируют, сбивают нас с толку.
Гобер создал множество версий «Ноги без названия» (1989–1990; ил. 12). Но первое воплощение – как и в случае Дюшана, самое свежее и оригинальное – лучшее из того, что после стало его фирменными восковыми скульптурами ручной работы в натуральную величину в виде отрезанных частей человеческого тела. Эти объекты вызывают в воображении картины морга, операционной, комнаты смеха и лаборатории сумасшедшего ученого. Они также отсылают к этюдам французского живописца девятнадцатого века Теодора Жерико, изображающим отрубленные конечности; к сюрреалистичным, осмысляющим половое созревание куклам-девушкам немецкого художника Ханса Беллмера; к этюдам Ван Гога, запечатлевшим его собственные поношенные кожаные башмаки; и даже к человеческим протезам.
В равной мере талантливый в организации проказ и пространства, будучи тем еще пранкером и провокатором, Гобер знает, как остроумными и эксцентричными выходками достичь максимального эффекта. «Нога без названия» наводит на мысль об отрезанной ноге трупа или, к примеру, протезе, оставленном так для розыгрыша, и даже о реальной человеческой ноге, высовывающейся из дырки, вырезанной в стене галереи. Она также напоминает мне Злую Ведьму Востока, которую придавило домом Дороти так, что остались только ноги от голени до пят.
Скульптура, которая в 2014–2015 годы была выставлена на ретроспективе Гобера «Сердце – не метафора» в Музее современного искусства, представляет собой сделанный из воска муляж мужской правой ноги, отрезанной ниже колена и торчащей из белой стены галереи на уровне пола. Из ноги торчат настоящие человеческие волосы, на ней темно-серая брючина, светло-серый носок и старый коричневый кожаный башмак, указывающий носком в потолок. Нога слегка вывернута наружу, как будто она расслаблена или упала, или как если бы владелец ноги как раз засыпал, и тут стена разрезала ее надвое. Серая брючина подвернута и слишком коротка; она открывает взгляду широкую полоску волосатой бледной плоти, указывая на то, что на ее бедняге-владельце надеты дешевые поношенные брюки, которые ему коротки.
«Нога без названия» оставляет ощущение насмешливо-ироничной непристойности, которое дополняли другие произведения Гобера на выставке в MoMA, например «Без названия (Мужчина, выходящий из женщины)» (1993–1994). Эта чудовищная скульптура Гобера, сделанная из воска, человеческих волос и кожаного ботинка, связывает «Ногу без названия» с двумя известными живописными полотнами – эротическим шедевром Курбе «Начало мира» (изображенные крупным планом женские гениталии) и сюрреалистической картиной Рене Магритта «Пронзенное время» (дымящий паровоз, выезжающий из камина). Произведение «Без названия (Мужчина, выходящий из женщины)» – волосатая мужская нога без штанов, но в носке и ботинке, которая вылезает не из камина, а из вагины сделанного из воска обнаженного женского торса. На выставке в MoMA эта скульптура была приделана к полу в одном из углов галереи.
Сама по себе «Нога без названия» кажется скорее жалкой, чем вульгарной или непристойной. Единственным расположенным поблизости от нее произведением искусства был неглубокий пустой шкаф без дверей, врезанный в стену галереи. Как и «Нога без названия», шкаф был усеченным, ненужным, безнадежным и брошенным – хотя он при этом как будто балансировал на грани извращения.
«Нога без названия» также казалась весьма безжизненной. Но ведь бездействие – часть движущей силы скульптуры, ее ироничной шутки, которая, как и все репродукции живых объектов, достигает апофеоза, когда вы напрасно ждете, пока она придет в движение, думая, что если терпеливо стоять, наблюдать и ждать – как вы и сделали бы, если бы увидели серебряную монету, приклеенную к половице, – то вы увидите столь же озадаченную реакцию других зрителей. Различные ассоциации, которые вызывает «Нога без названия» – включая винтажные протезы, скульптуры сюрреалистов и дадаистов и смотровые окна, – позволяют унылой, придурковатой простоте и комической ненужности данной работы вобрать в себя идею реди-мейда, выйти за ее пределы и даже посмеяться над этим понятием. Эти качества накапливаются в геометрической прогрессии, многократно усиливая исходящее от скульптуры ощущение иронии и умалчивания, которое, особенно в общем контексте выставки «Сердце – не метафора», пронизывают «Ногу без названия» томительной меланхолией и раздражением как от зудящего укуса, который не почесать. Возможно, это и делает скульптуру Гобера своего рода фантомной конечностью современного искусства.
Глава 14
Превращение
Ричард Таттл: Белый шарик, синий свет
Инсталляция «Белый шарик, синий свет» (1992; ил. 13) Ричарда Таттла, показанная в рамках ретроспективы в Музее американского искусства Уитни, состояла из надутого белого шарика, прикрепленного на стыке белой стены и голубоватого пола галереи. Прозаический парадокс: шарик был слишком тяжел, чтобы сдвинуться даже от поднятого прохожими ветра, и он просто упал, осел на пол и, прижимаясь к стене, умирал. Колеблющаяся, нарисованная карандашом линия, похожая на неподвижную обвисающую нитку, ползла вверх по стене, привязывая шарик к высокому потолку. Эта линия заставляла посмотреть наверх, будто устремляя взгляд на крышу, с которой только что спрыгнул или упал человек. Таттл осветил эту сцену тусклым синим светом, напоминавшим о ложащихся на снег сумерках, – светом, который как будто бы тоже медленно умирает. Невдалеке разместили несколько других небольших работ Таттла – картин и барельефов (от каждого из этих экспонатов шла к потолку одинокая карандашная линия), рядком прикрепив их к этой же стене всего в паре сантиметров над полом. Они висели там, как неподвижные воздушные змеи в безветренный день. Увидеть эти сиротливые работы можно было, только опустившись на колени, как будто присев над жертвой несчастного случая.
«Белый шарик, синий свет» обладал зафиксированностью фотографии, но такой, через которую можно перемещаться. Казалось, что галерея – опустевшая сцена и воздух на ней абсолютно неподвижен, как будто тяжесть и апатия затопили помещение, и шарик, налившись свинцом, больше не может сдвинуться с места. Нарисованная «нитка» указывала на то, что шарик взлетел настолько высоко, насколько это было возможно (и таким образом, как ни парадоксально, опустился на самое дно). Вместе с другими произведениями искусства элементы инсталляции Таттла – шарик, линия и синий свет – создали инверсию, поставили галерею с ног на голову, и она тревожно застыла. Это напомнило мне эпизод «Сумеречной зоны», в котором люди брошены среди остановившихся часов в неподвижном мире.
Ричард Таттл родился в городе Роуэй, Нью-Джерси, в 1941 году. Он изучал искусство, литературу и философию и в последние годы делит свое время между Нью-Мексико и Нью-Йорком. Его считают постминималистом, работает он с аналоговыми мультимедиа, используя обрывки веревки, проволоку, различные обломки и текстиль в скульптурах, ассамбляжах, коллажах, инсталляциях, рисунках, живописи или самодельных книгах, и часто вместе с другими материалами экспериментирует также со светом и тенью.
В 1975 году Хилтон Креймер, художественный критик The New York Times, написал следующее о первой выставке Таттла в Уитни: «Искусство Таттла представляет собой решительное опровержение знаменитого принципа Миса ван дер Роэ „меньше – значит больше“. Ведь в искусстве мистера Таттла „меньше“ несомненно значит „меньше“. Оно и в самом деле бессовестно и безнадежно „меньше“. Оно устанавливает новый стандарт ничтожности, глубоко погружается в ее пустоту. Хочется сказать, что с точки зрения искусства „меньше“ никогда не было меньше».
Разгромный отзыв Креймера оставил куратора судьбоносной выставки Маршу Такер без работы, но обеспечил Таттлу место на карте минимализма. И действительно, Таттл известен тем, что по максимуму использует минимум – найденные объекты и мусор, и что иногда он делает ничтожное еще ничтожнее. Но Таттл работает в рамках строгой эстетической традиции, которая восходит к ранним кубистам Браку и Пикассо, немецкому коллажисту Курту Швиттерсу; американцам Колдеру, который создавал скульптуры, напоминающие игрушки и функционирующие как игрушки, а также затейливые и убедительные портреты из проволоки, и Джозефу Корнеллу, автору волшебных, сказочных коробок-ассамбляжей, – все они превращали мусор во впечатляющие произведения искусства.
Таттл тоже заклинатель обыденности, всякой всячины, рутины, счастливого случая. Он работает, порой блестяще, с проволокой, мусором. Он – один из первопроходцев распространенной современной практики создания ассамбляжей, когда груды всякого хлама стаскивают в студию или галерею и собирают в огромные, расползающиеся во все стороны монстры-инсталляции из вещей, которые до этого, вероятнее всего, в основном были мусором. В своих лучших проявлениях, к примеру, у таких американских мастеров, как Корнелл и Джессика Стокхолдер, найденный объект обретает в ассамбляже удивительную, тотемную силу, превращаясь из мусора в золото.
Однако Таттл обычно двигается скорее в сторону вычитания, нежели прибавления. Преувеличению своих идей он предпочитает практически неуловимый шепот, сдержанность. Этот художник оказывается на высоте, когда сводит свои работы к нескольким избранным элементам. Таттл обращает наше внимание на чистоту и красоту прозаичного, ненужного, ничтожного и не принятого в расчет. Иногда, подобно реди-мейду Дюшана, произведение Таттла значит чуть больше, чем простое указание на прелесть небольшого истрепанного узорного обрывка обоев или ткани. Но творения Таттла подкрепляют друг друга и поэтому лучшего эффекта достигают сообща: наблюдая их скопление, можно получить более широкое представление о философии автора.
В своих лучших проявлениях Таттл – игривый алхимик, небрежный поэт коллажных хайку, художник, чей подход «меньше – значит больше» доводит «меньше» до абсолютного предела, но также полностью фокусирует внимание зрителя на великолепии и монументальности мелочей. У Таттла, чья беззаботность является его эстетическим оплотом, «меньше» не всегда значит «больше»; но его особое «меньше», привлекающее к себе необходимое количество внимания, уверенно переходит в то пространство, где «меньше» становится чем-то совсем иным, чем просто «меньше».
Именно там, в мире «меньшего», Таттл – властелин, глашатай незначительных происшествий и приятных мелочей, их освободитель. Произведения Таттла, если дать им шанс, заставляют нас сузить внимание до микроскопической шкалы, замедлиться до передвижения ползком, вобрать в себя минималистичнейшие кусочки и взаимодействия и принять во внимание мельчайшие нюансы их ритмов, движений, узоров, поверхностей, текстур, все характеристики их лилипутского бытия. Среди прочих художников только Колдеру удалось так действенно обратить мое внимание на игру теней на скульптурах.
Когда вы заходите на выставку Таттла и впервые осматриваете галерею, вам может показаться, что вы на выставке работ дошкольников или что экспозицию еще не до конца установили. Но по мере того как вы приближаетесь к экспонатам, Таттл заставляет вас задуматься об отверстиях в порванной бумаге; о различиях в весе и изменениях цвета пересекающихся теней под кусками картона; об игре форм произведения и его отражений в стеклянной витрине, в которой оно заключено; о шероховатой, податливой поверхности стены галереи, вздувшейся от множества слоев шпаклевки и дешевой белой краски. Таттл заставляет задуматься о плавности линий и оттенках древесных волокон, об обтрепанных шерстинках, торчащих из куска шпагата, о гранях и бликах мятого целлофана и о разнообразии белых, серых и кремовых оттенков смятой в шарик белой бумаги.
В работе «Третий кусок веревки» (1974) Таттл наделяет семи с половиной сантиметровый обрезок белой хлопчатобумажной веревки, расположенный горизонтально и в трех местах пригвожденный к белой стене, скрытой силой, которая, если правильным образом ее вложить – и в этом ключ, – пробуждает ассоциации с жестокостью акта распятия и культовым крестом. А в другом произведении – «Белый шарик, синий свет» – овальная тень, лежащая на полу у подножия шарика, является важнейшим элементом инсталляции. Тень представляет собой плоский черный контур, который отражает объемную форму белого шарика, в то же время контрастируя с ней; он как якорь оттягивает восходящую карандашную линию, закрепляя шарик, прижимая его к стене.
После посещения выставки Таттла я обнаружил, что вновь обрел терпимость к определенным вещам, и зачарованно наблюдаю за ними: вот муха трет ножкой об ножку, вот цветные узоры и текстура цемента и пробковой плиты, а вот акробатические, неожиданные изгибы использованной зубной нити. То, что произведение искусства сделано из обыкновенных материалов, – напоминает нам Таттл, – не значит, что в нем не может быть трансформаций, что повседневность не может усилить нашу осознанность.
В необходимом контексте простой шарик может преобразовать целую комнату и превзойти самое себя. В «Белом шарике, синем свете» Таттл заключил в нескольких бытовых предметах приступ меланхолии и ощущение окончания праздника, которые овладели мной – нечто эмоционально тяжелое, берущее начало в обыденных и физически легких вещах.
Стоя на выставке Таттла в Уитни, я сначала не стал приглядываться к маленькому белому воздушному шарику, затопленному синим светом, думая, что это всего лишь ироничный каламбур, но потом меня осенило: как часто все мы упускаем последнюю возможность, слишком поздно понимая, что музыка больше не играет, что уже включают свет, и тот человек, с которым мы надеялись потанцевать, уже ушел… а потом мы внезапно приходим в чувство, отрезвленные вспышкой света, и с резким, неконтролируемым выдохом из наших легких вместе с воздухом как будто уходит надежда, и мы чувствуем себя брошенными, пустыми, одинокими, не способными, как шарик Таттла, подняться, сдвинуться с места? Я, наверное, проецирую? Да, и, возможно, даже слишком. Но «Белый шарик, синий цвет» – действительно одна из самых впечатляющих инсталляций Таттла из тех, что я видел, и именно потому, что я не ожидал такого эффекта, и потому, что она увлекла меня и внезапно раскрыла свою глубину и юмор. Эта инсталляция оставила у меня ощущение смутной тоски.
Инсталляции Таттла исследуют границы между произведением искусства и окружающей средой, постоянно смещая и переосмысляя пределы того, насколько далеко может зайти произведение. Отчасти сила белого шара Таттла и его мягкого синего света заключалась в расположении в сравнительно открытом, холодном пространстве старой, пустынно-белой галереи Уитни на Мэдисон-авеню, которое усиливало ощущение ничтожности, одиночества и исчерпанности, ощущение того, что если хорошие времена и не прошли окончательно, превратившись в плохие, то просто остались в подвешенном, игривом состоянии вечного ухода.
Глава 15
Погружение
Джереми Блейк: Винчестерская трилогия
Когда художник-постановщик экспериментальных фильмов Джереми Блейк покончил с жизнью в июле 2007 году (за десять дней до этого он узнал, что его девушка Тереза Дункан – гейм-дизайнер и критик – совершила самоубийство в их ист-виллиджской квартире), мир искусства лишился визионера – художника-абстракциониста и создателя сюжетно-тематической живописи, который пользовался экраном как движущимся холстом.
Блейк родился в 1971 году в Форт Силл, Оклахома, а учился в Чикагском художественном институте и в Калифорнийском институте искусств. За несколько лет до смерти художника его работы включили в три биеннале в Музее американского искусства Уитни, кроме того, Блейк удостоился персональных выставок в Музее современного искусства Сан-Франциско и мадридском Центре искусств королевы Софии. Блейк получил известность в первую очередь благодаря примерно двум десяткам фильмам, но, помимо этого, он увлекался живописью, коллажами и цифровой хромогенной печатью, а в 2002 году сделал видеоряд и художественные образы для альбома Бека «Sea Change», а также галлюцинаторные абстракции для фильма Пола Томаса Андерсона «Любовь, сбивающая с ног». Незадолго до смерти Блейк совместно с Малкольмом Маклареном (бывшим менеджером британской панк-группы «Sex Pistols») работал над незаконченным фильмом «Glitterbest» – легкомысленной, ребячливой комедией, которая высмеивала поп-культуру, а также взлет и падение Британской империи.
Сказать, что Блейк, калейдоскопические фильмы-коллажи которого погружают нас в сказочную, полнокровную психоделику 1960-х и 1970-х, держит руку на пульсе поп-культуры – хоть это и верно в определенной степени, – значило бы приукрасить его отношения с поп-артом и китчем, тем самым преуменьшив особую, индивидуальную поэтичность его искусства. Для любого человека, жившего в то время; для любого, испытывающего ностальгию по опьяняющей смеси гедонизма, социального радикализма и ретрошика середины века и по его галлюциногенной цветовой палитре; для любого, кого хотя бы чуть-чуть да зацепили фильм «Остин Пауэрс: шпион, который меня соблазнил», фильмы Квентина Тарантино и сериал «Безумцы», просмотр фильмов Блейка похож на пьянящее, томительное погружение в наше техниколоровское прошлое.
Цифровая палитра импрессионистических фильмов Блейка – напряженная, вихрящаяся. Посмотрев на эти эклектичные, вдохновленные «живописью цветового поля» капли, мазки, подтеки и вспышки, ощущаешь себя таким взвинченным, как будто сидишь на стероидах. Эти перенасыщенные цвета, пронзающие, как боль от глотка ледяной воды, стремятся буквально выжечь каждое изображение на вашей сетчатке.
Неоновые цвета Блейка растекаются, сливаются со смазанными изображениями оттенка сепии: кадрами расистских мультфильмов середины века, Ковбоем Мальборо, детскими рисунками, сексуальным пинапом, викторианской архитектурой, рекламой, указателями, поп-иконами и звездами кино, обволакивая эти образы и соперничая с ними. В видео Блейка под мрачные саундтреки из старых научно-фантастических фильмов, музыку Боба Дилана и Rolling Stones появляются символ журнала Mad, Альфред Нойман, Джордж Бернс в образе Бога, Твигги, Дракула, ковбои, плейбойские зайчики и ангелы. Персонажи Блейка входят, выходят, мелькают и растворяются в текучих коллажах, словно джинны, превращаются в дым или сливаются с мерцающими полями тающих полотен Сони Делоне и Ротко.
Фильмы Блейка – сюрреалистичная смесь прошлого и настоящего, воспоминания и фантазии, они полны восторженной ностальгии и, кажется, подпитываются прямиком из потока сознания. В этих фильмах на фоне часто слышатся щелчки и жужжание кинопроектора, скрежет и дребезжание грампластинки – ритмические искажения, которые отсылают к теплу и комфорту периода аналоговых проигрывателей, и продвигают эти ленты одновременно в будущее на экране и в прошлое во времени.
Блейк отлично сочетает детские и взрослые фантазии. «Алиса в Стране чудес», конфеты «Life Savers», хлопья «Froot Loop», пистолеты, спортивные машины, ведущие актеры, модели в бикини, гаргульи, обои с ворсистым рисунком, изображающие космос мерцающие отблески света, звуки музыки кантри и завывание слайд-гитар, телевизионная трансляция прилунения – всё это вперемешку погружает нас в калейдоскопический сон. Кажется, что мысли Блейка – цветные. В его фильме «Sodium Fox» (2005), созданном совместно с поэтом и певцом Дэвидом Берманом, слышны слова «стразовый осьминог» и «свитер всех цветов желе „Jell-O“». В «Читая Осси Кларка» (2003) фрагменты дневников британского модельера одежды зачитываются вслух в очень выразительной закадровой озвучке. Строка из песни Rolling Stones «she comes in colors» вливается обратно в рот говорящей женщине жидкой радугой, словно текущий вспять водопад.
В 1970 году мне было восемь, и если в те годы вы часто ходили в кино, то наверняка отлично помните восемнадцатисекундный фильм-интерлюдию – стильный, яркий, радужный смерч, движущийся под аккомпанемент бодрой джазово-роковой мелодии в исполнении духовых и ударных, – который анонсировал грядущие развлечения и показы новых фильмов. Этот красочный гипнотический водоворот обещал погружение в новую историю. Этот короткий вступительный ролик – который, казалось, был придуман обкурившейся корпоративной экспертной группой и на который мы с друзьями реагировали, топая ногами в расклешенных джинсах, – подходил, пожалуй, только фильмам вроде «Беспечного ездока» или «Барбареллы», но старые киноленты из-за него казались такими же хипповыми, как мужчина средних лет в варенках: он делал новинки гораздо более пижонскими, чем они были на самом деле.
При просмотре фильмов Блейка я часто думал, что эта психоделическая интерлюдия из 1970-х засела где-то в его энциклопедической памяти или, может быть, его подсознании. Ясно, что Блейк обращался к разным источникам – от Оскара Уайльда до «Космических захватчиков». Возможно, этот ролик входил в репертуар Блейка, наряду с возбуждающими трейлерами фильмов о Джеймсе Бонде, которые всегда заканчиваются выстрелами агента 007 из «Walther PPK» и растекающейся по всему экрану лужей крови. А может быть, этот ролик с его цветовыми завихрениями, похожими на черно-белые «центрифуги» из телешоу 1960-х «The Time Tunnel», – стал для Блейка точкой отсчета или лейтмотивом фильмов.
В своих фильмах Блейк снова и снова возвращается к зеркально-симметричным абстрактным образам. Очертаниями они похожи на бабочек и отсылают к тесту Роршаха: сливающимся друг с другом радужным цветовым подтекам, в которых появляются и исчезают изображения людей и вещей. Когда я вижу этих разноцветных бабочек в фильмах Блейка, я вспоминаю – а порой меня туда просто переносит, – как, сидя в бордовом бархатном кресле в викторианском эстрадно-театральном кинозале своей молодости, я смотрел рекламные ролики.
Самый длинный и амбициозный кинопроект Блейка – «Винчестерская трилогия» (2005) – почти часовая работа, состоящая из трех отдельных фильмов: «Винчестер» (2002; ил. 14); «1906» (2003), о землетрясении 1906 года в Сан-Франциско, разрушившем дом Винчестеров (тема фильма), и «Век 21» (2004), о футуристичном здании компании «Cineplex», построенном рядом с домом Винчестеров. Фильм снят на 8-миллиметровой кинопленке с добавлением статичных 16-миллиметровых снимков старых фотографий и сотен рисунков тушью и прошел сложнейший процесс покадрового цифрового монтажа и ретуши. Уитменовская по тематике и масштабу, «Винчестерская трилогия» рассказывает о таинственном доме Винчестеров в Сан-Хосе, Калифорния, – сюжете, всеохватность и эксцентричность которого Блейку подходит просто идеально.
В строящемся доме Сары Винчестер, вдовы оружейного магната Уильяма Уирта Винчестера, огромном, разросшемся во все стороны, похожем на лабиринт викторианском доме около ста шестидесяти комнат, километры коридоров, тысячи окон, множество потайных ходов, а также огромное количество дверей и лестниц, которые резко и опасно обрываются или ведут в никуда.
Сара купила восьмикомнатный дом в Сан-Хосе, чтобы уехать подальше от ураганов в Нью-Хейвен, Коннектикут: они пугали женщину в годовщины похорон мужа и новорожденной дочери. Говорят, что Саре явился призрак мужа и сообщил, что если она не последует его указаниям, то ее всегда будут преследовать призраки всех убитых из винчестера. Чтобы умилостивить мертвых, вдова Винчестера должна была предоставить убежище для их духов в своем доме. И ей нельзя было завершать строительство.
Сара облачилась в траур и вместе со слугами заперлась в доме, который получил известность как таинственный дом Винчестеров – место, где и днем и ночью что-то происходило, включая, по слухам, появление привидений и, конечно, бесконечные строительные работы. Из-за необходимости не останавливать строительство особняк всё разрастался. Внешние стены стали внутренними, окна располагались в полу и потолке, а крыши становились полом. Вдобавок ко всему этому в начале 1960-х невдалеке от дома Винчестеров построили три напоминающих летающие тарелки кинотеатра – «Century 21», «Century 22» и «Century 23». А сегодня этот дом – туристический объект, и за вход нужно платить.
Возможно, «Винчестерская трилогия» осмысляет не только непроницаемость таинственного дома Винчестеров и его противопоставленность соседним футуристичным кинотеатрам-звездолетам, но и таинственность самой Америки. Фильм «Винчестер» начинается и заканчивается фотографиями открыток экстерьера окруженного пальмами дома, «1906» фокусируется на исследовании интерьеров особняка, а «Век 21» сосредотачивает внимание на кинотеатрах-звездолетах. Создается впечатление, будто мы смотрим на мир с трех разных накладывающихся ракурсов.
Тонущие в сепии и серо-голубом фотографии экстерьера таинственного дома застыли где-то между великолепием викторианского богатства и руинами, в которые особняк когда-то превратило землетрясение. Блейк слегка наклоняет эти изображения на открытках, так что дом как будто соскальзывает с фундамента или идет ко дну, словно тонущий корабль. Жутковатые звуки в фильме варьируются от шума кинопроектора и саундтреков из научно-фантастических триллеров и нуара до электронного синтетического эмбиента 1970-х и долгих резких пассажей из великого марша Джона Филипа Сузы «Звезды и Полосы Навсегда».
Изображения американского флага появляются и растворяются, а в фильме «1906» кадры дрожат и трепещут, словно при землетрясении, которое чуть не разрушило таинственный дом и едва не убило миссис Винчестер, на много часов замуровав ее в спальне. В фильме Блейка мелькают расплывчатые силуэты ковбоев с винтовками и револьверами. Эти призрачные фигуры в сочетании с психоделическими цветами перетекают в упомянутых ранее бабочек из теста Роршаха. Но эти фигуры – не призраки, а видения, предчувствия и вспышки из прошлого.
Однако за всем этим мы ощущаем не места, людей и ушедшие времена, но изменения – эволюцию и смешение настоящего и прошлого. Очертания бабочек кажутся геральдическими эмблемами и инсигниями, нераспознаваемыми символами, которые пылают, словно предзнаменования, их текучими формами, напоминающими лепестки цветов, тазовые кости, миражи, птиц, головы животных и странных, радужных морских существ; и все они переливаются друг в друга, складываясь и раскладываясь, как оригами. В одной части фильма медленно тлеющее пулевое отверстие становится похожим на кровавую рану, а затем – пестрый цветок, но со временем трансформируется в чисто абстрактные движения цвета, сопротивляясь окончательной идентификации.
В «Винчестерской трилогии» Блейк одновременно работает с множеством стилей, форм и эпох, являющихся поэтическим воплощением живого воображения автора. Горячечный бред Блейка – это путешествие в честь Ракел Уэлч, рок-н-ролла, любителей пострелять и спиритизма – важных составляющих культуры и быта Америки. Блейк направляет нас, путешественников, в глубины Таинственного Дома и американского прошлого. Благодаря иммерсивным, текучим цветам и метафорическим слоям фильмы Блейка накрывают нас с головой, будто исследуя не просто дом или чертоги разума Сары Винчестер, но лежащий глубоко на дне затонувший корабль, затерянный город и глубины нашего коллективного бессознательного.
Заключение
Взгляд в будущее
На протяжении всей этой книги я подчеркивал, что произведения искусства обладают силой, что они говорят сами за себя, а наша работа – слушать. Хотя иногда мы не поощряем это общение, этот необходимый искусству диалог. Мы склонны к поспешным суждениям и оценкам. Собственные предубеждения стоят у нас на пути. Мы слишком быстро отворачиваемся. Мы вмешиваемся в процесс, используя произведения искусства для того, чтобы они развлекали нас способами, которые не были в них заложены: действовали как бесхитростные иллюстрации; подтверждали то, во что мы и так верим; были прозой, а не поэзией. Так мы ограничиваем искусство. Мы сводим произведение к его предмету, стилю, биографии художника или историческому контексту. Бывает, что мы читаем небольшое описание или слушаем аудиогид, находим в работе то, о чем говорилось, и идем дальше. Мы забываем, что в искусстве, как и в жизни, важен и привлекателен не пункт назначения, а само путешествие. А для путешествия необходимы терпение, любопытство и упорство.
Хоть сам я и художественный критик, бывший художник и профессор, тем не менее я спотыкался о препятствия, нагроможденные мной же самим на собственном пути, и слишком быстро отворачивался от некоторых произведений. Когда я преподавал историю искусств, я старался не обсуждать со студентами произведение, репродукция которого украшала обложку нашего учебника, полагая, что эта картина, оригинала которой я никогда не видел, – слишком вычурна и гиперболична. Это было полотно «Юпитер и Ио» (1532) кисти итальянского живописца эпохи Возрождения Антонио Корреджо.
Хранящаяся в венском Музее истории искусств, картина «Юпитер и Ио» в натуральную величину изображает Ио, которую на берегу реки соблазняет Юпитер в обличье темно-серого дыма или облака. Я знал этот миф и даже отметил некоторые метафоры в работе Корреджо, но, только увидев ее вживую, я покинул пространство обывательского понимания и вошел в бушующую эротическую вселенную Корреджо.
До того как я увидел полотно Корреджо, я не знал, что плоть Ио – местами жемчужная, а местами алая, словно мерцающий огонь, – как будто трепещет по краям. Я не осознавал, что Юпитер – вращающийся, словно торнадо, и сочащийся, как ядовитые испарения, – существует одновременно в газообразном, жидком и твердом состояниях; или что Ио как будто растворяется в воздухе, как будто ее физическая, смертная оболочка ускользает, утрачивая ценность; и что она притягивает Юпитера к себе, втягивает в себя, оборачивает вокруг себя, наводя на мысль об объятиях и слиянии с богом.
Глядя на репродукцию, я думал, что дымчатое вещество Юпитера распространено равномерно; что распутство Ио преувеличено; что кульминация произошла слишком рано. Фотографическая репродукция замылила и обесценила нюансы полотна. А я был виноват в том, что доверился ей: если репродукция «Юпитера и Ио» не отражает этих нюансов, значит, их не существует. Я проглядел загадочность темной дымки Юпитера, напоминающей землю, камень, человеческую фигуру и мираж. Я проглядел, что Ио в своем гипнотическом возбуждении всё сильнее отрывается от земли, превращаясь из соблазнительницы в мнимую богиню. То, что я принял за преувеличение, на самом деле было неспешной концентрацией сил соблазнения, нарастанием бури чувственности – столкновением и конфликтом смертной и бога.
Я чуть не отвернулся от невероятного Дома над водопадом (1935–1938) Фрэнка Ллойда Райта – здания в стиле модерн, построенного в сельской Пенсильвании. На своих лекциях я много лет обсуждал этот дом – здание с плоской крышей, нависающее над водопадом, но я никогда его не видел. Я видел множество фотографий этого дома, окруженного ярким пламенем осенней листвы, засыпанного снегом и украшенного цветами рододендрона. И я думал, что вживую увижу то же, что на репродукциях. Перед поездкой к Дому над водопадом я представлял, как хожу по знакомым комнатам и любуюсь видами. Путешествие должно было подтвердить то, что, как я думал, мне было уже известно.
В день запланированного за несколько недель визита у меня чуть сердце не оборвалось, потому что пошел дождь. Я решил, что поездка практически испорчена, ведь все мои мечты о том, как я буду любоваться природой сквозь панорамные окна дома Райта, стоять на балконах и впитывать эти виды, размышлять о том, как органично Райту удалось соединить природу и архитектуру, как он направил движение внешней части внутрь, а внутренней – вовне, оказались смыты этим дождем. Но я не понимал, что Райт, которому мне стоило безоговорочно доверять, предвидел мой визит.
Райт построил Дом над водопадом для Лилианны Кауфман и Эдгара Дж. Кауфмана Старшего. Кауфманы с удовольствием любовались расположенным на территории их владений водопадом и хотели дом с видом на этот водопад. Райт решил, что если чета так очарована водопадом, то почему бы не построить дом прямо на нем. Благодаря необычному дизайну Райт превратил падающую воду в источник жизни – двигатель или душу – этого дома.
И я думал: как же под таким ливнем я смогу прочувствовать это органичное слияние пейзажа, водопада и архитектуры, ведь дождь перекроет мне весь вид! Но Райт спроектировал загнутые крыши, балконы, проходы и низкие цементные стены таким образом, что вода не отводилась через водостоки, и дождь прозрачными слоями стекал со здания, окутывая его ступенчатыми, спадающими каскадами. Райт превратил этот дом во время ливня в водопад над водопадом – как будто природа водопада раскрывалась лавинообразно, переливаясь под, через, над домом и из него.
Иногда наши ожидания берут над нами верх, заслоняя реальность. Ненастная погода превратила мое паломничество в Дом над водопадом в неожиданный, потрясающий опыт, затмивший все мои фантазии. Находясь там, я вспомнил притчу об учителе дзен, которого ученики повели на известную панорамными видами горную вершину. Когда они достигли цели, поднялся густой туман, сведя видимость к нулю. Ученики очень огорчились. «Дух захватывает», – сказал учитель.
Хотя в этой книге я много писал о том, как формальные и метафорические элементы складываются в произведения искусства, я подчеркивал, что гораздо важнее понимать, что искусство обладает способностью волновать нас и оказывает на нас необъяснимое воздействие, чем пытаться разъяснять как и почему. Слишком часто мы убеждаем себя, что знаем произведение искусства. Я всё еще познаю произведения, с которыми жил десятилетиями, которые часто посещал и к которым возвращался; нередко мне представляется, что произведения растут вместе со мной – как бывает в любых отношениях. Этот процесс необходимо подпитывать. А для этого нужны время, сила духа и благоприятная атмосфера. Пауль Клее писал, что для создания произведения изобразительного искусства нужно время, что «оно создается постепенно, как дом», но слишком уж часто зрителю «хватает одного взгляда, чтобы осмотреть работу». Клее также говорил, что «чтобы понять работу, нужен стул… Почему стул? Чтобы уставшие ноги не отвлекали разум», пока он занят сложным процессом ви́дения. Клее понимал, что познание искусства требует внимания и времени.
Проведенные музеями исследования показали, что среднестатистический зритель задерживается у произведения искусства всего на пятнадцать-тридцать секунд. Если вы часто бываете в музеях, то наверняка замечали, что люди зачастую проводят это время, читая подпись, а затем быстро окидывают произведение взглядом, фотографируют картину и подпись или делают селфи рядом. Многие произведения искусства не менее сложны, чем фильмы или романы, и на их создание потребовалось равноценное количество времени. Но мы очень часто проводим слишком мало времени, глядя на произведение, вбирая и осмысляя его сложность. Возможно, дело в том, что мы полагаем, будто произведение – как моментальный снимок – запечатлевает застывший во времени момент, а значит, чтобы его понять, будет достаточно момента. Мы забываем, что размышление – один из ключей к опыту. Когда музеи предоставляют настенные тексты-описания или аудиогиды, в которых содержатся указания на то, что нам нужно заметить и получить от произведения искусства, мы можем счесть эти описания эквивалентом опыта. Конечно, они могут стать хорошей стартовой точкой – но они не могут заменить наше собственное исследование того, что пытается передать художник. Уходя из музея, мы хотим чувствовать, что наша встреча с искусством была содержательной, и мы не просто уносим с собой как сувенир какую-то крупицу информации. Искусство способно вдохновлять на изменение представлений о мире и о себе. Именно это искусство и делает. Открытия – его работа. Искусство хочет, чтобы мы, покидая его, унесли с собой нечто большее, более запутанное, единственное в своем роде, и уж точно не что-то столь маленькое, что может уместиться в кармане.
Был взят курс на то, чтобы сделать искусство более «доступным» и «актуальным». В музеях эти изменения воплотились через демонтаж внушительных входных лестниц или рост числа произведений-зрелищ, служащих для развлечения; в результате взаимодействие с искусством, понимание искусства теперь практически не составляют труда: всегда есть короткий путь к истине. Из того, что можно прочувствовать и с чем можно взаимодействовать, строить отношения, искусство превращают в нечто, что можно взять и получить без усилий: теперь его дары можно заслужить, просто зайдя в музей для галочки. А среди музеев – даже среди музеев мирового класса с их энциклопедическими коллекциями – растет обеспокоенность тем, как их воспринимают, и в особенности страх, что их взгляды сочтут элитарными и косными, решат, что они не поддерживают разнообразие. Этот страх – следствие недостатка веры в безусловную силу и универсальность искусства. Я не луддит. Я говорю не о пристрастности к определенной группе, жанру, предмету или материалу, но об идее того, что великое искусство, если ему дать шанс и если зрители готовы делать свою работу, говорит с каждым.
За последние тридцать лет этот курс на доступность, актуальность и завоевание более разнообразной и молодой аудитории способствовал созданию среды, в которой некоторые музеи переосмысливают свою культурную миссию и занимаются ребрендингом. Этот курс в некоторых случаях также приводит к тому, что кураторы устраивают настоящую «рыбалку», надеясь поймать на крючок ту или иную аудиторию или заманить зрителей наживкой, на которую они точно клюнут, – приложениями, французским импрессионизмом, развлечениями, «Звездными войнами», мотоциклами, хип-хопом или модными музыкальными стилями, произведениями художников, принадлежащих к определенной группе. Это привело к тому, что музеи во внеурочное время организуют тусовки и танцевальные вечеринки. Но несмотря на все старания, посещаемость большинства музеев по-прежнему идет на спад; несмотря на то, что подобные выставки и мероприятия привлекают толпы, обычно они не вдохновляют зрителей на более частые посещения регулярной экспозиции или покупку абонементов.
Когда музеи низводят искусство до одного из многих видов деятельности, то и искусство, и музей оказываются бесправными. Когда искусство служит фасадом, используется для того, чтобы отдать должное нашим уже сформировавшимся интересам и пристрастиям, укрепить их – обратиться к тому, что нам и так нравится, или к тому, кем мы являемся, – это подчеркивает наши различия. Если искусство использовать таким образом, это может привести к еще большему разобщению людей. Когда искусство используют для задабривания определенных сегментов общества и их воссоздания, для исполнения их желаний, оно становится ограниченным и ангажированным. Искусство начинают эксплуатировать так, чтобы оно говорило с определенной аудиторией и в конечном счете от ее имени, не позволяя ему говорить за себя и нести просвещение.
Некоторые из этих руководствующихся благими намерениями выставок, которые гонятся за определенной аудиторией и стремятся отдать должное разнообразию, могут поставить под сомнение добрые побуждения музея; вместо того чтобы привлечь к искусству новых зрителей, эти экспозиции подчеркивают различия и выступают за гораздо более ограниченную и узкую, менее всеобъемлющую идею искусства, умаляя действительность. Искусство способно вывести нас из себя и ввести в большой мир; восхитить нас, даже в случае, если нам изначально совсем не нравился его предмет и даже его создатель. Суть искусства в сплочении людей. Подлинное искусство превозносит наш опыт и дарит нам обещание, предвкушение и ожидание большего величия. Подлинное искусство объединяет нас, напоминает о нашей общей человеческой природе.
Это не значит, что подлинное искусство не может обращаться к нашим личным интересам и различиям. Но когда один из элементов произведения – его предмет или раса, пол, национальность или политические предпочтения художника – подчеркивается куратором, выделяется среди прочих элементов, это ограничивает, подчиняет искусство. А такая позиция, в свою очередь, может подтолкнуть художников поменьше пускаться в размышления о том, что такое искусство и на что оно способно: сделать искусство узконаправленным, служащим повестке дня, легко усваиваемым.
Я думаю, что музеи должны сопротивляться кажущейся необходимости улавливать, удовлетворять и оправдывать запросы общества. Иначе они рискуют превратиться из проводников культуры в организаторов общественного досуга, в краудсорсинговые проекты, обеспечивающие свою постоянную публику тем искусством, которого она ждет, – в институты, движимые стремлением угодить. А что от них требуется, так это просвещение. Они должны пропагандировать культуру. Но, может быть, стоит оставить искусство в покое, чтобы дать ему возможность заняться просвещением? Искусство хочет видеть радостного, вдохновенного, открытого, развивающегося зрителя – не избалованного и ждущего, что ему всё поднесут на блюдечке. В интервью Chicago Tribune 1993 года Томас Ховинг, бывший директор нью-йоркского Метрополитен-музея, сказал: «Если в художественном музее ты не можешь войти в раж ненасытности и алчности, ты не справляешься со своей работой». Ховинг имел в виду труд директора музея: он придавал огромное значение усердной работе по привлечению большего количества зрителей, по увеличению числа членов и спонсоров и тому, как сделать искусство более свежим, вдохновляющим и доступным, – но он позволял искусству делать тяжелую работу. Организовав выставку «Сокровища Тутанхамона» в 1976 году, Ховинг создал первый музейный блокбастер. В реальности «раж» столь же необходим и в работе зрителей. Мы должны предвидеть, что искусство заставит наши сердца биться чаще, и позволить ему это. Порой, к сожалению, музеи в стремлении сделать искусство более доступным, развлекательным, интерактивным, делают его всё более пассивным, вместо того чтобы поддерживать искусство и способствовать погружению в него, вместо того чтобы позволить зрителю осмыслять искусство и открывать его для себя.
Мне кажется, музеи должны быть похожи на храмы, в которых человек сам активно открывается глубокому, иногда духовному переживанию, а не на центры развлечений, где мы пассивны, и нас развлекает кто-то другой. Конечно, оба эти опыта полезны, но они отличаются друг от друга, и мы должны замечать и учитывать эти различия. Слияние музейных технологий и искусства угрожает превратить музеи в неуправляемый поезд, а нас – в его вынужденных пассажиров, которые боятся сойти. Мы застряли в бесконечном круге пикантного и нового, отвернувшись от спорного и вечного.
Я советую вам отказаться от всех вспомогательных технологий музеев и художественных галерей или просто их проигнорировать. Откажитесь от приложений, аудиогидов, услуг экскурсовода, чтения аналитических текстов на стенах и порывов что-то загуглить. Мне кажется, что только в художественных музеях мы благосклонно слушаем, как другие что-то нашептывают нам на ухо о контексте и истории, и о том, как нам нужно смотреть, думать и чувствовать. Это не значит, что предоставляемая информация недостаточно полезна или не слишком содержательна. Конечно, я согласен, что необходимо писать, преподавать и говорить об искусстве, чтобы продвигать идеи, будоражить умы и учить. Я и сам читаю лекции перед произведениями искусства. Но моя основная задача – указать путь, стимулировать интерес, расширить возможности зрителей и искусства. Искусство дарит очень сильные ощущения. Лучше ознакомиться со справочной информацией до или после посещения выставки, а не в момент непосредственного общения с искусством.
Почему мы позволяем чужим голосам отвлекать нас, управлять нашим отношением к искусству? Созерцание и эмпатия требуют концентрации и погружения. Нужно целиком посвятить себя этому процессу. Ведь так много других мест, других действий, других ярких, сильных переживаний, в которых мы доверяем себе, – переживаний, во власти которых мы однозначно отмахнулись бы от всех отвлекающих факторов и намеков на то, что кто-то лучше знает, что нам делать. Почему бы не доверять себе и в отношениях с искусством? И почему бы не довериться художнику? Выстраивая взаимодействие с искусством, важно войти в раж, о котором говорил Ховинг, заглушив все возможные отвлекающие факторы, чужие мнения и пытающиеся вклиниться голоса посторонних. Увлекшись, невозможно действовать урывками. Раж в угол не загонишь. Этим переживаниям нужно пространство и свобода, чтобы укрепляться и расширить охват.
Я написал «Искусство видеть», чтобы предоставить читателю возможность остановиться, проявить терпение, подождать, замедлиться, довериться себе и искусству – погрузиться в искусство, дать искусству шанс – и чтобы привить вам идею о том, что для взаимодействия с искусством необходимы смирение и смелость. А еще я хотел подтолкнуть вас к тому, чтобы вы поддались своим страстям. Я хотел сделать искусство доступнее, подчеркнув, что в какой-то степени ценность произведений искусства в их многогранности и что эта многогранность в пределах досягаемости для всех желающих сделать усилие – всех желающих войти в раж.
Подлинное искусство всегда доступно. Однако доступность искусства проявляется не в его изобилии, целесообразности или удобстве. Под «доступностью» я подразумеваю тот факт, что к подлинному искусству легко найти подход, в его мир легко войти – даже если вашей дверью станет недоумение. Почти у каждого в распоряжении есть необходимые для этого инструменты. Каждый, кто глубоко задумывался о других сферах нашей жизни, имеет доступ в глубины искусства. Количество дверей, ведущих в мир искусства, почти так же бесконечно, как и количество глядящих на произведения искусства глаз. Но в некоторые двери войти сложнее. В конце концов, произведения искусства бывают весьма обманчивы, так что путь в их внутренние покои может занять очень много времени. Если произведения искусства стоят вашего внимания, они его требуют. И это естественно для желающих вступить в диалог.
Сегодня можно встретиться с искусством и получить к нему доступ практически везде – не только в галереях, на выставках и в музеях, но и в альтернативных pop-up пространствах, вестибюлях небоскребов, офисных зданиях, ресторанах, магазинах, парках, переулках, на улицах и на внешних стенах зданий. Искусство творят в интернете и в виртуальной реальности. Оно доступно в вашем мобильном. Если вы купите новый «роллс-ройс-фантом», то сможете заказать уникальное произведение современного искусства для размещения на приборной панели. Однако к искусству всё чаще относятся как к товару, символу статуса и трофею. А музеи и частные коллекции искусства всё больше походят друг на друга.
Но наличие открытого доступа к большему количеству искусства не равносильно необходимости принимать всё без разбора с распростертыми объятиями. Если у вас есть такая возможность, я советую вам смотреть на произведения искусства вживую. Но будьте разборчивы. Не спешите. Следуйте зову сердца. Некоторые считают, что мы должны уделять особое внимание искусству, которое активно продвигают сегодня, что мы должны серьезно относиться ко всем блистающим в музейных павильонах современным художникам хотя бы потому, что они отражают современную культуру и предлагают окно с видом на нас самих. В этом есть доля истины, но не менее важно помнить и о том, что наше время ограниченно и что из одних окон вид лучше, чем из других.
Когда вы в следующий раз пойдете в галерею, в музей, на перформанс или в альтернативное выставочное пространство, помните, что вы не должны посмотреть всё и вам не должно всё понравиться. Вам не обязательно быть как все. Вы можете войти в зал и сосредоточиться не чем-то одном, чем-то, что вас по-настоящему волнует. Если вас ничего не взволновало, просто двигайтесь дальше. Я полагаю, что гораздо приятнее провести пятнадцать минут в обществе великого произведения искусства, чем потратить по пятнадцать секунд на каждое из шестидесяти посредственных. Помните, что миром современного искусства, как и любым крупным рынком, управляют мода, конкуренция, деньги, обман и политика и что существует множество причин – не всегда в рамках интересов культуры – по которым искусство прибывает в вашу страну и получает высокую оценку местных галерей или музеев. Нет ничего страшного в том, чтобы пренебречь раскрученной ретроспективой, не сходящей с передовиц, и вместо этого вернуться к тому самому произведению в уголке того самого музея – произведению, которое, как старый друг, когда-то ласково заговорило с вами или, может быть, уязвило вас: порой полезнее возобновить старую дружбу или вновь ввязаться в сложную дискуссию, чем завести десяток новых, ничем не примечательных знакомых. Возможно, что перед тем, как пытаться взаимодействовать с искусством, которое требует от вас большего и бросает вам вызов, вам стоит завести с искусством неспешный диалог, анализируя произведения, с которыми вас уже связывает симпатия. Но не забывайте и о том, что вы должны дать искусству и художникам возможность творить их волшебство.
Глядя на искусство, помните, что вы не одиноки. Художник – ваш гид, и он путешествует вместе с вами. Произведение началось как путешествие художника, который его создал, а значит, сделал ваше с ним путешествие возможным. Традиционно художников считали исследователями, провидцами, шаманами и пророками. И я верю, что лучшие из них такие и сейчас.
Для истинного человека искусства творческий путь подразумевает самопознание и невероятные испытания, это – дорога смирения и отваги. Художники докапываются до собственных истин, оттачивают свои таланты, выявляют сильные и слабые стороны и открываются миру, освобождая собственный, порой мелодичный, а порой дрожащий голос. Художники должны бросить вызов своим ограничениям – не только как личности, но и как наследники великого искусства. Художники ведут нас, открывая нам не только истины своего творчества и свои личные истины, но и те истины, что мы, зрители, храним в себе. Путешествия по миру искусства порой оказываются не очень простыми и приятными. Но они могут привести к открытиям. А открытия помогают выяснить правду, и правда может быть горькой. Вот почему в этом процессе и художник, и зритель должны быть честны друг с другом и с самими собой.
Глядя на произведение искусства, внимательно прислушайтесь к тому, что вам нравится, а что нет, и спросите себя: почему так? Попробуйте определиться с собственными убеждениями. Попытайтесь отбросить предрассудки и рефлекторные реакции. Проверьте, в чем причина вашего негативного отношения к этому произведению: с ним что-то не так или это вам некомфортно, потому что оно обнажает горькую правду? Постарайтесь понять, что хочет донести художник. Позвольте себе безразличие к резонансному произведению искусства или знаменитому художнику, позвольте себе передумать. Параллельно развивайте критическое мышление и детское любопытство.
Доверяйте своим глазам, внутреннему голосу и здравому смыслу, но действуйте с оглядкой на искусство, пусть оно напитывает вас информацией. Будьте не менее требовательны к себе, чем к искусству, с которым взаимодействуете. Подлинное искусство загадочно и неподвластно времени. И если вы с ним еще не соприкоснулись, будьте готовы к первому яркому опыту: в этот момент вы почувствуете, что такое искусство не просто развлекает, манит или озадачивает, но глубоко трогает, почти что сводит с ума. Этот первый серьезный опыт вы узнаете сразу, как любовное томление, и он вдохновит вас на поиск новых, более глубоких отношений. Но не нужно торопить события. Пусть это будет свободное, подлинное путешествие. Когда речь заходит о личных отношениях с искусством, с тем, что мы ценим и с чем взаимодействуем, у нас нет никаких обязательств, кроме признания истин, которые мы раскрываем в диалоге с искусством. А затем, подобно художникам, мы сможем обнаружить, что продвинулись от искусства смотреть к искусству находить – искусству видеть.
Примечания
Введение
«…такова моя задача»: Гюстав Курбе, из предисловия к каталогу своей выставки в «Павильоне реализма» Всемирной выставки в Париже (1855). Цит. по: Artists on Art: From the XIV to the XX Century / 3rd ed., ed. Robert Goldwater and Marco Treves. New York: Pantheon, 1972 [1945]. P. 295.
Глава 1: Знакомство с искусством
«…еще более живые, чем когда-либо»: цит. по: Zayas M. de. Picasso Speaks: A Statement by the Artist // The Arts. 7. No. 5 (May 1923). P. 315–326; см. также: Chipp H. B., Selz P., Taylor J. C. Theories of Modern Art: A Source Book by Artists and Critics. Berkeley: University of California Press, 1968. P. 264.
«…делает видимым»: из статьи Клее «Творческое кредо», впервые опубликованной в изд.: Schöpferische Konfession, ed. Kasimir Edschmid. Berlin: Erich Reiss, 1920 (Tribune der Kunst und Zeit, no. 13); англ. пер.: The Inward Vision: Watercolors, Drawings, and Writings by Paul Klee / trans. Norbert Guterman. New York: Abrams, 1959. Р. 5–10; цит. по: Chipp et al. Theories of Modern Art. Р. 182.
«…не служит и не правит – он передает»: из статьи Клее «О современном искусстве»; см.: Klee P. On Modern Art [1948]/ trans. Paul Findlay, with an introduction by Herbert Read. London: Faber and Faber, 1984. P. 15.
Глава 2: Живой организм
«…движущаяся вперед»: Клее П. Педагогические эскизы / пер. Н. Дружковой под. ред. Л. Монаховой. М.: Д. Аронов, 2005.
«движение и контрдвижение», «действие и противодействие» или «пластичность»: Dickey Т. Color Creates Light: Studies with Hans Hofmann. Salt Spring Island, BC: Trillistar Books, 2011. Р. 30.
«…вещи в движении, движение в вещах»: Феноллоза Э. Китайский иероглиф как проводник поэзии / пер. М. Кузичевой. Издательский проект «Русский Гулливер». [Электронный источник: ] http://gulliverus.ru/fenolloza-5.html
«…между их судьбами»: Там же.
«…изменились хотя бы немного»: Schapiro M. On Perfection, Coherence, and Unity of Form and Content // M. Schapiro. Theory and Philosophy of Art: Style, Artist, and Society. Selected Papers. New York: George Braziller, 1994. P. 41–42.
Глава 3: Сердца и умы
«…присутствуют ложные мотивы»: Гомбрих Э. История искусства. М.: АСТ, 1998.
«…чтобы не мешать объективности нашего мышления»: Greenberg C. Esthetic Judgment // C. Greenberg. Homemade Esthetics: Observations on Art and Taste. New York: Oxford University Press, 2000. P. 17.
«…ваш вкус или аргументация»: Ibid.
«… адекватно представлять весь свой вид»: Ibid.
«Зигмунд Фрейд верил…»: Фрейд З. Введение в психоанализ: Лекции. Двадцать третья лекция: пути образования симптомов. М.: Наука, 1990. С. 198
Глава 4: Художники-рассказчики
«…духовной боязнью пространства»: Worringer W. Abstraction and Empathy: A Contribution to the Psychology of Style [1908]. Chicago: Ivan R. Dee, 1997. P. 15.
«…а гробницы – их настоящие дома»: цит. по: Panofsky E. Tomb Sculpture: Its Changing Aspects from Ancient Egypt to Bernini / ed. H.W. Janson. London: Phaidon Press, 1992. P. 13.
«…сильным лекарством»: Mercier J. Ethiopian Magic Scrolls / trans. Richard Pevear. New York: George Braziller, 1979. P. 33.
«…связывают сатану и снимают заклятия»: Ibid. P. 108.
Глава 5: Искусство – это ложь
«…морфологической трансформации»: цит. по: Temkin A. Gabriel Orozco: Exhibition catalog. New York: Museum of Modern Art, 2009. P. 61.
«…вульгарно, потрепанно и неуклюже – тем лучше»: Stevens M., Swan A. De Kooning: An American Master. New York: Alfred A. Knopf, 2004. P. 267.
«…не чтобы повесить у себя в студии, а чтобы стереть»: Ibid. P. 359.
«…символически изнасилованным»: Ibid. P. 455.
«…если разрушим старый»: цит. по: Marstine J. Critical Practice: Artists, Museums, Ethics. New York: Routledge, 2017. P. 81.
«…в правдивости своей лжи»: цит. по: Chipp et al. Theories of Modern Art. Р. 264.
Глава 6: ПробуждениеБальтюс: Кот перед зеркалом I
«…не ведать истин детства»: Бальтюс. Воспоминания [2001] / пер. А. Воинова. М.: Libra_fr, 2021. С. 70.
«…отблески божьих картин»: Там же. С. 24.
«…таится в тени и молчании»: Там же. С. 37.
«…абсолютно непостижимым для людей образом»: Rilke R. M. Preface // Mitsou: Forty Images by Balthus. New York: Metropolitan Museum of Art; Harry N. Abrams, 1984. P. 9–10.
«…помогают во внутреннем странствии»: Бальтюс. Воспоминания. С. 90.
«…нити, разбросанные посреди тумана»: Там же. С. 89–90.
«…орфический труд»: Там же. С. 64.
Глава 8: Рост
Ханс Арп: Рост
«…возвышение человека»: цит. по: Arp on Arp: Poems, Essays, Memories / ed. Marcel Jean, trans. Joachim Neugroschel. New York: Viking Press, 1972. P. 241.
Глава 9: Воспламенение
Джеймс Таррелл: Яснее ясного
«дезориентированной и сбитой с толку»: цит. по: Glueck G. Whitney Museum Sued over 1980 «Light Show» // The New York Times. May 4, 1982.
«сбило с ног»: Ibid.
«…телесность самого света»: цит. по: Kolbert E. Art’s Sake Dept.: Incidents // The New Yorker. June 19, 2017. P. 23.
Глава 10: Эволюция
Пауль Клее: Знаки на желтом
«отправившаяся на прогулку»: из дневников Клее; цит. по: Klee P. Notebooks. Vol. 1: The Thinking Eye / ed. Jürg Spiller, trans. Ralph Manheim. London: Lund Humphries, 1992 [1956]. P. 105.
«…земное – пример космического»: из статьи Клее «Творческое кредо»; цит. по: Chipp et al. Theories ofModern Art. P. 186.
«Точка как пересечение путей космична»: из дневников Клее; цит. по: Klee P. Notebooks. Vol. 1. P. 19.
Глава 11: Взаимодействие
Марина Абрамович: Генератор
«…через уязвимость к освобождению от всего, что их ограничивало»: Thurman J. Walking Through Walls: Marina Abramović’s Performance Art // The New Yorker. March 8, 2010.
«…были абсолютно разные лица»: Dillard A. Pilgrim at Tinker Creek // Three by Annie Dillard. New York: Harper Perennial, 1990. P. 35.
Глава 14: Превращение
Ричард Таттл: Белый шарик, синий свет
„меньше“ никогда не было меньше»: Kramer H. Tuttle’s Art on Display at Whitney // The New York Times. September 12, 1975. P. 21.
Заключение: Взгляд в будущее
«…постепенно, как дом»: из статьи Клее «Творческое кредо»; цит. по: Chipp et al. Theories of Modern Art. P. 184.
«…хватает одного взгляда, чтобы…»: Ibid.
«…не отвлекали разум»: Ibid. P. 184–185.
«на пятнадцать – тридцать секунд»: Rosenbloom S. The Art of Slowing Down in a Museum // The New York Times. October 9, 2014; https://www.nytimes.com/2014/10/12/travel/the-art-of-slowing-down-in-a-museum.html
«…не справляешься со своей работой»: цит. по: Clark K. R. The Fine Art of Greed: Tales of Intrigue at the Met // Chicago Tribune. January 21, 1993.
Благодарности
Я глубоко признателен моим учителям (и ученикам), которые отвечали на самые сложные вопросы и задавали их, а особенно моим наставникам в искусстве – живописцам Деборе Розенталь, Габриэлю Ладерману и Лиланду Беллу, сыгравшим ключевую роль в моем становлении.
Я благодарен Цин Ду, сотруднице издательства «Basic Books», которая предложила мне написать эту книгу; моему агенту Дженнифер Лайонс, которая все эти годы терпеливо и стойко поддерживала меня; писателю и критику Джеду Перлу, который в 1996 году опубликовал фрагмент будущей книги в журнале Modern Painters, а еще перед тем прочитал рукопись в черновом варианте и поддержал меня мудрыми советами; Эрику Гибсону, моему многолетнему редактору в The Wall Street Journal, а также другим моим редакторам – Роберту Мессенджеру, Мануэле Хултерхофф и Карен Райт, которые предоставили мне площадки для развития писательских навыков и идей.
Спасибо Нэнси Кракаур, которая подоткнула меня к идее создания этой книги, и Крису Стерну, который помог мне не бросить ее писать. Спасибо Эстер Эбби, Брайсу Брауну, Синди Клаассен, Дону Джойнту и Джорджии Склафани, моей матери и моему покойному отцу за их помощь и поддержку.
Неоценимую помощь оказала мне Лара Хаймерт, мой блестящий редактор в «Basic Books». Ее терпение, мудрость и остроумие помогли мне не сбиться с пути. Выпускающий редактор Мишель Уэлш-Хорст, литературный редактор Роджер Лабри и корректор Кэтрин Х. Стрекфас стали для меня подлинными соратниками, вдумчивому чтению и острому глазу которых я многим обязан. Энн Киршнер и Кэти Ламбрайт сыграли важную роль в разработке дизайна книги.
Я искренне признателен моей жене – художнице Эвелин Твитчелл, которой посвящена эта книга, написанная благодаря ее любви, поддержке, проницательным советам и редакторскому мастерству.
Список иллюстраций
Все размеры указаны в сантиметрах
1. Эдуар Мане
(1832–1883)
Завтрак на траве
1863
Холст, масло
206,1 × 269,9
Музей Орсе, Париж
(инв. № RF1668)
Фото Эриха Лессинга /
Arte Resource Нью-Йорк
2. Пауль Клее
(1879–1940)
Воющая собака. 1928
Холст, масло. 44,5 × 56,8
Институт искусств, Миннеаполис (дар Ф.С. Шана, инв. № 56.42)
Фото Института искусств, Миннеаполис
© Artists Rights Society (ARS), Нью-Йорк
3. Леонардо да Винчи
(1452–1519)
Святая Анна с Мадонной и младенцем Христом
(после 1503)
Дерево, масло. 168 × 130
Лувр, Париж
Фото Эриха Лессинга / Arte Resource Нью-Йорк
4. Ханс Хофман
(1880–1966)
Ворота. 1959–1960
Холст, масло. 190,5 × 132,2
Музей Соломона Р. Гуггенхайма, Нью-Йорк (инв. № 62.1620)
© Artists Rights Society (ARS), Нью-Йорк
5. Пит Мондриан
(1872–1944)
Композиция с синим
1926
Холст, масло. 61,1 × 61,1
Музей искусств, Филадельфия
(собрание Э. Ю. Галлатина, инв. № 1952-61-87)
6. Плененный сатана
Эфиопия. Начало
XIX века
Смешанная техника
Иллюстрация из книги Жака Мерсье «Эфиопские магические свитки»
Фото Жака Мерсье
© 1979 George Braziller, Inc.
Перепечатано с разрешения George Braziller, Inc., Нью-Йорк, www.georgebraziller.com
Все права защищены
7. Бальтюс
(1908–2001)
Кошка с зеркалом I
1977–1980
Холст, казеин, темпера. 180 × 170
Частное собрание
(см.: Clair J., Monnier V. Balthus: Catalogue Raisonné Jean Clair and Virginie Monnier. P. 196, ill. 338)
8. Марсель Дюшан
(1887–1968)
Фонтан. 1917
(позднейшая реплика)
Керамика. 61 × 35,6 × 48,3
© Artists Rights Society (ARS), Нью-Йорк
Фото: Джерри Л. Томпсон / Art Resource, Нью-Йорк
9. Ханс Арп
(1886–1966)
Рост. 1938
Мрамор. Высота 80,3
Музей Соломона Р. Гуггенхайма, Нью-Йорк (инв. № 53.1359)
© Artists Rights Society (ARS), Нью-Йорк
10. Пауль Клее
(1879–1940)
Знаки в желтом. 1937
Хлопковая материя на подрамнике, пигментная паста, пастель. 83,5 × 50,3 (в оригинальной раме)
Фонд Байелера, Рихен / Базель
Фото Роберта Байера
© Artists Rights Society (ARS), Нью-Йорк
11. Ричард Серра
(род. 1938)
2000. Вид экспози ции в музее Dia: Beacon, Нью-Йорк
© Artists Rights Society (ARS), Нью-Йорк
Фото студии Билла Джейкобсона, Нью-Йорк
Публикуется с разрешения Dia Art Foundation, Нью-Йорк
12. Роберт Гобер
(род. 1954)
Нога без названия
(1989–1990)
Хлопок, дерево, кожа, пчелиный воск, человеческие волосы. 28,9 × 19,7 × 50,8
Музей современного искусства, Нью-Йорк (дар фонда Даннхайсер
© The Museum of Modern
Art / Licensed by SCALA / Art Resource, Нью-Йорк
© Rober Gober, courtesy Matthew Marks Gallery
13. Ричард Таттл
(род. 1941)
Белый шарик, синий свет. 1992
Вид в зале выставки «Искусство Ричарда Таттла» в Музее американского искусства Уитни, Нью-Йорк, 10 ноября 2005 – 5 февраля 2006 года
Смешанная техника
Фото Шелдана К. Коллинза
Публикуется с разрешения Музея американского искусства Уитни
14. Джереми Блейк
(1971–2007)
Кадр из фильма «Винчестер». 2002
Цифровая анимация. Звук. Длительность 55 минут 40 секунд
Публикуется с разрешения Estate of Jeremy Arron Blake
Все права защищены
Дополнительные материалы
Лучшим дополнительным материалом послужат вам художественные галереи, музеи и все прочие места, где произведения искусства можно увидеть воочию. В моей книге не так много иллюстраций, да они и могут служить адекватной заменой реального опыта. Если это возможно, попробуйте посмотреть в подлиннике хотя бы на некоторые произведения, о которых я пишу, или хотя бы на другие работы тех же авторов. Неплохой альтернативой могут послужить альбомы по искусству, которые наверняка в обилии имеются в ближайшей к вам библиотеке; ищите среди них те, что выпущены недавно, ведь технологии цветного репродуцирования непрерывно совершенствуются (но имейте в виду, что, проигрывая в качестве иллюстраций, старые альбомы нередко сопровождаются превосходными текстами). Кроме того, репродукции произведений искусства можно найти в интернете. Используйте мониторы побольше и получше, но не забывайте, что все они искусственно подсвечивают изображения, так что картины, отмеченные замысловатой игрой света, выглядят на экране иначе, чем в реальности, отличаются от оригиналов; впрочем, картины, в которых игра света – не главное, или просто посредственные тоже меняются благодаря подсветке и порой выглядят лучше, чем на самом деле, более гармонично.
Советую вам собрать собственную библиотечку книг о художниках, которые вам нравятся. Это позволит вам обращаться к искусству без помощи монитора, обозревать ретроспективы любимых художников в миниатюре, сравнивать их произведения между собой. Узнавайте об искусстве как можно больше, читайте книги и статьи, написанные художниками, ведь кому, как не им, судить об исканиях и устремлениях своих коллег, а особенно – о своих собственных. Внимательно прислушивайтесь к тому, что говорят художники, которые вам нравятся, о работах других. Еще в пору студенчества один из моих профессоров дал мне ценный совет: «Если тебе нравится художник, изучай не только его собственные работы: смотри на то, на что смотрел он». Это не только поможет вам лучше понять произведения тех, кого вы уже знаете и любите, но и приоткроет для вас контекст их творчества, приблизит к ответу на вопрос о том, что сделало любимого вами художника таким, какой он есть.
Ниже перечислены некоторые общие обозрения истории искусства, сборники и справочники, которые подойдут начинающим, тексты художников и критиков, эссе по искусству, эстетике, философии и другим смежным дисциплинам. Это далеко не исчерпывающая библиография; в нее включены лишь книги, которые я собрал у себя на столе, работая над «Искусством видеть».
Бальтюс. Воспоминания
Бергер [Бёрджер] Д. Искусство видеть
Бёрджер Д. Портреты
Гомбрих Э. История искусства
Грейвс Р. Белая богиня: историческая грамматика поэтической мифологии
Делакруа Э. Дневник
Жило Ф. Моя жизнь с Пикассо
Кандинский В. О духовном в искусстве
Кандинский В. Точка и линия на плоскости
Кандинский В. Звуки
Кларк К. Пейзаж в искусстве
Кларк К. Нагота в искусстве
Клее П. Педагогические эскизы
Ренуар Ж. Моя жизнь и мои фильмы
Тарковский А. Запечатленное время
Феноллоза Э. Китайский иероглиф как проводник поэзии
Фрейд З. Введение в психоанализ: Лекции
Холл Д. Словарь сюжетов и символов в искусстве
Albers P. Joan Mitchell: Lady Painter, A Life
Arnason H. H., Prather M. F. History of Modern Art: Painting, Sculpture, Architecture, Photography
Arp J. Arp on Arp: Poems, Essays, Memories
Arp J. Collected French Writings: Poems, Essays Memories
Ashton D. Picasso on Art: ASelection of Views
Balthus. Mitsou: Forty Images by Balthus. With a preface by Rainer Maria Rilke
Barrett W. Irrational Man: A Study in Existential Philosophy
Baudelaire C. The Painter of Modern Life and Other Essays
Chipp H. B., Selz P., Taylor J. C. Theories of Modern Art: A Source Book by Artists and Critics
Colley A. C. The Search for Synthesis in Literature and Art: The Paradox of Space
De Zengotita T. Mediated: How the Media Shapes Your World and the Way You Live in It
Dickey T. Color Creates Light: Studies with Hans Hofmann. Dickie, George, and Richard J. Sclafani. Aesthetics: A Critical Anthology
Goldwater R., Treves M., eds. Artists on Art: From the XIV to the XX Century.
Greenberg C. Art and Culture: Critical Essays
Greenberg C. Homemade Esthetics: Observations on Art and Taste
Groenewegen-Frankfort H. A. Arrest and Movement: An Essay on Space and Time in the Representational Art of the Ancient Near East
Hamilton G. H. 19th and 20th Century Art: Painting, Sculpture, Architecture
Harrison C., Wood P., eds. Art in Theory: 1900–1990
Hauser A. The Social History of Art
Haverkamp-Begemann E. Creative Copies: Interpretative Drawings from Michelangelo to Picasso
Herbert R. L., ed. Modern Artists on Art
Hicks S. Explaining Postmodernism: Skepticism and Socialism from Rousseau to Foucault
Honour H. Romanticism
Hughes R. Nothing If Not Critical: Essays on Art and Artists. Kale, Pauline. For Keeps: 30 Years at the Movies
Kellogg R. Analyzing Children’s Art
Klee P. Diaries: 1898–1918
Klee P. Notebooks. Vol. 1, The Thinking Eye. Translated by Ralph Manheim. Edited by Jürg Spiller
Klee P. Notebooks. Vol. 2, The Nature of Nature. Translated by Heinz Norden. Edited by Jürg Spiller
Klee P. On Modern Art. Translated by Paul Findlay, with an introduction by Herbert Read
Kramer H. The Revenge of the Philistines
Kramer H. The Triumph of Modernism: The Art World, 1985–2005
Kurosawa A. Something Like an Autobiography
Léger F. The Functions of Painting
Marstine J. Critical Practice: Artists, Museums, Ethics
Matisse H. Matisse on Art
McBride H. The Flow of Art: Essays and Criticism
Meggs P. B. Meggs’ History of Graphic Design
Mercier J. Ethiopian Magic Scrolls. Translated by Richard Pevear
Mondrian P. The New Art – The New Life: The Collected Writings of Piet Mondrian / Edited and translated by Harry Holtzman and Martin S. James
Panofsky E. Tomb Sculpture: Its Changing Aspects from Ancient Egypt to Bernini
Perl J. Alexander Calder: The Conquest of Time: The Early Years, 1898–1940
Perl J., ed. Art in America, 1945–1970: Writings from the Age of Abstract Expressionism, Pop Art, and Minimalism
Perl J. New Art City: Manhattan at Mid-Century.
Perl J. Paris Without End: On French Art Since World War I. Picasso, Pablo. Picasso on Art: A Selection of Views
Porter F. Art in Its Own Terms: Selected Criticism, 1935–1975. Edited and with an introduction by Rackstraw Downes.
Renoir J. My Father
Rewald J. Cézanne: A Biography
Richardson J. A Life of Picasso. Vol. 1, The Prodigy, 1881–1906
Richardson J. A Life of Picasso. Vol. 2, The Painter of Modern Life, 1907–1917
Richardson J. A Life of Picasso. Vol. 3, The Triumphant Years, 1917–1932
Rilke R. M. Letters on Cézanne
Schapiro M. Modern Art: 19th and 20th Centuries. Selected Papers
Schapiro M. Theory and Philosophy of Art: Style, Artist, and Society. Selected Papers
Schneider P. Matisse
Spurling H. The Unknown Matisse: A Life of Henri Matisse. The Early Years, 1869–1908
Spurling H. The Unknown Matisse: A Life of Henri Matisse. The Conquest of Color, 1909–1954
Stevens M., Swan A. De Kooning: An American Master
Worringer W. Abstraction and Empathy: A Contribution to the Psychology of Style
Жирным шрифтом обозначены номера иллюстраций




















