Читать онлайн Главная роль Веры Холодной бесплатно
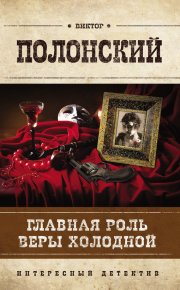
1
«В октябре прошлого года вблизи станции «Саблино» Николаевской железной дороги был задержан неизвестный субъект, производивший снимки железнодорожного моста. Он оказался германским подданным Фридрихом Гучером. При обыске у него найдены две катушки непроявленных пленок к фотографическому аппарату «Кодак». При проявлении найденных пленок на них оказались изображения мостов Петербурга, Москвы, Варшавы, Киева, Могилева и некоторых других пунктов, имеющих важное стратегическое значение.
На основании этих данных Гучер был предан суду по обвинению в военном шпионстве. Суд приговорил обвиняемого к двум годам заключения в арестантских исправительных отделениях».
Ежедневная газета «Русское слово», 1 апреля 1912 года
– Что у вас в Москве творится, ротмистр?! Чем вы там занимаетесь?! Баклуши бьете?! Вообразили, что вы на курорте?! Я вам устрою курорт!
Ротмистр Акулин-Коньков вытянулся в струнку и преданно выпучил глаза, надеясь на то, что начальство выплеснет гнев, да и успокоится. «Дурак, хоть и с двойной фамилией! – подумал Ерандаков, глядя на подрагивающий ус ротмистра. – Полный дурак, первостатейный. Только и умеет что усом дергать. Вечная беда наша – дураки и дороги. Но дороги-то хоть благоустроить можно, а дураков куда прикажете девать?..»
На одном из совещаний в Огенкваре[1] Ерандаков сказал, что ему нужны не бравые, а толковые офицеры. Контрразведчикам не приходится щеголять выправкой или чудеса джигитовки демонстрировать, они другим берут – умом, смекалкой, наблюдательностью. Как это часто бывает, запомнилась только первая часть фразы, про то, что Ерандакову не нужны бравые офицеры, и стали ему спихивать самых худших, по принципу «Вот тебе, Боже, что нам негоже». Да и не рвались-то умные в контрразведку, ни из армии не рвались, ни из Жандармского корпуса. Служба непонятная, трудная, какая-то малопочтенная, у начальства не на виду и не в чести. Это с точки зрения армейского офицера. А с точки зрения жандармского – и того хуже, дрянь, а не служба. Как выражался предшественник Ерандакова полковник Лавров, первый начальник Разведочного отделения:[2] «Товарищи наши считают, что они дело делают, а мы от безделья клопов по щелям выковыриваем». Дело – это врагов престола искоренять, разных «политических». Во-первых, Отечеству прямая выгода. Во-вторых, «политических» много, они так или иначе проявляют себя, да и агентов к ним внедрено порядочно. В-третьих, за «политику»[3], особенно после девятьсот пятого года, и продвижение по службе получить можно, и награды. А за пойманных шпионов даже не похвалят. Наоборот, ткнут носом в то, что плохо, дескать, работаете, господа контрразведчики, раз враг у вас под носом ухитряется свои дела проворачивать. Плохо! А штат каков? А средства? Контрразведчику повсюду свои люди нужны, осведомители, тайные агенты, глаза и уши. А агентам платить надо, даром никто стараться не станет. Ерандакову бы половину, нет, что там половину – четверть тех денег, которые тратит за год немецкая разведка в одном только Петербурге! Уж он тогда развернулся бы. Но таких средств никто ему не даст, а сам он их больше добывать не станет. Было дело, обжегся…
В бытность свою начальником Нижегородского Охранного отделения ротмистр Ерандаков развернулся как следует – где только мог завел осведомителей, даже в хлыстовских общинах, именуемых «кораблями», были у него тайные агенты. Но вся эта затея требовала много больше тех средств, которые отпускались на расходы. Тогда Ерандаков придумал устроить подпольный игорный дом, нечто вроде мужского клуба без вывески, для разных сословий. Все пристойно, никакого разврата или шулерства. Собираются люди, мечут банчишко или пульки расписывают, с каждого банка процент капает, да и встречи келейные в такой обстановке проводить очень удобно. Никакого вреда Отечеству, одно благо. Подходящий человек на роль содержателя нашелся скоро – разорившийся на аферах с зерном купец второй гильдии Байбаков, дом тоже нашелся подходящий, в тихом месте, не в центре и не на окраине, а там, где надо. И дело пошло. Будучи умелым конспиратором (тому, кто конспираторов ловит, необходимо знать все их уловки), Ерандаков велел Байбакову платить местному приставу положенную ежемесячную мзду, несмотря на то что властью своей мог настоятельно попросить пристава «не замечать и не встревать». Но он считал, что лучше так – чтобы не было лишних разговоров и ущерба делу. Однако лишние разговоры все равно пошли с легкой руки письмоводителя Пересыпкина, змеи, собственноручно пригретой Ерандаковым на груди. Ничего, обошлось. Дельным сотрудникам многое могут простить, но и спрашивают с них строго. Ерандакову почти удалось убедить начальство в искренности своих мотивов. Почти. В результате он был переведен в Петербург, а подлеца Пересыпкина успел собственноручно «законопатить» в далекий беспокойный Чарджуй – послужи-ка там, авось поумнеешь. Донской казак Ерандаков весьма ценил в людях такое свойство, как артельность. Это слово означает уживчивость, умение ладить с людьми, с товарищами, с начальством, с подчиненными. Вот пусть Пересыпкин у сартов[4] этому качеству и поучится.
– Почему о том, что происходит в Москве, я должен узнавать из Берлина? Каким образом к немцам попали секретные чертежи нового аэроплана с завода «Дукс»? Кто снял копии и передал их известной вам особе?
– Думаю, что сам владелец завода и передал, господин полковник! – гаркнул ротмистр.
– Основания? – заинтересовался Ерандаков, не ожидавший получить ответа на этот вопрос.
– Фамилия его Меллер, зовут Юлиусом Александровичем, – глядя Ерандакову в глаза, ответил Акулин-Коньков.
– И что?
– Настораживает. Немец же.
– Господи! – простонал Ерандаков, опускаясь на стул, с которого он встал, когда разносил тупицу ротмистра. – Сядьте, ротмистр!
Акулин-Коньков сел. Выражение напряженного ожидания на его лице сменилось выражением почтительного внимания. «Кажется, гроза миновала», – с облегчением подумал он.
– Дмитрий Григорьевич, – обращение по имени-отчеству укрепило ротмистра в том мнении, что самое страшное осталось позади, и укрепило совершенно напрасно, потому что гнев Ерандаков выплеснул, а вот выводов относительно Акулина-Конькова еще не сделал, – неужели вы считаете немецкую фамилию достаточным основанием для обвинения в шпионаже?
– А как же? – Осмелев, ротмистр позволил себе сдержанно улыбнуться в усы. – Все они одним миром мазаны – немцы, австрийцы, жиды и полячишки с французами. Только и ищут, где бы напакостить.
– Значит, надо взять адресную книгу, выписать оттуда всех нерусских и установить за ними негласное наблюдение? – спросил Ерандаков без малейшего признака иронии в голосе.
Расставлять ловушки полковник был мастак, любил это дело.
– На это у нас людей не хватит, – вздохнул ротмистр. – С умом надо.
– А с умом – это как, Дмитрий Григорьевич? – изобразил заинтересованность Ерандаков. – Вот вы завтра вернетесь в Москву и с чего начнете? На «Дуксе» у вас шпион, у «Гудзона» тоже, в Управлении железных дорог их, насколько я понимаю, несколько…
– На железной дороге есть кому шпионами заняться, господин полковник! – вскинулся ротмистр.
– Железнодорожные жандармы делают свое дело, а вы, ротмистр, свое, – осадил его Ерандаков. – Я надеюсь, что положение дел вы уяснили. Расскажите, какие меры вы собираетесь принять по возвращении. Или снова станете почивать на невидимых миру лаврах?
– Думаю начать с госпожи Цалле! – не раздумывая, брякнул ротмистр. – От этой змеи надо избавиться как можно скорее! Я приму все меры, чтобы у нее земля под ногами горела…
– Запрещаю! – перебил Ерандаков. – Цалле трогать нельзя. Избавитесь вы от нее, так другую пришлют или другого. Что от этого изменится, ротмистр? Не с того начинаете, не с того…
С немцами, обожавшими и большей частью соблюдавшими (это вам не французы!) всевозможные договоренности, было условлено не трогать резидентов и не увлекаться чрезмерно высылкой дипломатов. Если дипломат натворил нечто этакое, что ни в одни ворота не лезет, тогда, конечно, без высылки не обойтись. Но увлекаться не стоит, потому что у дипломатов счет идет «поголовный», то есть – вы одного нашего выслали, и мы одного вашего вышлем. Ненужная чехарда получается, особенно с учетом того, что присланный взамен будет ничем не лучше высланного. Себе же лишняя работа. Приходится привыкать к новому человеку, изучать его привычки и связи. По тем же самым причинам не следует чинить препятствия и обиды резидентам. Этим французским словом, обозначавшим третьестепенных, низшего ранга, посланников, стали называть главных разведчиков на местах. Насчет резидентов договорились после того, как в ответ на гибель в перестрелке барона фон Фройберга (первым начал стрелять в агентов, пытавшихся задержать его во время встречи с источником) в Берлине, среди бела дня, на оживленной Унтер-ден-Линден был заколот стилетом подполковник Млынарский. В Петербург из Берлина для встречи с заведующим военно-статистическим и особым делопроизводствами полковником Монкевицем инкогнито приезжал заместитель начальника разведывательного управления германского генерального штаба, руководивший контрразведкой. Прагматичные немцы исходили из финансовых соображений. «Это очень дорого – готовить резидентов, – сказал немецкий полковник. – Давайте станем менять их пореже, когда самим захочется». На том и порешили, разумеется – на словах, не подписывая никаких протоколов. Да и какие в подобном случае могут быть протоколы?
– Я вас не понимаю, господин полковник… – искренне удивился ротмистр. – Если не с Цалле начинать, то с кого?
– С тех, кто приносит ей сведения! – Ерандаков повысил голос и в сердцах так сильно хватил крепким кулаком по дубовой, обитой зеленым сукном столешнице, что тонко зазвенел стеклянный абажур стоявшей на столе лампы, а полупустой стаканчик для карандашей подпрыгнул и опрокинулся, карандаши рассыпались по столу. – Ваше дело не головы рубить немецкой гидре, чтобы вместо одной две на том же месте вырастало! Ваше дело – сделать так, чтобы гидра с голоду сдохла! Или питалась тем, что вы ей подсунете! У вас в отделении вместе с вами служит четырнадцать человек! Четырнадцать, не два! Вам даны поистине неограниченные полномочия, крупные средства!..
Насчет средств Ерандаков, конечно, преувеличил, а вот насчет полномочий нисколько. Его стараниями и с благословления военного министра сотрудники контрразведки при выполнении ими служебных обязанностей могли привлекать к содействию кого им заблагорассудится, невзирая на должности, чины и звания.
– И что же?! – Не видя в глазах ротмистра понимания (там был один лишь испуг), Ерандаков осекся и махнул рукой. – Возвращайтесь в Москву и передавайте дела штабс-ротмистру Немысскому…
– Но, ваше превосходительство… – Акулин-Коньков, не ожидавший такого оборота, растерялся настолько, что, во-первых, продолжал сидеть, а во-вторых, совсем не по-уставному развел руками.
«Офицер…. твою мать! – подумал Ерандаков. – Вошь нагашная…»
Подумал, тут же устыдился своих грубых, простонародных мыслей и поправил себя, заменив «вошь нагашную» на petit esprit[5]. Потомственное дворянство роду Ерандаковых выслужил дед-полковник. Во время службы в полку Ерандаков «второразрядности» своего дворянства не ощущал. А вот в Жандармском корпусе, да еще в Петербурге, – дело другое. Фамилия каждого третьего из сослуживцев, если не каждого второго, значилась в Бархатной книге[6], на неродовитых дворян родовитые смотрели свысока. Ерандаков тянулся, впитывал аристократические манеры, практиковался во французском, чтобы говорить бегло, да с парижским выговором, заставил себя полюбить оперу и вообще музыку, настоящую, классическую, к которой сызмальства был равнодушен.
– Продолжите службу на прежнем месте. – Акулин-Коньков пришел в контрразведку из Московского жандармского дивизиона. – Я поговорю с полковником Фелициным относительно вас.
Так и подмывало добавить: «Командовать эскадроном, ротмистр, – это все, на что вы способны», – но Ерандаков удержался от грубости. Сам виноват, не разглядел вовремя дурака. «Что поделать? – подумал полковник, оправдываясь перед самим собой. – Расклад таков, что на одного Щукина приходится три дюжины Акулиных вместе с Коньковыми, и ничего ты с этим не поделаешь, хоть тресни».
Капитан Щукин был лучшим из подчиненных Ерандакова, самым умным и самым ценным сотрудником. Ерандаков поручал Щукину самые сложные, самые ответственные дела и прочил его на свое место (все мы не вечны, увы). У него даже присказка была такая про Щукина: «Этот орешек никто, кроме Николая Григорьевича, не разгрызет». Щукина бы в Москву, но кто же тогда в Петербурге останется? Страна большая, городов много, а умных людей не хватает…
Настроение было отвратительным. Подумать только – когда-то ей так не терпелось вырасти, стать взрослой, вступить в настоящую, интересную, полную событий жизнь!
Вступила…
Чем полна взрослая жизнь, так это разочарованиями. Так и сыплются одно за другим. Воздушные замки рушатся, словно карточные домики (это сравнение Вера придумала сама, и оно ей очень нравилось). Супружество не принесло ожидаемой радости. По-другому представляла Вера семейную жизнь, совсем по-другому. Очень странное чувство, очень неприятное, когда понимаешь, что все не так, как должно быть, а как оно должно быть – не знаешь. Идешь по жизни, словно по лабиринту. Выхода нет, радости нет, счастья нет. Однажды Вера не выдержала и пожаловалась матери. Кому же еще открыться, как не ей? Мать утешила, как могла, сказала, что с рождением первого ребенка жизнь изменится к лучшему, обретет высший смысл, потому что материнство есть высшее предназначение женщины. Вера против материнства ничего не имела, даже наоборот, да что-то пока не получалось забеременеть во второй раз. Доктора ничего не находили, говорили, что это от нервов, выписывали успокоительные микстуры и советовали съездить куда-нибудь на воды, хотя бы в Пятигорск. Когда докторам сказать нечего, они всегда выписывают успокоительные микстуры и советуют съездить на воды. Микстуры были горькими, пить их было противно. На воды не хотелось – там, должно быть, скучно, да и воды эти тоже отвратительны на вкус, не лучше микстур.
Со сценой тоже не сложилось. Сама Вера предпочитала думать в настоящем времени – не складывается, но еще, быть может, сложится. А что сложится, если ей вынесен приговор в самой высшей инстанции? В феврале она подольстилась изо всех сил к тете Лене и упросила ее устроить ей аудиенцию у самого Южина, управляющего труппой Малого театра. Тетя Лена сначала, по обыкновению, отнекивалась, говоря свое вечное: «Я это актерство хорошо знаю и тебе, Верочка, советую держаться от него подальше», – а потом сдалась. Только уточнила: готова ли Вера принять правду, какой бы та ни оказалась? Вера ответила, что готова, и всего через три дня стояла перед Южиным и читала монолог Катерины:
– Лезет мне в голову мечта какая-то. И никуда я от нее не уйду…
На этом месте голос Веры предательски дрогнул. Расчувствовалась. Южин, большой, серьезный, строгий, вежливо улыбнулся и сказал:
– Достаточно, милая Вера Васильевна. Вы, конечно же, знаете, что вы очень милая?
Вера от таких слов опешила – похвала ли это или громовержец театрального олимпа к ней, как выражалась тетя Лена, «подходит». С теми самыми намерениями, весьма распространенными в театральной среде, про которые рассказывала тетя Лена. Она считала, что при всех своих сценических данных «застряла на полдороге» и не выбилась в примы только из-за своей неуступчивости, нежелания делать карьеру через амуры.
– Но на этом все ваши актерские таланты и заканчиваются, простите мне мою прямоту, но я привык говорить то, что думаю. И голос у вас слабоват, для сцены не годится.
Эти слова прозвучали для Веры как удар топора по плахе для приговоренного. Впрочем, приговоренные этого удара уже не слышат… Вера пролепетала что-то вежливое и ушла, оставив в увешанном афишами кабинете все свои надежды. Тетя Лена потом говорила, что все, что Бог ни делает, делается к лучшему, лучше, мол, в самом начале узнать себе цену, чем оказаться потом у разбитого корыта. А того понять не хотела, что Вера намеренно говорила негромко – в кабинете же дело было, не на сцене. Но при этом старалась, чтобы голос ее звучал проникновенно и эмоции на лице отображались. Чтобы было видно, что она действительно переживает, о сокровенном говорит, о наболевшем. Странно, что Южин этого не понял. Привык, должно быть, к трагическому заламыванию рук и надрывному крику.
А Вера так надеялась… Столько себе напридумывала… Вспомнила, как танцевала на сцене Большого театра…[7] Тетя Лена не понимает, что ей не просто мечту свою хочется в жизнь воплотить, но и заняться каким-нибудь настоящим, стоящим делом. Это очень важно, чтобы у человека было занятие, которое ему по душе. Занятие – оно не просто занятие, оно вроде укрытия, туда, в это занятие, можно убежать от всего, что тебя беспокоит. Взять, к примеру, Владимира. У него – дела, клиенты, суды. Выиграет очередное дело – и радуется. Даже если дома что-то не так, все равно же радостно. А чему радоваться Вере? Чем заниматься? Чему посвятить себя, если не сцене? Давать домашние уроки? Окончить акушерские курсы? В иллюзионах[8] на пианино играть? Разве все эти занятия могут сравниться со сценой? Отчего люди не летают так, как птицы? Оттого что едва попробуешь расправить крылья, как жизнь тебе их обломает…
Приоткрыв дверь, в спальню заглянула горничная Таисия. Увидев в зеркале выражение Вериного лица, поспешила закрыть дверь, но Вера громко поинтересовалась:
– Что такое?
– Я только спросить, Вера Васильевна. – Таисия вошла, но далеко проходить не стала, остановилась у самой двери и начала привычно теребить фартук левой рукой. – У нас с Ульяной спор вышел касаемо парохода, который в окияне утонул. Я говорю, что он был больше, чем Ноев ковчег, а она мне не верит. А вы как считаете?
Два последних дня газеты только и писали, что о величайшем в мире океанском пароходе «Титанике», который, выйдя в свой первый рейс из Соутгемптона в Нью-Йорк, наскочил у мыса Рее на ледяную глыбу и очень скоро, в каких-то полчаса, затонул. Вера «Титаником» интересовалась мало, хотя и сочувствовала утонувшим и их близким. Горе-то какое! Но саму ее более заботило половодье, грозившее со дня на день обернуться наводнением. Вода в Москва-реке все прибывала и прибывала, «медленно, но упорно», как писали газеты. Любопытствующие ездили к Бородинскому и Крымскому мостам, откуда удобнее всего было наблюдать половодье. Зрелище и впрямь было величественным, но вместе с тем и страшным. Вода на значительном протяжении размыла берег Смоленской набережной. Между Проточным переулком и Смоленской улицей образовалось огромное озеро. Затопило Потылиху и огороды за Новодевичьим монастырем. Если живешь в двухстах шагах от реки, то поневоле будешь бояться. Но вроде бы со вчерашнего вечера вода перестала прибывать. Дай-то бог…
– Писали, что там было почти четыре тысячи человек, а вот про размеры ничего не писали, но я думаю, что «Титаник» был больше… – не очень уверенно ответила Вера.
– Вот и я то же самое говорю! – обрадованно затараторила Таисия. – Поэтому-то и затонул. Грех строить корабли больше ковчега, скромнее надобно быть!
Сраженная ее логикой, Вера не нашла что ответить. Таисия хотела что-то добавить, но ее отвлек звонок в дверь. Услышав негромкий мужской голос, Вера решила, что это пришел дворник или почтальон. Почтальон приходил к ним часто, потому что некоторые иногородние клиенты Владимира слали ему телеграммы не в контору, а на дом. Видимо, считали, что домашний адрес надежнее, или же имели какие-то иные соображения. Нет, вроде бы не дворник и не почтальон, потому что гость прошел в глубь квартиры. Вера быстро взглянула на себя в зеркало, проверяя, надлежащим ли образом она выглядит, и поспешила узнать, кто к ним пришел.
– Офицер! – доложила встреченная в коридоре Таисия и зачем-то округлила глаза. – К вам, Вера Васильевна!
Почему округлила глаза, Вера поняла, как только вошла в гостиную и увидела на офицере синий жандармский мундир. Жандармов принято бояться, даже если и совесть чиста. Просто так они не приходят.
Синий мундир удивительно шел к синим глазам офицера, и вообще офицер был молодым, красивым, подтянутым, ладным. Мужественным, с твердыми чертами лица, но в то же время с каким-то девичьим румянцем на скулах. И смотрел он на Веру своими чудесными синими глазами не строго, как положено жандармскому офицеру, а приветливо и даже смущенно. Должно быть, и щеки от смущения покраснели. Да точно – смущался, поскольку не отдал свою фуражку с голубой тульей Таисии, а держал в руках. Шинель отдал (Вера не обратила внимания, что там висит на вешалке), а фуражку забыл. Таисия тоже хороша, не напомнила.
– Исполняющий обязанности начальника Московского контрразведывательного отделения штабс-ротмистр Немысский! – представился офицер и добавил: – Георгий Аристархович.
Держался он молодцевато – каблуками щелкнул, аксельбантами серебряными тряхнул – но без наигрыша, говорил негромко, мягко, не хмурился и вообще никакой суровости на себя не напускал. Вера подумала, что вот так, должно быть, приходят к актрисам поклонники. Смущаются, приносят цветы… Цветов штабс-ротмистр ей не принес, но ведь она и не актриса. Ишь, размечталась.
Имя штабс-ротмистра тоже понравилось Вере – звучное, рокочущее, мужественное, породистое. Георгий Аристархович это вам не Степан Антипович.
Вера зачем-то посмотрела на стенные часы. Часы показывали четверть двенадцатого.
– Разговор у меня к вам будет долгий, Вера Васильевна, – сказал гость. – Или его не будет совсем, все зависит от вашего желания. Мне порекомендовал обратиться к вам полковник Ерандаков…
От нахлынувших воспоминаний закружилась голова. Вера поспешила присесть на диван.
2
«В подмосковном Кусково г.г. Мархлевский и Конончук открыли новое спортивное предприятие – Лаун-Тенис. На европейских курортах игра эта считается одним из самых приятных и полезных развлечений. Также Лаун-Тенис в большой моде в Северо-Американских Штатах. Не умеющие играть могут обучиться на месте, уплатив лишь за время, проведенное на Тенисе. Один час этого удовольствия стоит 50 копеек».
Газета «Московские ведомости», 4 апреля 1912 года
В прошлый раз, два года назад, все начиналось столь же мирно… Нет, в этот раз Веру не просили заглядывать тайком в чужие портфели[9]. Нынешнее поручение (облеченное в форму просьбы, это было все же поручение) казалось простым и, если уж говорить начистоту, пришлось скучающей Вере по душе. От нее требуется всего-навсего стать завсегдатаем (вот почему для этого слова не придуман женский род?) салона Вильгельмины Александровны Цалле, немецкой шпионки и совладелицы гостиницы «Альпийская роза» с одноименным рестораном. Номинально госпожа Цалле всего лишь совладелица, поскольку ей принадлежит небольшой пай в «Акционерном обществе гостиницы, ресторана и виноторговли «Альпийская роза» с основным капиталом 200 тысяч рублей. Но на самом деле она заправляет всеми делами, потому что главный акционер и председатель правления общества купец первой гильдии Михайловский – фигура подставная, только для виду.
– Там очень темная история, Вера Васильевна. Рискованные операции с ценными бумагами довели Михайловского до банкротства. Уже до описи имущества дошло, как вдруг Михайловский восстал, словно феникс из пепла. Расплатился в одночасье с долгами, и мало того – купил у прежнего владельца, некоего Петкевича, «Альпийскую розу». Каково? Объяснял всем, что было у него немного на черный день отложено. Когда же черный день настал… Вы совершенно справедливо улыбаетесь, Вера Васильевна. Может, у Ротшильда полмиллиона на черный день припрятано, в такое еще можно поверить, но не у меховщика средней руки. И зачем тогда до последнего доводить? До описи имущества? Что бы ему немного раньше заначку свою тронуть, чтобы репутацию спасти? Да что там полмиллиона, целый миллион у Михайловского должен был быть припрятан! Немыслимые для него деньги! Он же не только долги свои заплатил и «Розу» купил, он же еще и перестроил ее на современный лад, фасад красивейший сделал, рядом для ресторана отдельное здание построил. И внутри все настолько роскошно… Сами увидите, Вера Васильевна. Нет, это немцы ему деньги дали и велели купить «Альпийскую розу»! Немцы – народ сентиментальный. «Роза», которую немец Гермес сорок лет назад открыл, для них вместе с Немецким клубом[10] составляет уголок Германии в Москве, они этим дорожат. Вы же понимаете, насколько удобно действовать через подставное лицо…
Вера не очень-то представляла себе эти преимущества, но понимающе кивнула, чтобы не выглядеть в глазах штабс-ротмистра полной дурой.
– А теперь акционерное общество намеревается открывать гостиницы с ресторанами в других городах империи! Михайловскому на это Азовско-Донской банк крупный кредит предоставил, валяй, устраивай шпионские гнезда по всей России! Сетью накрывают, мерзавцы проклятые! Прошу прощения, Вера Васильевна, вырвалось…
Вера улыбнулась, давая понять, что разделяет мнение собеседника, и стала слушать штабс-ротмистра дальше. Слушала благосклонно, потому что нравилось ей все – и сам Немысский, и то, что он предлагал, и то, что будет чем разнообразить скучную жизнь. И, кажется, на этот раз – без особого риска. Хорошо!
Салон у госпожи Цалле хороший, там бывают интересные люди – поэты, художники, музыканты. И не только. Вере будет надо наблюдать, примечать, кто с кем общается, кто бывает часто, а кто редко, брать на заметку новых людей… Это же так интересно! Кто-то из ханжей брезгливо скривился бы («фи, следить, высматривать стыдно»), но это же не за мужем следить и не за подругой, а за врагами. Есть же разница. Поговаривают, что война с Германией не за горами, вон даже Владимир так считает. Не далее как в минувшее воскресенье он сказал, что слишком уж много противоречий скопилось в современном мире и это настораживает и беспокоит. А Владимир зря говорить не станет, не такой человек.
Штабс-ротмистр Немысский (редкая фамилия, никогда не встречалась раньше) при всей своей кажущейся открытости был человеком коварным или скорее не коварным, а, как принято говорить, себе на уме. Прося о помощи, он не преминул обрисовать Вере бедственное положение русской контрразведки. В общих чертах, но доходчиво:
– Немцам у нас раздолье, Вера Васильевна. Мы им сами добрую половину своих секретов выдаем, размещая военные заказы на иностранных предприятиях как за границей, так и в пределах империи. А если еще и принять во внимание количество технических специалистов немецкого происхождения да количество немцев среди акционеров наших заводов… Эх, да что там говорить. Я порой недоумеваю, зачем германской и австрийской разведкам вообще нужно что-то делать в России – подкупать, красть, выведывать. Большинство секретов они могут узнать без труда. Свои же немцы расскажут… Да и надобно ли рассказывать, если, к примеру, строительством эскадренных миноносцев для русского флота и полным их оснащением занимаются немцы и французы. Ну, еще и англичане помогают.
– Неужели сами не можем? – ахнула Вера.
Что такое эскадренные миноносцы, она и понятия не имела, но чутье и то выражение, с которым штабс-ротмистр произнес эти слова, подсказывало, что речь идет об очень важных и нужных кораблях. Важных, нужных и, разумеется, секретных.
– Можем, но не все, а только половину. – Когда Немысский хмурился, его хотелось погладить по рыжеватым вихрам, такой он был милый бука. – Не справляемся сами, Вера Васильевна. Ни с чем не справляемся, а война уже не за горами. На пороге война. Год, два, и начнется…
В столь мрачные прогнозы верить не хотелось нисколько. «Немцы, они ведь тоже не дураки, должны понимать, что худой мир лучше доброй ссоры, – подумала Вера. – И вообще, мужчины любят хорохориться, бряцать оружием, придавать себе значимости и все такое… Бог даст, не будет никакой войны. Похорохорятся себе, да и договорятся миром, тем более что государь и немецкий кайзер связаны родством, пусть и не очень близким, но все же родством. Неужели они между собой миром не договорятся? Не может такого быть! Даже если и повздорят, то скоро одумаются и пойдут на попятный. Сама Вера в детстве сколько раз спорила со средней сестрой Наденькой – вспомнить страшно. Чуть ли не до драки доходило. А стоило разойтись по разным углам да подумать, и становилось стыдно. Из-за какой-то мелочи поссориться с родной сестрой – стыд и позор. Так и государь с кайзером, подумают, да и помирятся. Но наши секреты немцам выдавать все равно не след. Свои пускай берегут, а на наши не зарятся. Так-то вот.
– В салоне у Цалле собирается самый разный народ, она привечает всех, без разбору. С дальним прицелом, с большим разбором…
– Я в ваших терминах не разбираюсь, – сказала Вера, – и не понимаю, что такое «дальний прицел» и «большой разбор».
– Да это я так, образно, – улыбнулся Немысский. – Хотел сказать, что многолюдье дает Вильгельмине Александровне сразу три выгоды. Во-первых, способствует популярности ее салона. Во-вторых, в такой толпе легко затеряться. Не сразу и поймешь, кто по делу пришел, а кто так – время провести, стихи послушать или, скажем, чье-то пение. В-третьих, надо учитывать особенности современного шпионажа, Вера Васильевна. В наше время ценность имеют любые сведения. Или почти любые. Количество свечей, производимых за год на епархиальном свечном заводе, что в Посланниковом переулке, германскую разведку вряд ли заинтересует, а вот подобные же сведения от Прохоровской мануфактуры заинтересуют непременно.
– От Прохоровской мануфактуры? – переспросила Вера, не понимая, чем там могут интересоваться иностранные шпионы: сукном, платками?
– По поставкам на нужды армии можно сделать выводы о ее численности, – пояснил симпатичный штабс-ротмистр.
Объяснял он хорошо – без рисовки и какого-либо менторства. И вообще держался с Верой на равных, что ей чрезвычайно польстило. Она только усомнилась в отношении того, сможет ли справиться с поручением.
– Василий Андреевич считает, что справитесь, иначе бы он вас мне не рекомендовал. Насколько я могу судить, господин полковник высокого мнения о ваших способностях.
– Разве? – Вера удивилась искренне, нисколько не кокетничая. – Во время нашей единственной встречи с господином полковником я никак не могла проявить свои способности. Я только сидела, слушала его и ахала, потому что все на самом деле оказалось совсем не таким, как мне представлялось[11]. Давайте без комплиментов, Георгий Аристархович, мы же о деле говорим.
– Я бы вам, Вера Васильевна, наговорил комплиментов с преогромным удовольствием, потому что вы их заслуживаете, как никто…
«Ого! – подумала Вера. – Начинается. Ну-ка, господин штабс-ротмистр, продолжайте…»
Продолжения, однако, не последовало.
– Но мы действительно говорим о деле, и потому никаких комплиментов. – Немысский враз посерьезнел и даже взглядом построжал. – Я в курсе того, что творилось в Москве до моего перевода сюда. Не только вы ахали, когда узнали правду. В Петербурге все ахали, в том числе и Василий Андреевич. Наши противники умны и коварны, этого у них не отнять. Ум и коварство – это суть шпионажа. Ну и жестокость тоже. Что касается вас, то вы на Василия Андреевича произвели самое лучшее впечатление. Он считает вас умной, отважной, целеустремленной и, что важнее всего, настоящей патриоткой. Человеком, на которого можно положиться и которому можно всецело доверять. Вы уже, должно быть, поняли, как важно в нашем деле доверие. И, кроме того, у вас есть еще одна… одно… преимущество, которое поможет вам попасть в салон Цалле. Это должно быть сделано настолько естественно, чтобы у госпожи Цалле не возникло в отношении вас никаких подозрений. Мы здесь помочь ничем не сможем…
– Но у меня с ней нет общих знакомых, – огорченно сказала Вера. – Разве что попросить помочь мою родственницу, актрису Малого театра Лешковскую, тетю Лену…
– Попросите помочь вашего мужа, ведь он с Цалле состоит в одном и том же автомобильном обществе. Госпожа Цалле – страстная автомобилистка. Она выдержала при городской управе экзамен на право езды по городу в качестве шофера и самостоятельно управляет своим автомобилем марки «Мерседес». Мощная и быстрая машина, скажу я вам, ни одному лихачу не угнаться. Очень удобно для того, чтобы избавиться от слежки. Цалле часто так делает – уезжает за город, чтобы на просторе разогнаться как следует, и исчезает на целый день. Причем нередко возвращается к себе на Софийку – живет она в гостинице, на втором этаже, там у нее устроена роскошная пятикомнатная квартира – уже не в шоферском костюме, а в обычном дамском наряде. Когда в дорожном платье, а когда и в вечернем. А машину потом пригоняет фон Римша, управляющий гостиницей и верный помощник Цалле во всех делах, в том числе и шпионских. Пренеприятнейший тип и очень проницательный, будьте с ним осторожны…
«Умно, – оценила Вера задумку контрразведки. – Если там читают стихи и выступают певцы, то там должно быть весело. Владимир ничего не заподозрит, даже будет рад тому, что я нашла себе какое-то развлечение…»
– И вообще будьте крайне осторожны, прошу вас. – Взгляд штаб-ротмистра стал озабоченным. – Не пытайтесь что-то выведать, выспросить, подслушать. Не навлекайте на себя ничьих подозрений. Для дела гораздо важнее, чтобы вас не опасались, чтобы вы имели возможность появляться в салоне и наблюдать за теми, кто там бывает. Регулярные сведения о посетителях несоизмеримо важнее одного подслушанного секрета, после которого двери салона Цалле навсегда закроются перед вами. Мы в данный момент выявляем источники, из которых германская разведка получает сведения. Вы понимаете, насколько важна ваша роль, Вера Васильевна?
Ах, сердце, сердце… Все радостно ёкает при слове «роль», как будто не было южинского приговора. С мечтой, должно быть, невозможно расстаться. Мечта – это на всю жизнь, вне зависимости от того, сбылась она или нет. Мечты, мечты…
Вере очень не хотелось сообщать мужу, что она снова берется за старое. Слишком уж дорого обошлась им прошлая история, в которую Веру втянул не кто иной, как собственный деверь, родной брат мужа, изменник и негодяй[12]. Салон у Владимира никаких подозрений не вызовет, он далек от шпионских дел. Вот если бы госпожа Цалле занималась чем-то уголовным, тогда Владимир, как адвокат, скорее всего знал бы об этом.
– Нас интересуют все гости Цалле, поскольку мы не знаем, кто именно нам нужен, – сказал в заключение Немысский. – После каждого посещения прошу вас писать подробные отчеты. Кого видели, что слышали, кто с кем разговаривал, часто ли отлучалась Цалле и так далее. А мы станем вникать, разбирать и примерять к нашим делам…
– Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что, – заметила Вера.
– Вы очень тонко и остроумно обрисовали суть нашей работы, Вера Васильевна, – похвалил Немысский. – Очень важно, чтобы вы писали свои отчеты сразу же по приходу домой, пока еще в памяти свежи все детали. Готовый отчет вложите в конверт, напишите на нем «для Г.А.» и оставьте его у букиниста Коняева. Его магазин здесь неподалеку, на углу Большой Ордынки и Среднего Кадашевского переулка.
– Знаю такой! – Вера вспомнила небольшой магазин, в котором так приятно пахло старыми книгами, и его пожилого владельца, лицом очень похожего на филина. – А господин Коняев тоже…
– Господин Коняев – родной брат моей матери, – улыбнулся штабс-ротмистр. – К контрразведке он не имеет никакого отношения, но никогда не откажется оказать мне услугу. Узнав, где вы живете, я сразу же подумал о том, что вам будет очень удобно наведываться к дяде Михаилу. Близко, и никаких подозрений ни у кого не вызовет. Я уже с ним договорился…
– Загодя? – Вера удивленно повела бровью. – А если бы я не согласилась?
– Василий Андреевич был уверен, что вы согласитесь, – не моргнув глазом ответил штабс-ротмистр. – А вот вам мои телефонные номера – домашний и служебный. На служебном установлено круглосуточное дежурство, в случае срочной необходимости можно попросить меня найти.
Номера были не напечатаны на визитной карточке, а просто написаны от руки на осьмушке плотной шероховатой бумаги круглым писарским почерком. Цифры выглядели солидными, пузатенькими. Номера врезались в память сразу же, стоило только взглянуть на листок. 18–93 – это год Вериного рождения (Боже мой! В следующем году ей исполнится двадцать лет!), а 24–42 не запомнить просто невозможно. Дважды два – четыре, и наоборот.
– Георгий Аристархович… – Вера хотела сказать, что полковнику Ерандакову не следовало быть столь уверенным, ведь он ее почти не знает, но передумала и спросила первое, что пришло ей в голову: – Скажите, пожалуйста, а за что вы получили этот орден?
Она указала пальцем на белый нагрудный крест с золотыми вензелями, увенчанными императорской короной.
– Этот? – переспросил штабс-ротмистр и придал лицу многозначительный вид. – О, Вера Васильевна, эту великую награду я получил за главный и пока что единственный подвиг в моей жизни…
А он, оказывается, хвастун… Вера, не любившая хвастовства, немного разочаровалась в симпатичном штабс-ротмистре.
– За окончание Александровского военного училища!
Верино разочарование тотчас же исчезло. Они вместе посмеялись над шуткой, а затем штабс-ротмистр откланялся. Только после его ухода Вера сообразила, в сколь невыгодном свете предстала она перед Немысским. Хороша хозяйка – гость просидел около часа, а она даже чаю ему не предложила. Или же коньяку… Еще сочтет ее скупердяйкой.
Странно – полтора часа назад Вера и знать не знала о существовании штабс-ротмистра Немысского, а сейчас ее настолько волновало произведенное на него впечатление…
Поглядев на часы, Вера спохватилась и отправилась на кухню, чтобы велеть кухарке Ульяне собрать ей что-нибудь к обеду. Владимир еще вчера предупредил, что не сможет приехать обедать домой. В последнее время, бывало, по целым неделям не приезжал. В такие дни Ульяна готовила «широкий», как она выражалась, ужин, размахом подобный обеду, а Вера днем ела что-то из оставшегося со вчерашнего дня или просто холодную говядину с подливой – «дежурное» блюдо, которое дома было всегда. Мясо всегда бралось одно и то же – толстый филей, а вот подливу Ульяна разнообразила по своему кухарочьему вдохновению. То морковную готовила, то из чернослива, могла – с тмином, а могла и попросту хрена в сметану натереть.
Старалась, как могла, потому и блюдо было «дежурным», вечным, что не надоедало.
Сегодня Вера торопилась. В два с четвертью ожидалось солнечное затмение. День выдался ясным, совершенно безоблачным, благоприятным для наблюдения за этим редким природным явлением. Вера быстро поела, оделась и, снедаемая нетерпением, уже в два часа вышла из дому. На улице было много народу, раза в два, если не в три больше обычного. Кто-то стоял на одном месте, кто-то прогуливался, но все то и дело поглядывали на небо – не началось ли? Стоять на месте одной скучно, поэтому Вера решила пройтись. Дошла по Пятницкой до полицейской части, свернула в Климентовский, а когда вышла на Кузнецкую, то увидела, как луна начала наползать на солнце с нижнего правого края. Само наблюдение большого удовольствия не доставило. Слишком уж медленно закрывалось солнце – целый час. И тьма оказалась не тьмой, а сумерками. Про это писали в газетах, но Вере казалось, что должно быть гораздо темнее. Дожидаться, пока солнце «откроется», она не стала, вернулась домой, где застала кухарку и горничную снова спорящими. На сей раз по поводу затмения. Таисия, как более образованная (она знала грамоту, читала газеты, брала у Веры романы, которые про любовь), пыталась объяснить Ульяне природу затмения, а та не верила. Усмехалась и ехидно спрашивала, как это маленькая луна может закрыть большое солнце. После того как Вера подтвердила, что Таисия права, спор утих, но по выражению лица Ульяны чувствовалось, что она все равно не поверила, просто не хочет спорить с хозяйкой…
Владимир согласился сразу же, уговаривать его не пришлось.
– Прекрасная идея! – одобрил он. – И как мне самому раньше в голову не пришло? У Вильгельмины Александровны очень интересно! Кстати, она нас когда-то приглашала у нее бывать, но в то время я как раз был занят делом Герцика, мотался между Москвой и Тверью и совершенно забыл про ее приглашение. Даже тебе не рассказал, Верочка. Ты уж прости! Как только я увижу Вильгельмину Александровну в клубе, думаю, что послезавтра и увижу, то сразу же напомню ей о том приглашении. Ей, собственно, и напоминать не надо, она на удивление радушная и гостеприимная особа. Не может без общества, одной ей скучно…
«Конечно, скучно, – иронично подумала Вера. – На удивление радушная и гостеприимная особа! Надо же…»
– Только вот… – Владимир осекся на полуслове и виновато посмотрел на Веру, которая сразу догадалась о том, что он хочет ей сказать, но виду не подала. – Такая оказия… Мне в понедельник в большой процесс входить… Лаушкин против Томберга, ты, верно, читала в газетах?
– В газетах в последние дни пишут только про затонувший «Титаник». – Вера постаралась изобразить на лице нечто вроде разочарования. Ладно, что уж теперь поделать? Готовься к своему процессу, я подумаю, кого мне взять с собой…
«Подумаю, кого мне взять с собой» было сказано просто так. Брать с собой было некого. Старые гимназические подруги куда-то исчезли, стоило только Вере выйти замуж (сами тоже повыходили уже почти все), одну-единственную «негимназическую» подругу убили на глазах у Веры и вместо Веры, а новых подруг Вера в супружестве не завела. Владимир работал так много, что они сами не делали визитов и никого у себя не принимали. Редкие балы, на которые они выбирались вдвоем, приносили Вере мало удовольствия. Она любила, чтобы ее окружали знакомые люди, и, еще не успев окончательно войти во взрослый степенный возраст, ценила в людях искренность и открытость. Общество, в котором ей приходилось бывать с мужем, было иным – чопорным в своей степенной солидности, скупым на проявления чувств и каким-то, как выражалась про себя Вера, «замороженным». Так вот и получилось, что единственной своей подругой, пусть и с большой натяжкой, Вера могла назвать дальнюю родственницу, тетушку Елену Константиновну Лешковскую. Но с натяжкой – разница в возрасте, при всей родственной приязни, мешала Вере быть с тетей Леной слишком откровенной. А без откровенности какая дружба? Одно название.
«Одно название», – горько повторила про себя Вера. Супружеская жизнь спустя два года после венчания тоже стала «одним названием». Даже не через два, а гораздо раньше – уже сколько так тянется. Нет, на первый взгляд все осталось таким же, как и было, но в то же время все изменилось. Владимир стал другим, да и сама Вера тоже. Когда-то каждый новый день был праздником, приход Владимира – счастьем, а ночи – упоительным гимном любви. Вера все недоумевала: как такое чудо можно называть скучными словами «исполнение супружеского долга»? Сейчас, когда любовь исчезла, поняла как. Долг он и есть долг. Владимир его исполняет, и ей приходится исполнять. С надеждой на то, что им снова удастся зачать ребенка, и с верой в то, что с рождением ребенка жизнь непременно изменится к лучшему. Но иногда сердце холодело от мысли: а что, если ничего не изменится? Если Владимир останется таким же далеким, супружество таким же постылым, а Вера такой же несчастной? Дитя, вне всяких сомнений, скрасит ей жизнь, но…
Но так хочется, чтобы счастье вернулось, чтобы вернулась любовь. Не иметь и не знать – вовсе не так больно, как обладать и утратить. Утекло Верино счастье, как вода из пригоршни. Подразнило и исчезло. А было ли оно вообще? Иногда начинало казаться, что счастье свое Вера придумала или оно ей приснилось. От подобных мыслей недолго и умом тронуться.
Супружеская жизнь… «Венчается раба Божия Вера рабу Божию Владимиру во имя Отца, и Сына, и Святого Духа…» Все осталось таким же, каким и было, только если раньше порой тянуло уткнуться в подушку и плакать от счастья (иногда ведь и от счастья слезы на глаза наворачиваются), то теперь плакать тянет по совершенно другой причине – как-то все не так, как должно быть, а как должно быть, Вера не знает.
Вечером в пятницу, шестого апреля, Владимир, вернувшись из клуба автомобилистов, что находился на Кузнецком мосту в доме Фирсановой-Ганецкой, сказал Вере, что Вильгельмина Александровна будет несказанно (так и прозвучало «несказанно») рада видеть ее у себя по четвергам и субботам.
– Гости начинают собираться с половины седьмого, но сама Вильгельмина Александровна раньше семи часов не появляется, – предупредил муж. – Это она так сказала. И еще сказала, что завтра ты непременно должна быть у нее. Почему именно, не сказала, она любит заинтриговать какой-нибудь тайной, но намекнула, что ожидается нечто исключительное…
– Я так люблю сюрпризы! – Вера улыбнулась, обняла мужа и поцеловала его в щеку. – Спасибо, Володя.
Муж попытался поймать своими губами ее губы, но она ловко увернулась. Увернулась необидно, так, словно не поняла его намерений, и подумала вслух:
– Интересно, что это такое «исключительное»?
Во вчерашнем номере «Московского листка» Вера прочла, что, «по слухам, до нас дошедшим», в Москву инкогнито приехала актриса Аста Нильсен, звезда мирового синематографа. «Бездну» и «Чужую птицу» с ее участием Вера смотрела несколько раз. С недавних пор она часто стала ходить в иллюзионы. Вначале ходила со скуки, ведь фильмы в отличие от спектаклей показывают днем, да и «премьеры» здесь гораздо чаще, каждую неделю что-то новое идет. А потом втянулась и не только поняла, что синематограф – это такое же искусство, как и театр, но и себя начала представлять на экране. Особенно после проваленного «экзамена» у Южина. Аста нравилась Вере больше прочих актрис, наверное, потому что была очень на нее похожа. Неужели она в Москве?! Впрочем, «Листку» верить нельзя. Такая уж это газета, соврет и недорого возьмет. Особенно с оговоркой про «дошедшие до нас слухи». Но если это правда, то Аста вполне может оказаться в салоне у Цалле. Они же обе немки, или Аста, кажется, датчанка? Но снимается-то все равно в Германии…
Вера и предположить не могла, что завтра в «Альпийской розе» произойдет убийство.
3
«Известно, что во время стрельбы в председателя совета министров П.А.Столыпина он стоял, опершись о барьер оркестра. Одной из пуль, выпущенных убийцей, был ранен в ногу концертмейстер оркестра Гербер. В настоящее время Гербер предъявил иск к киевской охране. Сумма иска составляет 20 тыс. рублей. В своем иске Гербер указывает, что он не только лишился заработка на время лечения, растянувшееся на три месяца, но и поныне по временам испытывает недомогание, мешающее ему работать».
Газета «Московские вести», 5 апреля 1912 года
Немысский нисколько не преувеличил – в «Альпийской розе» впечатляло все – и фасад, сразу же навевавший мысли о Ренессансе, и вестибюль, который зеркала на стенах и потолке делали поистине огромным, и все это обилие лепного декора и колонн… А швейцар у входа? Переодеть его из бутылочного цвета ливреи в мундир действительного тайного советника[13], так никто бы не усомнился, что перед ним настоящий советник, потому что выражение лица соответствующее – умное, властное и вместе с тем приветливое. Никакого угодничества с раболепием, большего достоинства у швейцаров Вера никогда не встречала.
«Все ясно, – подумала она, улыбаясь швейцару, – если здесь шпионское логово, то на входе непременно должен стоять доверенный человек, непременно из офицеров, чтобы наблюдать за обстановкой, отделять своих от чужих и обеспечивать спокойствие. Это он с виду швейцар, а на самом деле, небось, капитан германского генштаба. А то и майор…»
На Веру швейцар смотрел благосклонно. Сдержанно поклонился, сделал приглашающий жест рукой, проходите, мол, и сказал, указывая на распахнутую двустворчатую дверь, находившуюся справа от широкой мраморной лестницы:
– Рад вас видеть, сударыня. Пожалуйте вон туда.
«Разве мы знакомы?» – едва не сорвалось с языка у взволнованной Веры, но она вовремя поняла, что это просто такая приветственная фраза, не более того.
– Я в салон, – на всякий случай уточнила Вера.
Швейцар молча кивнул, давая понять, что именно в салон он Веру и отправил.
Сдав в гардероб свое модное, утепленное ватином, вельветовое пальто цвета мордоре[14], Вера глянула на свое отражение в зеркалах и порадовалась тому, как сидит на ней новое платье-«принцесса», сшитое совсем недавно, в прошлом месяце, к Пасхе. Портниха «обновила» классический фасон косым срезом подола и пустила по вороту и подолу черные кружева, замечательно смотревшиеся на устрично-розовом атласе. Наряд дополняли только-только начавшая входить в моду шляпка-клош[15] (Аста Нильсен щеголяла в такой на экране) и черный кружевной шарф, наброшенный на плечи вроде шали. Замечательно получилось – роскошно, но утонченно и немного загадочно. То, что уместно в салоне, где собираются поэты с музыкантами.
Не успела Вера войти в гостеприимно распахнутые двери, как к ней подошла улыбающаяся дама в строгом черном платье, совершенно не вязавшемся ни с улыбкой, ни с взглядом, который так и хотелось назвать «лучезарным» или хотя бы «сияющим». Дама была красивой, не очень молодой, но из тех, про кого принято говорить «хорошо сохранилась». Если бы не шея (а что выдает возраст сильнее, чем шея или руки?), то ей можно было бы дать тридцать с небольшим. Высокая, но не толстая, нерасплывшаяся, правда в кости немного широка.
– Каждое новое лицо несказанно меня радует! – проворковала дама, глядя на Веру с такой приязнью, словно она была ее дочерью, потерявшейся в младенчестве и только сейчас нашедшейся. – Кто вы, прекрасная незнакомка?
Сверкнули глаза, сверкнули бриллианты в ушах, сверкнули жемчужные зубы. Вера догадалась, почему столь «блистательная» (другого слова и не подобрать) особа надела простое, скромное, едва ли не траурное платье. Фон должен подчеркивать, а не затмевать. И потом в большой зале, кажется, не было другой женщины в черном. Оригинально и с претензией.
– Я – Вера Холодная! – представилась Вера. – А вы, должно быть, Вильгельмина Александровна?
Впервые в жизни Вера не стала добавлять, что она супруга адвоката Владимира Холодного. Непонятно почему, но так ей захотелось.
– Да, я – Вильгельмина Александровна Цалле, – с достоинством подтвердила дама и церемонно осведомилась: – А можно ли узнать ваше отчество?
– Васильевна, но можно обойтись и без него, – смело заявила Вера, входя в роль совершенной émancipée[16]. – Я, знаете ли, предпочитаю простоту и свободу.
А кем еще выставляться, если явилась одна, без мужа? Только émancipée.
– Я тоже придерживаюсь тех же правил, – заявила Цалле, беря Веру под руку. – Обожаю простоту, вы сами увидите, как у меня все просто. Чопорность на втором этаже, а здесь, на первом, все иначе. Но – без развязности и амикошонства. Мера! Мера! Во всем должна быть мера…
Она повела Веру по зале, роскошью не уступавшей вестибюлю, разве что зеркал здесь не было. Но зато лепнины на потолках и прочих украшений было больше. Если вестибюль, при всей его избыточной зеркальной пышности, нельзя было назвать безвкусным, то к зале это определение так и напрашивалось.
В дальнем правом углу было устроено нечто вроде сцены – невысокий подиум, на котором стояли рояль и высокий напольный пюпитр из красного дерева. Вдоль левой стены протянулись столы с угощением (довольно скромным, как заметила Вера: нанизанные на деревянные шпажки канапе, какие-то печенья, фрукты). Впрочем, на закуски почти никто из собравшихся не обращал внимания. Жующих Вере почти не попадалось, а вот бокалы и фужеры с напитками были почти у всех. Напитки разносили официанты в белоснежных костюмах. Вера отметила про себя странность – немецкий, европейский, ресторан, а официанты в белом, как в купеческих трактирах.
– У меня гостям предоставлена полная свобода, – ворковала Цалле, кивая на ходу направо и налево. – Сейчас я вас познакомлю кое с кем, а затем оставлю. Но ни в коем случае не уходите рано, умоляю вас, потому что сегодня я приготовила восхитительный сюрприз! Ладно, так уж и быть – вам скажу прямо сейчас, чтобы вы не мучились неведением! Я пригласила самого Мирского-Белобородько! Если бы вы только знали, чего мне стоило уговорить его изменить на один вечер своей любимой «Мозаике». Вы, конечно же, любите Мирского? По глазам вижу, что любите!
Было очень стыдно признаваться в том, что не знаешь стихов Мирского-Белобородько, только фамилию его мельком слышала и запомнила лишь потому, что она похожа на Кушелёва-Безбородко[17]. Поэтому Вера поспешно кивнула, а затем восторженно закатила глаза, давая понять, что она без ума от этих никогда ею не слышанных и не читанных стихов.
– Вам у меня непременно понравится! – обнадежила Цалле. – Сейчас я познакомлю вас с интересными людьми!
Подбор «интересных людей» сильно удивил Веру. В первую очередь тем, что по-настоящему интересным оказался всего один человек, а во вторую – тем, что из шестерых интересных людей пятеро были мужчинами. Логичнее было бы ожидать, что хозяйка салона введет ее в женский круг, но, видимо, у госпожи Цалле были свои резоны. Или она попросту перезнакомила Веру с первыми же попавшимися людьми и упорхнула к другим гостям.
Упорхнула, именно упорхнула. При всей своей тяжеловесности двигалась Вильгельмина Александровна очень легко, порхала бабочкой. Движения ее были грациозными и энергичными, что и создавало впечатление легкости.
Актриса Ариадна Бельская-Белогорская Вере совсем не понравилась – больно уж манерная, и глаза злые, колючие. Одна только фамилия Бельская-Белогорская говорит о многом. Ясно же, что это не настоящая фамилия, а сценический псевдоним, похожий на княжескую фамилию Белосельских-Белозерских. «Не иначе как нашу Ариадну на самом деле зовут Марфой, и настоящая фамилия у нее самая прозаическая – Сидорова или Уткина», – неприязненно подумала Вера, задетая высокомерной холодностью актрисы. Вера если и ошиблась, то ненамного. По паспорту Бельская-Белогорская звалась Евдокией Ефремовой, крестьянкой Яранского уезда Вятской губернии.
Густава фон Римшу, про которого упоминал Немысский, Цалле представила как «доброго кудесника», без которого она не мыслила себе своей жизни. Римша растянул в неприятной улыбке тонкие бескровные губы и сказал, что «добрейшая Вильгельмина Александровна» ему льстит. «Такому захочешь польстить, да не получится», – неприязненно подумала Вера, которой длинный, худой, белесый Римша напомнил червяка. Впечатление дополнялось тем, что он то и дело передергивал плечами, будто извивался. Неприятный человек.
Взъерошенный композитор Мейснер, похожий на суетливого воробья, произвел на Веру более благоприятное впечатление. Но сразу же его испортил каким-то неимоверно цветистым и не менее пошлым комплиментом, который даже не довел до конца, потому что поймал за лацкан форменного сюртука (поймал в прямом смысле этого слова – вцепился пальцами) какого-то господина из судейских и завел с ним разговор.
– Хорохорится, но беден как церковная мышь, – шепнула Вере на ушко Вильгельмина Александровна, и эти слова прозвучали чем-то вроде предостережения – не питайте надежд, милочка.
Как будто Вера питала какие-то надежды. Но приходилось изображать из себя восторженную простушку. Только бы не переусердствовать, только бы не переборщить… Но вроде как получалось неплохо. Во всяком случае, Вильгельмина Александровна оставалась все такой же радушной.
– Вы знаете, что нынче все, в том числе и синематографические фирмы, деятельно готовятся к августовским торжествам по случаю восемьсот двенадцатого года? – спрашивала она так доверительно, словно Вера уже успела признаться ей в своей любви к синематографу (нет, поистине в этой женщине было что-то колдовское!). – Ханжонков и Паттэ готовят к юбилею нечто невероятное. Вы знакомы с Ханжонковым? Он бывает у меня, но не так часто, как хотелось бы… Говорят, что он снял какую-то поистине грандиозную сцену отступления Наполеона из Москвы с участием гренадеров Астраханского полка. Полковник Добрышин жаловался мне… Вы не знакомы с Филиппом Николаевичем? Он бывает у меня только по четвергам, по субботам у него преферанс в Английском клубе. Часу до двенадцатого, а то и позже… А вот и его верный друг и партнер князь Чишавадзе! Рада вас видеть, князь!
Князь Чишавадзе понравился Вере даже меньше, чем фон Римша. Лощеный самонадеянный хлыщ с наглыми влажными глазами. Руку целовал так долго, что Вере пришлось ее отдернуть. Глазами ел, улыбался во все тридцать два (или сколько их там?) зуба, усы подкручивал, ресницами пышными взмахивал. Короче говоря, обольщал, как мог, но Вера к щедрым авансам осталась равнодушна. Вильгельмина Александровна это сразу же поняла и задерживаться возле князя не стала, повела Веру дальше. Познакомила с невзрачным улыбчивым газетным репортером по фамилии Вшивиков (люстриновый пиджак его лоснился на рукавах, и вообще Вшивиков выглядел каким-то затасканным), а затем познакомила Веру с промышленником Шершневым, единственным человеком, произведшим на нее хорошее впечатление. По всему: по степенной, даже величественной осанке, по костюму, по большому бриллианту на безымянном пальце левой руки – было видно, что Шершнев человек не из простых, но при том держался он крайне просто, смотрел приветливо, разговаривал учтиво, без малейших признаков спеси и вообще какой-либо надменности. Вере нравилось, когда люди не задаются, и потому она сразу же почувствовала к Шершневу если не приязнь, то, во всяком случае, нечто вроде расположения.
Вера давно привыкла к тому, что мужчины пытаются произвести на нее впечатление, и чем они старше, тем сильнее пытаются, поэтому не удивилась, когда Шершнев (ему на вид было около пятидесяти или чуть больше) начал рассказывать о том, что недавно купил у какого-то Головнева или Головина в Рыбинске чугунолитейный завод и сейчас озабочен тем, чтобы наладить перевозку готовой продукции в Виндаву. Чугунолитейный завод – это скучно, но зато за время разговора можно незаметно оглядеться по сторонам, немного освоиться.
Ничего интересного вокруг не происходило. Ходят мимо мужчины и женщины, нарядные и не очень (некоторые так совсем в затрапезном виде), разговаривают, потягивают вино из бокалов. Вера взяла у проходившего мимо официанта бокал с белым вином, которое оказалось вполне недурственным токайским, и потихонечку пила его и слушала Шершнева:
– На железной дороге служат такие канальи, что просто слов нет. Никто им не указ, никого не боятся. Мы, говорят, ничего не можем сделать, потому что… и начинают причины перечислять. А как четвертной покажешь, так сразу все налаживается. Но у меня в день по нескольку отгрузок происходит, если за каждую по четвертному выкладывать, да еще и в Виндаве подмазывать, чтобы вовремя перегрузили, то я ведь разорюсь…
К этому Вера тоже успела привыкнуть. Все клиенты Владимира из числа промышленников и купцов, время от времени приглашавшиеся в дом на ужин или обед, непременно жаловались на тяжкие обстоятельства и то и дело пророчили себе скорое разорение. Это, должно быть, традиция такая.
Познакомив Веру с Шершневым, хозяйка салона куда-то исчезла, так что Вере волей-неволей приходилось слушать скучные деловые речи. Лучше уж слушать скучное, чем бродить одной между незнакомых людей. Это неловко и как-то неестественно, когда молодая (и красивая!) женщина ходит неприкаянной. Заскучав окончательно, Вера пошла на хитрость. Дождалась, пока собеседник сделает паузу, и быстро спросила:
– А правду ли говорят, что сегодня здесь будет сам Мирской-Белобородько? Невозможно поверить!
– Неужели вы любите его стихи? – удивился Шершнев, сдвигая на переносице тронутые серебром брови и недоверчиво прищуриваясь. – «Отчаянье мое нескончаемо, а прошлое непослушно мне…» Душные они какие-то, и сам он душный, вязкий. Но мнит себя Байроном или Лермонтовым, не меньше.
– На вкус и цвет товарищей нет. – Вера лукаво улыбнулась и перевела разговор на знакомую тему. – А Зинаиду Гиппиус вы любите?
– Я вообще стихов не люблю, – признался Шершнев. – Я – промышленник, деловой, прозаический человек. Ничего возвышенного во мне нет, но я стараюсь искупать этот недостаток по мере возможности.
– И как же вы это делаете? – заинтересовалась Вера.
– Помогаю материально тем, кто в этом нуждается. – Шершнев, словно винясь в чем-то, развел руками. – Это все, что я могу сделать для искусства. Вклад, конечно, ничтожный и в веках не прозвучит, но…
– Застеколье мое зазеркальное, поднимаю я очи карие, и волнуется сердце, как встарь, мое! – донесся от входа громкий, высокий, с подвизгом, голос. – И свернулась душа калачиком, век бы ей меж людей околачиваться…
Шершнев скривился, словно выпил чего-то горького, и демонстративно уставился куда-то в угол, где ничего интересного не происходило.
– Мирской-Мирской-Мирской!.. – восторженно пронеслось по зале.
Оставив Шершнева (а нечего столь невежливо отворачиваться!), Вера стала лавировать в толпе, пробираясь поближе к дверям, потому что ей, с ее небольшим, четырехвершковым[18], ростом, было видно одну лишь рыжую растрепанную шевелюру вошедшего.
Однако совсем близко подойти не удалось. Возле дверей поклонники столпились так плотно, что для прохода вперед их пришлось бы расталкивать. Не комильфо. Поэтому Вера встала в сторонке, надеясь рассмотреть Мирского, когда он станет проходить мимо нее. Не с какой-то целью, а просто из любопытства – ну-ка, что это за птица такая? Стихи, которые только что прозвучали от двери, Веру не впечатлили. Более того, они ей не понравились. Чепуха какая-то, но с претензией – застеколье мое зазеркальное, зазеркалье мое застекольное… И рифмовать «калачики» с «околачиваться» настоящий поэт не станет. Недостойно таланта, слишком просто, как-то по-гимназически. Гумилев или Северянин никогда бы себе такого не позволили, а если бы и промелькнуло ненароком, то на публике ни за что бы читать не стали.
Остановилась Вера удачно – не прошло и минуты, как мимо нее прошла Вильгельмина Александровна, ведущая под руку (видимо, то была ее обычная манера) толстого, багроволицего, одышливого, довольно-таки неряшливо одетого мужчину лет сорока, а может даже, и пятидесяти. Старый гриб, мелькнуло в Вериной голове нелестное. Она было устыдилась, потому что не стоит судить о человеке по внешности, но тотчас же перестала стыдиться, заметив про себя, что внешность внешностью, а аккуратность аккуратностью. Всегда можно хотя бы причесаться, галстук поправить, да по пиджаку щеткой пройтись, а то плечи словно инеем припорошило – столько на них перхоти. Ладно, можно и не причесываться, если хочется недвусмысленно намекнуть на свое презрение к условностям, но тогда надо постараться, чтобы взлохмаченность выглядела поэтично, романтично, а не абы как. Творческий беспорядок заметно отличается от беспорядка обычного.
Вопреки ожиданиям Веры, Вильгельмина Александровна не повела Мирского к устроенной в углу сцене. Расточая налево и направо улыбки (спутник ее смотрел прямо перед собой и не улыбался), она увлекла его в сторону, туда, где за колонной, увитой гипсовой виноградной лозой, пряталась неприметная дверь.
Оживление схлынуло, публика снова рассредоточилась по зале. Вера подумала, что она уже достаточно освоилась и ей пора бы уже заняться делом – пройтись между людьми, запоминая лица (память на лица, как и на все остальное, была у нее замечательной) и заводя новые знакомства. Под руку (в прямом смысле слова) подвернулся композитор Мейснер, взъерошенность которого приятно контрастировала с лохматостью Мирского. Непорядок на курчавой голове Мейснера был ровно таким, чтобы наводить на мысли о творческих поисках. В сочетании с черным фраком и белой шелковой бабочкой встрепанные кудри смотрелись превосходно, особенно в профиль. Профиль у Мейснера был выразительным: высокий лоб, крупный нос с небольшой горбинкой, резко очерченный подбородок – хоть на монетах чекань. И, что самое главное, встретившись взглядом с Верой, Мейснер оживился, сам устремился к ней и сам заговорил. Удачно получилось, Вере не пришлось навязываться и искать повод для беседы. Впрочем, зачем искать? Начинай говорить о поэзии, не ошибешься.
– Ах, скажите мне, Вера Владимировна, почему, почему Николай Павлович не пишет романсов?! – трагическим тоном спросил Мейснер. – Ну почему?!
Спросил громко, явно рисуясь перед окружающими. Разве что руки заламывать не стал, но тонкими своими пальцами хрустнул. «Руки пианиста, – уважительно отметила про себя Вера. – Такими хочешь Листа играй, хочешь – Шопена».
Шопен, романтический поляк с душой француза, был любимым ее композитором.
– Наверное, ему некогда? – предположила Вера и, понизив голос, шепнула: – Я не Владимировна, а Васильевна, но лучше зовите меня Верой.
– Прошу прощения, Вера, – так же тихо ответил Мейснер. – И вы меня тогда зовите просто Львом…
Вера подавила улыбку. На грозного царя зверей щуплый сутуловатый Мейснер не походил совершенно. Надо же такому случиться, чтобы имя совершенно не шло человеку. Вот покойный писатель Толстой, тот был настоящий лев, пусть даже и с бородой вместо гривы.
– Но почему же некогда?! – Мейснер снова заговорил громко. – Он просто не хочет! Не хочет делить свою славу ни с кем, даже с самым талантливым композитором современности!
Вера сильно сомневалась, что человек, рифмующий «калачиком» с «околачиваться» может написать хороший романс. Романсы при их кажущейся простоте – жанр очень сложный. Все простое, если вдуматься, на самом деле сложно. Романсы должны легко петься, не менее легко запоминаться, чтобы их чаще пели, а главное, романсы должны брать за душу, задевать внутри самые чувствительные струны. Простые слова, простая музыка, но стоит только услышать «отцвели уж давно хризантемы в саду» или «вам не понять моей печали», как тотчас же на глаза наворачиваются слезы. А вспомнишь про «застеколье мое зазеркальное» (вот ведь привязалось), и хочется не поднимать очи карие, а уши заткнуть.
– Как жаль! – Вера улыбнулась таинственно и вместе с тем загадочно. – Но ведь самый талантливый композитор современности не останется без внимания поэтов? Не так ли? Вам, должно быть, многие докучают просьбами их стихи на музыку положить?
Лесть была не просто грубой, а какой-то такой, что и слова-то подходящего для нее подобрать невозможно, но Вера интуитивно почувствовала, что Мейснеру сейчас нужно что-то подобное, решила сделать ему приятное и не ошиблась. Мейснер просиял, расправил узкие плечи, даже ростом немного выше стал и с горделивой снисходительностью ответил:
– Ах, Вера, сердцу ведь не прикажешь. Мне хочется писать музыку только для Мирского, потому что он мой любимый поэт. А у вас есть любимый поэт? Такой, чтобы с его стихами вы засыпали и просыпались?
– Есть, только я не хочу называть его имя, – уклончиво ответила Вера.
Врать не хотелось, а обсуждать, чем Мирской лучше остальных поэтов, не хотелось еще больше.
– Давайте немного пройдемся, – сказала Вера, беря Мейснера под руку. – Стояние на месте меня утомляет. Странно, что здесь нет ни кресел, ни стульев…
– Так захотела хозяйка, – улыбнулся Мейснер. – Она любит движение, жизнь, бурление страстей. Впрочем, несколько диванов стоит в вестибюле и, если ожидается чье-то длинное выступление, перед сценой расставляют стулья. Например, когда поет Крутицкий… Вы любите Крутицкого, Плачущего Арлекина?
– Слышала о нем, но никогда не слышала его пения, – ответила Вера.
Плачущий Арлекин объявился в Москве совсем недавно, но уже успел прославиться. Говорили, что он приехал из Киева, где тоже пел, но не столь успешно. Нравился Крутицкий далеко не всем. Владимир отозвался о нем кратко: «Совсем не Шаляпин». Примерно так же отзывалась о Крутицком тетя Лена. «Одного желания петь мало, нужен еще и талант», – говорила она. А вот сестра Веры Наденька говорила, что Крутицкий «душка и чудо». И не признавалась, плутовка, где она его видела, ведь гимназисткам запрещено без особого на то позволения посещать публичные собрания, балы, маскарады, театры, концерты, ходить по клубам и ресторанам. Впрочем, достаточно вспомнить, сколько раз сама Вера нарушала этот запрет.
– Вы многое потеряли, Вера, но эту потерю легко восполнить! Крутицкий – это нечто! Новая струя в певческом искусстве! Он создал свой особый жанр. Каждая его песня – маленький спектакль, его арлекинады – миниатюра для одного актера…
С полчаса, не меньше, они ходили по зале, разговаривая об искусстве. По поведению Мейснера, по взглядам, которые он время от времени бросал на Веру, по тому, как он ей улыбался и в особенности по комплиментам, которыми он, осмелев, начал перемежать каждую фразу, нетрудно было сделать вывод о том, что Вера ему нравится. Веру это обстоятельство порадовало. Порадовало не потому, что ей понравился Мейснер (разве что только как собеседник, не более), а исходя из пользы для дела. Поклонник из числа завсегдатаев – это очень удобно. Поможет поскорее освоиться, да и частые посещения будут выглядеть естественно. Надо только самой рассказать Владимиру про нового знакомого и подчеркнуть при этом, что кроме любви к искусству их ничего более не связывает. Вдруг Цалле наябедничает, если не она, так кто-то еще. Муж должен быть подготовлен к новостям о похождениях его жены.
Вдобавок Мейснер идеально подходил для легкого флирта. Сразу видно, что он человек воспитанный, деликатный, не склонный к крайностям. Такого, если он зарвется, можно осадить одним словом, к действиям прибегать не придется. Приятно иметь дело с воспитанными людьми. Вера поежилась, вспомнив наглого майора Спаннокки[19].
За разговором они не заметили, как в зале появился Мирской-Белобородько. Только услышав голос, перестали обсуждать новомодный танец танго (Вера дома немного упражнялась перед зеркалом, но без партнера ничего толком не выходило, танго в одиночку не освоишь) и подошли поближе к сцене.
- Снова стал стар я, старее своих грехов,
- Речи людские читаю, как книгу в сердцах.
- Тысячелетний опыт – вот имя моих оков,
- Любые живые звуки теряются в темных сенцах…
От скуки Веру спасало рассматривание окружавших ее людей, среди которых неожиданно нашелся один знакомый – Эрнест Карлович Нирензее – архитектор, домовладелец, в том числе владевший и домом на Пятницкой, в котором жили Вера с мужем. Нирензее был клиентом Владимира и оттого сдавал им квартиру на хороших, выгодных условиях. «Что он здесь делает? – удивилась Вера, обменявшись кивками с Нирензее. – Ах да, он же тоже автомобилист…»
Судя по скучающему виду Нирензее, стихи Мирского ему тоже не нравились. Эрнест Карлович был не один, а с какой-то миловидной брюнеткой, увешанной бриллиантами, словно рождественская елка игрушками. Нечто вроде диадемы на голове, по пять каратов в каждом ухе, ожерелье, крупная брошь в виде раскрывшегося цветка, обилие колец и браслетов.
– Вы не знаете, кто эта дама в синем платье, что стоит справа от вас? – шепотом поинтересовалась у Мейснера Вера.
– Эмилия Хагельстрем, глава Московского отделения Российской лиги равноправия женщин.
Мейснер едва заметно поморщился, давая понять, что эта особа ему не по душе, но более ничего не добавил. А может, просто не успел добавить, потому что в этот момент Мирской закончил читать, и все, даже откровенно скучавший Нирнезее, принялись аплодировать. Поаплодировала и Вера, чтобы не выделяться из толпы, да и вообще неудобно не похлопать хотя бы немного, человек все-таки старался, сочинял, декламировал.
– Шампанского! – раздался чей-то голос.
– Да, где же шампанское? – подхватил другой.
– Меня восхищает щедрость нашей хозяйки, – сказала Вера. – Два раза на неделе угощать столько человек…
Восхитилась она с далеко идущими намерениями – захотела перевести разговор на салон, узнать имена завсегдатаев, собрать как можно больше сведений, которые потом смогут ей пригодиться.
– Вильгельмина Александровна – человек удивительной, просто неимоверной щедрости, – с готовностью поддакнул Мейснер. – Но по установившейся само собой традиции здесь не принято нахлебничать. Ежемесячно каждый из нас жертвует посильную для него сумму на нужды салона. Кто сколько может. Такие люди, как я, отделываются десятью или двадцатью рублями, а господин Шершнев, должно быть, опускает в ящик несколько сотен. Это происходит негласно, само собой…
– В ящик? – удивленно переспросила Вера.
– В ящик, – подтвердил Мейснер. – Разве вы не заметили возле гардероба большой деревянный ящик с прорезью на крышке, вроде тех, что стоят на почтамтах, только красивее, с узорчатой резьбой? Туда мы и кладем нашу лепту…
Ящик Вера заметила краем глаза, но о предназначении его не задумалась, не до того ей было. А, оказывается, вон оно как. В такой ящик, кроме кредитных билетов, можно и письмо тайное опустить. Удобно…
Незаметно для себя самой Вера начала думать как контрразведчик. Или разведчик – суть едино. То были самые истоки того профессионализма, который года через четыре заставлял уважительно кивать головами – надо же, такая юная, а умеет.
Но до этого было еще далеко. Целых четыре года и множество самых разнообразных событий…
Официанты начали подносить гостям шампанское. Вера не захотела, хватило с нее и токайского (в суете многолюдья она даже не помнила, где оставила пустой бокал, не иначе кто-то из официантов забрал). Мейснер же взял с подноса приземистый бокал и влился в хор славящих голосов со своим «Браво!».
– Друзья мои, в сей славный час, я с вами пью, я пью за вас! – провозгласил Мирской-Белобородько.
– Ура! Ура поэзии! – ответил нестройный хор голосов.
«На сегодня с меня достаточно», – подумала Вера. Она уже собралась сказать Мейснеру, что ей пора уезжать, как вдруг послышался звон бьющегося стекла, наложившийся на глухой звук, словно уронили что-то тяжелое, и тотчас же несколько человек закричали на разные лады – от басовитого «Что такое?» до пронзительного визга. Публика подалась вперед, затем отхлынула назад. Вера протиснулась ближе к сцене, но не поняла, что случилось, пока мимо нее несколько мужчин не пронесли на руках безвольно-неподвижного Мирского-Белобородько. Вере бросилась в глаза синюшность его лица, которое совсем недавно было багрово-красным. И еще обратила на себя внимание улыбка, застывшая на лице поэта. Она была какой-то нехорошей, болезненной, страдальческой, даже скорее не улыбкой, а оскалом.
– Что такое? Неужели умер? – волновались гости, следуя за теми, кто нес тело.
Вера поискала глазами Вильгельмину Александровну, но нигде ее не увидела. Из залы они с Мейснером вышли в числе последних. В вестибюле, который был гораздо меньше залы, яблоку негде было упасть, но стоило только кому-то громко объявить о том, что Николай Павлович мертв, как началось подлинное бегство, какой-то стремительный, скоропалительный исход. Получив верхнюю одежду в гардеробе, люди не желали задержаться для того, чтобы надеть ее – хватали в охапку и торопились выйти на улицу. Возле дивана, на котором лежал покойник, вдруг появились Цалле и фон Римша, но их сразу же заслонили чьи-то спины. Не все спешили уйти, человек пятнадцать, среди которых Вера увидела князя Чишавадзе и репортера Вшивикова, собрались вокруг умершего и негромко переговаривались.
– Пойдемте, пойдемте же скорее! – торопил Веру Мейснер, явно попав под общее настроение.
Вере совсем не хотелось задерживаться возле покойника, но ее удивила та скоропалительность, с которой подавляющее большинство гостей торопились покинуть «Альпийскую розу». Что за исход? Что за паническое бегство? Разве не эти люди только что восхищались стихами Мирского и аплодировали ему? Неужели их не волнует то, что произошло с их кумиром? Или здесь собрались люди, для которых важнее всего не оказаться замешанными в скандале и не иметь дела с полицией? «Боже мой! – ужаснулась Вера. – Здесь же было не менее семидесяти, а то и ста человек! Неужели все они германские шпионы? И Мейснер тоже?»
– Такое же лицо было у моего дяди Владимира Андреевича, когда его хватил удар, – донесся до Веры зычный женский голос. – Так же вот, в одночасье, сигару после обеда выкурить не успел…
Стоявшие возле покойника расступились, пропуская Эмилию Хагельстрем и Эрнеста Карловича Нирензее.
Вера задержалась для того, чтобы надеть свое пальто и посмотреться в зеркало. Не хватало еще одеваться на ходу! Мейснер, накинувший свое английское пальто из гладкого драпа на плечи, не продевая рук в рукава, от нетерпения начал пританцовывать на месте и все твердил:
– Скорее! Скорее! Пойдемте же!
По Софийке растянулась длинная цепочка желающих уехать на извозчике. Трезво оценив шансы, Вера решила выйти по Неглинной к Кузнецкому мосту, где вдоль фасада пассажа Солодникова всегда стояли извозчики. Она ожидала, что Мейснер проводит ее, но тот, пробормотав нечто невнятное про какие-то срочные дела, нахлобучил пониже касторовую шляпу и свернул, нет, не свернул, а шмыгнул в первую попавшуюся подворотню. Сначала Вера удивилась такому поведению своего доселе галантного кавалера, а потом вспомнила, с какой грустью говорил он: «Такие люди, как я, отделываются десятью или двадцатью рублями», – и поняла, что у него вполне могло не оказаться лишнего рубля для того, чтобы довезти Веру до дома. И фрак вполне мог оказаться взятым напрокат, и пальто тоже. Разные бывают у людей обстоятельства…
В голове крутилась невесть откуда взявшаяся фраза, вроде бы услышанная в каком-то спектакле – «цикуты кубок смертный». Кто там травился цикутой? Сократ? Гимназический преподаватель естествознания Мациевский рассказывал, что ядовитый корень цикуты похож на морковку. Или на редьку? Ох, какая только чушь не лезет в голову! При чем тут морковка, если покойник пил шампанское?
4
«Коломенская помещица Корнилова получила от неизвестного лица письмо, в котором от нее требовали под угрозой смерти 500 рублей, которые надлежало оставить в указанном месте. Корнилова обратилась за помощью в полицию, которая устроила засаду. В указанное время к условленному месту явились двое учащихся пятого класса 6-й Московской гимназии, которые были арестованы. Арестованные сознались, что задумали вымогательство ради получения средств на совершение путешествия в Африку».
Ежедневная газета «Утро России», 6 апреля 1912 года
– Мирского-Белобородько отравили! Это не вызывает сомнений. Наш врач… Да-да, Вера Васильевна, у нас и свои врачи тоже есть, только заштатные, приглашаем для консультаций по мере надобности. Мирским занимался доктор Щеглов из Первой Градской. Так вот, он пришел к выводу, что несчастный был отравлен неким алкалоидом растительного происхождения. Данные по отравлению не вполне убедительны… но то, что Мирской-Белобородько умер сразу же после того, как выпил поданный ему бокал с шампанским, добавляет им весомости! Шестеро свидетелей в один голос показали, что выпил он до дна и тут же свалился. Официант ему уже поднос протянул, чтобы он бокал поставил, но бокал был разбит, растоптан и убран вместе с прочим мусором еще до приезда полиции. «А что такое? – удивлялся управляющий. – У нас приличное заведение, сор сметаем сразу». Управляющего-то видели, Вера Васильевна? Фон Римшу? Или не довелось?
– Довелось даже познакомиться. Цалле нас познакомила. Я вам там все написала…
Писала Вера утром следующего дня, а не в тот же вечер, как велел ей Немысский. Сразу по возвращении домой она начала делиться впечатлениями с мужем, да так увлеклась, что про отчет совсем забыла. Владимир выслушал, посочувствовал, посокрушался насчет того, что Веру угораздило явиться в салон так неудачно, а потом начал вспоминать разные случаи из практики, касающиеся скоропостижных кончин, как насильственных, так и ненасильственных. Известно же, что адвоката хлебом не корми (и шоколадом тоже), дай только случай из практики рассказать. С учетом того, что по старой адвокатской привычке фамилий Владимир старался не называть, а все герои у него были господами Икс, Игрек и Зет (ну еще и Эн с Эсом, если действующих лиц много), то очень быстро создавалось впечатление, что речь идет о смерти одного и того же человека в разных вариантах. Такой вот бесконечный спектакль с одним и тем же концом…
Утром, после завтрака, Вера с Владимиром «разошлись по кабинетам». То есть на самом деле в кабинете для подготовки к процессу уединился Владимир, а Вера, дождавшись, пока Таисия уберет со стола, уселась писать отчет Немысскому в столовой. Любопытная Таисия (вот уж человек – непременно должна во всякую щель нос сунуть!) тотчас же явилась в столовую вытирать пыль и попыталась заглядывать через Верино плечо, но Вера ее прогнала. Составление отчета с переписыванием черновиков набело заняло полтора часа. Сначала Вера намеревалась обойтись без черновиков, чай, не «Анну Каренину» сочиняла, но после того, как два первых «беловика» стали черновиками, поняла, что нет пока у нее такого опыта, чтобы составлять отчеты сразу. Больше всего Вера промучилась с описанием смерти Мирского-Белобородько. Легко писать, когда видела все своими глазами. А если почти ничего не видела? Услышала шум падения… Нет, сначала, кажется, зазвенел разбившийся бокал… Или одновременно?
Знаменитый лондонский сыщик Шерлок Холмс (настоящий, а не тот, что с легкой руки какого-то писаки соперничает с Натом Пинкертоном в России) утверждал, что мелочей в сыскном деле не бывает. Поэтому Вера, как могла, напрягала память и вспомнила много такого, на что вчера совершенно не обратила внимания. Например, она вспомнила, что слова «цикуты кубок смертный» произнесла спутница Нирензее, Эмилия Хагельстрем, почти сразу же после того, как раздался звук падения тела. Произнесла не очень громко, но Вера услышала, потому что слова эти были обращены не к Эрнесту Карловичу, а словно ко всем. Произнося их, Эмилия отвернулась от Нирензее куда-то влево… На кого, интересно, она смотрела? На кого-то из стоявших рядом, но на кого именно? И при чем здесь цикута? Может, Мирскому плохо стало, он же был пожилым и явно нездоровым, апоплексического склада… Или у Эмилии такая же привычка, как у бывшей Вериной одноклассницы Сонечки Карочинской, которая от волнения начинала нести всякую чушь? Однажды, не выучив домашнего задания по истории, Сонечка выдала преподавателю из «Руслана и Людмилы»: «Что, хищник, где твоя краса?» Старый и некрасивый Илья Васильевич принял эти слова за издевку, покраснел, затопал ногами и отправил Сонечку к директрисе. Досталось ей, бедняжке, тогда на орехи… А еще Вера вспомнила, что князь Чишавадзе, стоя в вестибюле возле лежавшего на диване Мирского, то есть – уже возле тела Мирского, то и дело оглядывался. Как-то украдкой оглядывался, исподтишка, вполоборота, но выражение его глаз было крайне настороженным. Веру отвлек Мейснер, талдычивший свое «ну пойдемте же, пойдемте», и она забыла о Чишавадзе. Интересно, а почему это Мейснер так торопился ее увести, если по выходе на улицу почти сразу же оставил ее одну? Странно…
Нет худа без добра. Если бы Вера не просидела так долго над своим отчетом, то она не встретила бы у букиниста штабс-ротмистра Немысского. Приятно встретить хорошего человека, особенно если есть что ему рассказать. А рассказать было что – узнав вчера вечером о случившемся в «Альпийской розе», Немысский всю ночь занимался расследованием. Вере он сказал, что в самой «Розе» не был, потому что незачем, но зато побывал в третьем участке Тверской части, в Сыскной части в Гнездниковском, в полицейском морге и уже может делать кое-какие выводы. По осунувшемуся (но все равно симпатичному) лицу и покрасневшим глазам было видно, что трудился штабс-ротмистр на славу. Впрочем, если бы он пропьянствовал всю ночь, то выглядел бы точно так же, только тогда еще и перегаром от него пахло бы. А так только вежеталем[20] и душистым табаком.
Разговаривали, разумеется, не в торговом зале, а в крохотной каморке, гордо именуемой «кабинетом». Письменный стол, два стула, шкаф с какими-то старыми книгами, не то особо ценными, не то отложенными для кого-то из постоянных покупателей. Дядя Немысского, букинист Коняев, славился среди книголюбов своим умением разыскивать разные раритеты. Штабс-ротмистр уселся за стол, а Вере предложил другой стул, напротив.
Немысский вел себя точь-в-точь как гимназический преподаватель – важное пропускал мимо ушей, а к каким-то мелочам цеплялся, задавал вопросы, на которые Вера затруднялась ответить. Ушла ли Цалле вдвоем с Мирским или фон Римша тоже последовал за ними? Долго ли они отсутствовали? Примерно полчаса? А можно ли поточнее? А кто из гостей отлучался в это время?
– Что я вам, Георгий Аристархович, Аргус стоокий[21], чтобы сразу все видеть?! – не выдержав, возмутилась Вера. – Вы же сами рекомендовали вести себя как можно естественнее, не привлекая к себе внимания! Хороша я была бы, если рыскала бы по зале с тетрадкой в одной руке и карандашом в другой, записывая всех, кто входит и выходит!
Немысский смутился, покраснел, начал оправдываться, говоря, что столько вопросов он задает лишь потому, что вопросы часто помогают лучше вспомнить события, а затем признал, что переусердствовал, и попросил прощения. Вера к тому времени успела остыть и понять, что она тоже немного переусердствовала в своем праведном гневе. Штабс-ротмистр не кавалерами сестры Наденьки интересуется, а возможными убийцами.
– Вы меня тоже простите, Георгий Аристархович, – сказала Вера. – Погорячилась, бывает со мной такое. А Мирского отравил кто-то из поэтов. Из зависти, как Сальери Моцарта…
«Хотя чему там было завидовать? – подумала Вера. – Моцарт – тот гениальную музыку писал, а Мирской… Ой, нехорошо так думать о покойнике. Если мне его стихи не нравились, то это не означает, что они были плохими. Многие же восхищались ими, и, кажется, искренне восхищались…»
– Да, из зависти! – уже увереннее повторила Вера. – Зачем же еще убивать поэта, как не из зависти? Жаль, что я почти не знаю в лицо современных поэтов, только нескольких, самых известных… Если бы знать, кто из них вчера был у Цалле, то… Но ведь можно же спросить ее или этого… фон Римшу! Они должны знать всех гостей…
– Маловероятно, Вера Васильевна. – Немысский решительно качнул головой, словно отбрасывая в сторону Верино предположение. – Никогда не доводилось слышать, чтобы один поэт убивал другого из зависти. Не та публика, не тот масштаб. Сплетню грязную могут пустить за спиной, это случается. Могут и донос в Охранное отделение написать, такое тоже бывало. Могут свежерасклеенные афиши посрывать или замазать-заклеить… Но чтобы отравить? Нет!
– Вы не понимаете творческих людей, Георгий Аристархович! – попыталась убедить штабс-ротмистра Вера, считая, что уж она, мечтающая стать актрисой, понимает эту публику очень хорошо. – Вот у вас есть мечта? Заветная?
– Есть, – чуть помедлив, признал Немысский. – Как же без мечты?
– И у всех есть, – кивнула Вера, радуясь, что ее, кажется, начали понимать. – А теперь представьте, что вы сделаете с тем, кто вашу мечту растопчет или хотя бы попытается это сделать? Надругается над ней, опошлит, испортит… Разве вам не захочется его отравить?
– Не знаю, – неуверенно сказал штабс-ротмистр, пожимая плечами, но по тому, как сверкнули его глаза, стало понятно, что захочется, непременно захочется.
– Каждый поэт мечтает о славе, – воодушевленно продолжала Вера. – Поклонники, аплодисменты – это же так замечательно! И вдруг кто-то перебегает дорогу… Нет, не перебегает, а обгоняет. И вырывается далеко-далеко вперед, не догнать. А душа болит! Сердце щемит! Ночами сон нейдет… И постепенно человеком начинает владеть ненависть! С каждым днем все больше и больше! И вот, наконец, он решается на роковой поступок! Добавляет яд в бокал, протягивает его.
Вера увлеклась настолько, что не заметила, как вскочила и начала заламывать руки.
– Вам бы, Вера Васильевна, романы писать, – улыбнулся штабс-капитан и будто холодной водой из ведра окатил. – Так славно рассказываете, заслушаться можно.
Вера спохватилась, покраснела, села и выжидательно уставилась на собеседника – иронизировать все мы умеем, вы давайте-ка сами, господин штабс-ротмистр, скажите что-то дельное. А то только вопросы задавать умеете. Понятно, почему так распоясались в Москве шпионы. То изменник контрразведкой руководил, то какой-то ограниченный зануда.
Ограниченного зануду пристально-недружелюбный Верин взгляд не смутил. Он вообще не почувствовал, что атмосфера изменилась, и не в лучшую сторону. Смахнул пылинку с рукава пиджака (сегодня он был не в мундире, а в штатском костюме) и поинтересовался:
– А как по-вашему, Вера Васильевна, убийца мог положить или, скажем, влить яд в бокал? Все, и вы в том числе, утверждают, что шампанское и прочие напитки разносили официанты. На каждом подносе по два десятка бокалов. И ведь, кроме Мирского, никто из гостей не был отравлен…
– Значит, официант был в сообщниках у убийцы! – фыркнула Вера. – Он знал, в каком из бокалов на подносе содержится яд, и, подойдя к Мирскому, повернул поднос нужной стороной. Что вы так на меня смотрите, Георгий Аристархович, разве я не права?
– Предположение ваше не лишено смысла, – признал Немысский, – но это очень сложный маневр – подсунуть нужному человеку нужный бокал, когда вокруг толпа народу, а бокалов у тебя два десятка. В келейной обстановке еще ладно бы, а так… Невозможный фокус, сам Гудини[22] не справился бы. Из запертой камеры в Бутырской тюрьме выйти проще…
Вера вспомнила американского чародея, поражавшего москвичей своими невероятными фокусами четыре года назад, во время гастролей. Говорили, что Гудини не человек, а бесплотный дух, но в это верилось с трудом, потому что Вера видела его своими глазами, пусть даже и издалека, на Николаевском вокзале. Нарочно прогуляли с подругами гимназию, чтобы встретить знаменитость. Обычный человек, да и потом разве духа можно заковать в кандалы? Они же спадать с него будут.
– Может, официант подложил яд, когда передавал бокал? – предположила Вера и тут же отвергла эту мысль: – Нет, вряд ли. От кого Мирской получил свой бокал, я не знаю, но все, кого я видела, и я сама в том числе, брали бокалы сами. Официанты только протягивали подносы. Если бы официант сам подал Мирскому бокал и тот, выпив его, умер, то непременно возникли бы подозрения…
Немысский согласно кивал, слушая Веру, и от этого она сменила гнев на милость. Собственно, и гнева-то никакого не было, так, сердилась немного, но уже перестала. Невозможно же сердиться на человека, который тебя понимает. Особенно если этот человек такой симпатичный, как штабс-ротмистр.
Скажи Вере кто, что она влюбилась в Немысского, то она бы сначала рассмеялась (громко, раскатистым смехом, как принято смеяться на сцене – ха! – ха! – ха!), а потом призадумалась бы.
– А как скоро действует яд, которым отравили Мирского? – спохватилась Вера. – Может, это сама Цалле его отравила? Тет-а-тет? А к тому времени, как он стихотворение-другое прочел, яд подействовал?
– Что ж, Вильгельмина Александровна на роль отравительницы подходит лучше, чем некий завистник из богемной среды, – согласился Немысский. – Но она никогда не стала бы действовать столь опрометчиво. Травить Мирского прямо у себя, на глазах у доброй сотни человек? Никогда! Вот если бы, возвращаясь домой, наш пиит попал бы под лошадь – чего только не случается, особенно если человек навеселе? – или же оступился бы и упал настолько неловко, что шею себе свернул, то тут можно было бы заподозрить дражайшую нашу Вильгельмину Александровну. Такие вроде как непреднамеренные смерти – это германский почерк. На худой конец можно ограбление с летальным исходом инсценировать, но не так вот напоказ. Напоказ наши подопечные вообще действовать не любят, предпочитают делать свои дела тайно, келейно-елейно. И яд, которым отравили Мирского, кстати говоря, действует мгновенно, то есть в первую же минуту после приема. Это доктор Щеглов сказал мне со всей категоричностью.
– Тогда, значит, официант!
– Официанты, как и вся прочая прислуга в «Альпийской розе», люди не случайные, а, если можно так выразиться, отборные. Преданные, проверенные, пользующиеся доверием… Отравить они могут только по приказу Вильгельмины Александровны или фон Римши, но мы только что обсудили абсурдность подобного предположения.
– Значит, все-таки какой-то завистник из поэтов! – не сдавалась Вера.
– Каким образом? – поинтересовался Немысский.
– Когда официант подошел к сцене с подносом, убийца был рядом, – на ходу начала придумывать Вера. – Он точно рассчитал, какой именно бокал достанется Мирскому, и подбросил в него яд… Вот, смотрите сами…
На подоконнике стоял старый, позеленевший от времени, медный поднос, а на нем – графин с водой и мутный, захватанный пальцами стакан. Браться за стакан Вера побрезговала. Она переставила графин на подоконник, а поднос вместе со стаканом перенесла на стол. Затем взяла лист промокательной бумаги, оторвала от него уголок, скрутила пальцами в маленький, чуть больше булавочной головки, шарик и показала его Немысскому, с интересом наблюдавшему за ее действиями:
– Допустим, это яд. Встаньте, пожалуйста, возьмите поднос и держите его как официант!
Немысский молча повиновался.
– Опустите пониже и держите одной рукой, а сами станьте ко мне боком! – потребовала Вера. – Вот так, хорошо. Теперь глядите!
Стоя у противоположного края стола (поднос Немысский держал над столом), Вера попыталась забросить шарик в стакан, не проводя над ним рукой и вообще не слишком ею размахивая. Сделала несколько попыток, но противный шарик все время попадал мимо, то на поднос, то на стол.
– Позвольте мне, – попросил штабс-ротмистр, должно быть устав смотреть на Верины мучения.
Он передал ей поднос и трижды подряд (два раза взмахом, один раз щелчком) ухитрился попасть шариком точно в стакан.
– Браво! – сдержанно, без энтузиазма, восхитилась Вера. – Вы, верно, спортсмен?
– Когда-то увлекался бильбоке[23], – улыбнулся Немысский и забрал у нее поднос. – В сущности, это одно и то же – ловить или бросать. Разницы меньше даже, чем между шпионажем и контршпионажем.
– Но вам, должно быть, контршпионаж больше по душе, раз вы им занимаетесь? – уточнила Вера и села на стул.
Немысский вернул поднос на подоконник и тоже сел.
– Мне шпионаж не подходит, – сказал он, глядя в сторону. – Я к языкам неспособный, да и старуха мать на моем попечении, сестры замуж повыходили – одна в Ташкенте живет, там слишком жарко, а другая – в Архангельске, там холодно… Да и как-то никто никогда не приглашал меня в разведчики…
Голос у штабс-ротмистра при этом был какой-то странный, не такой, как всегда. Вера услышала в нем нотки сожаления и подумала, что разведка гораздо интереснее контрразведки. Хотя бы тем, что можно повидать белый свет за казенный счет (на свои, не имея больших богатств, не больно много-то и наездишься), и еще тем, что не приходится искать иголки в стогах сена. Но, с другой стороны, ловить шпионов гораздо благороднее, нежели шпионить самому. Или нет? Шпионишь ведь не для своей выгоды, а ради пользы Отечеству, а все, что делается ему на пользу, неблагородным считать нельзя… Совсем запуталась.
– Допустим, что яд был подброшен именно так, – сказал Немысский, и Вера отвлеклась от бесполезных своих размышлений. – Все равно другой версии у нас пока нет. Но кто это мог сделать?
Вере в голову пришла еще одна мысль, довольно смелая:
– А что, если это сделал какой-то безумец? Знаете, из этих… ну, которые считают себя служителями Смерти? Наугад добавил яд в один из бокалов и стал ждать, кому отравленный бокал достанется?
– Навряд ли у Цалле бывают такие, – возразил Немысский. – Это больше в стиле «Черной луны», или «Приюта Астарты», или еще какого-нибудь декадентского клуба. У Вильгельмины Александровны собирается публика иного рода, не склонная к подобным, с позволения сказать, шуткам-выходкам. Нет, смерть Мирского была неслучайной. Вопрос в том, кому понадобилось от него избавиться? Вне всяких сомнений, это сделал кто-то из конкурентов, но кто именно?
– Наконец-то вы со мной согласились! – обрадовалась Вера и не смогла удержаться от мягкого упрека: – Давно бы так! Думаю, что поэтов вчера в «Розе» было не так уж и много…
– При чем здесь поэты? – Штабс-ротмистр так удивился, словно услышал о поэтах впервые, даже брови приподнял. – Я говорю о шпионах, а не о поэтах. Ах, да вы, Вера Васильевна, должно быть, не знаете про родного брата Мирского? Забыл сразу сказать…
– Откуда мне знать? – ответила вопросом на вопрос Вера, уязвленная тем, что ей забыли сказать нечто, по-видимому, важное. – Только не говорите, прошу вас, что это родной брат его отравил. Уж кто-кто, а родственник всегда найдет более благоприятный момент. И, насколько я помню, Мирской явился один, никакого брата с ним не было.
– Брат покойника, Кирилл Павлович Мирской (Мирской – это их настоящая фамилия, а Белобородько – псевдоним), живет в Петербурге, служит в должности редактора карт картографической части Главного гидрографического управления Морского министерства, – сказал Немысский с таким видом, словно открыл Вере величайшую из тайн. – Кирилл Павлович – морской офицер. Боевой офицер, не какой-нибудь паркетный шаркун. Воевал с японцами, был старшим минным офицером броненосца «Генерал-адмирал Апраксин». После сдачи отряда контр-адмирала Небогатова лейтенант Мирской около года пробыл в плену у японцев…
– Бедняжка, – посочувствовала Вера, не понимая, какое отношение к смерти Мирского имеет его живущий в Петербурге брат; и ладно бы он еще служил в каком-нибудь секретном делопроизводстве, а не напечатанием карт заведовал.
Чем еще может заниматься редактор, как не заведовать напечатанием карт? Которых, к слову будь сказано, в любом книжном магазине полным-полно. Эка невидаль!
– А теперь я подхожу к самому интересному для нас обстоятельству, – продолжал Немысский. – После освобождения из плена лейтенант Мирской был отдан под суд вместе с другими офицерами эскадры контр-адмирала Небогатова по делу о сдаче ими судов японцам. Но приговором особого присутствия Военно-морского суда Кронштадтского порта был признан невиновным и возвращен на службу. Мирской сам попросился в береговой состав флота. Его просьба была удовлетворена. Согласитесь, что после всего им пережитого желание продолжить службу подальше от моря выглядит вполне естественным. Да и осадок, наверное, остался. Хоть и оправдан, но… Впрочем, оставим философию и перейдем к делу. Сейчас Кирилл Павлович служит в Главном гидрографическом управлении в небольшой, но весьма привлекательной с точки зрения шпионажа должности…
– Объясните, пожалуйста, Георгий Аристархович, чем эта должность так привлекательна? – попросила Вера. – Карты, они и есть карты…
– Именно, что карты! – воскликнул штабс-ротмистр, поднимая вверх указательный палец. – Карты! Карты – это все! Карты – это дислокация, укрепления, минные поля, тактика и стратегия! Карты – это планы! Кто имеет доступ к картам, тот владеет всеми военными секретами! Военными, я подчеркиваю, не техническими! Но разве этого мало? Да за те карты, которые Мирской каждый день держит в руках, любой иностранный шпион полжизни отдаст! И давайте-ка посмотрим на биографию Мирского с точки зрения контрразведки. Доступ к секретам он имеет?




















