Читать онлайн Колесница времени бесплатно
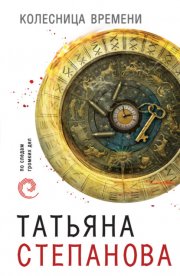
Глава 1
Зимнее время
Зимнее время…
Утро осеннего дня. За окном, как и ночью, – огни, огни, реклама.
Огромный город и пригороды не спят – как определить, «уже не спят» или «еще не спят»? Как определить?
Народ торопится на работу, штурмует автобусы и маршрутки, поток людей течет в метро – это утром. А вечером – та же картина: люди спешат с работы домой в темноте среди ярких огней большого города.
Порой так страстно и жадно ждешь утренней зари.
Но все какие-то сумерки – осень, осень с дождями и туманами.
А так нужен, физически нужен рассвет.
Хоть какое-то окно, хоть какая-то передышка.
Сумерки лишают воли и сил.
В сумерках клонит ко сну, но спать нельзя.
Нельзя же все время спать – из мрака ночи – в сумерки дня – и опять во мрак ночи!
Вставать на работу и мчаться домой с работы во тьме при ярком электрическом свете, в потоке машин, в нескончаемой пробке, под грохот поездов метро, под гудки электричек на подмосковных перронах…
Светлого времени суток совсем мало.
Осенний туман и дождь за окном. Даже в полдень мы включаем лампу, чтобы почитать что-то на досуге.
Что-то интересное почитать – про жизнь, про смерть, про страсть, про любовь, про одиночество, про быт, про связь времен и про борьбу света с тьмой.
Какую-нибудь интересную, захватывающую историю, полную тайн, интриг, неожиданных поворотов сюжета.
Такие истории из книг спасают от одиночества и тоски.
И повседневные дела и заботы тоже вроде как спасают.
Но порой мы садимся у окна, устав от окружающей нас темноты, и смотрим – туда, туда, вдаль.
Когда первые лучи окрасят облака в золотисто-розовый цвет.
Нежная заря – Аврора – улыбнется нам с прокисших осенних небес.
И вся эта невозможная хмарь, сумеречная жуть будет сметена свежим утренним ветром.
Каждое утро я просыпаюсь в надежде, что это произойдет.
Время в принципе ведь ничего не значит.
Это просто иллюзия.
У нас ведь у каждого свои собственные биологические часы внутри. И это – благо. Это наша индивидуальность.
Это наша личная внутренняя свобода.
Свобода, о которой мы все так мечтаем, хотя порой и не признаемся в этом сами себе. И не говорим этого вслух.
У времени ведь нет границ. И обозначить его «летним» или «зимним» можно лишь условно.
Все равно ведь рассветет. И солнце покажется из-за туч. И Аврора – заря – нежная и яркая, всегда новая, как в первый день творения, нам всем улыбнется.
Глава 2
Выстрел
Крутить педали велосипеда – одно удовольствие. Легко, проворно. Только надо соблюдать осторожность, потому что путь пролегает по загородному шоссе к железнодорожной станции. И по шоссе то и дело свистят, громыхают, проносятся, пролетают мимо авто.
Если держаться так, чтобы транспорт шел навстречу, то ничего, только вот фары машин глаза слепят. И вроде час еще не поздний, всего около девяти. Но это октябрь, точнее, последние дни октября – темнеет рано и кругом так сыро и полно луж, потому что дождь минуту назад перестал и вот уже припустил снова.
Ехать на велосипеде под зонтом кто пробовал? Неудобно это, никуда зонт не приторочишь, поэтому – капюшон куртки на голову пониже, саму куртку застегнуть поплотнее и нагнуться к рулю и крутить педали.
Легко, свободно…
Мокнуть под этим осенним дождем.
Вообще-то тепло на улице, и воздух такой приторный немножко, влажный, насыщенный прелью листвы и бензином.
Скоро, совсем скоро с загородного шоссе откроется поворот на тихую аллею, по ней можно доехать до железнодорожных путей, а там и станция. И электрички долго не придется ждать. На этом перроне останавливаются все поезда, потому что это совсем рядом с Москвой, хоть уже и загород.
А вон там, подальше, еще один поворот с шоссе, там Москва-река и яхт-клуб. И вокруг фешенебельная зона – коттеджные поселки, бывшие старо-дачные места, застроенные особняками.
Очень приличное по городским меркам место – богатое, комфортное для проживания, экологически чистое.
Когда-нибудь и я поселюсь в таком месте…
Так думал парень двадцати двух лет, крутивший педали велосипеда, спешивший по загородному шоссе к станции, к электричке, что помчала бы его и верный велосипед с Москвы-реки в саму Москву, к метро, где поезд подхватил бы его в свою утробу и повлек в спальный район. Там парень снимал койку в двухкомнатной квартире, где помимо него жили еще пять человек.
Все приезжие. Каждый занимался своим делом в столице и в проблемы, чаяния и надежды других жильцов особо не вникал. Потому как постояльцы просыпались рано, уходили из квартиры, а возвращались кто как – кто вечером, кто ночью, а кто и вовсе через сутки, потому что таковы правила рабочей смены.
Фархаду Велиханову, приехавшему в столицу из Уфы, – так звали велосипедиста, приходилось тоже вставать рано, а возвращаться когда как. Все дни он крутился как белка в колесе. Сейчас вот, например, работал. Точнее, подрабатывал водителем в богатой семье.
Но это все временно, это чтобы сколотить немного деньжат и где-то с середины ноября вновь вернуться к платному курсу обучения по специальности сценическая графика и компьютерный дизайн театральных постановок и шоу.
Фархад учился этой специальности уже два года в Москве, но все с перерывами, потому что надо было деньги зарабатывать, платить за угол в квартире и за само обучение, ну и за еду, конечно.
Он старался не упустить никаких источников дохода, заработка. Так уж жизнь сложилась. Сегодня ты – бедный студент. Но кто знает, что произойдет завтра? Быть может, счастье улыбнется тебе во всю пасть…
Фархад крутил педали велосипеда и прикидывал в уме – если все сложится, то… этот семестр и следующий он просто проучится – спокойно и без особых проблем. Он получил ведь некие намеки и гарантии, что такое возможно.
Ради того, чтобы просто учиться и не дергаться по поводу работы, Фархад был готов на многое.
Некоторые парни с периферии смогли так вот устроиться. Чем он хуже?
Ничем. Он лучше, да, он лучше многих.
Недаром ведь его выбрала в водители Хозяйка.
Фархад вздохнул, закрыл на секунду глаза и…
Резкий сигнал – навстречу промчался внедорожник на огромной скорости, обрызгал его всего грязью.
Вот так, надо держать ухо востро, даже если едешь и не в час пик по загородному шоссе.
По соседней полосе медленно двигалась машина, Фархад не обращал на нее внимания. Вот она обогнала его. Красные габаритные огни впереди. Кажется, иномарка.
По шоссе с ревом неслась бетономешалка, а за ней шел, гремя и лязгая, тихоход-трактор. Строительная техника – куда-то в сторону новых земель, на новые угодья фешенебельной застройки.
Фархад свернул на узкую боковую аллею в сторону железнодорожной станции.
Тут всегда темно, потому что нет фонарей, но дорожное покрытие сносное и луж нет. Только вот дождь все сильнее, сильнее. К ночи разойдется в настоящий осенний ливень.
Ну да ночью он, Фархад, уснет сном младенца на съемной койке под грохот телевизора за стеной.
Можно палить из пушки – его не разбудишь.
Уже не разбудишь никогда.
Можно палить из всех стволов…
Он уснет, как праведник, как человек, много грешивший, несмотря на свой юный возраст, но чья совесть чиста, потому что он грешил ради дела, – так сказать, вносил инвестиции в свое будущее.
В богатый комфортабельный дом на берегу реки, и не там, в Уфе, где мать и две сестры, а…
Неожиданно он узрел перед собой лицо матери – она месила тесто для беляшей и улыбалась ему, вытирала пот со лба запачканной мукой рукой.
Мать улыбалась, а он, Фархад, внезапно ощутил, что теряет все точки опоры.
Педали велосипеда крутились сами собой, больше он их не чувствовал под ногами.
Он не слышал выстрела, прозвучавшего в ночи, потому что выстрел (который, кстати, не слышал никто на дороге) заглушил грохот строительной техники – бетономешалки и трактора.
Выстрел раздался в тот самый момент, когда Фархад думал о том, что «можно палить – его не разбудишь».
Велосипед звякнул и поехал в одну сторону, а тело Фархада – в противоположную.
Пуля попала ему под левую лопатку, в темноту ударил фонтан крови.
Велосипед съехал в кювет и опрокинулся.
Фархад упал ничком в мокрую колючую осеннюю траву.
Его пробитое сердце уже не билось.
Но еще пару секунд его глаза, нет, мозг – затухающий, как искра, видел мать. Она стряхивала муку с пальцев и бросала беляши, начиненные ливером, на раскаленную сковородку.
Глава 3
Отель «Мэриотт – Аврора»
На запруженной машинами Петровке напротив Столешникова переулка остановился мотоцикл «Харлей». Мотоциклист втиснул его в парковочную щель между «Ягуаром» и «Ауди» и неспешно направился к центральному входу отеля «Мэриотт – Аврора».
Центральный вход в отель как раз со стороны улицы, а вход в лобби-бар рядом с магазином «Кристиан Диор», что смотрит витринами в переулок.
В этот час раннего вечера – шесть всего на часах – уже смеркается, но улица Петровка полна народа. Яркие огни, сырой воздух последних дней октября.
Мотоциклист, затянутый в черную кожу, – высокий, стройный, широкоплечий, снял с головы шлем, пригладил светлые волосы рукой и прошел весьма уверенно сквозь вертящиеся стеклянные двери отеля – мимо швейцара в позументе и охранников с рацией.
Удивительно, но в гулком, роскошном, отделанном сияющим мрамором вестибюле отеля оказался он единственным гостем. В этот еще не поздний вечер конца октября огромный «Мэрриотт» пуст и тих, как сказочный замок Фата-Морганы.
Но нет, где-то играет негромко музыка. Звуки арфы, невидимой глазу.
Мотоциклист быстро пересек холл, глянул на себя в зеркало мимоходом – молод, хорош собой, яркий блондин с голубыми глазами. Только вот на скуле зажившая ссадина, а на нижней губе свежая рана кровоточит.
Коридорный в форме, скучавший возле автомата для чистки обуви, окинул мотоциклиста оценивающим взглядом, но ничего не сказал. Этот парень… в общем, он порой заезжает в роскошный отель «Мэриотт» и тут его знают.
Мотоциклист поднялся по ступенькам мраморной лестницы, ведущей в ресторан под куполом.
Это и ресторан, и зимний сад. Это гордость и краса отеля. Именно тут играет невидимая глазу арфа по вечерам. Столики, покрытые крахмальными белыми скатертями, все сплошь свободны. Нет ни одного гостя в ресторане. А над головой, высоко, далеко, как хрустальное небо, – прозрачный великолепный купол.
А если повернуть голову налево и глянуть вверх, – там галерея – зимний сад. Много зелени – сплошные тропики, и там такие уютные диваны и кресла и еще…
Там иногда мелькает призрак Оперы… Да, да, помните того кудесника – ведущего с телеканала «Культура», – всегда в смокинге, всегда с улыбкой, интеллигент и великий знаток прекрасного, он знал о мире музыки и мире оперы все. Именно там, в галерее под куполом в отеле «Мэриотт – Аврора», он устраивал встречи со своими гостями, среди них – мировые знаменитости: певцы, музыканты, дирижеры, критики, композиторы.
Кудесник в смокинге умер так неожиданно, скоропостижно, что в это трудно было поверить всем. Даже этому вот молодому мотоциклисту – блондину с разбитой губой.
Но порой, если приглядеться, надравшись в баре отеля, то можно еще увидеть… Да, тень… тот образ… призрака Оперы с прошедших времен, которые никогда уже не вернутся, потому что смерть…
Да, смерть сильна…
Однако блондин с атлетическими плечами и тонкой талией, затянутый в кожу, словно в средневековые рыцарские латы, не собирался сейчас здесь, в пятизвездочном отеле «Мэриотт – Аврора», думать о смерти. И что-то там вспоминать и кого-то там жалеть.
Он просто скучающим взором оглядел пустой роскошный ресторан, лишенный посетителей, несмотря на то что сезон вроде бы и начался уже.
Он не увидел в ресторане ту, которую хотел здесь встретить.
К нему сразу же с вежливой улыбкой на лице обратилась хостес, но он покачал головой – нет, спасибо, меню знаю наизусть, а вот выпить предпочту в лобби-баре.
Он легко спустился по мраморной лестнице, еще раз оглянулся на зеленую галерею… звуки арфы – и только. И никаких привидений с телеэкрана…
В великолепном лобби, отделанном светлыми дубовыми панелями, – тоже небольшой ресторан.
И вот тут мотоциклист увидел ее.
Она сидела за столиком в полном одиночестве. На скатерти перед ней сервирован чай в лучших традициях английских отелей – белый фарфор чайника и чашек и тарелка с десертом.
Она была в платье из кашемира вишневого цвета и высоких замшевых сапогах.
Она тоже блондинка. И даже весьма миловидная, хотя немножко усталая.
Он, пожалуй, был ярче, красивее. Да и выше ее на целую голову.
Его звали Данила. А ее звали Евгения. И вот уже несколько лет они носили разные фамилии, потому что она, его младшая сестра, вышла замуж.
Евгения Савина – Женя, как ее звали все домашние, поднесла к накрашенным розовой помадой губам чашку чая и увидела Данилу Кочергина – своего брата.
Он направился к ее столику и сел напротив, улыбаясь, явно довольный встречей.
– Привет.
– Привет. – Женя отпила глоток чая. – Только что о тебе подумала.
– Правда, сестренка? – Он встал и отошел к стойке бара.
Бармен не стал даже спрашивать у него заказ – все, как всегда: скотч.
Со стаканом виски Данила вернулся за столик к сестре.
– Я знал, что ты тут сегодня, – сказал он.
– Мог бы и позвонить.
– Некогда. Ты же знаешь, у меня строгий учитель латыни.
Латынь и переводы с нее – вот уже год как Данила брал у профессора МГУ уроки по этому предмету. В свое время он два года проучился на классическом отделении филфака университета, но потом учебу забросил. А вот теперь возобновил уроки латыни и литературы в частном порядке. Его сестра относилась к этому спокойно, в отличие от других членов их семьи. Ее тревожило другое.
– Только не ври мне, – сказала она.
– Да я не вру, я прямо с урока.
– Ага, только вот весь рот разбит.
– Это мелочи. – Он отпил виски и поморщился. – Ах, черт, правда щиплет.
– А в тот раз дали в глаз. Слушай, я не понимаю…
– Все ты понимаешь, сестренка.
– Нет, я не понимаю. Ну тот ужас с автомобильными гонками… Я на коленях тебя умоляла прекратить это. И ты, кажется, внял. Понял, как я боюсь… Понял, что я маму каждый раз вспоминаю. Ты прекратил. А теперь вот этот твой бокс.
– Да это просто спорт. Для здоровья, – усмехнулся Данила.
– Это подпольные договорные матчи на деньги. Тебя там покалечат.
– Я сам кого хочешь покалечу.
– Тебя там покалечат! – Женя повысила голос. – Данила, ну я прошу тебя.
– Ну хорошо, хорошо. Сегодня была только тренировка. А потом я поехал читать Катулла и Авсония с профессором. «До чего все забавно получилось – тут мальчишка с девчонкой забавлялся. Шалуна, так велела мне Венера, поразил я копьем своим торчащим».
Женя пододвинула к себе десерт.
– Стишки переводишь для тети специально? – спросила она.
– Угу, – он кивнул. Допил виски и снова отошел к стойке бара – повторить. И опять вернулся, сел, вытянул ноги в тяжелых «берцах».
– Тетю хватит удар, – сказала Женя.
– Не хватит. – Он улыбался. – Тетя у нас здоровая как лошадь. А насчет перевода Катулла, так там вообще мягкий перевод. «Целию мил Амфилен, а Квинтий пленен Амфиленой. Сходит с ума от любви юных веронцев краса… Этот сестру полюбил, тот брата – как говорится. Вот он, сладостный всем, истинно братский союз. Неудержимая страсть у меня все нутро прожигала…»
– Тетю хватит инфаркт, – повторила Женя.
Ее брат пил свой виски.
– Ладно, – сказал он, – когда станет нам совсем невмоготу, то выручит нас старая добрая латынь и римская классика. Ты тут Генку ждешь?
– Да, я ему отправила эсэмэску. У них в департаменте совещание, но он приедет. Скоро.
– Муж за женой, как нитка за иглой, – усмехнулся Данила, – жаль, что ты теперь без машины осталась.
– Ничего. Я пока такси обхожусь.
– Поехали домой со мной.
– На мотоцикле? Да ты напился уже.
– Ничего я не напился. Pisces natare oportet… Рыба посуху не ходит, сестренка.
– Ты же знаешь, что я всего этого страшусь. Что ты ездишь пьяный, что ты гоняешь на бешеной скорости. Выходишь на ринг на этих подпольных матчах, как будто ты в деньгах нуждаешься!
– Зато муж Генка у тебя тихий, ответственный товарищ, – усмехнулся Данила. – Служит вон в департаменте.
– Я и за Генку тоже тревожусь.
– Ну, у тебя планида такая – за всех переживать. – Данила пил свой виски. – Ты вот тут в лобби «Авроры» сидишь и от всех прячешься. Что я, тебя не знаю, что ли?
– Тут хорошо, – Женя вздохнула, – я здесь покойно себя чувствую. Тут какая-то стабильность во всем.
– Ну да, и ни души во всем «Мэриотте». Никто к нам не приезжает. Никому мы не нужны стали. – Данила указал глазами на тарелку с десертом: – Мильфей все такой же потрясный?
– Да, мильфей очень вкусный. Закажи себе что-нибудь. Нельзя же просто пить на голодный желудок.
– Салат «Цезарь» с их фирменным соусом все еще в меню? Или даже здесь уже нет голландского салата?
– Закажи шницель по-венски. Тут это фирменное блюдо.
Данила сидел неподвижно. И его сестра сама позвала официанта и сама заказала для брата шницель по-венски.
– Странно ощущать покой и стабильность в совершенно пустом отеле, – сказал Данила, – но так уж ты устроена, сестренка. Nunc est bibendum… Как говаривал старикан Гораций, – теперь пируем, точнее, пьянствуем.
– Поешь горячего, – посоветовала ему на это Женя, – и потом закажи крепкого чая. Вымой хмель из башки.
– Ладно. – Данила улыбался официанту, ставящему перед ним блюдо с венским шницелем и корзиночку с фирменными дарами отеля – булочками и ароматизированным маслом. – А Генка скоро приедет за тобой?
– Я же говорю, у него совещание. Не раньше восьми, наверное.
– Сейчас только шесть. Так и будешь тут бдить на своем посту?
– Это не пост. Это мой вечерний чай. Традиционный чай в отеле «Мэриотт», – ответила Женя. – Ой, у тебя губа кровоточит!
Она взяла крахмальную салфетку и, протянув руку через стол, приложила ее к губам брата.
Данила выпрямился. Потом забрал салфетку из рук сестры. Промокнул разбитую на боксе губу. А затем взял руку сестры и поцеловал.
Музыка арфы внезапно умолкла.
Глава 4
«Утро стрелецкой казни»
В просторном офисе, расположенном на втором этаже гостиницы «Москва», ярко горели все лампы. Окно офиса с опущенными жалюзи смотрело прямо на центральный подъезд Государственной думы.
Даже в летние солнечные дни в офисе при выключенном освещении всегда царил полумрак, потому что огромное здание отеля «Москва» отбрасывало тень именно сюда, в сторону метро «Театральная», и тут, как в глубоком ущелье между двумя монолитами зданий, господствовал постоянный сквозняк-ветродуй.
Мимо, мимо от Манежа к Лубянке проносились сотни автомобилей. А тротуары под окнами отеля всегда пустовали. Пешеходов и туристов влекли Тверская, Дмитровка, сквер перед Большим театром, Петровка, а сюда никто не ходил. Тут лишь останавливались дорогие лимузины тех, кто арендовал офисы в отеле «Москва».
Под образами в кожаном кресле за огромным письменным столом, лишенным какой-либо компьютерной техники, но заваленном папками с бумагами и почтовой корреспонденцией, переданной из секретариата на ознакомление, восседала Раиса Павловна Лопырева.
Ей исполнилось пятьдесят семь, а выглядела она на пятьдесят восемь – крепкая, ширококостная, однако не полная, с не очень хорошим цветом лица и тусклой пористой кожей.
Волосы она красила в рыжий цвет. Прежде она каждое утро заезжала в салон красоты и делала укладку у парикмахера. Но с некоторых пор утренние поездки в салон стали ее утомлять. Она сделала очень короткую стрижку и покрасила волосы в рыжий цвет. Это не помогло ей омолодиться, как она просила парикмахера, однако словно добавило еще больше уверенности.
Раиса Павловна не пользовалась косметикой и духами. Светлые брови свои и ресницы она не красила. Изредка баловалась неяркой помадой цвета кармина. Она одевалась в строгие деловые костюмы. Сейчас вот была в новом, песочного цвета, от Марины Ринальди. Вокруг увядшей шеи – жемчужное колье, единственная вольность стиля. Да на пальце – обручальное кольцо.
Напротив нее, по другую сторону стола, тоже в кожаном кресле для посетителей, сидел мужчина в синем дорогом костюме и белой рубашке без галстука.
Широкоплечий брюнет лет тридцати пяти с модной стрижкой, благоухающий безумно дорогим парфюмом и с гордостью носивший умопомрачительные мужские лоферы из кожи игуаны. На запястье его поблескивал золотой «Ролекс».
Он изучал какой-то документ под пристальным вниманием молчавшей Раисы Павловны.
Прочитал, а потом изрек:
– Кляуза.
– Вы все прочитали? До конца? – спросила Раиса Павловна Лопырева.
– Это несерьезно.
– Герман, это, на мой взгляд, очень серьезно.
Мужчину в лоферах из кожи игуаны звали Герман Дорф. У него на все имелось свое личное мнение. И часто это мнение отличалось от взглядов Раисы Павловны. Но она это Герману Дорфу прощала, потому что нуждалась в его деловых советах.
– Тут идет речь о картине Сурикова «Утро стрелецкой казни», – хмыкнул Герман.
– Вот именно, о картине из Третьяковской галереи. И к нам поступил сигнал общественности.
– Кляуза, – снова хмыкнул Герман.
– Сигнал. – Лопырева подняла вверх указательный палец. – К тому же один из моих внештатных помощников оказался тому свидетелем. Я не знаю, что там проводилось – урок прекрасного среди учащихся старших классов или просто экскурсия в Третьяковку. Но представьте такую картину: около «Утра стрелецкой казни» собралась толпа школьников – им всем уже по пятнадцать-шестнадцать, это будущие студенты, уже своей головой начинают думать. И вот учитель или экскурсовод начинает распространяться насчет этого самого полотна. Вы помните саму картину Сурикова?
– Помню. Стрельцы после неудавшегося бунта… Лобное место на фоне Василия Блаженного, казнь вот-вот начнется. Царь Петр мрачный, как демон, смотрит со стороны на свой народ. Вот-вот вешать начнут или головы рубить, только там это не нарисовано.
– Там это не нарисовано, – подтвердила Лопырева, – а вот учитель или экскурсовод перед школьниками начинает эту тему развивать. Подавление, мол, инакомыслия… Петровская элита по приказу царя должна быть повязана кровью, круговой порукой. Экскурсовод пассажи из романа «Петр Первый» начал цитировать – мол, как царь заставлял своих любимцев – а ведь все это прогрессивные, положительные персонажи российской истории, от Меншикова до генерал-фельдмаршала Головина, – самолично брать в руки топор и сечь стрельцам головы на плахе. И опять – про подавление инакомыслия, про репрессии.
– Но ведь это все история, правда.
– Да зачем школьникам, будущим студентам об этом говорить? – повысила голос Лопырева. – Зачем акцентировать на этом внимание сейчас? Что, других картин в Третьяковке, что ли, нет? Зачем собирать вокруг этой картины экскурсию и начинать будировать совершенно ненужные вопросы? Подавление инакомыслия… Это не вопросы средней школы! Я считаю, нам надо на это среагировать.
– На что? – спросил Герман. – На художника Сурикова, жившего в девятнадцатом веке, или на позицию школьного учителя, экскурсовода? По поводу Сурикова скажу – его потомки до сих пор здравствуют, и они сильны и могущественны. Вы рискуете нарваться на неприятности. Вообще все это несерьезно и не ко времени.
– Нет, как раз это очень ко времени, – возразила Лопырева, – и наш инициативный комитет хотел бы заняться…
– Да никто из депутатов и ни одна фракция не станет пиариться на картине Сурикова, – ответил Герман, – это не та тема.
– Не заинтересуются?
– Думаю, нет.
– Но сигнал в наш комитет…
– Но ваш инициативный комитет не обязан реагировать на всякую ахинею. Раиса Павловна, вот вы же не стали на тот случай с куклами-голышами реагировать? И правильно. Кто-то там усмотрел пропаганду сексуальности среди детей в виде продажи кукол-голышей. Но вы же не зацепились за это, потому что…
– Ой, там так все половинчато, – Раиса Павловна махнула рукой, – куклы для детей… дети же играют, примеряют куклам новые платья, а значит, раздевают кукол. А потом одевают. И как тут провести грань – если дети раздевают кукол, почему нельзя голышей продавать? Там же нет никаких половых признаков, просто тельце из пластика. Да у меня у самой в моем детстве имелась кукла-голыш. Причем мальчик. Отлично я ее помню, купалась с этой куклой в ванне вместе. Голыш без половых признаков, там даже попка особо не была обозначена, ну, в смысле двух половинок. Так, общая гладкость.
– Ну вот, инициативный комитет не стал реагировать на голышей. И это тоже оставьте.
– Но тут идет речь о подавлении инакомыслия. И в юные головы в ходе экскурсии закладывается идея…
– Сильная картина, висит в Третьяковке, а Суриков – великий русский художник, – сказал Дорф. – Раиса Павловна, я вам так скажу, – моя профессия – пиар и масс-медиа. Пропиарить можно что угодно, даже эту вот вашу идею. Но игра не стоит свеч. Много шума будет и – ничего.
– Вы так думаете, Герман? – Лопырева взглянула на часы – антикварные, в дубовом футляре, стоявшие в углу кабинета.
– Я в этом уверен. А вы что, куда-то торопитесь?
– Да нет, хотя так, какая-то усталость. – Раиса Павловна поднесла руку к глазам.
– Да, я сам как лимон выжатый, – кивнул Герман Дорф. – Я вообще-то страшная сова – у меня к вечеру как раз пик активности наступает. А тут что-то начал сдавать.
– Вы так молоды, вам ли это говорить, – Раиса Павловна откинулась на спинку кресла. – Ну так какой ваш окончательный совет?
– Забить.
– Забить?
– Такая организация, как ваш Инициативный комитет, не должна размениваться на всякие мелочи.
– Но работа с подрастающим поколением – это не мелочь.
– Ну а какие можно выдвинуть инициативы? Что, убрать «Утро стрелецкой казни» в запасники? Или не проводить со школьниками экскурсии в Третьяковке? Или не рассказывать о содержании и смысле картин?
– Не акцентировать…
– А они будут акцентировать. Вопреки. Вы что, предложите штрафы за это вводить, как вот предлагали штрафовать за употребление иностранных слов? Или в тюрьму сажать?
– Нет, но…
– Мой совет – все это положить под сукно, эту кляузу, – сказал Дорф.
Раиса Павловна Лопырева поджала тонкие губы. Потом снова глянула на часы в углу кабинета.
Герман Дорф вытянул ноги и рассматривал свои дорогие лоферы из кожи игуаны. На лице его была написана скука.
Раиса Павловна вздохнула и швырнула документ в мусорную корзину.
Глава 5
Марта
В пыльной и облезлой съемной однокомнатной квартире, расположенной на первом этаже хрущевки в районе метро «Динамо», жизнь била ключом.
Квартиру снимала Марта – женщина, уже не молодая, но весьма и весьма энергичная. Когда она появлялась в своей съемной квартире, то там все так и кипело – вещи летели в разные стороны, одежда падала на пол, в ванной, катастрофически лишенной ремонта, шумел душ.
Марта мылась в душе и напевала: ла-ла-ла…
У нее полностью отсутствовал слух, да и голоса не было, но это ее никогда не смущало.
Ла-ла-ла-ла…
А город пил коктейли пряные…
Виновата ли я…
Ай-яй, в глазах туман, кружится голова…
Ромашки спрятались, поникли лютики…
Лаванда, горная лаванда…
И еще десяток песенок, точнее отрывочных куплетов, потому что кто их, эти песни, до конца поет, кто знает все слова?
На полу, давно не метенном, жаждущем пылесоса и уборки, валялась одежда, нижнее белье.
Это словно помеченная тропа от входной двери к душу. Марта всегда раздевалась на ходу. Деловито пританцовывая.
Останавливалась на секунду возле зеркала в прихожей, шарила в косметичке, доставала разные губные помады и начинала красить рот – пробовать, какой цвет лучше, какой ярче.
Так и не выбрав, она шла в душ мыться. Смывала там, стирала помаду с губ, чтобы затем начать все сначала.
Вечер, вечер, вечер в квартире у метро «Динамо»…
Вечер ведь только начинался.
После душа Марта включала электрический чайник на крохотной грязной кухне, заваривала чай – покрепче. И ела шоколадные конфеты. Пусть от нее пахнет шоколадом и ванилью. Она ведь…
Да, она ведь – слааааааааа-ааад-кая женщина…
Страаааааа – аааааа-анннная женщина…
Эта женщина в окне…
Милая моя, солнышко лесное…
А ты такой холодный, как айсберг в океане…
Ты – морячка, я – моряк…
Сердце, тебе не хочется покоя…
После чая и конфет Марта открывала стоявший в комнате старый шкаф и начинала одеваться, прихорашиваться.
Дверь гардероба заслоняла ее и от комнаты, и от окна. Никого не было в квартире, но так уж повелось, так она привыкла.
Затем она отступала от шкафа и шла в прихожую смотреться в большое зеркало.
Крупная, с очень широкими боками и толстым задом, с тяжелой выпирающей грудью, – она была облачена в черную короткую комбинацию.
Возле зеркала, поставив ногу на маленькую скамейку, она начинала свой вечерний ритуал – надевание чулок.
Чулки всегда черные, иногда гладкие, иногда в сеточку.
Марта любовно и бережно доставала их из пакета, почти каждый раз новую пару. Встряхивала, потом засовывала внутрь руку, щупая и наслаждаясь фактурой.
Затем, кряхтя, потому что бока и грудь мешали, она наклонялась, ставила ногу на скамейку, просовывала ступню внутрь чулка и…
Ох, волшебный момент!
Нет, не нога скользила внутрь, это чулок скользил вверх по ноге, обтягивая широкую щиколотку и крепкую ляжку.
Марта долго, с чувством, любовалась на свою ногу в черном чулке, а потом ритуал повторялся.
Надев чулки, она еще долго вертелась перед зеркалом – и так, и этак, гладила себя по полным крутым бокам, втягивала живот.
Под такие чулочки, конечно, нужны туфли на умопомрачительных шпильках. Этак сантиметров двенадцать. Но не девочка ведь уже, не двадцать лет. Порхать на каблуках при таких габаритах тяжко.
А потому туфли выбирались на каблуке низком, устойчивом, удобном. Ходить придется и стоять. Лучше уж полностью полагаться на проверенные комфортные вещи, на обувь, что не натирает ноги.
После чулок и обуви наступал еще один трепетный момент возле зеркала.
Марта начинала краситься.
Она долго колдовала над лицом, сначала накладывала «базу» под тональный крем для гладкости кожи. Затем уверенными движениями наносила на лоб, щеки и размазывала круговыми движениями саму «тоналку».
Съедала еще пару конфеток, давая тональному крему впитаться. Затем густо и обильно пудрилась.
После этого подводила брови. Придирчиво выбирала тени для глаз – почти всегда перламутровые – и накладывала их широкими щедрыми мазками.
Не штукатуриться, а краситься…
Вот так, вот так, вот так…
Накладные ресницы она красила тушью густо-густо и очень-очень долго. Взмах, взмах… И вот ресницы почти совсем как кукольные – такие длинные, такие густые.
Марта с удовольствием взирала на свои пухлые щеки и тыкала пальцем в баночку с румянами – чуть-чуть оттенить вот тут на скулах, а то щеки толстые, хотя и нельзя назвать их обвисшими.
После Марта надевала парик. Свои волосы – это свои, от них, конечно, никуда не денешься, но вот этот белокурый парик, это просто чудо что такое.
Свои волосы закрыты специальной сеткой, чтобы парик сидел как влитой.
Вот так надеваем и…
А вот теперь из зеркала на мир смотрит настоящая Марта – та, которую знают в клубе.
Это Марта Монро, почти что Мэрилин…
О, Мэрилин, незабвенная Мэрилин Монро… Ах, до твоего идеала, конечно, далеко, но общий узнаваемый тренд соблюден.
Точь-в-точь…
Белокурая Марта Монро в парике наконец-то делала завершающий штрих: она бралась за помаду – ту, что перед душем отбраковывала, и густо, с наслаждением и любовью красила свои губы.
Яркие губы…
Ах, они созданы для поцелуев.
Затем она натягивала платье с блестками – порой розовое, порой серебряное – и брала с вешалки жакет из белого искусственного меха, так похожего на перья.
Марта Монро.
Она глядела на себя в зеркало.
Жизнь…
Ах, жизнь, что ты делаешь со мной…
Знакомый таксист – она платила ему щедро – уже ждал, звонил от подъезда: такси подано.
Марта легко поворачивалась на своих устойчивых каблуках, брала с зеркала туго набитую сумку и…
Вот тут ей всегда приспичивало в туалет на дорожку.
Это было что-то чисто психологическое, она не могла покинуть квартиру и сесть в такси без того, чтобы не зайти в туалет.
А с этим целая проблема, потому что, когда вы полностью уже собраны, одеты в платье и меховой жакет, выясняется одна очень интересная деталь.
Под платьем надето боди.
Тут надо пояснить, что сначала Марта хотела надеть вниз только утягивающее белье – такие панталоны, облагораживающие пышность форм. Но с чулками и платьем это неудобно.
Совершенно неудобно.
И вот тогда ее осенила идея с боди. Но он же как сплошной купальник!
И ходить в туалет в нем – сущее наказание.
Марта снова заходила в ванную – это же совмещенный санузел – и вставала, раскрылатившись над унитазом.
Чуть приседала, затем, чертыхаясь вполголоса, оттягивала утягивающий плотный боди, закрывавший промежность, чуть в сторону и…
Ооооооооооооо! Какое наслаждение…
Тугая золотая струя…
И нет того извращенца, любителя золотого дождя, который это оценит.
Сделав свое маленькое важное дело, Марта, не помыв рук, цокала каблучками назад в прихожую.
Порой она даже забывала спустить воду в унитазе.
Ее мысли были заняты уже предстоящим вечером в клубе.
А мочевой пузырь опорожнен.
Глава 6
Инвалидное кресло
Легкий ароматный дым гаванской сигары поднимался к вечернему небу, затянутому тяжелыми дождевыми тучами. Смеркалось, и автоматическая подсветка вдоль дорожек на участке зажглась.
Петр Алексеевич Кочергин курил сигару на свежем воздухе в патио своего большого дома. Патио по-модному отделано плиткой, украшено морозоустойчивыми хвойными в больших керамических горшках. Но все горшки сдвинуты так, чтобы максимально освободить все проезды и все повороты – из патио на участок и к крыльцу открытой веранды дома.
Возле ступеней крыльца оборудован широкий, очень удобный пандус – это чтобы инвалидное кресло Петра Алексеевича…
Да, Петр Алексеевич Кочергин, отец Данилы и Жени, курил сигару в своем инвалидном кресле, из которого не вставал уже много лет.
Кресло – чудо современной медицинской техники – оборудовано электроприводом, сенсорными кнопками. Но для движения по дому всем этим Петр Алексеевич не пользовался. Крутил колеса кресла руками и перемещался тихо, почти неслышно.
Да, да, очень тихо в доме. И пуст он, дом этот, в вечерний час. Все в разъездах, все по делам. И лишь Петр Алексеевич праздно вот так совсем от нечего делать курит сигару и прислушивается.
Горничная в доме, где-то в самых его недрах. Горничная-филиппинка. Ее посоветовали взять знакомые жены Петра Алексеевича. Знакомые – дипломаты. Сейчас, мол, это модно и удобно – горничная-филиппинка. По-русски она знает плохо. Но насчет работы по дому – оооооооооо! Целыми сутками она фанатично и истово убирается, убирается. Словно невидимый молчаливый робот. Глянешь – и нет ее совсем, словно и не существует она на свете, эта горничная-филиппинка. А в доме чистота, ни соринки.
Петр Алексеевич крепче прикусил сигару зубами. Вот так… Смеркается. Осень, темнеет рано.
Для прогулки на свежем воздухе Петр Алексеевич одет тепло – в куртку, вокруг шеи шерстяной шарф, на голове шерстяная кепка. Горничная-филиппинка помогает ему одеваться и раздеваться.
А прежде помогал тот парень… Ну, когда не водил машину.
Но теперь осталась лишь горничная…
Петр Алексеевич неспешно начал объезжать патио, двигаясь в направлении большой клумбы, засаженной последними осенними астрами, декоративной камнеломкой и мхом. Что тут только не делали, на этой клумбе – и японский садик, и альпийскую горку.
А теперь вот засадили все камнеломкой. Она и под снегом зеленеет. И подстригать ее, как газон, не нужно.
Огоньки подсветки на дорожках участка…
Участок немаленький, с фруктовым садом, за которым мало ухаживают, с туями у забора.
Сразу за забором – крутая тропинка в лес, и ведет она к высокому берегу Москвы-реки. Сын Данила летом любит бегать там по утрам. Когда дочь Женя приезжает с мужем Геннадием, он и его пытается увлечь на пробежку.
Но Геннадий к спорту не слишком расположен. И за то, что он не бегает… да, за то, что он вот так демонстративно не выпячивает свою физическую форму, свою энергию, свои возможности, свою свободу, наконец, бегать, прыгать, ходить, да, ходить… Вот за это за все Петр Алексеевич ему благодарен.
Зять исполнен чувства такта. Так считает Петр Алексеевич. А вот сын Данила такта напрочь лишен.
Да и жалости, сочувствия – тоже.
Ох, нет, только не подумайте, что Петр Алексеевич, глава и хозяин этого большого, очень дорогого дома, нуждается в жалости и сочувствии из-за своего инвалидного кресла.
О нет…
Может, лишь в самые первые годы после того, как это случилось с ним. Но тогда дети его – сын и дочь – были еще так юны. Молодость вообще толком не способна к истинному сопереживанию трагедии.
Поддержку Петр Алексеевич получил сполна только от жены. Да, от своей второй жены. С ней он в браке и по сей день.
Но жены сегодня вечером с ним рядом тоже нет. Жена – деловой человек, она очень занята.
А Петр Алексеевич вот тут, дома…
Он курит сигару.
С великим наслаждением он курит великолепную душистую гавану. И ощущает каждой клеточкой своего тела мир, что его окружает.
Патио, где оборудовано все для семейного барбекю. Эту вот вечернюю сырость. Этот ветер с реки, что шумит в саду. Эти огоньки подсветки, что моргают, точно подмигивают ему со стороны дорожек.
Петр Алексеевич медленно крутит колеса кресла руками, потом все же нажимает сенсорную кнопку. И кресло – его домашний трон – медленно и осторожно едет из патио по дорожке в сад.
Он едет один и курит сигару. Сумерки все гуще, осенний вечер накатывает, как океанская волна.
В доме на веранде и в холле внизу включается электричество.
Скоро ужин.
Возможно, к ужину из семьи кто-то приедет. Возможно, все сразу, а может, и никто, потому что все задерживаются в Москве – по делам, и в пробках, и просто так.
Жить за городом вот в таком элитном поселке у Москвы-реки, конечно, престижно. Но тут очень остро чувствуется одиночество.
От этого спасает лишь хорошая сигара.
Петр Алексеевич кружит в инвалидном кресле по дорожкам сада. Это его прогулка. Это его ежевечерний моцион. Это – традиция.
Хорошо, что пока нет дождя.
Глава 7
Белоручка и пузырек зеленки
То, что Белоручка получила звание майора и повышение, не стало для Кати – Екатерины Петровской, криминального обозревателя Пресс-центра ГУВД Московской области, сенсационной новостью.
Больше удивило другое – Белоручка покинула МУР, Петровку, 38, и перешла на работу в областной главк.
Не Белоснежка… Белоручка… Лилечка… Катя именно так называла всегда ее про себя – Лилечка.
Вместе они работали лишь однажды – по московскому делу об убийствах на бульварах[1]. Но с тех пор крепко подружились. Хотя виделись очень редко. И вот новость средь бела дня – Лиля Белоручка, теперь уже майор полиции, ушла из отдела убийств МУРа, чтобы работать в Подмосковье. Она назначена начальником криминальной полиции в ОВД Прибрежный.
Они с Катей не встречались очень давно. И многое с момента их встречи изменилось. Но вот неожиданно выпал шанс увидеться и поработать вместе – так думала Катя по пути в Прибрежный ОВД за рулем своей маленькой машины «Мерседес-Смарт».
Она даже не стала звонить Лиле Белоручке, решила нагрянуть как снег на голову после того, как прочла в сводке происшествий об этом убийстве.
Она не ожидала от этого дела ничего экстраординарного. Просто – потешить репортерское любопытство и заодно встретиться со старой подругой, поздравить ее с новым назначением.
Да, она не ожидала от этого дела ничего такого… Она даже не могла представить себе, какие события впереди, связанные с этим вроде бы таким простым бытовым убийством на аллее у железнодорожной станции.
Что греха таить, по пути в Прибрежный ОВД Катя считала, что она там, в компании Лили Белоручки, слегка развеется и отвлечется.
От чего отвлечется? Так от этой тяжкой осенней апатии. От усталости, давящей словно камень. От всего этого опостылевшего ритма – дом, работа, дом…
Она приезжала на работу в Пресс-центр к девяти. Вставала в семь утра в полной темноте. Октябрь не баловал погожими днями, а конец месяца вообще утонул в нескончаемом дожде, в сумраке, в тучах.
На работе Катя всегда задерживалась, а это означало, что и домой она возвращалась тоже в темноте.
Включала свет в своей квартире на Фрунзенской набережной и часто подолгу сидела на кухне, пила крепкий чай. Смотрела в окно на Москву-реку, на набережную, сияющую огнями.
Все, все, чем она прежде так гордилась и что спасало ее в самые трудные моменты жизни – любопытство, азарт, бойкое перо, настойчивость, – все это словно обесценилось. Представлялось таким смешным и никчемным, никому не нужным…
Был ли то некий душевный кризис? Катя об этом старалась не думать. Она все чаще ловила себя на мысли, что и работу свою – написание криминальных статеек в интернет-издания в качестве криминального обозревателя Пресс-службы ГУВД – она исполняет все более и более формально.
Все чаще подбирает слова…
Все чаще пишет на нейтральные темы.
Многие вещи, о которых она прежде не задумывалась, становились важными и, как бы это сказать, звучали совсем по-иному.
Порой Катя ощущала безмерную опустошенность в душе и безграничную апатию.
Но она старалась брать себя в руки…
Нужно взять себя в руки! Слышишь, ты! Надо, надо брать себя в руки. Ты сможешь, ты сильная.
Получалось или не получалось – об этом Катя опять же судить не могла. Чтобы хоть как-то поднять себе настроение, она…
Что мы делаем, когда нам плохо, скверно? Мы обращаемся к друзьям.
Так поступила и Катя. И это коротенькое сообщение в сводке об убийстве у железнодорожной станции в Прибрежном пришлось как нельзя кстати. Ну, если такое можно сказать об убийстве.
Катя решила написать о раскрытии этого дела для криминальной полосы интернет-версии «Вестника Подмосковья». И не стала звонить подружке Лиле Белоручке загодя.
Решила просто приехать сама в Прибрежный.
ОВД находился на берегу Москвы-реки. И почти рядом со столицей. Раньше это было просто отделение милиции Прибрежное. И туда словно в ссылку отправляли тех, кто… Ну, в общем, не имел особых служебных перспектив – оперов и участковых, грешивших алкоголем, которым до пенсии оставалось год-полтора. Их просто жалели увольнять за пьянство. А также строптивых, тех, кто имел с начальством какие-то конфликты. Или тех, кто просто не сработался с основным коллективом района.
Такие места в полиции – своеобразный отстойник. Нет, нет, не подумайте, что там все сплошь грешники и злодеи, нет, скорее даже наоборот. В подобных местах – в заповедниках – порой бытует особая атмосфера, отличная от общей генеральной несгибаемой линии ведомства.
Если где-то собрать слишком много профи – пусть и алкашей, и строптивых, и бунтарей, то атмосфера не может не измениться.
Там, внутри.
Катя думала по пути в Прибрежный ОВД, что майору Лиле Белоручке достался непростой, очень непростой коллектив. И то, что она, женщина, возглавила криминальный отдел, это… возможно, знак судьбы. Пусть маленький, незначительный, но все же положительный знак.
В это утро, решив посвятить себя командировке в Прибрежный, Катя впервые за долгое время встала не в семь, а в начале девятого.
А это означало, что она проснулась при свете дня. Пусть серого, ненастного, но все же дня – а не в полной темноте.
Добралась до ОВД она без приключений, оставила позади Москву и тут же въехала в микрорайон Прибрежный, застроенный многоэтажками.
Отдел полиции располагался возле парка на берегу реки. У здания ОВД – все как обычно, только очень много полицейских машин.
Но вот внутри…
– Один звонок сделаю! Щас адвокат приедет – так я один звонок сделаю с его мобильного, и вас всех тут не будет! Вас всех уволят!
– Руки покажите, пожалуйста.
– Нечего меня осматривать, вы не имеете права!
В дежурной части патрульные, помощник дежурного и эксперт-криминалист пытались утихомирить задержанного – молодого мужчину, рыжего, сытого, с глазами навыкате и красными пятнами на лице. Он брызгал слюной на эксперта-криминалиста и орал:
– Лига кротких против Содома! Он – изззззвращенец бородатый, трансвестит в женском платье! Лига кротких не потерпит!
– Покажите руки, – настаивал эксперт.
– Да чего руки. Да ты знаешь, кто я?! Один звонок – и тебя, всех вас уволят без пенсии!
– Руки покажите, я сказал.
Катя, подойдя, увидела, что руки молодца, кричавшего про лигу кротких, все в зеленых пятнах.
Она отозвала в сторонку помощника дежурного, предъявила удостоверение и спросила:
– Что тут у вас?
– Дурдом, – дежурный покачал головой.
– Я к вашему начальнику майору Белоручке.
– Она в пятом кабинете, потерпевшими занимается.
Катя пошла по коридору, ища пятый кабинет. Постучала, открыла дверь и..
– Закройте дверь, я занята!
Резкий женский голос. Катя увидела свою подругу. Лиля была в форме. Она обернулась к двери, взмахнула рукой – мол, не сейчас. И тут глаза ее встретились с глазами Кати.
– Это я, – сказала Катя.
– Это ты?
– Это я, – повторила Катя. – Извини, что без звонка и, кажется, не вовремя.
– Заходи! Катя, что же ты так давно не приезжала, не звонила.
Катя смотрела на подругу. Лиля слегка раздалась вширь. Она всегда была маленькой женщиной, невысокого роста, но очень сильной, ловкой, подвижной, дружившей со всеми видами спорта. А тут слегка потолстела. Хотя лицо ее осталось худым, с резко очерченными скулами. Катя отметила, что возле уголков рта Лили залегли морщинки, их раньше не наблюдалось. И все черты как-то заострились, посуровели. Даже когда она улыбалась…
Сейчас лицо Лили было каким-то серым.
За столом в пятом кабинете на стульях для посетителей сидели двое: женщина-карлик – очень миловидная крашеная блондинка, такая крохотная, точно Дюймовочка, с маленькими аккуратными ножками и ручками, в брюках и яркой, почти детской розовой курточке, испачканной зеленым.
А вот второй человек за столом…
Катя подумала, что это переодетый мужчина в женском платье. Так ей сначала показалось. Потом она пригляделась – нет, фигура женская, округлая, но…
Ах, памяти незабвенной Кончиты Вурст – бородатой певички с Евровидения, – у человека в женском платье имелась густая каштановая борода. Каштановые волосы струились по плечам. Пестрое платье из джерси спереди разорвано и все тоже залито зеленым.
– Грудь болит вот здесь. Он прямо в грудь меня бил ногой специально. Я когда упала…
Голос… голос – женский, очень мягкий, немного низковатый, исполненный боли и страдания.
Катя сразу поняла – перед ней женщина.
– Пишите заявление, Кора, – сказала Лиля Белоручка. – Марина, и вы тоже. – Она подвинула к женщине-карлику лист бумаги и дала шариковую ручку.
– Лиля, что у вас тут происходит? – спросила Катя.
Лиля лишь глянула на нее, скулы очертились еще резче под тонкой кожей.
– Может, не надо писать никакого заявления? – спросила Кора.
– Пишите заявление, мы возбудим уголовное дело о нападении на вас.
– На меня дважды уже нападали до этого. Я не обращалась в полицию. Один раз вечером в переходе на лестнице так толкнули сзади. Я грохнулась, боялась, что ногу сломаю. А сегодня мы с Маришкой вышли из такси… Я даже не видела их – как они на нас налетели. Один что-то про Лигу кротких против Содома орал и ударил меня. Я упала на колени. А он меня ногой в башмаке в грудь вот сюда… Грудь болит… и еще в промежность ударить пытался, думал, наверное, что у меня там яйца, как у мужчины. – Та, которую звали Корой, рассказывала все это медленно, словно с усилием. – Я согнулась, а он меня сверху ударил склянкой с зеленкой. Вот теперь вся зеленая буду. Орал, что я трансвестит бородатый… А я женщина – такая же, как вы и вы.
Кора обернулась к Кате. Глаза – темные, полные муки и слез. Борода…
– Я знаю, – сказала майор Белоручка, – пишите заявление о том, как на вас напали.
– Я женщина. Я никаких операций себе не делала. И пол не меняла. Он, тот, кто бил меня, наверное, решил, что я пол меняла. А я – никогда. Таких, как я, прежде в цирках показывали в шоу уродов…
Катя смотрела на бородатую женщину по имени Кора.
– Да, в шоу уродов, – повторила та, – это ведь уродство… Я раньше все эпиляцию делала. Все пыталась избавиться. Но уж очень густо растет. Это генетика такая жуткая, наследственность… Косметолог сказал, что бороться невозможно. Раздражение пошло по всему лицу на коже сильнейшее. Так и до рака кожи может дойти. Так что я эпиляции забросила. И теперь хожу вот так. Уж какая есть. – Кора прижала руку к груди. – Ох, болит сильно… Да, я хожу такая, какая есть, как меня природа-мать создала-изуродовала. А он… этот, из Лиги, бил меня ногами… А я все равно не стану бороду сводить, потому что эпиляция не помогает. И еще по одной причине.
– По какой? – спросила Лиля Белоручка.
– По той, что… ну надо же как-то всему этому сопротивляться. Противостоять.
В пятом кабинете наступила пауза.
– Пишите заявление, пожалуйста, – в который уж раз попросила Лиля, – и я сделаю все, что смогу.
Карлица по имени Маришка склонилась над листом бумаги. Бородатая Кора тоже взялась за авторучку.
– А как писать? – спросила она.
– На имя начальника ОВД. Заявление. Пишите в произвольной форме, все подробности, как на вас напали. А потом вас, Кора, отвезут в больницу на освидетельствование. Надо снять и зафиксировать наличие побоев. – Лиля внешне казалась бесстрастной.
– Меня не били, но зеленкой облили, – тоненьким детским голоском сообщила карлица Маришка. – Это когда я его от Коры оттащить пыталась. Он совсем озверел, этот мужик. Что-то про либерастов-педерастов орал. Хорошо, что Кора в этот раз серьги не надела. А то бы из ушей вырвали, мочки бы разорвали к черту.
Лиля кивнула Кате – пойдем выйдем, пока потерпевшие будут писать заявления.
Катя молча повиновалась подруге.
Они прошли в дежурную часть. Рыжий парень из Лиги кротких сидел на стуле под охраной патрульного. В глазах – бешенство.
– Вы что тут себе позволяете? – прошипел он. – Вы начальник, да? Я спрашиваю – вы начальник?
– Я начальник, – Лиля выпрямилась во весь свой маленький рост.
– Я протестую! За что меня задержали? Это их надо задержать за непотребство! В таком виде – в платье средь бела дня разгуливает трансвестит-извращенец! Это оскорбление чувств, это разврат! Это торжество Содома и Гоморры!
– Прекратите кричать.
– Щас мой адвокат явится, так вот один звонок – самизнаетекуда, – и вас всех тут не станет. Всех без пенсии выгонят!
– У него на пальцах следы зеленки, – Лиля обратилась к дежурному, – фактическое доказательство. В камеру его.
– Меня в камеру? Извращенцев покрываете! – заорал рыжий истошно. – Лига кротких против Содома! Один звонок – и вас всех вон, вон бездельников, взяточников. Мы за порядок, мы за идеальный порядок и за торжество морали. А вы берете под защиту этого развратника, этого грязного вонючего трансвестита…
– И трансвестита я возьму под защиту против вас, – сказала Лиля, – только она – потерпевшая, на которую вы напали, избивали и облили зеленкой, она не трансвестит. Она женщина.
Рыжий из лиги поперхнулся слюной.
– Она женщина, – повторила Лиля, – ты на женщину напал. У женщины физический недостаток. Фактически она инвалид. Ты напал на женщину. Никакой адвокат тебе не поможет. Я тебя посажу. Слышишь ты, подонок, я тебя посажу!
– Лиля, Лиля, спокойнее, – Катя взяла подругу за локоть, – держи себя в руках.
– В камеру его, – приказала майор Белоручка, – а потерпевших на освидетельствование в больницу. И не сметь при них ухмыляться или пялиться на ее внешность. Слышите вы?
– Да мы и не пялимся, – вздохнул дежурный, – охо-хо…
– Тот, второй задержанный, бывший десантник, где?
– Он в уголовке, мы пока его не допрашивали.
– Я сама его допрошу, – сказала Лиля и снова кивнула Кате: пойдем со мной, моя подруга.
Моя милая подруга, что предостерегает и советует держать себя в руках…
Они поднялись по лестнице на второй этаж, в отдел уголовного розыска. В одном из кабинетов под присмотром хмурого пожилого опера, годившегося майору Белоручке в отцы, еще один задержанный. Толстый, здоровенный мужчина в спортивной куртке-бомбере. Под курткой – тельняшка. В пудовом кулаке смятый голубой десантный берет.
– Ваша фамилия Мамин? – спросила Лиля.
– Мамин я, Олег. Слушайте, давайте во всем разберемся нормально, по-хорошему, – сказал парень в тельняшке басом.
– Давайте по-хорошему. – Лиля присела на краешек стола. – Вы потерпевших вроде как не били.
– Я их пальцем не коснулся.
– Ну да, в сторонке стояли, наблюдали.
– Вы поймите меня. Я вообще ничего такого не хотел. Думал, у нас просто пикет от Лиги кротких. Они обращаются иногда, ну, за поддержкой. Они вроде как такие богомольные там, правильные все из себя. Он, этот, из Лиги, как увидел их, стал орать про непотребство, про то, что трансвестит ребенка совращает, с ребенком среди дня разгуливает, переодетый в женское платье. Я сначала не врубился, думал, правда – девчонка. Потом пригляделся, а это женщина взрослая, только карлица.
– Покажите руки, – попросила Лиля.
Парень в тельняшке вытянул вперед ладони.
– Чистые. – Лиля кивнула.
– Да не трогал я их.
– Вы в армии служили?
– Да.
– В десанте?
– Ну, так.
– Защитник слабых, герой.
– Да я…
– Она женщина, – сказала Лиля, – она не трансвестит. Она женщина с физическим недостатком. У женщины избыточный волосяной покров на лице, борода растет. Она вон говорит – раньше таких уродов в цирке показывали. Думаете, легко ей это говорить? Жить с внешностью такой?
Парень в тельняшке моргал глазами.
– Женщина? – спросил он тупо.
– Женщина с физическим недостатком, по сути и так жестоко наказанная природой, жизнью. А вы на нее напали. Унизили публично, избили, облили зеленкой этой поганой!
– Да я думать не думал…
– Вот что, Мамин, я к вашей совести взываю и к вашему сердцу. – Лиля смотрела на парня. – Я не знаю, кого вы там поддерживаете, какую Лигу кротких… Я к вам обращаюсь сейчас как к нормальному человеку, как к мужчине. Этот из Лиги несколько раз ударил женщину с физическим недостатком ногой прямо в грудь. Фактически бил инвалида. Вы это видели?
Парень в тельняшке молчал.
– Я еще раз обращаюсь к вашей совести, Мамин. Совесть у вас есть?
Парень комкал в руке голубой берет.
– Да, – произнес он хрипло, – я видел.
– Вы дадите показания? – спросила Лиля. – Мне нужно, чтобы вы дали показания как свидетель.
Парень кивнул. Но тут же отвел глаза.
– Тогда я вас сейчас допрошу на протокол. – Лиля взяла у оперативника папку с протоколами.
Катя вышла из кабинета. Не надо им сейчас мешать. Допрос непростой. Она спустилась вниз и открыла дверь пятого кабинета – как там дела у потерпевших?
Карлица Маришка и Кора сосредоточенно писали заявления. Обе подняли головы. Катя смотрела на Кору – платье все в зеленке и разорвано спереди, теперь на помойку пойдет.
– Тут прохладно, фрамуга открыта, – сказала она. – У вас есть пальто или куртка? Накиньте.
Кора заворочалась на стуле, и тут же лицо ее исказила гримаса боли. Она снова приложила руку к груди.
– Ох, больно… дышать тяжело.
– Вас врач осмотрит в больнице.
– Я вообще-то Надежда по паспорту. Кора – это для клуба, для сцены.
– А вы что, в ночном клубе?.. – спросила Катя.
– Ага, – карлица Маришка кивнула, – на Ленинградском проспекте. Клуб «Шарада». Там все собираются. Иногда гей-вечеринки устраивают, но в общем там все. Нам предложили. А что? А куда еще таким, как мы, идти? Кора поет, а я официанткой. Там разный народ – и трансвеститы тоже, и натуралы, и просто парочки веселые.
– Вы поете? Голос хороший? – Катя улыбнулась Коре.
– Под караоке только, – та покачала головой, – нет у меня голоса. Это идея администрации клуба, ну, после Кончиты с Евровидения. У нас, мол, в «Шараде» тоже своя женщина-борода.
Женщина-борода…
Катя увидела, как на глаза Коры опять навернулись слезы.
– Вам надо быть осторожнее, Кора.
– А как? Паранджу, что ли, носить? – Женщина горько усмехнулась. – Я решила – будь что будет. Уж какая есть, какая в этот мир пришла.
– А вы тоже осторожнее, – тихо сказала Маришка. – Я вон слышала, когда нас сюда привезли в полицию, этот, из Лиги, орал как бешеный, что, мол, у него связи, что позвонит, и вас всех уволят. Майора, вашу подругу… Спасибо ей, защитила нас. И патрульные вмешались. Мы хоть и уроды, хоть и не такие, как все, другие, – Маришка смотрела на Катю, – а добро помним.
– Вы дадите показания как потерпевшие. И есть еще один свидетель нападения на вас, – сказала Катя, – майор Белоручка поедет к судье. Будет добиваться, чтобы этого типа взяли под стражу. Я надеюсь, судья во всем разберется.
Карлица и бородатая женщина молчали. Потом склонились каждая над своим листом бумаги – писать заявление дальше.
Катя покинула пятый кабинет – пусть пишут одни. Стояла у окна в коридоре, ждала Лилю.
Та появилась не быстро.
– Пойдем ко мне, – сказала она.
Кабинетик оказался маленьким и тесным. Несмотря на то, что майор Белоручка получила повышение, не разжилась она просторными служебными хоромами.
– Рада тебе ужасно, – Лиля слабо улыбнулась, – только вот не думала, что встретимся в таком бардаке.
– Мамин дал показания? – спросила Катя.
– Дал. Но ты сама знаешь – сегодня дал, завтра отказался… Но я это дело до конца доведу. – Лиля постукивала маленьким кулачком по коленке.
– Тебе форма очень идет, – сказала Катя, – форма красивая.
– Новая форма красивая, – согласилась Лиля, – но некоторые все равно увольняются.
Катя молчала.
– Как дома дела? – спросила она потом.
– Ничего, все путем.
– Муж твой все в экспертах?
– Нет, – Лиля покачала головой, – как раз он уволился. Теперь в одной частной фирме медицинской. Услуги определения отцовства по ДНК. Он в этом дока, ты же знаешь.
– Я помню его, – Катя улыбнулась. – Я думала – вот вы с ним поженитесь, и у вас будет куча детей.
– Мы тоже так считали. А теперь… Нет, насчет детей я сейчас что-то уже не загадываю.
Катя и на это не знала, что сказать.
Если только то, что и она представляла свою встречу с подругой и коллегой совсем не так.
– Потерпевших сейчас в больницу повезут фиксировать побои, – сказала Лиля. – Слышала, что эта Кора говорила?
– Да, что на нее не раз уже нападали.
– Она говорила, что надо противостоять. Я вот одного не понимаю. Почему где-то все проходит в форме карнавала, прикола – перформанса, пусть и эпатажного, и может, странного на первый взгляд и не совсем пристойного, но веселого, черт возьми, как с этой бородатой певичкой Кончитой… А у нас все сразу превращается в мрачный кровавый мордобой, в разборку, когда женщину бьют ногами в грудь и трансвестита бьют в промежность, – Лиля закрыла глаза. – Эта Кора сказала, что пытается сопротивляться. А я подумала – я сейчас все Анну Ахматову читаю… Она считала, что человек в некоторых вопросах, если они истины касаются, должен оставаться твердым. Помнишь ее стихотворение Сталину после того, как ее сына арестовали? Она написала стихотворение о том, как к падишаху, отведавшему на пиру ягненка, явилась в образе черной овцы – матери ягненка, и спросила: по вкусу ли был тебе мой ребенок, о падишах? Знаешь, я вот подумала, что женщины иногда выбирают своеобразный путь, чтобы противостоять тирании. Одна является к тирану во сне в образе черной овцы-матери. Другая отращивает бороду и ходит так по городу, не удаляет волосы в салоне эпиляции, несмотря на то, что на нее нападают и бьют.
Катя слушала подругу. Лилька Белоручка читает Ахматову, находит время на стихи.
– Тебе не стоит об этом случае писать, Катя, – сказала Лиля. – Я сама уж как-нибудь тут буду сражаться.
– Честно говоря, я приехала совсем по другому делу, – ответила Катя. – Вообще-то я очень хотела с тобой увидеться после твоего перехода сюда с Петровки. И просто искала повод. Прочла в сводке об убийстве: тут у железнодорожной станции велосипедиста застрелили. Вот я и поехала к тебе. Наверное, не бог весть что за дело, бытовуха или грабеж, да?
– Да нет, на бытовуху или грабеж это не похоже. Парень имел с собой деньги, их не взяли. Всегда знала, что у тебя есть оперативное чутье.
– Нет, что ты, Лиль, я просто… А что с этим убийством, что-то не так?
Лиля внимательно глянула на Катю.
– Да как сказать… – ответила она.
Глава 8
Убийство возле станции
– Лиля, я только в общих чертах знаю, что в сводке прочла, – сказала Катя. – Там написано, что некий Фархад Велиханов, уроженец Уфы, ехал вечером на велосипеде тут у вас в Прибрежном к железнодорожной станции и схлопотал пулю в спину.
– Две пули, – ответила майор Белоручка, – согласно судмедэкспертизе смерть наступила от первого выстрела, пуля в сердце попала, но ему уже мертвому еще и в голову выстрелили.
– То есть контрольный выстрел?
– Контрольный, чтобы уж наверняка.
– Я решила, что это нападение с целью ограбления, – сказала Катя.
– Деньги при нем остались, то есть не наличные, а карточка банковская. Ни ее, ни бумажник у него не взяли.
– А он вообще кто? Гастарбайтер? На строительстве в Прибрежном работал?
– Парень снимал в Москве что-то типа койко-места в квартире с другими приезжими. Мы проверили. – Лиля открыла сейф и достала тоненькую папку. Потом оттуда же из сейфа достала флешку и подключила ее к ноутбуку. – Вроде как учился в Москве то ли дизайну, то ли искусству. Как вечный студент. А на учебу деньги зарабатывал. Он работал в Прибрежном водителем в одной богатой семье. От них в тот вечер как раз и возвращался. Торопился на электричку в Москву. Пока не много у меня информации, неделя еще не прошла с тех пор, – Лиля включила ноутбук. – Вот что узнать удалось: он водил машину «Ауди» в качестве личного шофера некой Евгении Савиной. А в тот вечер он забрал «Ауди» из сервисного центра, там какой-то ремонт делали небольшой, и перегнал ее сюда в Прибрежный, в их дом, и поставил в гараж. А сам на своем велосипеде отправился к станции. И по дороге был убит.
– Хулиганы местные? Напали на гастарбайтера? – предположила Катя.
– Возможно, только хулиганы с битами, с кастетами. А тут у нас пули от пистолета «ТТ». Гильз мы так и не нашли.
– Ну понятно, там же лесная дорога к станции, просека?
– Аллея. – Лиля открыла в ноутбуке файл с фотографиями с места происшествия и повернула экран к Кате. – Вот, смотри. Тело обнаружили только в половине шестого утра, пассажиры шли с первой электрички из области. И наткнулись. Всю ночь шел дождь. Мы осмотр делали сначала рано утром при свете фар от наших машин, потом уже днем. Искали гильзы с металлоискателем – и ничего не нашли.
Катя смотрела на снимки в ноутбуке.
Велосипед в кювете…
Асфальтовая дорожка – вся в глубоких лужах.
Тело…
Мертвец, лежащий в луже ничком.
А вот его перевернули в ходе осмотра – молодой, темноволосый. Смерть не красит.
– А вот так он выглядел на фото паспорта, – Лиля показала новый снимок.
Молодой, темноволосый, серьезный, как на фото для документов, но очень симпатичный парень.
Фархад из Уфы.
– А эти его богатые работодатели что говорят? – спросила Катя.
– Я Евгению Савину сюда вызывала в ОВД. Беседовали мы с ней. Она очень расстроена смертью своего водителя. Хвалила его – мол, такой исполнительный, вежливый, аккуратный. Сказала, что его нашел и нанял ее муж – через Интернет. Она сама за руль не садится из-за какой-то старой истории с автомобильной аварией. В день убийства она его не видела, он просто забрал машину из сервисного центра и перегнал к ним домой.
– А муж ее что сказал?
– Его я пока не допрашивала. Я к ним в дом приехала, но там лишь горничная-иностранка. Филиппинка, – Лиля усмехнулась, – совсем по-русски почти не понимает. Я лишь добилась от нее, что этот Фархад-шофер действительно в тот вечер пригнал к ним в гараж машину из сервисного центра. И сам поехал на велосипеде домой. От ужина отказался, взял на кухне только бутерброд с мясом. Я про время спросила – когда он точно приехал на машине. Так она на часах мне цифру восемь показала. А убит он был спустя полчаса-час, то есть где-то в районе девяти. Но тело обнаружили, как я уже сказала, лишь наутро, а это нам дополнительные сложности создало во всем. Там еще в доме находился хозяин… Отец семейства. Но меня к нему горничная не пустила – его как раз то ли врач семейный консультировал, то ли медсестра уколы делала в тот момент. Он инвалид, прикован к креслу. С ним в другой раз побеседовать придется.
– Слушай, Лиль, на парня просто напали. Или хулиганы, или грабитель. То, что карточку не взяли, кредитку, так их спугнуть мог кто-то. Вроде как рядовое дело, – сказала Катя. Она внимательно смотрела на подругу. – Нет?
Лиля прищурилась.
– А что не так-то? – не унималась Катя.
– Мы искали гильзы с металлоискателем. И мы ничего не нашли.
– И? – Катя недоумевала. – Это же лесная аллея, дождь шел, могло смыть.
– Могло смыть, только…
– Лиль, я же вижу, ты это убийство отчего-то простым не считаешь. Какие основания-то?
– Никаких оснований, – Лиля покачала головой, – и доказательств никаких. И фактов нет.
– Тогда в чем проблема?
– В некоем фантоме.
– В каком фантоме?
– В предчувствии.
– В предчувствии?
– Моем, личном предчувствии, что это не простое дело.
Катя смотрела на подругу. Да, да, как и в том случае с убийствами на бульварах, когда они работали с Лилей вместе. Но там происходило все так демонстративно, устрашающе, громко. А тут так тихо…
Вечерняя аллея, дождь, велосипедист – гастарбайтер-шофер…
– Тогда объясни мне толком, – попросила Катя, – что тебя настораживает в этом деле?
– Два других случая в Москве.
– Два других убийства?
– Ага, – Лиля кивнула, – я о них узнала через МУР. Никто никакой связи не видит, никаких параллелей не проводит. Дела уголовные расследуются автономно, никто их объединять не собирается. Одно убийство совершено 3 сентября, второе 29 сентября. В разных районах Москвы. Первое на парковке на Ленинградском проспекте около двух часов ночи. Второе около девяти вчера во дворе многоэтажного дома на Ленинском, почти у самой МКАД, там стройки везде и дом новый, лишь наполовину заселен, квартиры не раскуплены.
– А кто убит?
– Первая жертва – сын богатых родителей, некто Василий Саянов, девятнадцатилетний студент.
– Как и этот Фархад-водитель.
– Ну что ты, нет. Саянов в Лондоне учился. Потом вернулся, поступал в театральный вуз, но не прошел, попал в сентябре на какие-то актерские курсы. А 3 сентября его убили в собственной машине «Инфинити» – два выстрела с близкого расстояния в упор.
– А вторая жертва?
– Некая Анна Левченко двадцати семи лет, известный блогер. Писала на разные актуальные темы, иногда политические. Участвовала в митингах и пикетах. Ее тоже застрелили в ее собственной машине «Кашкай». Два выстрела в упор с близкого расстояния. Причем заметь – в доме том, на Ленинском, она не проживала, она в Кузьминках жила, с матерью и бабушкой.
– С шофером Фархадом вроде как ничего общего у этих людей.
– Вот именно. Ничего общего. Хотя я пока не проверяла, – Лиля открыла новый файл, – лишь две вещи все это объединяет, пусть и очень шатко.
– Какие?
– И Саянов и Левченко убиты из пистолета «ТТ». И в их машинах гильз тоже стреляных от пистолета не найдено. Хотя по всему гильзы в таком малом закрытом пространстве, как автомобиль, должны были быть. Если только кто-то их специально не забрал, чтобы усложнить идентификацию оружия.
– А ты в МУРе с кем-то из бывших коллег связывалась после убийства на аллее? – спросила Катя.
– Нет. Тут и в главке-то нашем областном мало кто этим убийством заинтересовался. Никто из начальства не приехал. Следователь, я и наши из отдела – вот и вся опергруппа. Водитель-гастарбайтер… Цаца не великая.
– И я на это убийство обратила внимание лишь потому, что оно тут у вас в Прибрежном и ты теперь здесь. Как повод, – вздохнула Катя. – Только это тебя настораживает?
– Только это пока. А проверять будет непросто.
– Почему?
– Ну эта девушка, Евгения Савина, хозяйка машины «Ауди», она вроде вообще никто – мужнина жена, нигде не работает. Но, как я узнала, она племянница госпожи Лопыревой.
– Кого? – спросила Катя.
– Раиса Павловна Лопырева – дама, приближенная к политике. Порой по телику мелькает.
– Видела ее как-то по телевизору. Так Савина ее племянница?
– И падчерица одновременно. Потому что эта ее тетка Лопырева сейчас замужем за ее отцом – Кочергиным.
Катя откинулась на спинку стула.
– Девичья фамилия Евгении – Кочергина?
– Да, а что?
– У тебя есть ее фотография?
– Видеозапись допроса, она же сюда ко мне приезжала, а у нас тут камеры, сама знаешь. – Лиля нашла в ноутбуке новый файл.
Катя смотрела на кадры видеозаписи.
Хрупкая блондинка в синем платье из кашемира с дорогой сумкой.
Вот она сидит на этом самом стуле в кабинете Лили Белоручки. Звук отключен.
– Хочешь прослушать ее допрос? – спросила Лиля. – А что тебя в ней так заинтересовало-то?
Блондинка отвечает серьезно и обстоятельно. Вот она качает головой, убирает со лба упавшую челку.
Жест – такой знакомый, из прошлого…
Черты лица – повзрослевшего…
Мираж?
– Женя Кочергина, – медленно произнесла Катя. – Слушай, она хромает, да?
– Точно хромает. Ходит так, припадая. Вроде симпатичная молодая женщина, а вот с ногой…
– Она такая родилась, – сказала Катя. – Это Женя, моя школьная подруга. Мы учились с первого по восьмой класс. А потом она перевелась в другую школу и мы потеряли друг друга.
Лиля Белоручка смотрела в ноутбук.
– Я тебе помогу с этим делом, – сказала Катя уверенно, – только нам надо подумать, как мне встретиться с одноклассницей самым естественным, не вызывающим подозрения образом.
Глава 9
Советник
Он был титулярный советник, она генеральская дочь. Однажды в любви ей признался, она прогнала его прочь. Пошел титулярный советник и пьянствовал целую ночь…
Нет, нет, ничто не правда в этой старой песне относительно Геннадия Савина, мужа Катиной одноклассницы Жени – Евгении. Лишь то, что Геннадий Савин служил советником (о титулярности забудем) в департаменте благочиния и благоустройства при столичной мэрии.
Женя не родилась в семье генерала, однако отец ее – богатый человек. Даже сидя в инвалидном кресле он не утратил капитала и связей, благодаря своей второй жене.
А в любви Геннадию Савину Женя призналась сама. Как-то спонтанно это вышло – они встречались до этого не слишком часто, в основном на вечеринках у общих друзей. Потом в один клуб йоги вместе ходили. У Жени с рождения физический недостаток, одна нога короче другой, и две операции, сделанные в детстве, не помогли. Она прихрамывала, припадала на короткую ногу.
Геннадий ничего такого сначала вообще о ней, об их отношениях не думал. Просто – приятели, милая девушка, из хорошей влиятельной семьи со связями. Такие в Москве на вес золота.
А вот Жене он понравился сразу. Чуть ли не с первого взгляда, как она потом ему сама не раз признавалась.
И в тот вечер…
Если бы она не выпила лишнего на той вечеринке, может, ничего бы и не произошло.
Но произошло. Она сказала это – «Я люблю тебя…».
Я ведь люблю тебя… Я без ума от тебя.
И Геннадий Савин подумал – а что? А почему нет? В конце концов, надо жениться, иначе…
Да уж, лучше жениться. И если Женя сама этого хочет и любит его, то…
Она покладиста характером, она не похожа на столичных властных стерв, от которых бросает в дрожь.
Она станет ему хорошей женой, если только…
Ну, что об этом «если только» сейчас думать. Она влюблена в него и, возможно, поймет.
И Геннадий Савин сделал свой выбор. Свадьбу они сыграли на острове Родос. И почти сразу дела Геннадия на службе пошли в гору.
И вот он уже несколько лет занимал пост советника департамента благоустройства и благочиния при мэрии. Работа поначалу ему чрезвычайно нравилась – ох, столько было планов, столько планов. Такое строительство, такой инвестиционный бум.
Но внезапно все словно остановилось и замерло. Точно что-то сломалось в четко отлаженном механизме.
Геннадий Савин вспоминал день, когда он приехал на бульвар к знаменитому на всю столицу кафе «Жан-Жак». Прежде оформленное в стиле парижских бульваров, украшенное красными щитами кафе – ну точь-в-точь как на бульваре Оссманн в Париже – претерпевало изменение имиджа.
Департамент благочиния распорядился вернуть зданиям первоначальный вид и освободить их от вывесок и рекламы. Геннадий Савин лично приехал наблюдать, как с фасада «Жан-Жака» снимали красные щиты. Рабочие трудились молча. За происходящим, тоже молча, наблюдала группка завсегдатаев кафе.
Они вполголоса говорили, что никогда уже бульвар не будет прежним. Чтобы ничто, ничто не напоминало о Париже…
Кафе потом открылось и заработало как встарь, но…
Нет, Геннадий Савин, контролировавший распоряжение со стороны департамента, не сожалел, что знаменитое кафе утратило свой первоначальный облик. Он решил, что… Ну а что он мог сделать? Возражать? Там, где он служил – в департаменте, – возражений не терпели и не принимали.
Наблюдая и другие перемены, всю эту жизнь, что клубилась вокруг, он с некоторых пор решил вообще ни во что не вмешиваться. Он советник, простой исполнитель, он – чиновник. Он получил это место в департаменте благодаря женитьбе на хрупкой хромой девушке, нежно и преданно любившей его.
К тому же ведь много, много перемен произошло и к лучшему. А что, неправда? Улицы благоустраивались. Круглые сутки – и ночью и днем – ползали по ним оранжевые уборочные машины коммунальных служб. Точно оранжевые гигантские жуки-скарабеи, пожиравшие, утилизирующие чужую грязь и чужой навоз.
Все лето и начало осени постоянно проводились какие-то фестивали, шумные уличные праздники. Эти вот маркеты уличной еды – сначала и правда такие вкусные, рекламировавшие еду и деликатесы со всего света. А потом все более и более скромные, ориентированные уже в основном на среднеазиатскую еду, пропахшую бараньим салом, жирную, которую сам Геннадий Савин, например, есть брезговал.
Насчет пьянства, упомянутого в знаменитой песенке про титулярного советника, – тоже все неправда.
Геннадий Савин спиртное пить избегал. Ну, почти. Прежде не так просто было уклоняться. Потому что товарищи и сослуживцы частенько собирались – особенно в четверг и пятницу на Петровке в секретном баре «Менделеев».
Занятный такой, фешенебельный и одновременно лаконичный, без фишек, бар – с Петровки заходишь сначала в кафе, где подают лапшу, этакий нудлхаус. И там все просто. Но надо пройти через зал и спуститься по лестнице.
И попадаешь в бар «Менделеев» в сводчатом подвале – место, известное лишь узкому кругу деловой элиты, столичных снобов и чиновничества.
Там потрясные коктейли и весьма интересные разговоры. Бесконечный треп, позитивный сошиалайзинг. Типа – ну ты понимаешь, старичок, как надо поступать…
Там нужны крупные инвестиции…
Надо сделать один звонок – только один…
А это интересная идея, стоит подумать…
Но и в уютном баре «Менделеев» тоже как-то все потихоньку постепенно начало меняться. И разговоры зазвучали совсем другие.
Плетью обуха не перешибешь…
Я ничего не могу сделать…
Нет, об этом теперь не может быть и речи…
Понятия не имею – когда…
Не стоит звонить…
Позитивный треп все глох, глох, глох. Но в бар «Менделеев» по-прежнему продолжали приходить. И Геннадий Савин заглядывал тоже – словно на службу в свой отдел департамента. Раньше он никогда не замечал, чтобы тут, в таком фешенебельном баре, кто-то напивался бы до свинячьего визга.
А теперь все чаще попадались пьяные. Очень хорошо одетые господа, с внушительным IQ, прописанном чуть ли не на лбу, – и пили, пили, пили.
Бармен, повторить…
Бармен, повторить…
Повторить, повторить, еще, еще…
Нет, сам Геннадий Савин не пил. Может, пропускал один коктейль. Просто слушал, набирался опыта. Из бара «Менделеев» он выходил трезвый, садился в свое служебное авто и ехал сотню метров до отеля «Мэриотт – Аврора».
Туда к пяти вечера порой приезжала его жена Женя пить свой вечерний чай со знаменитыми десертами «Мэриотта». Ее привозил шофер Фархад. Ну, тот самый, который…
Этот эпизод Геннадию Савину как-то совсем не хотелось вспоминать. Жену вызывали в полицию, в местный ОВД, из-за того, что шофера Фархада убили. И случилось это совсем недалеко от их дома, когда он по обыкновению спешил на своем велосипеде на московскую электричку.
Жена держалась в полиции молодцом. И про допрос все-все рассказала ему, своему мужу. Или почти все.
Геннадию хотелось думать, что жена с ним во всем откровенна до конца. Это ведь так важно – искренность близкого человека. Он устал от всеобщей фальши, что словно паутина затягивала окружающую его действительность все больше и больше. Эти уклончивые ответы, эти рассеянные улыбки, когда люди тут же отводят глаза и делают вид, мол, – что вы, что вы, все путем.
Да все совершенно нормально.
История с шофером Фархадом как раз вписывалась в эту картину уклончивости и фальши. Но Геннадию не хотелось об этом думать.
Он гнал от себя некоторые мысли. Например, те, что витали порой вокруг стойки бара «Менделеев», когда он внезапно ловил на себе чей-то долгий оценивающий взгляд.
Взгляд вскользь из-под длинных ресниц…
Шофер Фархад был тоже красивый парень…
Интересно, ценила ли его восточную породистую красоту жена?
Но об этом он Женю не спрашивал. Просто заезжал за ней в отель «Мэриотт», и они ехали домой.
Они купили квартиру возле метро «Кунцевская» в новом жилом комплексе, и там сейчас шел грандиозный ремонт. Так что жили пока у Жени в Прибрежном – в особняке ее отца и тетки, ставшей мачехой.
Ничего, к весне ремонт закончится, и они переедут в свой дом. И сразу станет легче.
Так думал Геннадий. Без помощи родни жены разве сумел бы он купить такую квартиру на Кунцевской? Нет, конечно. Так что приходилось терпеть. И порой наступать на горло собственной песне.
Да, давить в себе то, что так и рвалось наружу.
В баре «Менделеев» грезили о свободе и поощряли свободные нравы. Но Геннадий не мог себе позволить этого. Вот этого самого – полной вожделенной свободы.
И не жена в том виновата, нет, нет, она как раз понимала его и жалела. Да, Женя жалела его. И он ценил это в ней, как великую драгоценность, как подарок судьбы.
Он вспоминал один случай из их жизни. Когда он метался в жару, схлопотав сильнейшее воспаление легких. И жена, нежная и верная, не отходила от него ни на шаг. Обнимала его в их супружеской постели, обнимала, чтобы унять его жар, чтобы помочь ему выкарабкаться. Он постоянно чувствовал ее возле себя – ее голову у себя на плече. Она поила его теплым чаем и давала лекарства. А потом ложилась рядом снова, обнимала и тихонько начинала рассказывать какую-то бесконечную сказку. Он не помнил, не вникал, сжираемый температурой, лишь крепче прижимался к жене, веря, что это исцелит его и не даст умереть.
Словно мать, которую он плохо помнил, так как остался рано сиротой, так вот… словно мать, жена Женя ухаживала за ним тогда. И то были лучшие, сладчайшие их супружеские объятия.
Другими вечерами, уже после болезни, когда жизнь наладилась, когда время миновало, все у них с женой проходило по-иному.
Они возвращались вечером в дом в Прибрежном. Уходили в свою спальню, беседовали о повседневных делах. Жена ложилась в постель, отодвигалась к краю, включала свет и долго читала. Он лежал на своей половине кровати и притворялся спящим.
Утром он порой смотрел на книги, что читала жена на ночь – в основном бульварные любовные романы в ярких обложках.
Глава 10
Борода
К происшедшему с ней Кора отнеслась тупо философски.
Ее и подружку Маришку-карлицу патруль Прибрежного ОВД прямо из местной поликлиники доставил домой – в съемную однокомнатную квартиру на улице Космонавтов. Проводили полицейские до двери.
Кора с трудом опустилась на колченогий стул в тесной прихожей, сняла туфли, потом через голову стянула разорванное, залитое зеленкой платье. Осмотрела пальто – тогда перед нападением в машине она его не надевала. На пальто зеленка не попала, но пальто – все в грязи, это оттого, что Кора упала, когда на нее налетели парни из Лиги, и не удержала его в руках.
Пальто нападавшие топтали ногами.
Карлица Маришка начала сразу суетиться в квартире по хозяйству. Открыла форточку в комнате, вытряхнула из пепельницы окурки. Сказала, что сейчас приготовит ужин, благо в холодильнике замороженные котлеты, сосиски…
Или, хочешь, пожарю картошки с салом?
Кора, ты слышишь меня? А хочешь, я сварю кофе?
Кора кивнула и прошла в ванную. Там сняла с себя лифчик и только после этого глянула в зеркало.
Сине-багровые кровоподтеки во всю грудь. Врач в поликлинике осмотрел ее очень внимательно. И посоветовал через пару дней снова прийти сюда же, в районную, и записаться на прием к эндокринологу.
Кора вспомнила, как, сидя в коридоре, она слышала громкий разговор той молодой начальницы полиции, майорши, что вместе с патрульными сопровождала ее в поликлинику. Майорша (фамилию Кора забыла) по телефону говорила кому-то очень настойчиво: «Мне надо, чтобы были побои средней тяжести, а не легкие. Мы сейчас сделаем ей рентген, посмотрим, все ли в порядке с ребрами. От тяжести телесных зависит будущее этого дела. Я не выпущу подонка, напавшего на нее!»
Рентген сделали. Ребра не пострадали. А вот вся грудь горела огнем, болела нещадно.
Кора и к этому относилась философски. Ну, болит… Надо терпеть.
В то, что посадят того из Лиги кротких, который напал на нее и бил, она не верила.
И в правосудие никакое она не верила.
Не имела она веры и в закон.
Просто в душе ее теплилась благодарность к этой майорше. И к ее подруге – длинноногой, такой серьезной, сдержанной, ездившей вместе с ними в поликлинику.
Катя и не подозревала, что Кора думает о ней вот так…
А Кора испытывала острое чувство благодарности к ней и к Лиле за то, что заступились, что взяли под защиту.
Но чувство это еле мерцало, потому что…
Да что они, две эти девчонки в погонах, могут сделать, – думала Кора, – когда идет такая махина, такой каток нетерпимости и злобы.
К ней, лично к ней. И только за то, что у нее растет борода.
Принимают ее за переодетого мужчину, за трансвестита, подражающего Кончите Вурст, и стирают в порошок.
Господи ты боже мой, стирают в порошок, оскорбляют, бьют – только за это!
Даже не разобравшись…
Кому надо разбираться, когда можно бить.
И что сделают две эти девчонки из полиции против всей этой бешеной ярости? Что они могут, лишь сами пострадают, возможно. Вон этот из Лиги кротких грозился куда-то звонить.
Наверное, есть куда, раз он так в этом уверен. И угрожает.
Больше всего Кору убивало то, что в этом деле стирания в порошок участвовали не просто хулиганы или пьяные отморозки, но какие-то святоши, говорившие о Боге. А она книжки ведь читала про религию. И молилась, да, было время, когда она очень жарко молилась, просила у Бога чуть ли не на коленях, чтобы волосы не росли так густо. Чтобы не делал он из нее окончательного урода, отщепенца, парию, на которого люди смотрят и отводят глаза.
Да, она читала всякие книжки и верила, что в час Нагорной проповеди, когда Христос говорил с народом, приходили, стекались, сползались послушать его не только люди здоровые, крепкие, нормальные со всех точек зрения, но и убогие. Калеки, прокаженные, безногие, те, у кого рос горб или имелся зоб, кого донимала трясучка, кто бился в припадках, у кого внезапно отказывала нормально работать эндокринная система – мужчины, у которых припухала грудь и увеличивались соски, а бедра обрастали женским жиром, женщины, внезапно чувствовавшие, что независимо от своей воли или желания обретают некую ненужную «мужественность», становясь неинтересными для противоположного пола. Гермафродиты, наделенные природой так щедро и безжалостно и тем и этим, как в клетке запертые в собственном теле, сходящие с ума от фобий пограничного состояния между полами, карлики и великаны, люди, мучающиеся от незаживающих язв и фурункулов на лице и теле, от жестокой формы аллергии. И такие вот, как она, Кора, страдающие «избыточной волосистостью», как это называли врачи.
И все эти убогие слушали там, на горах, на вольном воздухе Нагорную проповедь и плакали, и просили, и верили, что Христос поможет. И если говорит он, что нет «ни эллина ни варвара», то, значит, нет и ни здорового, ни убогого, нет ни красавца, ни урода, ни того, у кого все с генетической наследственностью нормально, ни того, у кого в генетике какой-то врожденный дефект, сбой. А все равны. Все равны… Все одинаково плачут, и просят, и надеются на лучшее. И если Христос исцеляет и защищает, то и те, у кого имя его не сходит с уст, – тоже должны защищать.
Ну, пусть не защищать. Если эти святоши, кроткие, не хотят, если им противно, ладно, это еще можно стерпеть, бог им судья.
Но пусть хоть не бьют тяжелым ботинком в женскую нежную грудь.
Кора, полуголая, смотрела на себя в зеркало ванной. Женщина с бородой. Женщина – у нее растет борода. Женщина, которую все принимают за переодетого трансвестита, за копию Кончиты Вурст.
А та, то есть тот, ведь хотел лишь привлечь к этой, именно этой проблеме внимание. Показать, что и чудной нелепый урод – женщина с бородой – имеет, да, да, да! – имеет право на признание, триумф и счастье.
И на любовь тоже имеет право.
Любви-то ведь совсем почти не достается на долю убогих.
Кора смотрела на себя в зеркало ванной. Дефицит любви… Едва она в юности начала осознавать, как чудесно быть любимой, все ее надежды на это рухнули.
Волосы начали расти.
После восемнадцати лет сначала волосы появились на ногах – вдруг густо обросли темными волосами икры и даже коленки.
Потом волосы вылезли и на ляжках. И все гуще, все обильнее. Особенно на внутренней стороне. К девятнадцати годам они уже напоминали густую шерсть. И она, Кора, тонны эпиляционного крема на себя изводила. Но все без толку.
А потом этот самый «сдвиг эндокринной системы» с активизацией полового созревания лишь усилился – так ей сказал врач-эндокринолог. Ничего, мол, нельзя сделать, вам, милочка, уж придется жить с этим.
Крепитесь.
И Кора сначала старалась крепиться.
Ну что ж, поборемся с собственным организмом, давшим сбой.
В конце концов, сейчас ведь так много самых современных методов эпиляции – и био-, и фотоэпиляция, и лазерная, и прочие, прочие, прочие штучки салонов красоты.
Но природа, могучая и беспощадная, сломавшая что-то в каком-то гене, поселившая во всей этой длинной цепочке какой-то малюсенький сбой, оказалась сильнее.
Потом произошло самое страшное. Волосами постепенно, неумолимо и густо обросли шея, щеки и подбородок.
Настоящая колючая мужская щетина. А если запустить этак на пять-шесть дней – то уже густая борода.
Кора бросилась в салоны снова делать эпиляцию. Сначала био. Такую боль терпела адскую, когда пластины с горячим воском, налепленные на щеки, с корнем выдирали волосы.
Но они росли и крепли.
После фотоэпиляции на время возник вроде бы хороший эффект. Но затем рядом с уничтоженными волосяными луковицами возникли новые, и борода отросла снова.
Врачи-косметологи уже били тревогу – нельзя, нельзя делать эпиляцию так часто, у вас плохая предрасположенность. У вас пошло кожное раздражение. Кожа отторгает любое вмешательство. Лазер может все лишь усугубить, так и до рака дойдет, до самого худшего.
А от крема вся шея и щеки покрываются долго не заживающими саднящими язвами.
Кора купила себе набор бритв. Какое-то время она вставала по утрам и словно на казнь отправлялась в ванную – бриться. Стояла вот так, как сейчас, с мужской бритвой в руке. Густо намыливалась или использовала пену из тюбика.
И брилась…
Ежедневная пытка…
Кожа на бритье отреагировала новыми язвами и фурункулами.
Кожа лица требовала, чтобы ее оставили в покое.
В густых волосах.
В один момент Кора хотела покончить со всем этим разом – с мукой борьбы, с природой, со всем своим бедным больным телом.
Она хотела повеситься в ванной на трубе.
Даже достала крепкую бельевую веревку и все думала – выдержит ли ее вес вон тот гвоздь, на нем держится светильник? Или, может, лучше использовать трубу полотенцесушителя?
Кора помнила тот момент. Думала о нем она и сейчас, стоя раздетая в ванной, избитая жестоко.
Вы, нормальные, не убогие, да что вы знаете обо всем этом? Как вы можете судить о том, что понять вам не дано?
Решение покончить с собой тогда она так и не приняла. Может, из страха, может, из малодушия.
Веревку она не выбросила. Но старалась положить ее подальше, спрятать. Чтобы не попадалась ей на глаза.
А потом по телевизору она увидела Евровидение и бородатую Кончиту.
Никогда в жизни она не плакала так, как в тот вечер. Она рыдала – за все годы муки, страха, боли, стыда за свое уродство, за все потерянные годы – без друзей, без любовников, без семьи, она расплачивалась сейчас – этими вот слезами, где робкая надежда смешивалась снова со страхом, но где, как ей казалось, открывались новые горизонты.
Да, новые горизонты…
Наутро впервые Кора не схватилась за бритву. Она не бралась за нее и все последующие дни.
Борода выросла.
Борода стала неотъемлемой частью ее, Коры. Борода требовала, приказывала показать себя людям.
Какая пришла в этот мир. Уж какая есть. Какую Бог или природа создали. И изуродовали.
О реакции людей, прохожих на улице, в транспорте Кора сейчас вспоминать не хотела.
В тот вечер, когда на нее напали в переходе метро, толкнули сзади со ступенек, она шарахнулась так, что думала – ногу сломала…
Напавших в тот раз она разглядеть не успела.
Они что-то тоже шипели про Кончиту Вурст, про вселенский разврат и либерастов-педерастов…
Кора кое-как доковыляла до дома. И с карлицей Маришкой они решили, что если надо ехать в клуб или возвращаться, то они станут вызывать такси – то, что клуб обслуживает и которым пользуются трансвеститы.
В тот вечер Кора впервые подумала о том, что рыдать втихомолку и размышлять, как лучше покончить с собой, – это… это, в общем-то, трусость.
Надо сопротивляться.
Надо противостоять.
И вот она досопротивлялась до того, что…
Стоя перед зеркалом в ванной, Кора осторожно дотронулась до багровых синяков.
Потом она чисто механически достала с полки маникюрный набор, вытащила ножницы и начала осторожно срезать бороду, испачканную зеленкой. Клочья каштановых волос падали на кафельный пол.
Словно каштановый снег шел…
Волосатый снег.
С кухни доносился запах жаренной на сале картошки. Карлица Маришка кашеварила.
Потом она позвонила по мобильному в клуб и сказала, что их избили. И что они появятся на работе только завтра.
В клубе такие вещи, как «избиение сотрудников», понимали, потому что сталкивались с этим и раньше: девочки, держитесь, не падайте духом!
Кора встала в ванной под горячий душ.
Она апатично размышляла о том, на сколько ее еще хватит в этом мире. Сколько еще она сможет держаться и противостоять.
Глава 11
Под куполом
События в Прибрежном произвели на Катю гнетущее впечатление. Вместе с Лилей и сотрудниками ППС она сопровождала потерпевших в поликлинику. Затем Кору и ее подругу отвезли домой под охраной. А Катя вместе с Лилей вернулись в ОВД.
А там обстановка накалялась – к зданию полиции подъезжали какие-то крепкого спортивного вида молодцы на джипах, в кабинете Лили беспрестанно трезвонили телефоны. К задержанному явился адвокат. А задержанный орал про свою Лигу кротких против Содома и походил на пойманного в капкан шакала – только что зубами от злости не щелкал.
Однако во всем этом зловещем хаосе майор Белоручка твердо стояла на своем:
– Я знаю, что говорят. И ты тоже знаешь. В полицию, мол, обращаться бесполезно. Полиция не поможет. Когда появляются люди, которых безнаказанно можно оскорблять, шельмовать, обливать зеленкой, газом перцовым жечь. Да что же это такое?! Мы где живем? Я присягу давала служить закону. Для меня закон есть закон. И тут в Прибрежном никакого произвола мы не позволим. Что такое честь мундира, я хорошо знаю и замарать ее не дам. И к черту все звонки. Я полицейский, а люди в защите нуждаются против беспредела и хулиганства. Тут уж каждый для себя решает, как поступать. А я для себя это давно уже решила.
В этом Катя не сомневалась. Только вот тревога за Лилю щемила ей сердце.
К вечеру все немного поутихло. И они смогли наконец обсудить дело об убийстве водителя.
– Я с Женей встречусь, – обещала Катя. – Только надо подумать, чтобы это произошло самым естественным образом. У нас связи давно потеряны, у меня даже ее телефона нет.
– У меня оба ее мобильных и домашний, я во время допроса записала, – сказала Лиля, – но звонить тебе ей не нужно. Лучше вам встретиться как бы случайно и на нейтральной территории. Надо подождать, я что-нибудь придумаю.
Катя ждала. Октябрь заканчивался.
И вот Лиля Белоручка позвонила.
– Слушай, мы тут понаблюдали за твоей знакомой, – сказала она осторожно, – конечно, негласно. Но выбирать не приходится, потому что гласно установить слежку за родственницей Раисы Лопыревой я не могу. Так вот какое дело. Приятельница твоя в общем-то домосед. Но у нее есть привычка примерно раз в три дня ездить в Москву – так, прогулочка по магазинам, а заканчивается все около пяти вечера чаем в роскошном отеле «Мэрриотт – Аврора» на Петровке. Ты в главке сегодня?
– Я в главке на Никитском, – ответила Катя.
– Тебе до Петровки семь минут. А мне докладывают – приятельница твоя сейчас в Москве уже, на Ленинградском проспекте.
– Я сейчас выхожу и сажусь в машину, у меня машина в нашем дворе припаркована.
– Хорошо, но пока не торопись и оставайся на связи.
Катя спустилась во двор главка и села за руль своей маленькой машины «Мерседес-Смарт». Ну, крохотун, выручай. Увидимся со старой школьной подругой. Только как же это произойдет? Вот Женю узнала на видеозаписи, то есть узнала не сразу, лишь когда Лиля подтвердила, что эта самая Евгения Савина – Кочергина – хромает.
А вот узнает ли меня она? А если не узнает или сделает вид, что не желает узнавать?
Катя по Никитской доехала до бульвара, свернула направо, по бульвару до Тверской, мимо Пушкинской.
На светофоре Лиля снова позвонила.
– Она уже на Петровке.
– И я на Петровке. Ты говорила – у Жени машина «Ауди»?
– Нет, сейчас она в такси едет. Желтое такси.
Катя, крутя руль, вертела головой, ища в потоке машин желтое такси. Ох, сколько же их тут в центре!
– Такси остановилось напротив ЦУМа. Она выходит, направляется в…
– В ЦУМ?
– Нет, идет к магазину на углу. Это… мне тут оперативники, ведущие наблюдение, диктуют, это… Диана…
– Диана фон Фюрстенберг? Магазин одежды?
– Ты быстро сечешь, – усмехнулась Лиля. – Она входит в магазин.
– Я рядом. Сейчас припаркуюсь. Все, я иду на встречу!
Катя кое-как приткнула машину, благо «Смарт» – малютка, мало места занимает. Но штраф все равно она схлопочет, потому что парковку она тут не оплатила. Ну да ладно, авось…
Катя чувствовала, как бьется ее сердце. Женя Кочергина – школьная подруга. Они столько лет сидели за одной партой.
Что осталось от школы у Кати? Да ничего. Или очень многое? И в самых отдаленных уголках памяти.
Она открыла дверь бутика. Отличный магазин. Только вот пуст. Продавец за стойкой в глубине. И там же возле стенда с платьями одинокая покупательница.
Блондинка в черном плаще. С зонтом, с дорогой сумкой-мешком «Лансель». Катя с удивлением глянула на свою сумку – и у меня тоже «Лансель». Только у меня ВВ – Брижит Бардо.
Она не думала даже, что станет вот так дико волноваться. Откуда этот мандраж?
Они не встречались с Женей целую жизнь. Но это не причина вот так нервничать.
Шофер, работавший у Жени, убит. Но ее саму ведь пока никто не обвиняет в этом убийстве. И параллелей никаких не проводят, и версий не возникает.
Так версии потом от тебя потребуют… ты же сама предложила помощь в раскрытии убийства, встретиться со старой приятельницей… Так что все впереди. Оттого ты сейчас и чувствуешь эту дрожь. Это ведь не просто встреча, это, по сути, оперативная работа… И ты проводишь ее в отношении человека, когда-то очень близкого тебе, твоей подруги. А если в расследовании этого убийства что-то пойдет не так? Как ты поведешь себя с Женей Кочергиной?
Катя замерла у двери. Может, лучше не надо? Повернуть вот сейчас назад. Не ввязываться в это дело? А Лиле сказать, что подруга ее не узнала и контакта не вышло.
Но это значит предать Лилькины надежды, когда она и так в очень сложной ситуации там, в Прибрежном.
Катя медленно направилась через зал. Встала сбоку у стойки с сумками. Блондинка в черном плаще повернула голову.
Катя напряглась, затем тоже глянула в ее сторону.
Секунда…
Как молния…
Женя смотрела на нее. Вот она подняла брови удивленно, потом глаза ее стали такими большими-большими и…
– Катя?
Катя не спешила отвечать. Она разыгрывала – ох, прости, Женька, ее за эту пошлую игру – она разыгрывала сцену «в бутике».
– Катя? – повторила Женя громче. – Катя Петровская?
– Ой, Женя… Женя, это ты??
Женя, прихрамывая, ринулась к ней.
– Катя… Надо же, Катюша, я тебя сразу узнала!
Катя делала все, чтобы ее голос не звучал фальшиво.
– Женя, я глазам своим не верю. Да ты ничуть не изменилась.
– Брось, как же не изменилась. Но ты такая стала… такая… ой, Катя, – Женя протянула руки и…
Катя коснулась ее рук. Они обнялись.
– Надо же, как встретились! Столько времени…
– Целая жизнь.
– Ты как?
– Я хорошо, все расскажу.
– Пойдем куда-нибудь посидим.
– Да, да, конечно!
– Тут место есть отличное, идем же, бог с ним, с магазином.
Они трещали как сороки, как трещат в один голос все женщины мира, все подруги, встретившиеся после долгой разлуки, – сто, двести слов в минуту, и все это одновременно с улыбками, качанием головой, смехом, искрами радости, объятиями, поцелуями в щечку.
Они выкатились из бутика и, не видя ничего вокруг, пошли вперед – чуть левее.
Через мгновение они уже входили в вертящиеся двери отеля «Мэриотт – Аврора». Женя вела, Катя следовала за ней.
Она ощущала, что мандраж ее постепенно сходит на нет. Женя узнала ее, и узнала первой. И сейчас столько радости на ее лице, в сияющих глазах. Она не сводит их с Кати.
У нее чудесные горьковатые духи. И вся она такая…
Какая?
Катя попыталась вспомнить Женю-школьницу.
Светлые волосы, челка..
Девочка двенадцати лет…
И старше…
Нет, моложе…
Они ведь учились вместе в первого класса, но первоклассницей она Женю представить сейчас не может.
Но все прежнее – овал лица, светлые волосы, улыбка, эти вот голубые глаза… Все прежнее. Тогда в чем же секрет взросления? А какой же тогда помнит Женя меня? И что во мне теперь прежнее, а что другое, думала Катя.
Они поднимались по мраморной лестнице. И в этот миг Катя осознала – отель пуст. Они с Женей в нем – единственные гости.
– Ой, Жень, а тут никого!
– Тут хорошо, очень хорошо, тихо. Здесь скоро в холле к Новому году поставят елку. Я тут люблю бывать всегда – и в сезон и не в сезон. Сейчас сезон давно начался, а здесь тихо. Иностранцы не приезжают. Китайцев все ждали, инвесторов с большими кошельками, и тех нет. Катюша, пойдем под купол…
– Куда? – Катя растерянно улыбалась, разглядывая абсолютно пустой холл – великолепный, роскошный, отделанный мрамором.
– Под купол, в ресторан, там нам никто не помешает. – Женя, прихрамывая, активно влекла ее за собой вверх по лестнице.
И вот ресторан – огромный и пустой. А над ним – прозрачный высокий купол. А слева – галерея, зимний сад, где тот самый призрак Оперы вот-вот появится. Или не появится.
Они сели за столик под куполом. Тут же подошла официантка – на лице радость и изумление – наконец-то посетители! – и вручила меню.
– Жень, подожди с заказом, дай я на тебя посмотрю. – Катя чувствовала восторг и трепет. Она почти забыла, с какой целью решила встретиться с приятельницей. – Нисколечко ты не изменилась!
– Что ты, – Женя тоже улыбалась, – Катюша… И я глазам своим не верю. А ты часто в том бутике бываешь?
– Иногда.
– И я. И надо же, не встречались!
– Ну, Москва же большая, Жень.
– Ты где сейчас живешь?
– Я на Фрунзенской, на набережной напротив Нескучного.
– А я у отца в Прибрежном, не очень далеко, но все же деревня, я деревенская девочка теперь, – Женя улыбалась. – Ох, помню, как мы у тебя на даче… какой это был класс – четвертый или пятый? На озере, помнишь, рыбу ловили? Мы с берега, а мальчишки на резиновой лодке. Твои дачные соседи. Один такой большой мальчик, спортом занимался, мрачный такой. А второй маленького роста, очень умный, живой как ртуть, все стихи нам читал. Помнишь?
– Нет, – Катя смеялась, – но большой мальчик, Вадик, стал моим мужем потом. А маленького роста – это, конечно, Сережка Мещерский, он – друг.
– Друг? – Женя подняла светлые брови лукаво.
– Он друг детства моего мужа. А с мужем мы не живем.
– Развелись?
– Не развелись, просто раздельное проживание. Он за границей сейчас. Но в общем, он меня содержит, – Катя вздохнула.
– А ты где работаешь?
– Я журналист, иногда статейки пишу. – Катя решила не говорить подруге о том, что служит в полиции криминальным обозревателем Пресс-службы, не время для таких откровений, несмотря на восторг и трепет. – Но это так, от скуки. Муж меня содержит, деньги кладет на карточки.
– И меня тоже содержит. Я ведь вообще ничем не занимаюсь, – Женя закивала, – сижу дома. Вот иногда сюда вырываюсь чай пить вечерами. По магазинам брожу. Хотела на танцы записаться в отеле «Плаза», да только куда мне с моей ногой? Мальчишки-жиголо еще жалеть начнут.
– Можно и без танцев прожить.
– И я так считаю. А муж у меня хороший, добрый. Гена… Я ведь теперь Савина, его фамилию ношу. Честно говоря, мне с мужем очень повезло. Он… он очень порядочный. В мэрии городской служит, много работает. Я счастлива, я очень счастлива с ним, Кать.
– Это самое главное. И кого же вы успели родить? Мальчика или девочку?
И тут на оживленное лицо Жени легла тень. Она запнулась.
– Пока мы еще откладываем. Но я очень хочу ребенка. А мой муж… Генка, знаешь, он вообще повернут на этом. Хочет иметь наследника.
– У вас все впереди, – уверенно сказала Катя. – Смотри, а нам уже чай несут, и какие десерты к чаю!
Официантка, отлично знавшая Женю, не стала дожидаться заказа, а принесла все сама – чай и все, что полагалось к великолепному файф-о-клоку.
– Не скажу, что они тут знаменитый отель «Дорчестер» в Лондоне копируют, но чай здесь вечерний превосходен, – сказала Женя. – Слушай, я все школу вспоминаю. Я такая обжора была!
– Не была ты никакой обжорой!
– Постоянно что-то жевала, я же помню. А ты классно играла в баскетбол на уроках физры.
– Ну, прыгала как лягушка до потолка. В первом классе меня Лягушенция звали. – Катя махнула рукой. – А помнишь, как мы с уроков удирали?
– Помню, еще бы. Но потом мы стали прилежно учиться.
– О да, за ум взялись. – Катя смеялась, пробовала десерт. – Как тут вкусно все.
– А помнишь, как ходили в зоопарк и верблюд еще плюнул на Даньку?
– Данила, твой брат, кстати, как он поживает?
– Ничего, не делает ни черта, как и я. Другие в его возрасте уже бизнесом ворочают, а он бьет баклуши. Все гулянки и, знаешь, в крайности его бросает – то латынь учит с учителем, стишки римские переводит, то вдруг отправится на бокс морду бить. – Женя вздохнула. – Он совсем не похож на Гену, на моего мужа. С мужем я спокойна. А Данила – это постоянный источник тревог.
– Он не женат?
– Нет. И не собирается, по-моему. Но вокруг него всегда полна коробочка.
– Он ведь старше нас, я завидовала тебе, что у тебя такой брат. Мы еще в школе учились с тобой, а он поступил на первый курс в университет.
– Потом университет забросил. А он тебе что, в школе нравился?
– Сейчас не могу вспомнить, – Катя в ответ лукаво заулыбалась, – но симпатичный был мальчик.
– Он и сейчас красив как бог. Он на маму похож. И гораздо больше, чем я.
– Ой, а я помню и твою маму, и твоего отца, – сказала Катя. – Тогда в зоопарк нас твой отец водил. А мама часто в младших классах приходила за тобой в школу. Такая модная всегда и такая красивая.
На лицо Жени снова легла тень.
– Мама умерла, – сказала она.
– Ой, Женя…
– Да нет, это давно уже. Семь лет назад. А помнишь, как меня из школы забрали из восьмого класса прямо перед экзаменами…
– Ну да, я еще в шоке была. Так ревела, что мы с тобой расстаемся навеки. Вы же переезжали, ты поэтому школу меняла?
– Родители собрались тогда разводиться. Они постоянно угрожали развестись. Ругались страшно, – сказала Женя. – Отец забрал нас с братом и отвез к бабушке. Ой, я то время не вспоминаю. Мрак. А потом, знаешь, как-то все наладилось. Родители передумали разводиться. Мы зажили опять семьей. И отец к осени достроил наш дом в Прибрежном. Я в школу потом ездила к Речному вокзалу. А через несколько лет случилась эта беда.
– Беда?
– Да, Кать. Я училась уже в институте. Отец и мама ехали на машине вечером. И попали в аварию. Мама погибла, а отец стал инвалидом.
– Ой, Женя, милая…
– Да сколько времени с тех пор прошло. Что сделаешь? Отец потом женился. На маминой сестре. Она заботится о нем, инвалиду ведь нужен уход. Но вообще-то она очень деловая. Слушай, а я вот сейчас подумала – как так получилось, что мы с тобой потеряли друг друга? Ведь были неразлейвода?
– Жень, но ты ведь тогда поменяла школу.
– Да я понимаю, только… У меня подруг никаких нет. С института – никого. Со школы – лишь ты. Я вообще-то очень одинока. Может, до этой самой встречи нашей я и не задумывалась, насколько я одинока по жизни.
– Но у тебя же муж!
– Генка много работает, а я все время одна. Отец меня порой спрашивает – что же ты все сидишь дома? Успеешь в старости насидеться. Сейчас надо развлекаться, путешествовать. А с кем? Муж на работе. У них там все какие-то дела – мэрия есть мэрия, департамент благоустройства. А отец ведь тебя помнит, Катя… Он был бы рад увидеть тебя. К нему мало кто сейчас приходит, к инвалиду. Так – в основном либо врач, либо юрист насчет бизнеса и акций. Я вот что подумала… Праздники ведь ноябрьские на носу, ты едешь куда-нибудь?
– Нет, я дома, – сказала Катя.
– А планы какие?
– И планов никаких.
– Кать, тогда приезжай на все праздники к нам в Прибрежное. Мы с тобой на реке погуляем. И там один приятель Данилы – у него катер в яхт-клубе нашем. И отец тебе будет рад. И на братца моего шалопая посмотришь!
– Хорошо, принято приглашение. – Катя еще не верила своей удаче.
– А помнишь, как мы в восьмом классе тайком пробовали курить?
– Никогда мы не курили с тобой, Женька!
– Нет, курили, курили. Это сейчас мы такие правильные. – Женя смеялась. – А дискотеку помнишь?
– Да сто дискотек было!
– Ту, когда старшие пацаны явились. И братец мой потом с ними подрался. А мне там так один мальчик нравился…
Катя смотрела на подругу.
Ах, Женя, Женя…
Что же ждет нас с тобой впереди по делу об убийстве твоего шофера?
Глава 12
Блогер
Под куполом в ресторане они просидели до восьми вечера – все вспоминали, болтали, пили чай.
В начале девятого за Женей в отель заехал муж Геннадий Савин, и Катя познакомилась с ним. Невысокий, щуплый, несмотря на молодой возраст, уже с залысинами, но костюм из итальянского бутика классно сидит по фигуре и галстук самый модный.
Женя взяла с Кати обещание, что та приедет к ним в Прибрежное на праздники. На том и расстались.
Катя посчитала начало удачным, однако до праздников почти не осталось времени, и она, как истый репортер, решила использовать его с максимальной пользой для расследования.
По поводу убийства шофера она пока не строила никаких версий. Решила начать расспрашивать там, уже на месте, в доме в Прибрежном, куда ее так радушно пригласили. Насчет двух других убийств в Москве, о которых упоминала Лиля, с версиями тоже спешить не стоило. Безусловно, она доверяла профессиональному опыту и чутью майора Белоручки, но Лиля… Она ведь углядела связь фактически там, где ее и быть не должно. Подумаешь, отсутствие гильз на месте убийств. Их не всегда и в других случаях при осмотре находят. Что-то, безусловно, в этом деле Лилю настораживает, и она ищет, за что бы зацепиться. Вот и наткнулась на вроде бы похожие случаи безмотивных убийств.




















