Читать онлайн Жизнь, по слухам, одна! бесплатно
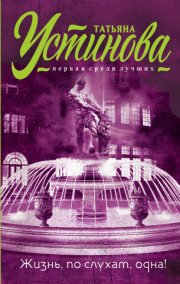
* * *
Питер встретил его дождем, заливавшим самолетный иллюминатор. Ветер гнал дрожащие капли, и они двигались странно – не вниз, согласно законам тяготения, а вбок. Докатившись до края, капли поворачивали наверх и исчезали.
Глеб некоторое время рассматривал капли.
– Ну, вот мы и дома, – сказал кто-то из соседей, глядя в иллюминатор на серое низкое небо, нависшее над залитой дождем полосой. – Слава богу.
В Москве было солнечно и тепло – последние отблески лета перед затяжной непогодой! – а здесь уже осень, свинцовые тучи и ветер, треплющий мокрые желтые куртки служащих, вышедших к только что приземлившемуся самолету.
Глеб сильно устал в последние дни, как-то навалилось все сразу: и работа, и неприятности, крупные и мелкие, и жена в очередной раз запретила ему видеться с сыном.
– Нечего ребенку нервы мотать! – сказала она Глебу решительно. – Он и так нервный!! А все из-за тебя! Был бы у него нормальный отец – и сын был бы нормальный!
От усталости у Глеба побаливала голова, и ему приятно было думать о том, что на сегодня все дела у него закончились и осталось только приятное – дорога из Пулкова в центр, залитые дождем проспекты, размытые желтые огни, всклокоченные ветром бурые каналы, несущиеся под сгорбившимися от непогоды мостами. И вечер в гостинице, которую Глеб любил больше всех остальных гостиниц на свете!.. Он много ездил по миру, и все постоялые дворы для путешественников были для него на одно лицо; только, пожалуй, парижские отели он кое-как помнил, но ни один из них не мог сравниться со знаменитой «Англией», занимавшей угол между Большой Морской и Исаакиевской площадью.
Сейчас очень горячую ванну, мечтал Глеб, потом ужин, виски возле окна, выходящего на мрачную громаду Исаакиевского собора, и спать, спать!..
Все дела начнутся завтра, и все трудные мысли будут завтра – например, как быть с сыном, которого Глеб почти не видел.
…Зачем люди портят друг другу жизнь? Какой в этом смысл? Почему нельзя жить легко и радостно, получать удовольствие от того, что ты есть, просто есть на свете?!
А звук в телефоне можно на всякий случай выключить!.. На работе все знают, что он улетел, шеф сегодня звонить не должен, а на остальных наплевать! Ну можно хоть один вечер провести так, как хочется?!
«Англия» встретила его сухим и чистым теплом, сиянием старинных медных люстр, отражавшихся в мраморных полах, вкусными звуками посуды и струнного квартета, доносившимися из ресторана, – отель улыбался ему, как старому другу.
– Здравствуйте, Глеб Петрович! Мы рады, что вы снова у нас в гостях!
Глеб скинул на пол сумку, которую тут же подхватил услужливый швейцар. Глеб на него оглянулся.
– Четыреста восемнадцатый номер, ваш всегдашний! Проводить, Глеб Петрович?
– Спасибо, не нужно, я и сам дойду!
Глеб много лет работал и жил, как самые обычные люди, и к роскоши и удобствам своей нынешней жизни никак не мог привыкнуть. Он забрал у швейцара сумку – тот все порывался проводить его в надежде на чаевые, – зашел в лифт и нажал кнопку.
Все вокруг было знакомым, почти родным, раз от раза забывавшимся и теперь вспоминавшимся с радостным чувством возвращения домой.
Ну конечно, вот и латунные ручки, и медные канделябры, и льняные шторки с затейливо вышитой буковкой «А», вензелем отеля, и скульптуры на мраморных колоннах по обе стороны от лифта – справа Аполлон и слева Венера, оба «голые» и «прекрасные». Или про скульптуры нужно говорить не голые, а обнаженные?..
Не пойдет он ни в какой ресторан, чего он там не видел?! Он закажет еду в номер, наденет халат, сядет возле окна, как барин, будет ужинать и смотреть на собор.
Он любил иногда поужинать именно с этим собором. Ему казалось, что они разговаривают и отлично понимают друг друга!
Он долго сидел в ванне, добавляя то горячей, то холодной воды и почитывая журнальчик, – этакий хлюст, джентльмен после трудового дня, командированный в номере за четыреста евро в сутки!..
В журнальчике все тоже было очень приятно и легковесно, ничего раздражающего или требующего умственных усилий. Известный певец приезжает на гастроли и даст концерт в Ледовом дворце. Известная писательница написала еще один романчик и готовится написать следующий. Новый ресторан приглашает гостей, кухня европейская, но есть еще и японская, какой модный ресторан без японской кухни! Девушки в кокошниках и кимоно, чайная церемония к услугам особо взыскательных клиентов. Премьерой «Чайки» открывается сезон в таком-то театре. Плох тот театр и никудышен тот режиссер, который ни разу не поставил «Чайку»!.. В концепции данной постановки Нина Заречная представлена натуральной чайкой, пойманной на Финском заливе. Весь спектакль она сидит в клетке. Затем ее выпускают, и она мечется над зрительным залом, символизируя стремление к свободе. Все монологи чайки читает из-за кулис специальная актриса.
Глеб уронил журнальчик на пол, еще посидел немного, поливая себя горячей водой, и вылез из ванны. Полотенца были огромными, халаты уютными, девушка, принимавшая его заказ на ужин, любезна и весела – «Англия» никогда не подводила!..
Часам к одиннадцати Глеб решил, что сию минуту все равно не заснет, хотя надо бы, потому что завтрашние дела начнутся рано, но программа сегодняшнего сибаритства не была выполнена до конца. Точка еще не поставлена!.. Он кое-как напялил джинсы и свитер и спустился в бар.
Там было немноголюдно, люстра притушена, зато зажжены матовые уютные торшеры, и пахло трубочным табаком.
Глеб спросил виски, уселся так, чтобы видеть Исаакий, пристроил ногу на ногу, вздохнул и по многолетней привычке огляделся по сторонам.
Какая-то парочка миловалась на плюшевом малиновом диванчике возле соседнего окна. Парочка сидела так, что лиц было не видно, зато можно было наблюдать лысину кавалера и лавину платины и золота волос дамы. Она все время делала некие пассы, не отпускала его руку, обнимала за талию, целовала в заросшее ухо и порывалась взгромоздиться на колени. Лысина была абсолютно безучастна. В откинутой руке она – «лысина» – держала телефон и время от времени посматривала на экранчик, где, видимо, ничего интересного не происходило. Волосатая кисть опускалась, нос отворачивался в сторону, и златовласая опять предпринимала штурм.
Интересно, подумал Глеб, что чувствует мужчина, когда прекрасная дама так активно пытается его соблазнить? Да еще в общественном месте!.. Гордость? Радость? Страх? Скуку?
Компания иностранцев, многолюдная и шумная, угощалась пивом и джин-тоником на круглом диване в углу. С этими все понятно – они только что вернулись из оперы, дамы в маленьких черных платьях и жемчугах на жилистых шеях, джентльмены в черных пиджаках и бриллиантовых запонках. Наверняка давали что-нибудь особенно русское – «Хованщину» или «Ивана Сусанина», в некоем монархическом порыве переименованного в «Жизнь за царя», – и они старательно досидели до конца, слушая каждую арию с подчеркнутым вниманием и со священным ужасом вглядываясь в накладные бороды лопатами на широких лицах певцов и в слегка помятые кокошники, водруженные на накладные косы певиц. Потом они долго аплодировали, переглядывались друг с другом и значительно кивали. Что, мол, я тебе говорил?.. Русский медведь еще и под балалайку плясать горазд!..
Некто тяжеловесный, массивный, в кургузом пиджаке, который был ему маловат, важно прошествовал в угол. За ним поспешала официантка. Должно быть, важный гость.
Охранник, точная копия хозяина, только помоложе и полегче, пристроился к столику за колонной. Витой шнурок наушника торчал из-за его воротника.
Глеб усмехнулся и глотнул из стакана. Виски приятно стек в горло, и там, где он тек, становилось тепло и как-то весело.
– Мне чаю с мятой, – громко приказал «кургузый пиджак» официантке, – и сигару подайте!..
Вот это отлично! Чаю с мятой и сигару! А попросить, чтобы хьюмидор принесли, понюхать каждый сорт и выбрать табак по вкусу? Особенный, тот, который хочется именно сегодня? А виски? Да так, чтоб подходил именно к этой сигаре?!
Официантка побежала к своей конторке, но по дороге забежала еще к охраннику, за колонну.
Ну, этот, решил Глеб, сейчас попросит папиросу и ситро, не иначе!..
Образец понимания и тонкости вкуса!
Глеб и сам этой тонкостью никогда не страдал, но шеф заставил научиться.
– Раз ты со мной рядом сидишь, будь любезен, правила выучи! – душевно сказал он однажды. – У меня проблем и без тебя хватает! Твое рабоче-крестьянское происхождение не повод для того, чтоб ты меня ставил в неловкое положение.
Александр Петрович Ястребов отличался тем, что говорил не слишком много, особенно с подчиненными, но если уж говорил, то раз и навсегда.
Глеб Звоницкий понял это сразу, как только Ястребов взял его на работу.
Научиться? Пожалуйста, мы можем и научиться!
И он научился. Есть палочками, пить виски, различать «молты» – односолодовые сорта, носить костюмы, выключать в общественных местах звук у мобильного. Вилка и нож во время еды не могут быть на скатерти, только на тарелке, а салфетка, в свою очередь, только на коленях. Разговор всегда начинает тот, кто назначил встречу, и никогда приглашенный. «Очень приятно» при знакомстве говорит тот, кто главнее, или старше по возрасту, или женщина, если знакомят с женщиной!
Сыр – это десерт, а не закуска. Коньяк – дижестив, а не аперитив, после ужина можно, а до ужина ни в коем случае.
Скажите, пожалуйста, из какого терминала улетает самолет компании «Джет-эрлайнз» в Тель-Авив? Отлично, а где стойка регистрации бизнес-класса?..
Если письмо начинается словом «уважаемый», его можно закончить словами «с наилучшими пожеланиями» или «искренне ваш», но никогда «с уважением»!
Сам Ястребов учился этому много лет и преуспел. Его начальник службы безопасности выучился за несколько месяцев.
– Глебушка, – говорила Звоницкому жена Ястребова Инна, – да ты прирожденный царедворец и светский лев, честное слово!
Глеб смущался и краснел. Вообще жена Ястребова его смущала.
Развеселившись, Глеб допил виски, закурил и еще раз оглядел бар. Парочка все играла – он ломается, она ластится. Иностранцы тянули пиво и громко хохотали. Кургузый отдувался после каждого глотка, со звяканьем возвращал на блюдце чашку ломоносовского фарфора и попыхивал сигарным дымом. Сигару он держал средним и указательным пальцами, как папиросу. Какая-то женщина пристроилась за соседний с Глебом столик и попросила кофе. Лица ее Глеб не видел, только сутулую спину и мятый синий воротник, выглядывавший из-под свитера.
Завтра с утра он позвонит портовому начальству и поедет объясняться – партия немецкого оборудования для полиграфического производства прибыла еще два месяца назад, да так и осталась в порту. Какие-то бумаги оказались не в порядке, и, когда Ястребов попросил разобраться, выяснилось, что бумаги как бумаги, те же самые, что были и в прошлом, в позапрошлом году, а не в порядке свежеиспеченный начальник таможенной службы, взявший в свои руки бразды правления как раз два месяца назад. Начальник с бухты-барахты запретил абсолютно всем ввозить абсолютно все и сделал одно маленькое исключение для тех, кто, собственно, и определил его на столь хлебное, хотя и небезопасное место. Результатом его активности стали переполненные склады и терминалы, срывы всевозможных сроков, инфаркты у тех, кто послабее, и припадки холодного бешенства у тех, кто посильнее. Ястребов был как раз из последних.
– Глеб Петрович, – сказал он, вызвав Звоницкого к себе, – я понимаю, конечно, он новый человек, не разобрался еще, что к чему, но у меня производство простаивает, и оборудование недешевое. Два миллиона евро за машину – какие-никакие, но деньги!
Глеб согласился, что деньги. Какие-никакие.
– Ну и сделай так, чтоб я больше про этот самый порт или причал, что ли, ничего не слышал. Сделаешь?
Глеб пообещал, что сделает.
Материалы собирали не слишком долго, дней пять. Глеб, прочитав досье, некоторое время смотрел в окно кабинета, прикидывая, что лучше – пугать или задабривать, и решил, что правильнее пугать. Новый начальник – никто, пустышка, дурачок на «Мерседесе», и кажется ему, убогому, что он теперь сильный мира сего! Хочет – выдаст оборудование по два миллиона евро за контейнер, а не хочет – найдет нарушения (кто же без нарушений ввозит!) и не выдаст. Дурашке следует объяснить, что нехорошо так поступать со взрослыми и солидными людьми, играющими по взрослым правилам в солидные игры. Конечно, полиграфкомбинат в Белоярске не самое большое и прибыльное производство Александра Петровича Ястребова, но денежки приносит – какие-никакие! – и, главное, работу людям дает!.. Вот это дурашка должен скумекать, отразить и доложить «наверх», что еще два месяца назад пришли какие-то немецкие ящики для Белоярска и что с ними делать – неясно. Выдавать или не выдавать? Хозяева ящиков уж больно переживают!.. А уж с теми, кому он доложит, Глеб Петрович договорится. Тех пугать бессмысленно, они сами кого хочешь запугают, но можно попробовать потолковать.
Информации много, ходов и связей тоже достаточно, поиграем, посмотрим!.. А может, и играть не придется!.. Сойдемся на том, что произошло недоразумение, вы нам ничего не должны, и мы на вас не в обиде!..
Все эти дела следует делать как можно быстрее, ибо в Белоярске уже почти началась зима, а для того, чтобы монтировать оборудование в несколько тонн весом, на полиграфкомбинате разобрали стену – иначе машины на второй этаж никак не поднять. Метели вот-вот пойдут, а несколько цехов стоят без наружной стены, проломы полиэтиленом занавешены!..
Сукин ты сын, вдруг подумал Глеб про портового коммерсанта. Сволочь ты последняя!.. Наплевать тебе на все, кроме собственной задницы и «Мерседеса»! На людей, на разобранные стены, на то, что в цехах у рабочих зуб на зуб не попадает, пар изо рта валит, и никакими обогревателями на таких площадях не спасешься! Нету тебе никакого дела до того, что на этом комбинате несколько тысяч семей кормится, что наладчиков из Германии привезли и уже два месяца в гостинице держат, а бюджет на производстве не резиновый, где же столько денег взять, чтобы три десятка немцев кормить, поить, содержать?! Ты орел, орлище, после работы в казино поедешь, денежки просаживать – эту маленькую слабость коммерсанта служба безопасности моментально раскопала! – а через недельку в Таиланд махнешь, к тамошним массажисткам-акробаткам, отдыхать от праведных трудов, а всем остальным что делать?! Задницу тебе лизать, умолять, чтоб сжалился, чтоб выдал оборудование, пожалел?! Вот же тебе и денежек за это, кучечку, пачечку, как скажешь!
Не на того напал, решил Глеб Петрович. Конечно, нельзя заранее так настраиваться, работа есть работа, ничего личного, как говорится, но раз уж я настроился – мало тебе не покажется! С хозяевами твоими мы, может, и по-другому договоримся, а тебе, мокрохвостому, Таиланда с акробатками еще долго не видать!..
Довольный собой и своими чрезвычайно правильными, справедливыми и очень мужскими мыслями, Глеб Петрович лихо расписался в счете – это называлось «записать на номер», – оставил щедрые чаевые и направился в сторону лестницы.
Иностранцы разошлись, кургузый, отдуваясь, допивал чай, люстры были притушены, и официантка, неслышно и проворно убиравшая со стола, улыбнулась ему усталой, но приветливой улыбкой. Глеб браво улыбнулся в ответ, засмотрелся, и тут ему под ноги с дивана, где сидела та, сутулая в синем воротничке, свалился какой-то портфельчик, шлепнулся плашмя. Глеб его поднял.
– Извините, пожалуйста.
Женщина схватила портфель двумя руками, как будто Глеб собирался его отнять, затолкала за спину и пробормотала, не глядя:
– Ничего.
И тут он ее узнал.
– Катя?
Она уставилась на него и, кажется, пришла в смятение, – впрочем, она всегда была в смятении, черт ее знает почему!..
Глеб стоял и ждал, что именно она сделает. Притворится, что не узнала? Кинется на шею? Зарыдает – это она тоже умела!..
– Здравствуйте, Глеб Петрович.
Она не пригласила его присесть, не улыбнулась, но и не зарыдала. Прогресс налицо!
– Давненько мы с вами не виделись, – сказал Глеб, рассматривая ее.
– Да, Глеб Петрович. Давненько.
– Как поживаете, Катя? Что поделываете? Вы же, кажется, художник?
Он отлично знал, что никакой она не художник.
Она ничего не ответила, но как будто спохватилась и пригласила его присесть.
– Я лучше пойду, Катерина Анатольевна, – сказал Глеб. – Мне завтра рано вставать.
Она покивала, словно отпуская его. Темные, давно не стриженные волосы лезли ей в глаза, и она все время заправляла их за уши.
– Спокойной ночи.
– До свидания, Глеб Петрович.
Он дошел до лифта и оглянулся. Катя снова сгорбилась над своей чашкой, и, похоже, портфель, засунутый за спину, очень ей мешал, потому что теперь она сидела на самом краешке дивана.
Глеб помедлил, проклял все на свете и вернулся к ней.
– Кать, чего вы здесь сидите? Поздно уже, и на улице дождь! Вы же где-то на Каменноостровском живете?
Она посмотрела на него совершенно равнодушно. Он бы ушел, если бы мог.
Когда-то он служил начальником охраны у ее отца, белоярского губернатора Мухина, правда вначале работал простым охранником. Кате тогда было лет двенадцать, а может, и меньше. У нее были длинные худые ноги с выпуклыми коленками, веселая мордаха, ямочки на щеках и ярко-зеленые кроссовки с тремя полосами.
Собственно, из-за этих самых кроссовок и случилась дружба губернаторской дочки и охранника, младшего лейтенанта по званию. В летнем трудовом лагере, куда Катю услали на лето, чтобы она получала подобающее трудовое воспитание на свекловичных полях, кроссовки у нее украли. Губернаторская супруга, возражавшая против полей всей душой, потихоньку от мужа отправила тогда парней из охраны проверить, как дела у ребенка. Глеб приехал и застал ребенка в слезах и без кроссовок. Уже тогда, точно так же, как и сейчас, Глеб Звоницкий не выносил никакой несправедливости. Он и в органы пошел служить отчасти потому, что это казалось ему романтичным и очень мужским делом, и отчасти для того, чтобы сделать мир лучше и справедливее. Губернаторская дочка была хорошей девчонкой – доброй, смешливой, любила родителей, брата, собак и картошку, печенную в золе… Глеб возил ее в школу, встречал после музыки, лечил разбитые колени, учил драться, отвечать за свои слова и не обращать внимания на идиотов, которых всегда притягивают к себе люди «на виду». Пропавшие кроссовки Глеб нашел в два счета, задав всего три вопроса перепуганным воспитательницам, не ожидавшим нашествия губернаторской охраны, а Катю забрал в Белоярск.
После этого случая он чрезвычайно возвысился в Катиных глазах. Он стал кем-то вроде Эркюля Пуаро, а она кем-то вроде капитана Гастингса, с преданным восторгом смотревшего в глаза своему кумиру.
Потом Катя выросла, вышла замуж и уехала в Питер, Глеба назначили начальником охраны, а вскоре он ушел на другую работу, а губернатора Мухина и его жену застрелил какой-то полоумный маньяк.
Катя Мухина, к тому времени уже Зосимова, приехала на похороны в Белоярск, и Глеб темной ночью подобрал ее на улице, почти обезумевшую от горя, свалившегося на нее в одночасье, и от непонятного страха, в котором ему некогда было разбираться. Тогда в крае творилось странное, администрация скрывала, что губернатора и его жену убили, журналистам и общественности старательно морочили голову – губернатор, мол, ночью в своем кабинете баловался с пистолетом, ну, и застрелился случайно, а жену на нервной почве хватил инфаркт. Александр Ястребов, пришедший в край со своими финансовыми и политическими амбициями, черной тучей нависал над остальными, жаждущими власти, перевыборы все никак не могли назначить, следствие велось кое-как… И если бы не Инна Селиверстова, дама во всех отношениях энергичная и упорная, работавшая в белоярской администрации начальником управления, неизвестно, что бы из всего этого вышло. Инна Васильевна историю с маньяком раскопала от начала до конца – Глеб помогал ей немного – и на блюдечке с голубой каемочкой принесла Ястребову. А тому только того и надо было!.. Избиратели моментально поверили, что Александр Петрович чтит закон и справедливость и кого хочет за шиворот схватит – схватил же мухинского убийцу, и не посчитался ни с кем, и скрывать ничего не стал!.. Ястребов стал губернатором Белоярского края и моментально женился на Инне.
Говорили, что у них был такой уговор – она ему обеспечивает губернаторство, а он за это на ней женится! Говорили, что Селиверстова, змея в мехах и бриллиантах, держит его на короткой приструнке и краем руководит именно она, а вовсе не ее муж!
Глеб Звоницкий, выслушивая трагические истории о нелегкой судьбе промышленника и политика Александра Ястребова, взятого в железные клещи собственной женой, поначалу сильно раздражался, порывался возражать, а потом перестал.
Невозможно никому ничего объяснить. Невозможно, и все тут!.. Никто не поверит, а если и поверят, то не до конца, и будут еще внимательнее искать подвох и подсчитывать промахи и ошибки. Людям нравится считать тех, кто сильнее и умнее, пройдохами и болванами. Так легче жить!.. Вот лежишь ты на диване или на кухне котлетный фарш крутишь, а тут по телевизору Инна Васильевна – волосы белые, глазищи голубые, на пальце перстень, даже в телевизоре видно, как играет! Да еще муж губернатор! Сидела бы себе, не лезла никуда, так нет, она и на телевидении, она и на радио, и премию какую-то учредила, и фонд помощи каким-то детям придумала! Не иначе все денежки из бюджета сама украла – не на свои же кровные фонды и премии учреждает! Денежки украла, накупила на них шуб и особняков, муж-подкаблучник вякнуть не смеет, у такой разве вякнешь!.. Сразу видно, стерва и зараза, нормальные женщины такими не бывают! У нас шуб и особняков не имеется, и с мужем вчера чуть было не подрались, зато мы нормальные! Как все.
Трудно быть не таким, как все. Неважно, лучше или хуже, все равно трудно.
Катя Мухина, у которой когда-то был хвост на макушке и веселые ямочки на щеках, тоже была не такая, как все, – по рождению. Она была дочкой большого человека, следовательно, избалованная, богатая подрастающая стервочка – в глазах окружающих. Только в отличие от Инны Селиверстовой она никогда не умела за себя бороться!..
– Катя, – повторил Глеб Петрович настойчиво, – вы бы ехали домой! Поздно уже!
– А? А, сейчас поеду. Да. Хорошо.
Она будто разговаривала сама с собой, и Глеб вдруг вспомнил эту ее манеру, появившуюся как раз когда погибли родители, – она говорила, словно не слыша собеседника.
Черт тебя побери, с тоской подумал Глеб.
Он еще помаялся возле нее, потом сел на диванчик напротив. Катя смотрела в окно, на темную площадь с конной статуей. И статуя, и площадь были похожи на все европейские площади до одной, и только собор не похож! Глеб стал смотреть на собор. Статую он не любил.
– Глеб Петрович, – Катя очнулась так неожиданно, что Глеб даже удивился, – а почему вы в Питере? Вы же были в Белоярске!
– Я в командировке.
– А где вы теперь работаете?
Он помолчал. Вопрос показался ему странным.
– У Ястребова.
– Он ведь губернатор?
– Ну да.
– Все правильно, – сама себе сказала Катя Мухина. – Сначала у папы, а теперь у того, другого! Вам же надо где-то работать! Да и какая разница, был один губернатор, стал другой, подумаешь!
Он помолчал, но потом все же переспросил:
– Что вы сказали?
– А наш дом? – вдруг спросила она. – В нем Ястребов живет, да? И дача! Помните нашу дачу?
– Езжайте домой, Катя. Хотите, я вызову вам такси?
Она покачала головой, сосредоточенно глядя в чашку.
– Я поеду, когда тут все закроют. Уже скоро, они в час закрываются. Они закроются, и я тогда поеду.
Тут она встрепенулась, повернулась и ощупала свой портфель, словно проверяя его сохранность. Портфель был на месте, и Катя поглубже засунула его за спину.
– Кать, вы что? – грубо спросил Глеб. – С ума сошли?
– Иногда мне кажется, что да, – быстро согласилась она. – Раньше мне так часто казалось, особенно после смерти мамы, а потом стало полегче. Но теперь опять кажется.
– Вам кажется, что вы сошли с ума?!
Катя Мухина – или как она там по мужу? – печально посмотрела на него и торжественно кивнула.
Глеб взял себя рукой за подбородок. Подбородок кололся.
…Нет, конечно, он знал и раньше, что она истеричка! И тогда, в Белоярске, когда они с Инной Васильевной наперегонки ухаживали за ней, бедной девочкой, потерявшей мать и отца, было понятно, что у нее «не все дома», как аккуратно выражался Осип Савельич, Иннин водитель, но Глеб был уверен, что это пройдет. Любая в истерику кинется, если отца прикончили и мать застрелили почти у нее на глазах! Но с тех пор прошло достаточно времени для того, чтобы прийти в себя!..
…Или она и впрямь сумасшедшая?..
Он ушел бы, если б мог!..
Глеб вздохнул, отпустил подбородок и попросил осторожно:
– Расскажите мне, что случилось, Катя. Или ничего не случилось и вы думаете, что сошли с ума, ну, просто потому, что вам так кажется?
Катя Мухина сосредоточенно допила остывший кофе и облизала край чашки с присохшей кофейной пенкой.
– Меня хотят убить, – объявила она, проделав все это. – И, должно быть, скоро убьют.
Глеб помолчал.
– Кто и за что хочет вас убить?
Она подвинулась на диване, вытащила из-за спины портфель и показала его Глебу:
– Вот за это!..
Ниночка собиралась на вечеринку. Это всегда было трудно – собраться на вечеринку, да еще такую, где будут незнакомые мужчины, приглашенные не просто так, а «с целью». Ну, то есть там будут всякие, конечно, но «целевые» тоже будут! С тех пор как Ниночку бросил муж, она полюбила исключительно «перспективные» вечеринки. Перспективными считались такие, где можно встретить «подходящего» мужчину, неважно, женатого или холостого, главное – с деньгами!
А что?! Весь век сидеть, как вон Катька Мухина сидит? Миль пардон, то есть не Мухина, а как ее?.. Зорькина, что ли? Нет, не Зорькина! Зайкина? И не Зайкина, точно!
Ниночка засмеялась, рассматривая внутренности шкафа, в котором в два ряда висели костюмы: на верхней перекладине пиджаки, на нижней – брюки и юбки. К каждому пиджаку прилагалось и то и другое. Так значительно удобнее, чем что-нибудь одно.
Ниночка прекрасно знала, что фамилия Катиного мужа Зосимов и Катя, соответственно, тоже Зосимова, просто Ниночка терпеть не могла Генку и делала вид – хоть бы и сама перед собой! – что все время забывает его фамилию.
Что же за наказанье такое?! Одежды вагон, а надеть нечего!..
Ниночка наугад вытащила юбку, приложила к себе и покрутилась из стороны в сторону.
Не впечатляет! Не впе-чат-ля-ет, и все тут!..
…Или на Невский съездить?
Там, прямо напротив поворота на Большую Морскую, есть парочка очень славных магазинчиков! Наверняка там можно прикупить что-нибудь новенькое, сразу же надеть и поехать, чувствуя себя королевой!
Эта мысль Ниночке очень понравилась. Пожалуй, так она и сделает! Ла-ла-ла, и не станет она выбирать из всего этого старья, которым забит шкаф! Половину старья нужно сплавить маме «на благотворительность». Мама что похуже раздаст бедным, а что получше себе оставит – и волки целы, и овцы сыты!..
Ой, нет, то есть наоборот! Впрочем, Ниночка никогда не могла запомнить таких смешных штучек и анекдоты всегда забывала, но любила, когда при ней рассказывали «смешное». Она хохотала во все горло, показывая мелкие ровные жемчужные зубки!
Надо только этой дуре Катьке позвонить и вытащить ее с собой. А то сидит сиднем, то на своей работе проклятой, то в квартире, не выманишь ее никуда. Как домовой в углу!..
Ниночка показала шкафу язык, выбежала из гардеробной – вещи в ее квартире занимали две небольшие комнатки, – разыскала телефон, который оказался в ванной на золоченом креслице, под кружевным кимоно. Сверху на кимоно была пристроена пустая кофейная чашка, еще валялся рассыпанный маникюрный набор и ощипанная роза. Утром Ниночка принимала ванну, и ей вдруг захотелось, чтобы в воде плавали лепестки роз. Галина Юрьевна всегда ставила ей в ванную букетик свежих роз, вот Ниночка достала одну и ощипала!
Телефон зазвонил, как только оказался у нее в руке. От неожиданности она уронила его прямо в чашку, выудила оттуда двумя пальцами, оглядела со всех сторон – он все звонил! – вытерла кофейные следы о кимоно – его все равно нужно стирать, – и только тогда ответила:
– Алло?
Звонил бывший муж.
Этот самый бывший муж звонил ей каждый божий день, утром и вечером, и очень мешал жить!
– Ну, что тебе надо, золото ты мое самоварное? Ну что ты пристаешь ко мне! Вчера поговорили, сегодня с утра поговорили! Ну, что еще?!
– Ничего, – проскрипел бывший муж. – А что такое?! И поговорить уже нельзя?!
– Можно, – согласилась Ниночка и посмотрела на часы.
Катька, дура, небось на своей дурацкой работе торчит! Если за ней заезжать на Петроградскую сторону, в магазин они приедут только часа через полтора и не успеют выпить зеленого чаю с овсяными печеньицами в чудесной маленькой кофейне на втором этаже. А Ниночке очень хотелось в кофейню! Ей там нравилось – она видела свое отражение в бесчисленных зеркалах, ловила взгляды, жмурилась от удовольствия, как кошка на припеке.
– Или ты на свидание намылилась? – голос мужа в трубке исказился, и Ниночка живо представила себе, как он сидит в кресле, качает ногой, а при мысли о свидании перестает качать, тянется и сбрасывает на пол бумаги в поисках сигарет. Он почему-то все время сбрасывал на пол бумаги – кажется, подражая Брэду Питту. Тот так делывал в кино, когда бывал взволнован!..
Вот болваны – и киношный, и настоящий!
– Кисуль, ты зачем звонишь?
– Я тебе не кисуля!
– А кто ты мне?
Бывший муж засопел.
Ниночка наклонилась и посмотрела на свою ногу. Вчера на фитнесе она приложилась бедром к какой-то выпирающей железке, сильно приложилась, и теперь это самое место нужно учитывать при выборе нарядов – синяк-то ничем не замажешь!..
Так как муж все молчал и сопел, Ниночка перестала рассматривать синяк и пропела в трубку:
– Ну во-от, ну во-от! Ты же мне никто! Ты мне уже год никто! А все звонишь, все пристаешь! Ну, что тебе неймется, а?! Это ты со мной развелся, а не я с тобой, ты что, забыл?! Забыл, как я рыдала, как я тебя умоляла меня не бросать, а ты бросил!.. Ты просто ушел, и все, и еще сказал, что вещи… вещи…
Как всегда при воспоминании о том, что с ней тогда было, Ниночку повело. Она стала коротко и бурно дышать, открывать и закрывать рот, как рыба, – она и заикаться тогда начала! – и в горле стало тесно.
– Зачем? – выговорила она, преодолев тесноту в горле. – Зачем ты так со мной?!
Он молчал.
– Я же тебе ничего плохого, никогда!.. А ты!.. Ты!.. Ты меня никогда не жалел и до сих пор не жалеешь! Ну зачем ты мне звонишь?! Чтобы я плакала?! Плакала, да?!
– Нина, прекрати истерику!
– Все было так хорошо, пока ты не позвонил! – прорыдала она. – Просто отлично! Я в гости собиралась и в магазин с Катькой! А ты все испортил! Ты все время мне все портишь!..
– Я ничего не портил. – Как всегда, когда она начинала рыдать, он становился увереннее, словно ее слезы придавали ему силу. – Я просто позвонил!
– Зачем?!
– Чтобы пригласить тебя.
– Куда?!
– На свидание, – тихо сказал он. – Я хочу пригласить тебя на свидание.
Ниночка перестала реветь – глаза моментально высохли – и села в золоченое креслице. Она помнила, что где-то там чашка и роза, и села осторожненько, на самый краешек.
– Как – на свидание? – уточнила она. В носу было колко и мокро, она пошарила сзади, потащила голубой шелк и вытерла нос краем кружевного пеньюара.
– Как, как! – вспылил муж. – Как люди ходят на свидания?!
– Я не знаю, – растерялась Ниночка. – Я сто лет уже не ходила.
– Ну да, – протянул муж. Бывший, бывший, конечно! – Можно подумать!..
– Не ходила, – зачем-то подтвердила Ниночка. – А… куда мы пойдем?
– А куда ты хочешь?
– В Екатерининский парк, – выпалила Ниночка.
– Бац, – сказал бывший муж негромко. – Один-ноль.
– Ну да, – подтвердила Ниночка, зачем-то встала с кресла, подошла к зеркалу и взялась за лоб. Чашка упала на пол, покатилась, загремела, но не разбилась. – А потом на улицу Куйбышева.
– В кафешку?
– Ну да, – повторила она. – Ну, если, конечно, ты имеешь в виду настоящее свидание!
– Самое настоящее, – подтвердил он, вздохнул и добавил: – Два-ноль.
– Да что ты там считаешь?! – вдруг возмутилась она. – Иди на свой футбол и считай там!
Он захохотал. Громко и радостно, как когда-то давно. Она сто лет не слышала, чтобы он так хохотал.
Все-таки она сильно его любила – в те времена, когда они ездили гулять в Екатерининский парк, а потом ели курицу в кафешке на Куйбышева.
Он потом говорил, что женился на ней как раз из-за курицы, и это тоже было смешно.
Он говорил: «Съесть курицу в общественном месте, да еще на свидании, – это целая история! Как ее есть и не выглядеть при этом людоедом или, в крайнем случае, пожирателем ни в чем не повинных зверей и птиц?! А ты ее ела так красиво, что я сразу решил на тебе жениться!»
– Значит, Екатерининский и курица, – подытожил бывший муж в трубке. – Общий счет два-ноль. Когда?
– Завтра?
Она думала, он скажет: у меня расписание. Ну, ты же знаешь, как я занят! У меня встречи расписаны на месяц вперед. Давай пятнадцатого числа, но четырнадцатого контрольный звонок для подтверждения. Только ты мне обязательно напомни, что мы договаривались!
Она думала, он скажет: что это ты так моментально согласилась, да еще хочешь прямо завтра?! Или ты на самом деле поверила, что у нас свидание?!
Он сказал:
– А чего не сегодня?
– Да я на вечеринку иду! – с досадой воскликнула Ниночка. – Московская знаменитость приезжает, только один концерт, и всякое такое! Я обещала!
– А знаменитость… какого рода?
– Господи, да никакого! Никас, певец, ты таких не слушаешь!
Муж почему-то опять захохотал:
– Певец Никас?! Ну, ты даешь! А ты что, фанатка, что ли?!
– Дим, ну слушаю я его, ну и что?! Он про любовь поет! А что ты так веселишься-то?!
– Ты вроде никогда не была дурой, – сказал муж весело.
– Да почему сразу дурой, я не понимаю?! Его все слушают! А тебе бы только ржать!..
– Да нет, нет, – спохватился он, – я не ржу! Так просто, смешно немного. Я тебе потом расскажу. А концерт этого Никаса сегодня, что ли?
– Он еще не приехал! Концерт завтра, и приезжает он завтра! А сегодня пре-пати, будет весь бомонд!
– Что сегодня?! – поразился муж.
– Ах, боже мой, пре-пати! Ну, вечеринка такая! Вечеринка – «пати», по-английски! «Пре», потому что перед! Перед концертом! Будет его продюсер, какие-то журналисты. Телевидение будет!
– Оно тебе очень нужно!
– Нужно, представь себе! И вообще, зачем ты меня приглашаешь на свидание?! Чтобы издеваться, да?!
– Нет, – быстро сказал он. – Завтра так завтра, я согласен. Я за тобой заеду. Во сколько?
– В пять. Нормально?
Он сказал, что нормально, потом неуверенно добавил, что целует, и положил трубку.
Ниночка посмотрела на себя в зеркало. Щеки горели, и глаза были яркие, как будто накрашенные. Она наклонилась вперед, чтобы рассмотреть получше, хотя точно знала, что не красилась сегодня.
Все-таки она сильно его любила!..
Он учился в Москве, приезжал только по выходным, и они сразу мчались гулять в Екатерининский парк – ни в его, ни в ее квартире никак нельзя было «встречаться».
Ее родители считали, что он «неподходящая партия» – мальчик из коммуналки с Обуховской обороны, голь перекатная! Его родители тоже считали Ниночку неподходящей – избалованная девочка, дочка большого чиновника, которого никакая перестройка не утопила!
Родители могли считать все, что им заблагорассудится, а они гуляли в парке, поддавали ногами охапки осенних листьев, останавливались и слушали, как они шуршат, медленно опускаясь на землю. Однажды дворник их разогнал как раз за то, что поддавали листья ногами, и долго ругался и кричал им вслед, что вот сейчас наряд вызовет, надо же такому быть, никакого уважения к труду! Метешь, метешь эти листья, а потом какие-то малолетки их по всему парку разбрасывают, сами бы попробовали мести!..
Они убежали от дворника и долго хохотали за каким-то гротом – тогда Дима любил хохотать и делал это как-то на редкость вкусно, вот как сегодня по телефону, когда услышал про певца Никаса!
И поженились они тоже «своевольно» – пошли в загс и расписались, подумаешь, делов-то! И потом с независимым, гордым, испуганным видом сносили громы и молнии, которые оба семейства обрушили им на голову.
Монтекки и Капулетти из родителей все равно не вышло. Ниночкин отец вздохнул и купил «молодым» квартиру на Фонтанке, а Димочкин отец вздохнул и сказал: «Живите, чего уж теперь, раз поженились!»
Ниночкин муж быстро пошел в гору – папа помогал немного, да и Дима сам был не дурак. Ему понравилось зарабатывать, понравились деньги и простор, появившийся вместе с ними, вон как горизонты расширились!
Они много ездили, и все в экзотические страны, покупали машины, часы и колечки – Ниночка любила колечки! Все было устойчиво и незыблемо – и чудилось, что так будет всегда.
Должно быть, любителям морских круизов тоже казалось, что у них на «Титанике» все устойчиво и незыблемо и ничего не может случиться!
То, что было потом, Ниночка не могла вспоминать – сразу начинала плакать и задыхаться, как сегодня. Должно быть, и тогда она сильно Диму любила, потому что ей думалось, что как только он выйдет из квартиры на Фонтанке и его водитель отнесет в «Мерседес» чемоданы, она упадет замертво и задохнется – непоправимо, навсегда!..
Он вышел, и она не задохнулась.
Ниночка сидела на полу, на шелковом ковре, который они вместе когда-то долго выбирали в турецкой лавке. Она сидела, держалась обеими руками за ножки кресла, чтобы не завалиться на бок. Она была уверена, что, как только упадет на ковер, горе навалится сверху и задавит ее, как убийца наваливается на жертву и душит, пока та не перестает дышать.
Она сидела и смотрела на сложные шелковые узоры и силилась вспомнить, сколько узлов приходится на сантиметр. Турок, продавший им ковер, говорил, что очень много – сто, а может, тысяча, что ли! В Ниночкиной жизни нынче тоже все завязалось узлом – а может, сотней или тысячей узлов, и развязать их нельзя, невозможно!..
– Я от тебя ухожу, – сказал ей поутру муж после чашки кофе. – Я больше так не могу! Все это вранье мне надоело!
Ниночка даже не поняла, какое именно вранье!.. Она настолько ничего не поняла, что засмеялась, обняла его за голову, звонко чмокнула в макушку и спросила, когда они поедут к родителям. Была суббота, родители ждали их в Парголове на шашлыки.
Дима сказал, что к родителям они не поедут, зато он поедет к женщине, которую полюбил. Он так и сказал Ниночке – я полюбил женщину, как будто до этого любил мужчину!
Ниночка смотрела на него недоверчиво, пока не поняла, что он всерьез собрался уходить! Должно быть, любители морских круизов на том самом «Титанике» тоже недоверчиво смотрели на океан, не понимая, что именно этот самый океан собирается с ними сделать.
А он всего лишь собирался… убить. Непоправимо, навсегда.
Говорят, что ничего не бывает «просто так», что любая женщина непременно чувствует «эти вещи» – если не знает точно, то догадывается «спинным мозгом».
Ниночка не догадывалась. И он ушел.
Его нечем было остановить – отец давно уже не имел на него никакого влияния, а детей, которые могли бы хватать папочку за колени и кричать «Не бросай мамочку!», у них не было.
Впрочем, остановить человека, который хочет уйти, невозможно, а Ниночкин муж очень хотел уйти.
Кроме того, он еще очень хотел, чтобы Ниночка осталась виноватой. Должно быть, собственное чувство вины оказалось для него непосильной ношей и он никак не мог с ней справиться! Он пыхтел под ношей, вздыхал, силился ее сбросить, и ничего у него не получалось.
Они прожили вместе почти десять лет. Говорят, что с возрастом люди меняются, и мир вокруг меняется, и очень сложно, почти невозможно остаться вместе, ибо нет никаких гарантий, что второй будет меняться точно так же, как и первый, в ту же сторону, с тем же креном, поворотом, радиусом – черт знает, с чем еще!.. Ниночка и ее муж ничего такого не знали ни про крены, ни про повороты, они просто жили вместе, и им было весело!..
Пусть это очень глупо – но правда. Так оно и было.
Екатерининский парк и курица в кафешке на углу улицы Куйбышева остались в прошлом, но и парк, и кафешка как будто грели их, подбадривали, утешали, словно два старика, провожающие молодых добрыми понимающими взглядами!..
Ничего, обойдется, ведь есть же мы, а мы все на свете знаем, знаем, как бывает нелегко, почти невыносимо, но потом ведь налаживается!..
Пока есть «мы», есть и все остальное – опавшие холодные растопыренные листья, и очень синее осеннее небо, и лужа, в которую, помнишь, она провалилась, и ты все хотел отдать ей свои носки и стеснялся, потому что они были бумазейные, истончившиеся на пятках, а она – фея! Разве фею можно нарядить в такие носки?! И собака, шуршавшая носом в этих самых листьях, тоже была. Вы все мечтали, что у вас когда-нибудь будет собственная квартира и собака. Обе, и квартира и собака, непременно громадные и очень уютные! И какие-то последние денежки мелочью, которые ты наскреб ей на книжку в магазине Зингера на Невском! Ей понадобилась книжка по русскому искусству, она тогда, кажется, какой-то экзамен сдавала, а книжки не было. Вы зашли в магазин просто так, ни на что не надеясь, и книга там стоит! И вам подали ее с полки, тяжелую, глянцевую, немного самодовольную и очень красивую, и стоила она бешеных денег! У тебя никогда не было денег, и твоя девушка всегда была гораздо богаче, но – странное дело! – тебя это почти не волновало, словно уже тогда ты был уверен, что настанет день, когда ты сможешь купить ей не просто книжку, а целый книжный магазин вместе с покупателями и продавцами!.. Но тогда ты наскреб на эту книжку и был страшно горд собой, и она приняла ее у тебя, прижала к себе и прошептала, как нечто очень интимное, что непременно расскажет маме, какой царский подарок ты ей сделал сегодня!..
Есть «мы», и есть то самое главное, чего нет почти ни у кого, – интерес друг к другу!.. Пока интересно, можно жить, не опасаясь, что все кончится в одночасье, ведь это такая редкая штука – интерес!..
Вот как раз в одночасье все и кончилось!
Муж ушел, а Ниночка осталась сидеть на ковре с единственной мыслью – как бы не упасть на пол, чтоб не задохнуться!..
Он ушел, она осталась, а он стал придумывать себе оправдания – из-за чего ушел! Никто его ни о чем не спрашивал, но он все равно придумывал! Поначалу Ниночке казалось, что самое трудное – это сидеть на ковре, в страхе, что вот-вот задохнешься, а выяснилось, что самое трудное – узнавать, как сильно он ее не любил все эти десять лет!..
Ты разрушила. Ты не понимала. Ты никогда!.. Ты только о себе!..
Я даже не знал, что ты такая! Я думал, что!.. Я больше так не мог!..
Мы больше не можем вместе! Мы должны отдохнуть! Мы стали другими!
И вообще, никаких «нас» нет. И не было никогда.
В довершение всего пришла бумага из райсуда. В этой бумаге, написанной его рукой, было сказано, что «взаимопонимание утрачено», «совместная жизнь фактически не ведется с такого-то числа такого-то месяца», «имущественных претензий не имеется».
Про то, что «не ведется и утрачено», Ниночка читала весь день. Притягательная, как орудие убийства, бумага лежала на столе. Ниночка подходила и читала снова и снова – «имущественные претензии… непонимание… прошу дать развод».
Потом откуда-то взялась Катька Мухина, оттащила ее от этой бумаги, надавала по щекам, потому что Ниночка все рвалась перечитывать. Ей казалось страшно важным запомнить все формулировки!
Словно мало было ему бумаги, он звонил и вновь и вновь повторял, что любит другую. Давно и сильно. Она талантлива, умна, хороша собой, и той, другой, очень нужна его поддержка.
Я все равно с тобой разведусь, ты можешь даже ничего не придумывать!
Ниночка ничего не стала придумывать. И они развелись.
Судье, усталой молодой женщине с приятным равнодушным лицом, Ниночка сказала, что не возражает против развода.
– Может, подумаете еще немного? – предложила судья. – Никто вас не торопит! Какая разница, когда разводиться, можно ведь и через месяц?!
Ниночка сказала, что они разведутся именно сейчас. Ее муж должен поддерживать молодых и талантливых.
– Да бросьте вы дурака валять, – негромко сказала судья, потом оглянулась на какую-то барышню преклонного возраста, кутавшуюся в неаппетитный коричневый платок, и велела не записывать это в протокол. – Ну, побегает он и перестанет, в первый раз побежал, что ли!
Ниночка была снисходительна к усталой молодой судье – та ведь не знала про парк, про собаку, про книжку и про то, что все десять лет им было интересно друг с другом!..
Ее родители сказали: наплевать и забыть! Ты молодая, красивая, у тебя все впереди! Хочешь в Париж, девочка? Тебе обязательно нужно в Париж, чтобы немного прийти в себя!
Его родители сказали: мы так и знали! Все равно ничего путного бы не вышло! Сын вкалывает день и ночь, а жена, бездельница, только тратит, только тратит! Да и ушел он по-мужски, все ей оставил! Чего еще надо! Может, хоть теперь он будет счастлив, заслужил!..
Но словно и этого всего было мало, муж, как-то моментально и необратимо ставший бывшим, продолжал Ниночке звонить, говорить, как хорошо ему нынче, как он от нее устал. Еще он говорил, что она всю жизнь прожила за его спиной, что тянула из него жилы, что она всегда умеет удобно устраиваться на чужом горбу – это Ниночка уже слышала от свекрови, именно ее интонации вибрировали в голосе бывшего мужа!..
Ее привела в себя, как ни странно, Катька Мухина. Катька, вечно несчастная, шмыгающая носом от хронического питерского насморка, потерявшая родителей, а вместе с ними, казалось, всякий интерес к жизни.
Катька приходила и сидела с Ниночкой, словно с больной, днями и ночами. Сначала она сидела молча, а потом стала рассказывать, как живет. Будто Ниночка этого не знала!..
В конце концов, они вместе выросли – когда-то Ниночкин папа руководил министерством, в котором начинал Катькин папа, или наоборот, впрочем, неважно!.. В детстве Ниночку часто привозили в Белоярск на каникулы, и Любовь Ивановна, Катькина мать, угощала их диковинным вареньем из крыжовника. Варенье называлось «брежневским». Из каждой ягодки была вынута сердцевинка, а на ее место вложен грецкий орешек. Ягоды были прозрачными, янтарными, варенье тягучим, остреньким, кисло-сладким – кажется, в сироп еще добавляли лимон. Любовь Ивановна заставляла девчонок «чистить ягоду», и они часами сидели на террасе, залитой солнцем, и прилежно ковыряли ножиками крыжовник, и руки у них были липкие и сладкие, с прилипшими крыжовенными хвостиками. Ниночка с Катькой маялись, ныли, ягоды на громадном подносе как будто совсем не убавлялись! Девчонки ныли, но знали, что потом, после ягод, их отпустят купаться, и они побегут наперегонки к Енисею, а Любовь Ивановна вслед им будет кричать, чтобы ни в коем случае не заплывали на стремнину – опасно!
Катька как-то очень неудачно вышла замуж, Митька, ее брат, вырос и стал попивать, и все пошло наперекосяк. Митю Ниночка почти не знала, он был старше, рано уехал в Москву и в Белоярск наезжал редко. Но когда приезжал, у девчонок был праздник – никто лучше его не умел придумывать интересные штуки, например отпроситься у матери в ночное с конюхами. На губернаторской даче всегда держали лошадей, и в ночном было таинственно, загадочно и немного страшновато.
Огонек бакена покачивался на темной реке, звезды мигали, как будто неведомый ветер вечности ерошил их. Сладко пахло какой-то травой, местные называли ее «медуницей» или «божьей метелкой». Лошади хрупали, вздыхали и переходили с места на место.
Никогда потом Ниночка не видела такой темной реки с бакеном и плотом, под которым шумела вода, не слышала такого теплого шелеста летнего ветра в старом осокоре, потрескивания веток в костре, мирного, успокаивающего хрупанья лошадей!..
Все было – сады Ватикана, развалины Рима, пляжи Варадейро, скальные монастыри Кападокии, а такого – никогда.
Катька после университета осталась с мужем в Питере, и они с Ниночкой стали было изо всех сил дружить, теперь уже как взрослые замужние дамы, но это оказалось сложно – Генку Зосимова Ниночка очень быстро возненавидела лютой ненавистью!..
Катьке он не давал никакой жизни, считал ее деревенской дурой, очень быстро стал обманывать – Ниночка обман замечала, а Катька нет, как будто жила с завязанными глазами и заткнутыми ватой ушами! Ниночка сердилась и пыталась «открыть подруге глаза на правду», что, как известно, дело гиблое и неблагодарное. Катька сердилась, не верила ни одному ее слову и считала, что Ниночка хочет «разрушить ее счастье»!
Счастье очень быстро разрушилось само по себе.
Ниночкин муж ушел к молодой и талантливой.
Катин муж, наоборот, изо всех сил старался, чтоб жена ушла сама – ему некуда было деваться, он жил в квартире, купленной тестем, и на денежное довольствие, выдаваемое тем же тестем!.. Катя все не уходила, и Генка совершенно ее извел.
Тогда, после Ниночкиного развода, Катя приходила к ней и рассказывала, как именно Генка ее изводит. Она рассказывала очень просто, словно не о себе, ну, вот будто кинокартину пересказывала!.. Поначалу Ниночка не слушала, сидела или лежала на диване совершенно безучастно, а потом стала слушать, и вдруг оказалось, что ее, Ниночкина, жизнь не идет ни в какое сравнение с Катькиной!.. Вдруг выяснилось, что Ниночкин муж – молодец, умница, честный человек и практически герой-мужчина, хотя бы потому, что бывшую жену из квартиры не выживал, делиться не требовал, новую «молодую и талантливую» подругу Ниночке не демонстрировал! Из Катькиных историй следовало, что развод значительно лучше, чем ежедневная пытка жизнью «вместе», когда один день и ночь изводит другого, а другой вяло сопротивляется!..
Наслушавшись историй, Ниночка принималась Катьку утешать и строить планы избавления от Генки, один замысловатее другого, – развестись просто так было почему-то нельзя. Кажется, из-за квартиры, огромной квартиры на Каменноостровском, которую покойный Анатолий Васильевич, Катькин отец, купил дочери на свадьбу.
Вроде бы были составлены и подписаны документы, согласно которым квартира целиком и полностью завещалась Кате на вечные времена, но… с отсрочкой. То есть пока был жив губернатор Мухин, квартира была его собственностью, а после его смерти по наследству переходила к Катьке, только не сразу, а спустя несколько лет. В этой квартире можно было жить сколько угодно, но ее решительно нельзя было ни продать, ни поделить, по крайней мере до той поры, пока не закончится «отсрочка», а папаша Мухин срок назначил – дай боже! Лет семь, что ли!.. Анатолий Васильевич, громогласный, решительный, прямолинейный, как проспект в только что отстроенном микрорайоне, да к тому же еще и губернатор огромного сибирского края, был совершенно уверен, что все отлично придумал!.. Он собирался жить вечно, и ему казалось, что даже если он чего-то там недодумал, в случае необходимости он исправит, нажмет на кнопки, задействует нужных людей, и девочка без защиты уж точно не останется!
Он умер, и Любовь Ивановна умерла тоже, и девочка осталась одна, без всякой защиты и с братом-алкоголиком на руках!..
У Кати не было сил и решительности, чтобы развестись с Генкой. Ему нужна была квартира его дурищи-жены, которая оценивается в миллион! А может, и в два! Ее можно было продать и поделить только по истечении отсрочки, и никак иначе, вот как все придумал изверг-губернатор! Разводиться раньше Генке было нельзя – он пролетел бы мимо квартиры, не получил бы ничего, вообще ничего, а сумма была огромной! Да что там говорить, половина стоимости квартиры и то была столь велика, что у Генки от сладких мыслей о таких деньгах захватывало дух.
Ниночка сто раз твердила – разводись да разводись, но Катя боялась Генки, по-настоящему боялась, и только охраняла свои бумажки, подтверждавшие право на наследство, втягивала голову в плечи, молчала, пряталась и о разводе даже думать страшилась, и Ниночкины планы избавления от Генки никак не могли осуществиться!..
Ниночка легко вздохнула от воспоминаний, рассматривая в зеркале собственное неприлично веселое и счастливое лицо.
Нужно срочно звонить Катьке. Объявить, что они едут в магазин за нарядами, а потом на вечеринку! Она, конечно, заартачится, но Ниночка ее уговорит. И еще нужно рассказать про бывшего мужа, который назначил ей свидание! Самое настоящее свидание, как когда-то, вот Катька удивится!..
Ниночка позвонила, быстро обработала подругу на предмет похода по магазинам, еще полюбовалась на себя в зеркало – хороша, хороша, ничего не скажешь! – и стала собираться.
Обратный отсчет начался. Времени у нее осталось совсем немного, но она, конечно, не знала об этом. А если бы узнала – не поверила.
У костюмерши так тряслись руки, что перья, которыми был по рукавам обшит пиджак, медленно колыхались, словно от ветра.
– Сколько раз можно говорить?! Ну, сколько?! Ну почему вы все такие скоты?! Я плачу вам зарплату, я вас из грязи тащу, а вы не люди, вы животные! Жи-вот-ные!..
Кажется, ему понравилось это слово, потому что он вдруг бросился в соседнюю комнату и заголосил оттуда:
– Жи-вот-ны-еее!
И еще матом, так и сяк и наперекосяк!..
– Чтоб ты сдох, – в неизбывной тоске пробормотал водитель Владик, и костюмерша отшатнулась от него в испуге. Ее слезы капали прямо на сценический костюм, обшитый перьями.
– Сопли подбери, – брезгливо посоветовала Хелен. – Пиджак изгваздаешь, а в нем вечером выступать!
Хелен работала директором у Никаса, восходящей звезды эстрады, и при ней пожелать звезде сдохнуть, хоть бы и шепотом, было равносильно самоубийству! Поговаривали даже, что у звезды с директрисой роман, но точно было неизвестно, и свечку никто не держал!
– Я не виновата, – прошептала костюмерша и торопливо вытерла слезы. – Я правда не виновата!.. Я когда у них спросила, брать или не брать фиолетовые ботфорты, они мне сказали, что не брать! Ну, я и не взяла!
– А своих мозгов вообще нет, – констатировала Хелен ядовито. – То есть в принципе отсутствуют!
Наташа опять залилась слезами, а Владик посмотрел в окно. Там в холодном осеннем небе неслись облака, и макушка какого-то храма сияла золотом, крест отражал солнце.
«Должно быть, хорошо там, на воле, – подумал Владик и почесал за ухом. – Много машин, людей, интересных дел!.. И город живет, нервничает, опаздывает и успевает, не справляется с делами, суетится, тоскует и веселится. В парках уже листья полетели, и по утрам, когда еще мало машин, в воздухе тонко пахнет прелой осенней прелестью, и от реки свежо, и хочется гулять с милой по этим самым паркам, думать о хорошем, ждать холодов!..
А у нас тут сплошные фиолетовые ботфорты, слезы в три ручья и уж вовсе ничего хорошего.
Уйду я с этой работы, пропади она пропадом, вдруг решил Владик. Вот в Питер слетаем, получу зарплату и уйду, ей-богу!..»
Ему вдруг моментально полегчало, даже в глазах просветлело, и он ткнул локтем в бок опростоволосившуюся костюмершу. Она глянула несчастными, зареванными кроличьими глазами.
– А чего, сейчас-то нельзя упаковать? – спросил Владик быстрым шепотом. – Мы же еще не улетели!
– Самый умный, да? – Хелен захлопнула ежедневник с такой силой, что из него вывалились какие-то бумажки и упали на пол. Наташка кинулась поднимать, и поверх ее головы директриса и водитель посмотрели друг на друга.
Она – с ледяным, равнодушным, гадливым презрением. Он – простовато, виновато, глуповато.
Болван – вот что означал ее взгляд.
Врешь, не возьмешь – означал его!..
– Так я что, Елена Николавна, – весело сказал Владик. – Я только в том аксепте, что ботфорты эти гребаные можно еще в чемодан подпихнуть!
– Говорить сначала научись, – посоветовала Хелен и почти вырвала у Наташи листочки, – а потом меня учи! Не в аксепте, а в аспекте!.. И сколько раз я говорила, за нецензурщину буду штрафовать беспощадно! С тебя десять баксов.
– За что?!
– За гребаные, – не моргнув глазом сообщила Хелен. – Давай.
– Да елкин корень! Да нету у меня с собой баксов, Елена Николавна!
– Давай деревянные, по курсу. Или двух сотен тоже нету? Обеднел совсем?
Владик сверху вниз посмотрел на нее, желваки прошлись по скулам, и в глазах появилось нечто совсем нехорошее, куда хуже «нецензурщины». Наташа вдруг за него испугалась.
Наговорит сейчас лишнего, и они его уволят – эта мегера и тот истерик, что завывает из соседней комнаты!.. Его уволят, и вообще ни одного нормального человека не останется, все сплошь… нильские крокодилы!
Испугавшись, Наташа ринулась поднять еще что-то с пола – якобы листочек за диван завалился, – споткнулась и носом ткнулась в могучее водительское предплечье. Он аккуратно поддержал ее, и то опасное, что было в его глазах, спряталось, слава богу!
– Деньги давай и проваливай в машину. Мы через пятнадцать минут поедем! Если тачка опять грязная, как третьего дня, будешь ее на моих глазах языком вылизывать. Всю! Как начнешь с ковриков, так на крыше и закончишь, понял?
– Понял, – помедлив, сказал Владик Щербатов. – Чего ж тут непонятного! Языком, значит, как начну, так и… закончу.
Почему-то это прозвучало на редкость неприлично, настолько неприлично, что Наташка вся закраснелась и выпустила его руку, а Хелен вдруг сообразила, что это он ее так… послал. Именно ее, и именно послал, и если бы он сделал это матом, было бы совсем не так оскорбительно!..
– Да сколько можно, мать вашу!.. – донеслось из соседней комнаты, потом что-то упало, и всхлипнул рояль. – Сколько я буду терпеть этот базар, так вас и разэдак!.. Хелен, разгони придурков и зайди ко мне!..
Директриса замахала руками на подчиненных, зашипела, стала делать знаки лицом. На водителя она не смотрела.
– Убирайтесь к чертовой матери отсюда!
– А… а ботфорты?
– Чего ботфорты?! Багаж уже отправлен! Пошла вон!!
– Может, мне их… к себе… в чемодан, а?
– Да эти ботфорты стоят, как твоя малая родина вместе с папашей и мамашей! В чемодан к себе она их засунет! Дура!
Костюмерша прижала руки к груди, словно умоляя дать ей последний шанс, позволить исправиться, но Владик вытолкал ее в коридор, а оттуда на лестничную площадку.
– Ну!.. Ну, Владик, что ты делаешь?! Ну, что мне теперь из-за этих ботфортов, повеситься, что ли?! Правда же, можно их в чемодан положить, и все!
Наташа оглядывалась умоляюще, бормотала, порывалась вернуться, а он все подталкивал и подталкивал ее в спину до тех пор, пока сзади не бабахнула тяжеленная бронированная дверь. Бабахнула так, что внизу, у консьержа, что-то запищало на пульте комариным писком.
– Владик!
– Давай-давай, двигай!..
– Нет, ну правда же можно!..
– Можно, можно. Шевелись, говорю!
Рысью они сбежали по широкой лестнице на первый этаж, и охранник выглянул из своей стеклянной будочки.
– А, Владь, здоров!
– И тебе не хворать!
И они с охранником с размаху пожали руки, не просто так, а со значением, весело и внимательно глядя друг другу в глаза.
– Что там у вас? Опять концерт на дому?
– У нас каждый день концерт, елкин корень! Ты пищалку-то выключи!
– Да она от каждого шороха срабатывает, а у вас сегодня шороху много что-то!
Владик покивал, и все той же рысью он и Наташка выскочили на широкое мраморное крыльцо под козырьком в палладианском стиле[1], тут только остановились и посмотрели друг на друга.
– Ты чего меня утащил? Я бы ей сказала…
– Сказала! Да ты уж сказала! И она тебе сказала, и он тоже, все сказали!..
– Владь, ну я не виновата! Она мне про эти ботфорты ни одного слова, а он вообще!..
Водитель неторопливо достал из кармана сигареты, поковырялся в пачке, как будто выбирал ту, что получше, нашел и сунул в рот.
– Да нет, ну я и вправду не виновата, Владь! Ты мне веришь?!
– Февю, – невнятно из-за сигареты ответил Владик.
– А они не верят! Я же никого не обманываю! Я всю ночь костюмы гладила, по кофрам развешивала, бирки пришивала, а тут эти ботфорты!..
– Дура ты, Наташка, – необидно перебил Владик и зачем-то дернул ее за нос. – Балда.
– Почему… я балда? Ты тоже меня ругать будешь, да?
– У тебя мамка с папкой где? – душевно спросил Владик и помахал у нее перед носом, разгоняя дым. Наташа глазами проводила его руку – широченную, загорелую, с обручальным кольцом.
– Ну, приезжая я, ну и что?! Подумаешь, какой москвич выискался!
– Где родители?..
Наташка всхлипнула и отвела глаза, словно собиралась признаться в чем-то постыдном.
– В… в Козельске.
И быстро посмотрела на него, не засмеется ли. Он не смеялся, смотрел сочувственно, только все равно какая-то чертовщина была у него в глазах. Наташа уже не первый раз замечала эту чертовщину и не могла найти ей определения.
– Это за Калугой где-то, да? Лжедмитрий, что ли?
Она понуро пожала плечами.
– Татары Козельск разорили. Это нам еще в школе рассказывали! Какой-то хитростью заманили князя в Орду и там убили.
– А князя как звали?
Наташка моргнула. Глаза у нее были серые, прозрачные до самого донышка, как осенняя вода в чистом озере.
– А тебе зачем?! Кажется… кажется, Михаил Всеволодович его звали. Князь Черниговский! А потом эти земли к Литве отошли, в четырнадцатом веке. – Она улыбнулась. – Я, когда маленькая была, часто думала – вот бы хорошо, если бы мы в Литве остались. Представляешь? Чистенько, аккуратненько, никаких тебе пьяниц-алкоголиков, ни драк, ничего!.. Цветы на подоконниках, занавески кружевные, кофем пахнет.
– Не кофем, а кофе.
– Зачем нас из Литвы обратно отдали?
– Так это когда было! – протянул Владик.
– Ну и что! – упрямо сказала Наташка. – Все равно! Не отдавали бы, я бы, может, и в Москву вашу не поехала! Сдалась она мне, если бы я в Литве жила!
Тут она вдруг сообразила, что говорят они о чем-то очень странном, и воззрилась на Владика:
– А ты… зачем меня про Козельск спрашивал? И про маму с папой?!
– Да просто так. На всякий случай.
– На… какой случай?
– А на тот, что если выкинут тебя, как кутенка безмозглого, ехать недалече, и есть куда! А это, когда мир приезжаешь покорять, – первое дело!
– Меня, значит, выкинут, а тебя не выкинут?!
Владик засмеялся и покачал головой. Потом взял ее за щеки и придвинул ее ухо к своим губам, как будто собирался сказать какой-то секрет. Наташка замерла.
– Меня выкинуть никак нельзя. Вот сам уйти могу, это точно, а выкинуть меня!.. – И тут он смешно присвистнул. – Никак.
– Почему?
Он докурил, бросил сигарету в урну, попал и сказал глупость:
– Много будешь знать – скоро состаришься! Пойдем в машине посидим, холодно!
– Нет, ты мне скажи, почему тебя нельзя уволить?
– Не скажу, – серьезно ответил Владик. – Но вот нельзя. Никак нельзя. Только я думаю, что сам вскорости… того. Восвояси уберусь. Это, знаешь, Наташка, не работа, это… – Он поискал слово, но, видимо, лезли все те, за которые Хелен штрафовала провинившихся, и Владик в конце концов договорил с видимым усилием: – Это публичный дом какой-то! И тебе нормальную работу нужно искать.
– Да, нормальную?! Это какую? На завод «Серп и молот», что ли, идти? Там одни алкоголики и старики! А здесь жизнь, блеск, красота! И Никас! Я когда девчонкам звоню и рассказываю, у кого работаю, они все визжат и в обморок падают!
– А чего они визжат и падают?!
– Как чего? – Наташка даже носом шмыгать перестала и воззрилась на Владика. – Это же Никас! Ни-кас! От него все теперь балдеют!
– Да как от него можно балдеть, а? Маленький, щуплый, голос… педерастичный какой-то!
– Сам ты такой, – перебила вмиг обидевшаяся «за Нискаса» Наташка. – У него нормальный голос! Теперь это называется «унисекс»!
– Да нет никакого унисекса и не было никогда, – с силой сказал Владик. – Это придумали козлы какие-то, а вы за ними повторяете! Когда мужик на бабу похож – это никакой не унисекс, а ошибка природы! А наш этот – точно ошибка! Да еще характерец не дай боже!
– Просто он талантливый, – убежденно сказала Наташка. – А талантливые все такие. А как поет, как поет! Заслушаешься! И голос красивый, зря ты!.. И без него теперь ни один концерт не обходится, и диск он скоро выпустит! На звезду работать – это не каждому в жизни такое счастье выпадает. Да еще платят мне!..
Владик смотрел на нее с насмешливой снисходительностью, как профессор математики на первоклассника, объясняющего ему, что циркуляция вектора по контуру равна потоку ротора данного вектора через натянутую на контур поверхность.
– Платят, – повторил он, как тот самый профессор математики. – Тебе когда в последний раз зарплату давали?
– В июле, ну и что?!
– А то, что послезавтра октябрь начинается! Ох, вы, бабы, дуры! Все дуры, как одна!
– Можно подумать, что мужики лучше!
Тут он вдруг взъерепенился:
– Я-то здесь по необходимости, и то сил моих больше нет, уволюсь к едрене фене! И зарплату мне, слава богу, не Никас твой платит! А ты по собственной воле торчишь в… серпентарии и удивляешься, когда тебя гадюки кусают!
– А кто тебе зарплату платит? – помолчав, спросила Наташа. – Ну, если Никас не платит, кто тогда? Хелен, что ли?
Владик и сам был не рад, что в запальчивости сболтнул лишнего, поэтому рявкнул:
– Да, Хелен, кто же еще! Хочешь на холоде торчать – торчи, а я в машину пойду, греться!..
В окне на третьем этаже дома в палладианском стиле дрогнула занавеска, и Никас сказал горестно:
– Почему все люди такие сволочи? – И задумчиво постучал себя по румяным губам мягкой кисточкой, свисавшей с кружевного полотнища. И оглянулся на Хелен.
Та с готовностью пожала плечами. Она стояла в центре ковра, на голубой розе, и сесть ей Никас не предлагал.
Он сделал круг по комнате, поглядывая на своего директора. Она все стояла, неподвижная, как сфинкс, глаза долу.
Ну и черт с тобой, думал Никас с некоторым злорадством. Хочется тебе изображать статую – валяй, изображай! Это тебе только кажется, милая, что ты здесь главная! Я-то точно знаю, кто главнее!
Он еще походил немного, поглядывая в многочисленные зеркала. Однажды в какой-то передаче Никас слышал, что обилие зеркал в помещении – признак утонченной натуры, и зеркала у него были развешаны всюду. Там, где их невозможно было повесить, они стояли у стен. Пространство ломалось и дробилось самым причудливым образом, и иногда сам хозяин, позабыв, где зеркальный обман, а где реальность, ударялся лбом в гладкую холодную поверхность!..
– Ну что? – громко спросил он, остановившись перед каким-то зеркалом. – Что мне теперь делать?! Менять всю концепцию только из-за того, что какая-то коза валдайская забыла про мои ботфорты?! А это, между прочим, твоя работа – следить за уродами! Почему ты не следишь?! А?!
Тут Никас наклонился вперед и любовным движением погладил себя по щекам.
Щеки были упругие, гладкие, и Никасу они нравились. Лоб тоже был хорош – ни одной морщинки, ровный, розово-персиковый загар, как у ребеночка. Он нагнулся к своему изображению и ковырнул кожу возле виска. Что-то ему показалось, вроде там прыщик!
Хелен шевельнулась у него за спиной, кажется, переступила ногами, замучилась стоять неподвижно! Вот дурища, еще глупее остальных! Те-то хоть ни на что не претендуют, а эта в самом деле думает, что она умная и сильная и может перехитрить его, Никаса!
Впрочем, женщинам частенько кажется, что они умнее мужчин! Тут Никас засмеялся тихонько.
– Ну, что ты сопишь, как поливальная машина?! Давай, давай! – Никас сделал энергичный жест, и зеркальный Никас сделал то же самое. – Звони Боре, пусть приезжает, привозит всю программу, будем переверстывать! И все минусовые фонограммы тоже! Я же не могу петь «Розы в пепле» без ботфортов!
– А может быть, все-таки…
– Что?! – взвился настоящий Никас, с удовольствием поглядывая на взвившегося Никаса зеркального. – Ничего не «может быть», и ничего не «все-таки»! Это твоя работа! А ты ее не выполняешь!
– Давай я сама привезу эти ботфорты! Хорошо, пусть Наташка позабыла, ну, она идиотка, но мне-то ты доверяешь?!
Никас внутренне покатился со смеху, а снаружи обиженно насупился.
– Скажи, пожалуйста, как ты их повезешь?! В чемодане?! Ты засунешь в чемодан замшевые ботфорты, сшитые в Палермо на заказ, вручную?! То, что ты привезешь, я никогда не надену! Ни-ког-да! Потому что ты привезешь замшевые сапоги с вещевого рынка, а не мои ботфорты! Их же нельзя складывать! Их можно хранить только на распялке и в холщовом мешочке! Мне пришлось всем инструкции выдать, когда мы в прошлом году привезли эти ботфорты! Она их повезет! Видели вы ее?! Их надо было в контейнер! Заказать отдельный контейнер, и только так!
– Никас, ты не волнуйся, – попросила Хелен мужественно, хотя голос у нее слегка дрожал. – Ну, я что-нибудь придумаю! «Розы в пепле» – твоя лучшая песня, и ты не можешь, ну, просто не можешь ее не спеть!
Никас фыркнул, выглянул из-за зеркала и смерил Хелен взглядом зеленоватых, прекрасных глаз. Журналисты писали про его глаза, что они «неизъяснимые» и еще почему-то «монгольские». Должно быть, монголы журналистам нравились больше славян!
– Во-первых, – сказал Никас, пристально глядя на Хелен, которая замерла, как суслик, – «Розы в пепле» – говно, а вовсе не лучшая песня! Моя лучшая песня впереди, и она войдет в мировые хит-парады! И вот тогда я смогу всех посылать в задницу! Всех, и тебя тоже, дорогая, хоть тебе и кажется, что ты можешь обвести меня вокруг пальца! И все зрительское быдло пойдет в задницу, и эти так называемые продюсеры! Поняла?!
Хелен поспешно затрясла головой, соглашаясь.
– А во-вторых, если ты способна придумать, как спасти мой сценический костюм, то придумай уже! Только не гони пургу, что ты ботфорты засунешь в чемодан, ладно? Скажи хоть что-нибудь умное, ладно? Ты же считаешь себя умной девочкой!
– Никас…
Он распустил губы, изображая Хелен, и сделался почти безобразным.
– Что – Никас, Никас?! Ты про…ла ботфорты, вот и выкручивайся теперь.
На самом деле скандал с ботфортами был затеян только под плохое настроение – утром должен был звонить спонсор и почему-то не позвонил. А когда Никас, измучившись ждать, позвонил сам, ему вежливо ответили, что поговорить сейчас никак невозможно по причине отсутствия этого великого человека в офисе. И вообще, перевод осуществлен, звоните в банк, деньги должны быть на месте – как будто Никаса волновали исключительно деньги! Он кинулся звонить продюсеру, но тот – собака страшная! – елейным голоском сообщил, что у Никаса, мол, свои отношения со спонсором и он, продюсер, тут совершенно ни при чем. Никас продюсера отлично понимал. Спонсорские денежки до звезды обычно редко доходят. Звезду делает продюсер, он же и денежки находит, он же эти денежки имеет, а Никас все переиначил по-своему. Спонсор был его, личный, и продюсер пролетел мимо бабок на большой скорости, только облизнуться успел, и – фьють! – сдуло его! Прибыль от «чеса», да от ночных клубов, да от богатых корпоративных вечеринок продюсер, натурально, себе забирал, а вот до спонсорских денежек Никас его не допускал, ну, продюсер и обижался: денег там было до черта!
Кроме того, Никасу очень нужно было как следует покапризничать – так, чтобы все знали, что он обижен на весь свет! Ему позарез был необходим свободный вечер, всего один, и он мог его раздобыть, только насмерть перессорившись со своей свитой!
Ему частенько приходилось разыгрывать подобные драматические спектакли, чтобы освободиться от сопровождающих, особенно в последнее время. Он научился делать это виртуозно, можно сказать талантливо, убедительно, и, когда играл роль, внутренне подсмеивался над зрителями и одновременно участниками спектакля. Они казались ему тупыми крысами и слепыми кротами, и он мог манипулировать ими как угодно.
Плоховато, конечно, что директриса не вчера родилась и знает, что скандал с ботфортами – чепуха на постном масле, но что поделаешь?..
– Никас, – позвала Хелен. Вид у нее был восторженный, как будто она на самом деле только что нашла выход из сложнейшей ситуации по выводу орбитальной станции на геостационарную орбиту, несмотря на заклинивший двигатель. – Я, кажется, придумала!
– Ну что, что?!
– Мы положим твои ботфорты в контейнер, все как полагается, и Владик привезет их в Петербург на машине, а? Они поедут в полном комфорте, и нигде ничего не помнется, и ты сможешь выступать с «Розами в пепле»!
Никас подумал секунду.
– А кто такой Владик?
– Это твой водитель, – нежно, как маленькому, объяснила Хелен. – Ну, он только что здесь был, ты его видел!
– Можно подумать, я запоминаю водителей, – пробормотал Никас и сделал смешную обезьянью гримаску. – А что, в Питере у меня не будет другого водителя?! Обязательно нужен этот самый? Как его… Владик? – Никас прекрасно знал, как его зовут! – И вообще, я хочу, чтобы его не было! Ты можешь этого водителя уволить?
Хелен опять замерла.
Владика они уволить решительно не могли, потому что не они его нанимали, и это им не давало покоя.
– Никас, – осторожно сказала Хелен. – Давай решим вопрос с твоим костюмом, а потом, может быть, что-нибудь придумаем с водителем! И, конечно, в Петербурге тебя будет встречать лимузин и совершенно другой водитель, а этого, как только он привезет ботфорты, я отправлю обратно в Москву.
– И я его не увижу? – Никас зашел за следующее зеркало и посмотрел, как он выглядит в профиль. Выглядел хорошо, просто отлично выглядел!
– Если не захочешь, конечно, не увидишь!..
– Так вот, я его видеть не желаю, а больше всего я хочу, чтобы его не было. Совсем.
Тут Хелен, подуставшая от всей этой лабуды с ботфортами, дала маху. Ей бы пропустить мимо ушей, сделать вид, что ничего не слышала, или же немедленно вскричать, что Владик Щербатов завтра же или, лучше, уже сегодня будет, конечно же, уволен навсегда! Какая разница, будет или не будет, главное, кумир миллионов, так писали о Никасе желтые, как весенний цветок мимоза, газетки, вполне этим ответом удовлетворился бы! А Хелен, идиотка, ни с того ни с сего объявила мстительно-ангельским тоном, что Владик, к сожалению, – к ее величайшему сожалению! – останется на работе столько, сколько потребуется.
Хелен знала, что грянет гром, и гром грянул.
Никас завизжал, покраснел, затопал ногами, и на лбу у него вздулась переплетенная синюшная вена. Как бы удар не хватил, подумала директриса брезгливо.
Никас кричал, и слюна брызгала на зеркала, и это было отвратительно.
– …твою мать!.. Ну, я еще тебе припомню, как ты мне ответила, сука!.. Не можешь уволить, так хоть молчи в тряпочку, а она рот разевает, вякает!.. Да как ты вообще посмела в моем присутствии рот разевать?! Я тебя кормлю, я тебя содержу! Да ты бы подстилкой бандитской была, если бы не я! Откуда ты взялась, сука, помнишь?! Как на коленях стояла, просила тебя на работу взять, руки мне целовала! Я тебя заставлю, я с тобой поквитаюсь, только гастроли эти…ские отработаю!.. Жопа в дверь не пролазит, волосы… тьфу, пакость, а туда же – рот разевать! Ты работать сначала научись, а потом рассуждай!..
Хелен решила, что лучше всего сейчас будет заплакать, и заплакала.
«Никас не любит слез. Сейчас он меня выгонит, а там посмотрим!.. В первый раз, что ли? Ну, еще раз на коленях постою и ручку поцелую, и что? Не сахарная, не растаю!.. А унижение мы переживем. Мы еще и не такое переживали, подумаешь!..»
Хелен закрыла лицо руками и зарыдала, как давеча рыдала глупая костюмерша Наташка.
– Пошла вон отсюда, дура! – Никас замахнулся и почти попал ей в лицо слабым, по-дамски сложенным кулачком, но Хелен увернулась. Из-за прижатых к лицу ладоней краем глаза она все время следила за его руками. – Не смей реветь! У меня концерты!!! Мне работать, а вы все!.. Вы!! Сволочи! Продажные шкуры, ублюдки! И вы, и ваши водители!!! В гробу я вас всех!.. Чтоб вы сдохли, сволочи, суки!..
Все же директриса не могла уйти, пока он окончательно ее не отпустит, и продолжала стоять в центре ковра на голубой розе и заливаться слезами.
– Убирайся отсюда! Немедленно! К чертовой матери! Проваливай в машину и сиди там с этим быдлом, которого ты не можешь уволить!!! Пошла вон, кому сказано!..
Тут уж Хелен отняла руки от лица, залитого почти натуральными слезами, засеменила по ковру, подвернула ногу – на самом деле! – и брякнулась на коленку. Очень неудачно брякнулась, не на ковер и не на паркет, а на стык паркета и плитки. Зеркальную плитку Никас, утонченная и романтическая натура, тоже очень любил.
Коленку вывернуло назад и вбок, как у кузнечика. Словно раскаленным прутом хлестнуло по глазам. Хелен заскулила и поползла по зеркалам, на которые падали ее очень горячие и очень соленые слезы, вдруг ставшие самыми настоящими.
– Вставай, сука! Что ты там ковыряешься?!
– Я… – хрипло выдавила Хелен. – Я не могу… Я, кажется, ногу сломала…
– Что ты врешь!!!
Из зеркала на полу прямо на нее надвинулось лицо нагнувшегося Никаса, и она зажмурилась, уверенная, что сейчас он ее точно ударит, а увернуться она не могла. Что-то сильно дернуло ее, так что затрещал пиджак, и, разъезжаясь ногами, как новорожденный теленок, Хелен оказалась стоящей на плитке. Никас сзади держал ее за воротник.
– Уймись, дура, – сказал он совершенно хладнокровно и ударил ее по щеке. – Что ты ревешь?
И ударил еще раз.
– Больно, – выговорила Хелен.
– Ты чего, вчера нажралась, что ли?! На ровном месте валишься! Копыта не держат! Уволю к свиньям, с волчьим билетом уволю, поняла, сучка?!
Хелен покивала, что поняла. Она стояла на одной ноге, а вторую держала на весу, как собака – подбитую лапу.
– Тогда пошла вон отсюда!.. И сегодня я тебя больше видеть не хочу! Все, проваливай!..
Певец толкнул ее к дверям, довольно сильно, так что она засеменила, чтобы не упасть, приволакивая ногу, которая не слушалась.
– Коза драная, – вслед ей негромко сказал Никас. – Водителя она не может уволить! Директор, мать твою!.. Я тебе устрою директорскую жизнь в полный рост! От говна до конца дней не отмоешься!..
Хелен доковыляла до входной двери, помедлила и оглянулась, словно хотела еще что-то сказать, но звезда и кумир метнул в нее подушкой, которую держал на изготовке. Заранее приготовил, чтоб метнуть и чтоб без промаха, – и попал! Голова у Хелен мотнулась, как у куклы.
– Пошла вон, кому сказано!..
Директриса проковыляла на площадку, бабахнула тяжеленная бронированная дверь, и Никас скорчил рожу, отразившуюся во всех зеркалах, а потом засмеялся.
Хелен, семенившая, словно гусыня, как-то странно выворачивая обширную задницу, на которой трещали все джинсы, и вправду была смешна.
Ему срочно нужно было позвонить, но сразу звонить он не стал. Выхватив из вазы клубничину, Никас отправил ее в рот, сделал пируэт и оказался возле окна. Он точно знал, как нужно стоять, чтобы с улицы его было не видно и даже силуэт не угадывался за тонкой кружевной шторой. Никас наблюдал и, причмокивая от удовольствия, поедал клубнику. Розовые капли падали на белоснежную просторную рубаху, сшитую на заказ в Милане, и он стряхивал сок пятерней.
Хелен долго не показывалась, потом все-таки выползла из подъезда. Она сильно хромала, но держалась прямо, как гренадер, и от этого хромала еще сильнее.
– Дура, – пропел Никас из-за занавески. – Ду-ура! Дури-ища!
Он вытер пальцы о рубаху, разыскал в диванных подушках телефон, нажал кнопку и опять выглянул на улицу.
Хелен не было видно, должно быть, плюхнулась в машину, зато водитель – урод поганый – курил в некотором отдалении, возле подъезда.
Похоже, Хелен его из машины выперла, подумал Никас с удовольствием.
– Справочная служба, – сказал ему в ухо приятный девичий голосок, – звонок платный.
– Да пошла ты, – под нос себе пробормотал Никас и выговорил веско, солидно и громко:
– Соедините меня со службой бронирования авиабилетов.
Пока соединяли, он подцепил из вазы еще одну клубничку, надкусил – сок потек по подбородку – и подумал, что все складывается отлично. Просто лучше не придумаешь.
Геннадий Зосимов был совершенно уверен, что он самый несчастный человек на свете.
Ну, вот если есть где-то на небесах список несчастных людей, то он, Геннадий, этот список возглавляет.
Все не слава богу, все, все!..
На работе проблемы, дома проблемы, с любовницей проблемы!.. А тут еще, как на грех, подвернулась ему девушка-красавица, ангельский цветок, роза, умытая дождем, птичка на ветке!.. Он думал, что таких девушек уж больше и не осталось – чистых, неиспорченных, доверчивых, рассматривающих мир огромными, как у олененка, глазами!..
Он говорил ей, что она похожа на олененка, а она только смеялась и касалась его руки прохладными подушечками длинных пальцев, и он потом нюхал свою руку, там, где она ее касалась. Ему казалось, что он слышит аромат экзотических цветов!..
Они редко встречались – Ася жила где-то в пригороде Питера, в город наведывалась не слишком часто и Генку к себе не приглашала. Однажды он подвез ее до какого-то поворота на Гатчину, и дальше провожать себя она не разрешила.
– Все, – сказала сурово, и Генку умилила ее детская серьезность. – Дальше нельзя, Геночка. Я выйду… здесь.
И на самом деле вышла и тут же пропала за деревьями старого парка, коих, как всем известно, в Гатчине четыре.
То, что она жила именно здесь, среди старинных лип, мрачных и романтических руин павловских павильонов, вблизи Приората, землебитного дворца и Филькиного озера с темной водой, очень ей подходило, как будто она сошла в беспросветную Генкину жизнь со старинной гравюры.
Однажды он сказал ей об этом, а она засмеялась.
– Ты, оказывается, романтик, – сказала Ася низким голосом, рассматривая его удивленными, слегка раскосыми глазами. – А я и не знала, что романтики еще остались…
Генка смотрел ей в лицо не отрываясь и точно знал, что именно эта женщина с ее детской серьезностью и удивительными глазами послана ему в утешение, чтобы обратить его и спасти. А он так запутался, что распутаться невозможно, только разом покончить со всем, разрубить узлы и начать жить заново, с чистого листа, так, чтобы все было понятно, просто и правильно!..
Как именно он станет разрубать эти самые узлы, Генка представлял себе не слишком отчетливо.
– Все из-за баб, – как-то сказала его мать и пальцем постучала ему в лоб, – все твои беды, сыночек, только из-за них!..
Палец был холодный и твердый, будто алюминиевый, и вбивал Генке в мозг ее слова. Генка кривился, сопел, как маленький, и точно знал, что мать… права!
Абсолютно права.
Он рассматривал в мониторе компьютера макет какого-то постера или плаката, который ему прислали утром из рекламного отдела, и решительно не мог сообразить, что такое там нарисовано и хорошо это или плохо. Он рассматривал и думал, что Ася – его последний, самый главный шанс выбраться из всей этой чехарды, которая творилась с ним в последние годы. Выбраться и задышать полной грудью, начать жить в полную силу, а не так… вперевалочку, как сейчас.
– Геночка!
Он молчал и рассматривал постер. Или плакат.
– Ген, ты слышишь? Обрати уже на меня внимание!
– А?!
Маленькая, хорошенькая, похожая на мышку, Анечка Миллер из соседнего отдела постучала ему по голове свернутым в трубку плакатом и засмеялась, когда он поднялся. Генка был примерно вдвое выше ее.
– Але?! Есть кто дома? Что это тебя не дозовешься?!
– Я просто… занят, – пробормотал Генка.
– Ты просто сидишь и смотришь в компьютер уже сорок минут, – насмешливая Анечка тем же плакатом постучала по монитору, как только что им же по Генкиной голове. – Я к тебе заходила, постояла, посмотрела и ушла. Ты меня даже не заметил!
– Я же говорю, что занят!
– Ничем ты не занят, – заявила Анечка и опять потрясла своим плакатом. – Это тебе. Генеральный велел передать. Это распечатка того же макета. Ты должен посмотреть и на совещании высказать свое веское слово.
– Это генеральный так сказал?
– Он! И плакат велел распечатать.
– Что это ему неймется? – с тоской спросил Генка сам у себя и развернул на столе плакат. – Ты не знаешь?
Плакат был ужасен, и на бумаге это было особенно понятно. На черном фоне красные прямоугольники, а в прямоугольниках зеленый готический шрифт. Как известно, если по-русски писать готическим шрифтом, разобрать, что именно написано, вообще невозможно.
– Ого, – издалека сказал Дима Савченко, не имевший к плакату никакого отношения и по этой причине абсолютно уверенный в себе. – Это кто ваял? Ты, Генк?..
И народ, обрадовавшись развлечению, стал подтягиваться из-за своих столов, вооруженный кофейными кружками, сигаретами и пепельницами.
– А что? По крайней мере, броско!..
– Нет, вот здесь надо написать «Нигде кроме, как в МОССЕЛЬПРОМЕ», и тогда будет отлично!
– А это чего реклама-то? И вообще это – реклама?..
– А кто макет утверждал? Первый раз вижу, чтоб генеральный такой макет подписал!..
– Да он не видел! Он только сегодня увидел, потому что это должно завтра в расклейку пойти, а у нас… видите что? – Это вступила Анечка Миллер, которой хотелось дать пояснения. Она была немного влюблена в Генку, отчасти ему сочувствовала и слегка злорадствовала, ибо Генка за все время ее работы в конторе ни разу не обратил на нее внимания.
Анечку раздирали противоречия – с одной стороны, ей хотелось, чтобы генеральный Генке навалял, а с другой стороны, ее тянуло каким-то образом его спасти. Может, если она спасет, Генка обратит на нее внимание?!
– Как завтра в расклейку? А печатать когда?!
– Да сегодня должны были печатать, о том и речь!..
Генке надоело представление, в котором он исполнял роль дрессированного медведя, причем дрессированного не слишком хорошо. Одним движением он смахнул со стола плакат, так что все отшатнулись, и грозно спросил у Анечки, что именно просил передать ему генеральный.
Анечка испуганно выкатила черные мышиные глазки.
– Ну, только то, что на совещании ты должен всем объяснить, в чем именно креатив и смысл подхода… и все.
– Отлично! – Генка скатал плакат туго-туго, глянцевая бумага неприятно поскрипывала у него в руке. – В таком случае все свободны! Я никого не задерживаю!
Кто-то из девиц непочтительно фыркнул, Савченко сообщил, что он такой красоты век не видывал, и все разошлись. Анечка порывалась что-то сказать, но Генка отвернулся от нее. Она постояла-постояла и тоже ушла.
Генка кинул скатанный в трубку плакат на пол, где он тут же развернулся с медленным шорохом. Генка подвинул кресло так, чтобы не видеть плаката. Лучше всего было бы к совещанию придумать что-нибудь абсолютно новое и совершенно гениальное, такое, от чего генеральный пришел бы в экстаз, а все остальные художники, вроде придурка Савченко, осознали, как они мелки и бесталанны по сравнению с Геннадием Зосимовым, но было совершенно ясно, что ничего не придумается.
Он просто не мог думать о плакате, генеральном, полноцветке и кегеле! Жизнь рухнула, а тут какие-то плакаты и кегели!..
Впрочем, рухнула она не вчера, жизнь-то.
Геннадий Зосимов считал, что все рухнуло, когда он столь необдуманно женился на Кате Мухиной. Впрочем, тогда он ни о чем не задумывался. Он был влюблен, молод, слегка безумен от молодости, любви и сознания того, что его полюбила «такая девушка».
Катя Мухина училась на филфаке и была малость не от мира сего, то есть точно знала, кто такие «малые голландцы», чем именно знаменит Джованни Пиранези и что лестницу во внутреннем университетском дворе сработал Валлен-Деламот. Девушки с филфака питерского университета котировались высоко!.. Сюда не попасть «просто так», «с улицы», и у него репутация не хуже, чем у столичного, а филфаковское девичье сообщество было совсем особого рода.
Парни чрезвычайно гордились, если им удавалось заполучить такую девушку, и, представляя в компании Машу или Дашу, непременно уточняли, что «она с филфака».
Катя Мухина была не просто утонченная интеллектуалка. Она была дочерью очень большого человека, и романтическому Генке Зосимову Катина родословная немного прибавляла энтузиазма. Да и мать, обычно относившаяся к его романам с бурным неодобрением, на этот раз притихла, наблюдая за развитием событий.
– Упустишь ее, – сказала она ему, после того как Генка первый раз привел Катю на «чай с вареньем», – из дому выставлю и обратно не пущу!.. Бог дурака, поваля, кормит!.. Тебе счастье само в руки плывет, ты это хоть понимаешь?! Умная, тихая, да с таким отцом!
И постучала его по лбу алюминиевым холодным пальцем.
И Генка уверовал в свое счастье, само плывущее в руки, и водил Катю на модные выставки, и знакомил с модными художниками, и однажды написал на асфальте под ее окнами розовым мелком «Гена любит Катю» и нарисовал сердце, пронзенное стрелой. Он караулил, когда она выйдет на балкон, и она вышла, и тогда он бросил ей охапку рыжих осенних бархатцев, привезенных с бабушкиной дачи. Они не долетали до второго этажа, рассыпались и валились на асфальт, прямо на пронзенное розовой стрелой сердце, с тихим сухим шелестом, а Катя, растерявшаяся от счастья, пыталась их ловить, а Генка собирал и снова подбрасывал, и наконец она поймала один цветок и прижала к груди!.. Когда они целовались на лестнице, рыжий цветок все время лез им в щеки и губы, как будто хотел остановить их безудержные поцелуи, помешать, разлучить, и Генка швырнул его на лестницу, но Катя подобрала и сказала, что засушит его и будет рассказывать внукам, как дедушка Гена когда-то ее любил!..
Она очень быстро ему надоела.
Столичной барышни из нее никак не получалось, хоть она и была «с филфака». Книжки интересовали ее больше, чем тусовки, в современном искусстве, которым так восхищался Генка, она ничего не понимала, этнический джаз ее почему-то смешил, а про модного художника Кулебяку, писавшего исключительно автопортреты, Катька однажды тихонько выразилась, что он «с приветом».
– Да это же у Алексея Толстого описано, – оправдывалась она, когда Генка заорал, что она деревенская дура и ничего не понимает в искусстве, – в первой части «Хождения по мукам»! Как же ты не помнишь?! У Ивана Ильича в квартире была «Центральная станция по борьбе с бытом», и они все там собирались – Сергей Сергеевич Сапожков, Антошка Арнольдов и художник Валет. У Валета на щеках были нарисованы зигзаги, он этим очень гордился и писал исключительно автопортреты! И они все были «с приветом», просто от молодости и от духа свободы. Им казалось, что автопортреты и зигзаги – это и есть свобода.
Генка ничего не знал ни про какого Валета, зато точно знал, что по Кулебяке весь Питер сходит с ума, что попасть к нему в мастерскую на «первый показ» удается единицам, что, по слухам, он «пошел на Западе» и его дружбы добивается сам Тимоти фон Давыдович, исключительно уважаемый в узких кругах художник, оформлявший самые модные клубы, вроде «7roub-лей» и «ТосКа На!..»!
Приезжая белоярская курица, Генкина жена, понятия не имела, как важно тусоваться с этими великими людьми, находиться в орбите их внимания, при случае упомянуть о знакомстве, и люди знающие, понимающие, продвинутые сразу начинают по-другому относиться к тебе, уважать начинают, ценить!..
Вот Илона все понимала.
Илону Генка подцепил в каком-то «лофте», где была презентация очередного кулебякинского автопортрета.
Кирпичные стены «лофта» подсвечивались синим огнем, кирпичные потолки тонули в клубах подозрительного дыма, кирпичные полы были застелены коричневыми клеенками, а в углу почему-то стояла новогодняя елка, несмотря на то что за окнами был июль и Питер, непривычный к азиатской жарище, изнемогал от зноя. Елка была украшена лампочками, а также засохшими окровавленными бинтами и использованными дамскими тампонами. За елкой стоял вентилятор и дул изо всех сил, так что тампоны и бинты шевелились и качались на ветках.
Кулебяка рядышком давал интервью трем околохудожественным барышням и одному недокормленному юноше в пыльных белых брюках. Околохудожественные барышни, несмотря на бравый вид, были явно смущены, да и сам Кулебяка казался не совсем равнодушным к шевелению тампонов в непосредственной от себя близости, искоса поглядывал на них и время от времени делал некое антраша ногами, с каждым разом оказываясь все дальше от елки. Вся остальная компания, вытянувшая руки с диктофонами, перемещалась следом за ним.
– Символом нашей цивилизации, – давал пояснения Кулебяка, – стало соединение крови и грязи, выродившегося мужского и женского начал! Словно огромная вагина, цивилизация исторгает из себя только кровь и грязь, и больше ничего! Только страдающие половым бессилием или старческим слабоумием еще надеются на то, что взбесившийся мир вернется на круги своя!
Какая-то девушка, очень яркая, сверкающая блестками в волосах, на веках, на груди и на джинсах, подошла и тоже стала слушать. Генке девушка понравилась – тем, что не обратила никакого внимания на тампоны. По правде говоря, Генку они тоже сильно смущали.
– Он гений, – сказала девушка про Кулебяку, когда Генка подошел познакомиться, – а им все можно. Вы ведь согласны, что им можно все?
Генке был согласен. Он много бы дал за то, чтобы стать гением и чтобы ему тоже было можно… все. Вешать в середине жаркого лета тампоны на новогоднюю елку, к примеру. Получать любых женщин, даже таких ярких, как Илона. Писать собственные автопортреты, очень странные и не похожие на автопортреты, посмотреть на которые, однако, съезжаются журналисты не только отечественного, но и иностранного производства.
Трудно жить, когда ты не гений, а обычный человек и тебе ничего нельзя!..
Сиди весь век со своей деревенской дурищей, которая только и умеет, что рыться в книжках и смотреть отсутствующим взглядом, работай свою скучную работу, принимай подачки от тестя, делай вид, что тебе приятно!..
Подвыпив на вечеринке, Генка все это выложил Илоне, которая никак не уходила из «лофта», все рассматривала автопортрет, и глаза у нее смеялись.
– А что такое? – весело спросила Илона, когда Генка в пятый раз завел речь о том, как ему надоела жена. – Вы не можете послать ее к чертовой бабушке? У вас династический брак?
– Да в том-то и дело! – воскликнул Генка. У него шумело в ушах, и казалось, что в голове плещется весь выпитый виски со льдом и льдинки острыми краями колют его мозг. – Не могу! Куда я пойду?! Ее папашка нам квартиру купил, и у меня на эту квартиру никаких прав нет, как будто я собака! Ну правда как собака!.. Она единственная дочь, королевишна, а я никто! Куда я пойду?! К матери в коммуналку на Лиговку?! А я не хо-ччу! Не хо-ччу, понятно?!
– Да мне-то понятно, – задумчиво рассматривая его, сказала Илона. – А вот ей ты об этом говорил?
– Кому? – не понял Генка. Желтые пары виски сгустились под самым черепом и застилали глаза.
– Да жене своей, кому! О том, что ты ее не любишь и живешь с ней только ради квартиры?
Генка попытался вспомнить, говорил или нет, и сказал на всякий случай:
– Сто раз говорил!..
Илона с насмешливой нежностью взяла его под руку, и ее усеянная блестками грудь оказалась в непосредственной близости от Генки.
– Я не понимаю таких женщин. – Илона повела его мимо автопортрета, под которым на матрасике спал безмятежным сном художественный гений Кулебяка.
– Ка… каких женщин? Разве она женщина?! Она… она…
Илона тащила Генку под руку, перед глазами у него все сверкало и искрилось от ее блесток, а может, от того, что в голове произошло короткое замыкание.
– Она не женщина, – бормотал Генка среди сыпавшихся на него со всех сторон блесток и искр, – она… она… Она выдра и выпь!
– Кто-о-о?!
– Выдра и выпь! – гордо повторил Генка. – Ты мне верь, я знаю, что говорю!..
Кажется, эта, которая в блестках, – Генка вдруг позабыл, как ее зовут, – над ним смеялась, а может, наоборот, жалела, и все куда-то его тащила. Он поначалу шел, а потом стал вырываться, но она все равно тащила, и он сел на ступеньки – там были какие-то ступеньки – и заплакал.
Ему казалось, что он плакал очень долго, звезды и искры куда-то подевались, зато появился огонь, который жег ему глаза, казавшиеся очень сухими, и в голове гудел набат, и ужас подкатывал к горлу, и невозможно было разлепить ссохшиеся веки, и…
…И вдруг оказалось, что уже утро. Нет никакого огня. Солнце светит ему в лицо, жаркое, летнее, веселое солнце, и окно странным образом переехало на другую сторону, и второе окно за ночь кто-то заложил кирпичом!
Постепенно выяснилось, что никто ничего не заложил. Просто он, Генка Зосимов, спит вовсе не в собственной спальне, а в чьей-то чужой, и там всего одно окно!..
Потом припомнились блестки в волосах, на груди и на веках, потом тампоны на елке – тут Генку чуть не вырвало, – кулебякинский гений, умные разговоры, странное имя, которое он вчера под вечер никак не мог выговорить, и еще то, что выдра и выпь не знает, где он, и наверняка подняла на ноги всю городскую милиция, с нее станется!..
Потом пришла Илона и принесла ему чаю с лимоном и две таблетки аспирина, почему-то на блюдечке. Блюдечко было не слишком чистым, с мутными засаленными краями, как будто много лет у него мыли только серединку.
Их роман был бурным и великолепным. Илона оказалась художницей, то есть натурой утонченной и понимающей, не чуждой этническому джазу и современному искусству. Со всеми она была знакома, с Тимоти фон Давыдовичем даже на «ты», а сам Кулебяка однажды похвалил ее инсталляцию под названием «Будильник». Инсталляцию Илона сооружала часа два, не меньше. На ободранной колченогой табуретке стоял разваленный на две части школьный глобус. К одной его части клеем «Момент» были приклеены старые наручные часы, давно остановившиеся. А к другой – проволокой прикручена крышечка велосипедного звонка. Из наивного белого пластмассового брюха вскрытого глобуса торчала пустая банка из-под кока-колы. С этой банкой художнице пришлось повозиться, ибо она никак не хотела стоять, все время вываливалась из земного чрева с тихим жестяным звуком.
Кулебяка сказал про инсталляцию «Будильник», что она, конечно же, сыровата, но мысль… мысль есть!..
Генка тоже находил, что мысль есть, но до конца не понимал, какая именно. Но какая-то точно есть!
Все началось заново – как будто жизнь, описав круг, вышла на новую орбиту. Он встречал свою художницу у подъезда старого питерского дома, где она снимала студию, провожал домой, покупал цветы и смешного шагающего Винни-Пуха у торговки на Невском. Они ели мороженое и сидели на набережной, свесив босые ноги с гранитного парапета. Ноги не доставали до воды, но в их сидении была удивительная легкость, молодость, счастье! Солнце светило, чайка парила над свинцовой водой, по мосту в обе стороны шли машины и люди в летних легких одеждах. Ни люди, ни машины не знали, как хорошо Илоне и Генке вдвоем, как весело болтать, как они с полуслова понимают друг друга, и впереди у них целый вечер – в каком-нибудь «лофте» или клубе, где все так же отчаянно молоды и талантливы, так же понимают друг друга с полуслова или вообще без слов!..
Где-то на заднем плане маячила Генкина жена Катя – у Илоны ничего такого не было, в смысле семейными узами она не была обременена, – но какое это имело значение?! На наличие какой-то там жены Кати никто не обращал внимания, влюбленные о ней словно позабыли – стоит ли думать о чем-то или о ком-то, совершенно не имеющем к ним отношения?!
Так прошло лето, и осень минула, и зима накатила и отступила, освободив от морозных цепей застывший в судороге город. Началась весна, и вместе с ней проблемы.
Студия, в которой работала Илона, была, конечно, никакой не студией, а просто громадной комнатой в громадной питерской коммуналке на тринадцать жильцов, и в одночасье Илону оттуда выставили вместе со всеми инсталляциями, привезенными с выставок и сделанными просто так, для души. Какой-то нувориш, чуждый понимания прекрасного, коммуналку купил, расселил и вознамерился соорудить в ней уютное гнездышко, чтобы жить там с супругой и наследниками.
Перевозить инсталляции оказалось делом крайне неудобным, грязным и очень затяжным. Обливаясь потом, Генка таскал с четвертого этажа все эти табуретки, стулья, консервные банки, рулоны туалетной бумаги – слава богу, неиспользованной! – фанерные звезды, обтянутые фольгой, и даже остов пружинной кровати. Грузчикам невозможно было довериться, ибо все это был не просто хлам, а произведения искусства и образчики Илониного творчества.
Генка все таскал и таскал, а инсталляции все никак не заканчивались, и вообще в какой-то момент ему стало казаться, что конца им никогда не будет. Да еще унылый молодой водитель, наблюдавший за Генкиными мучениями, подлил масла в огонь.
Когда Генка бережно устанавливал в кузов кресло с выдранной обивкой и подтыкал поролоновые клочья, символизировавшие, если он правильно уловил, разоренное родительское гнездо, водитель подошел, облокотился на откинутый борт, засмолил папироску и осведомился, куда Генка намерен вывозить хлам.
Генка, пыхтя, отдуваясь и утирая кативший градом пот, выпрыгнул из кузова, спросил у водителя папиросу, закурил и назвал адрес.
– А то давай сразу на свалку, хозяин, – предложил тот сочувственно. – Чего туда-сюда круги наматывать! Все одно придется… того! За мост!
– За какой мост? – не понял Генка.
– Ты че, приезжий? – обидно спросил Генкин собеседник, сплюнул и объяснил: – Свалка городская тама! За мостом! – И показал небритым подбородком куда-то в сторону пыльных окон, облупленных стен и расхристанных дверей углового парадного. – Небось бабуся твоя и не обидится! Небось тоже ж понимает, что такому добру только на свалке и место! Вот жисть, а? Наживала, наживала, а теперь в помойку!..
– Какая бабуся? – опять не понял Генка.
– А ты разве не бабусю перевозишь? – удивился водитель. – Я из этого дома трех бабусь перевез! Эх, расселяют потихоньку коммуналочки-то! А у твоей рухлядишка совсем того… подкачала. У тех трех поприличней все же!..
В тот вечер впервые Генка с Илоной поссорились.
Вдруг он перестал видеть в вылезающем во все стороны желтом крошащемся поролоне «символ разоренного родительского гнезда», и показалось ему, что нет в этом вовсе никакого «послания», и «мысли» тоже нету – поролон и есть поролон!..
Вдруг ему показалось, что время – почти год! – потеряно напрасно, что зря он так уж налегал на то, что жена его Катя «выдра и выпь». В конце концов, именно на ее денежки он живет, и именно тесть пристроил его на работу в хорошее рекламное агентство, и не просто так пристроил, а ведущим художником!..
Вдруг ему захотелось… домой.
Домой – на Каменноостровский, в громадную квартиру, состоявшую даже не из одной, а из двух бывших коммуналок! Их расселением когда-то занимался сам Мухин Анатолий Васильевич, и тогдашний питерский мэр всячески ему в этом помогал. Захотелось в собственное парадное, с мраморной, истертой множеством ног лестницей, широкими пыльными окнами от пола до потолка, фикусами в горшках на каждой площадке. Эти фикусы всегда Генку бесили и казались воплощением мещанства и пошлости, а тут вдруг ему так захотелось… к фикусам! Возле них спокойно, уютно, широкие листья глянцевы и самодовольны, ибо уборщица Люба каждый день протирает их тряпочкой. Внизу хлопает дверь, Люба разгибается над своим ведром, заправляет под косынку тусклые мышиные волосы, прислушивается и точно знает по шагам, кто пришел – жильцов в этом парадном не так уж много!
– Здравствуйте, Любушка, – весело говорит Генка, взбегая к себе на четвертый этаж.
– И вам не хворать, Геннадий Петрович, – подобострастно кланяясь, отвечает ему Люба и опять принимается за свои фикусы.
Генка в своем парадном хозяин и господин!.. И все об этом знают – и Люба, и фикусы, и дворник Саид, и «выдра и выпь» знает, и все соседи! А здесь?! Кто он здесь?! Грузчик по договору?! Хранитель Илониных инсталляций?! Да и вообще он до смерти устал от неуюта, табачного дыма, сальных блюдец, умных разговоров!.. Когда все вокруг вели эти разговоры, Генка впадал в тоску – он почти ничего не понимал, а должен бы понимать, и со временем ему стало казаться, что не понимает он не потому, что туп, а потому, что разговоры бессмысленны и уловить суть невозможно как раз потому, что ее… нет.
Вдруг ему захотелось, чтобы все стало как было – чтобы Катька читала ему из своих книжек, чтобы по выходным приезжали ее друзья, успешные, ухоженные, красивые люди, совсем из другой жизни!.. Чтобы Димка, муж подруги Ниночки, пригласил его в выходные на стрельбище куда-то в район Песков и заехал за ним на своем «Мерседесе». Генке нравилось стрелять, было в этом что-то очень мужское и правильное, из кино про богатых и знаменитых, и «Мерседес» ему нравился! Чтобы чай был не в разномастных чашках, странно пахнущих то ли водопроводом, то ли застарелой немытостью, а в тонком китайском фарфоре – из китайского фарфора пить чай значительно вкуснее, вспомнилось ему. Чтобы в дождь сидеть в эркере, задрав ноги на подоконник, курить и смотреть, как тает в серой дождевой петербургской мгле Соборная мечеть.
Вдруг он перепугался, что ничего этого никогда больше не будет, потому что только «выдра и выпь» могла ему обеспечить то, к чему он с такой приятной легкостью привык!..
Генка Зосимов сделал тогда попытку отступить – и неудачную!..
Илона его не отпустила.
Конечно, мать права – все его беды от баб, только от них, но он ничего не мог с собой поделать!.. Он влюблялся пылко, страстно и навсегда, и потом оказывалось, что «навсегда» – это слишком долгий срок и Генке решительно не подходит!..
Илона устроила ему скандал, да не просто какой-нибудь, а с шантажом и угрозами. Генка терпеть не мог скандалов, а шантажа и угроз испугался до ужаса, и задабривал Илону, и уверял, что никогда не разлюбит, и даже повез ее то ли на Крит, то ли на Кипр!.. На Крит или Кипр они собирались с Катькой, но Илона угрожала разоблачением, и пришлось ехать с ней. Кажется, именно тогда Катька его засекла, так сказать, удостоверилась своими глазами, что Генка «любит другую», хотя в тот момент он уже никого не любил, отчаянно трусил и мечтал об избавлении от Илоны.
Несколько месяцев после этого они прожили кое-как – Катя, затаившись, словно мышь, Генка, мечтая избавиться от Илоны и инсталляций. А потом убили тестя, и Генка понял, что теперь свободен!
– Свободен! Свободен! – кричал он, несся по Каменноостровскому и размахивал сорванной с головы шапочкой.
Всесильного Мухина больше нет, и некому с серьезным и мнимо-значительным видом выговаривать ему: «Что-то ты дурить стал, Генка! Ты у меня смотри! Чего это она у тебя все время плачет?! Разлюбил, так и вали на все четыре стороны, мы тебе ничего не должны, и ты нам ничего не должен!»
Свободен, свободен!..
Почему-то он решил, что отсудить у Кати квартиру теперь будет легче легкого – ну, не всю, так, значит, половину. Детей нету, все совместно нажитое пополам, и дело с концом. Полквартиры на Каменноостровском – это даже не сотни тысяч, это, должно быть, миллион! А то и два!..
Сгоряча романтичный Генка Зосимов наобещал Илоне законный брак и собственную студию в их общей предполагаемой квартире на том же Каменноостровском. Переезжать Генка никуда не желал, ему нравился этот проспект, щегольской, модный и легкий!
Ему хватило бы на все, не только на студию, если бы… Если бы квартиру Кати Мухиной – то есть Зосимовой, конечно! – можно было продать или поделить.
Но нельзя было!.. Этот поганец-тесть обо всем позаботился.
То есть он сделал все, что от него зависело, чтобы уморить Генку до смерти.
Квартиру можно было продать или поделить, в соответствии с завещанием, только через семь лет. Сейчас разводиться никак нельзя, ибо он, Генка, останется на улице. И точка.
Точка, точка, запятая, вышла рожица кривая!..
Генку перекосило надолго и всерьез.
Он попытался жить с Катькой, и у него не получалось, потому что вмешивалась Илона и обещала вывести его на чистую воду.
Он совсем было собрался уйти к Илоне – очиститься, все забыть, начать с белого листа, или с какого листа принято начинать?..
Илона его «отвергла».
– Нет уж, милый мой, – сказала она. – Зачем ты мне нужен голенький и босенький? Да еще женатый?! Вот разведись, тогда и приходи! Да не просто так, а с приданым! Смотрел фильм «Свадьба с приданым»? Ну вот! Я тоже девочка подрощенная, мне много нужно! Место, где работать, – раз! Место, где жить, – два! Место, где детей держать, – три! – Она перечисляла и загибала пальцы. На ногтях сверкали и переливались блестки, и Генка никак не мог оторвать от них глаз. То, что она сказала про детей «держать», его убило.
Держать?! Как собак?!
А он, Генка, тогда кто?! Самец-производитель?! И его тоже будут где-то там «держать»?!
Катя после смерти родителей совсем потерялась, стала говорить мало и бессвязно, все больше лежала на диване, накрывшись с головой пледом. Когда Генка выходил из себя, стягивал с нее плед и швырял на пол, открывалось ее лицо, бледное и безучастное – она там даже не плакала, под своим пледом. Просто так лежала. И это было невыносимо, невыносимо!..
– Она спятила, – жаловался он Илоне. – Она… совсем ненормальная, понимаешь?! Я ее боюсь!
– Ну, придумай что-нибудь, – отвечала Илона. – В конце концов, освидетельствуй ее! Жить с сумасшедшими по закону не положено!
Чего там положено или не положено по закону, Генка точно не знал, но Катя ему мешала, путала все планы, стояла у него на дороге, как Китайская стена, не обойти, не объехать!..
Чуть успокоившись, он стал раздумывать, что бы ему такое предпринять. Выходило, что ничего предпринять невозможно.
Если только… Если только…
Тут Генкины мысли закладывали такие виражи и делали такие зигзаги, что он пугался до смерти. Чтобы вытряхнуть их из головы, он бился ею о стол – однажды в таком состоянии его застала Анечка Миллер, вытаращила мышиные глазки и вихрем сгоняла за валокордином.
Очень осторожно, подбирая слова, он как-то поделился этими мыслями с Илоной.
Она ничуть не удивилась и не испугалась.
Она сидела на кровати, зевала и почесывала ногу. После эпиляции Илона всегда кололась, как щетинистый мужик, и чесалась.
– Да я тебе давно хотела предложить, – сказала она и длинно зевнула. – А что тут такого?.. Она же невменяемая, твоя Катька! Ей все равно ничего не нужно. Ее бы на поводок и трехразовую кормежку, и печалиться не о чем. Я не понимаю, почему ты ее в психушку до сих пор не сдал! Я же тебе предлагала.
Генка страшным голосом заорал на нее – от страха и еще потому, что точно знал, что сделает это! Он еще только говорил, только складывал губы, чтобы произнести слова, казавшиеся такими жуткими, и удивлялся, отчего, когда он их выговорил, у него не разорвалось сердце и не лопнула голова, – и уже знал, что все так и будет.
Илона выслушала его вопли совершенно равнодушно.
– Только все это надо делать с умом, – сказала она и опять стала чесаться. – Подготовиться нужно как следует! Я все узнаю, а ты не нервничай! Ну, что ты нервничаешь, Геночка, крокодильчик?! Все будет хорошо, просто отлично!
Генка вытряхнул из пачки последнюю сигарету и стал курить короткими, нервными затяжками.
Он знал, почему Илона так безмятежна. Ей-то чего бояться? Она все так повернет, что «в деле» окажется Генка, один, опять один, как всегда один! А она уйдет целехонькая, даже и случись что!..
– Да ничего не случится, – успокоила его Илона, когда он, всхлипывая, выложил ей свой план, – все будет хорошо! Ты у меня умница, я у тебя красавица, мы всех победим! Да, Геночка?!.
Странное дело, но от этого разговора ему как будто полегчало. Стало легче, и страшные мысли и жуткие образы больше его не тревожили. Ему теперь казалось, что все на самом деле просто и вот-вот разрешится само собой, как бы без его участия. Он перестал бояться приходить домой, и Катя, лежавшая на диване под пледом, перестала приносить ему страдания. Он только все время удивлялся – как, она еще лежит?! Еще никуда не делась?! Вроде бы все обсудили, решили, а она все еще здесь?!
Он стал рыться в ее бумагах без всякого стеснения, окончательно убедив себя в том, что она сумасшедшая и ничего не понимает. Бумаг было много – она привезла из Белоярска обширный губернаторский архив, и чего там только не было! Генка пожирал документы глазами, и удивлялся, и ужасался, и крутил головой, и даже Илоне звонил и зачитывал – вот оно как, значит! Вот как власть устроена! Вот кто этим миром правит! Нет, кто бы мог подумать?! Ты слыхала что-нибудь подобное?!
Ему было все равно, слышит его Катя или нет. Ведь все решено, значит, какая разница?! Его только раздражало, что она будто не понимает, что лучше бы ей самой сгинуть, не вынуждать его делать «грязную работу», как говорилось в каком-то кино!
Среди бумаг не было только документов на квартиру, а Генке очень хотелось их добыть. Ну, просто на всякий случай! Чтобы не перерывать весь дом, когда… когда… ну, в общем, когда они ему понадобятся.
На работе у него начались проблемы – он был не слишком хороший художник, ленился, думал, рисовал смешные картинки вместо того, чтоб работать «под заказчика». Генеральный пару раз высказался в том смысле, что раньше, покуда был жив Мухин, питерский губернатор к агентству очень благоволил, подбрасывал всякие заказы, да вот в последнее время что-то перестал!.. Генка понимал, что генеральный все это говорит не просто так, а со смыслом, с «дальним прицелом», но что он мог поделать, раз уж тестя прикончили!.. Вообще, вся эта мухинская семейка отравила ему жизнь, зачем только связался с ними!
А потом Генка встретил Асю и понял, что вся его предыдущая жизнь, такая путаная, дурацкая, нечистая, была только прелюдией, приготовлением к встрече именно с этой женщиной, последней волшебницей на земле!..
Гена знал, что Илона никогда его не отпустит. Он знал, что Катька – дура! – сама по себе никуда не денется и не подумает даже облегчить его жизнь, и без того тяжелую!.. Он знал: чтобы остаться с Асей, ему придется как следует потрудиться, и это его уже не пугало.
Он был готов на все – ради любви, конечно!
Он знал, что он жертва – любви, конечно! Любви и коварства.
Его план был четкий, ясный и очень легко выполнимый, по крайней мере ему так казалось. Именно этот план он обдумывал на работе, рисуя красно-зеленый плакат с готическим шрифтом. Одним выстрелом он убьет сразу нескольких зайцев, вернее сразу всех зайцев, мешающих ему жить!
И то, что это вовсе никакие не зайцы, а люди – самые настоящие, живые люди! – Генку уже почти не волновало.
Утром Глеб первым делом позвонил бывшей жене и спросил про сына.
Она сказала, что отныне сын не имеет к нему никакого отношения, и бросила трубку.
Это самое «отныне» случалось регулярно и Глеба не слишком пугало. Все же он надеялся, что ему удастся поговорить с Сашкой, и то, что не удалось, его немного огорчило.
…Почему нельзя жить нормально, хоть бы и в разводе?! Зачем изводить и ненавидеть друг друга? Ведь ничего же не осталось – ни обиды, ни боли! Все давно перегорело, отболело, быльем поросло!..
Почему так получается? Куда девается даже не любовь – это материя тонкая, с ней в одночасье не разобраться! – а интерес друг к другу?!
Испаряется?! Выветривается?! Вкус приедается?!
Вот он, Глеб Звоницкий, вроде и влюблен был, вроде и расположения добивался, и романтика была – на теплоходике катались, а потом долго откуда-то шли, и она стерла ноги босоножками на тоненьких каблучках, и сначала он нес босоножки, а потом ее саму, и они все время останавливались и целовались. И он на самом деле волновался, когда делал ей предложение, и после благосклонного согласия напился вдребезги с другом Славкой – лучше они ничего не могли придумать и понятия не имели, как еще выразить свои чувства, которые требовали выражения! И в состоянии блаженного идиотизма он участвовал в предсвадебной канители и был абсолютно счастлив – покупал костюм, кольца и еще тахту, чтоб спать на ней со своей женой. Тогда слово «жена» казалось ему волшебным, ему даже как-то не верилось, что у него будет самая настоящая, любимая жена!..
Он был уверен, что у него все будет не так, как у других людей, которые живут неправильно, изменяют, скандалят, врут, разводятся! Уж он-то, Глеб Звоницкий, этого не допустит. Его семья будет тылом, надежным и крепким, как и положено тылу, и никогда не превратится в «передовую». Своей новоиспеченной жене – какое прекрасное, уютное, славное слово! – он объяснил правила, по которым они будут жить, и она охотно и радостно согласилась.
Тогда эти правила были просты и понятны и казались абсолютно выполнимыми.
У него работа и зарплата, на которую можно жить. Некие собственные интересы, не слишком обременительные для близких. Ну, баня, там, с мужиками. Может, иногда рыбалка на Енисее, уха под водочку и под долгие разговоры.
У нее работа – просто так, чтобы дома не закиснуть. С девяти до шести, как у всех. Ее зарплата была не в счет, смешно, только на колготки. Ну, мама, там, подруги, в гости сходить, когда захочется. А может, и ребенок будет!..
У них обоих – есть дом, семья, «крепкий тыл». Никто друг от друга «не гуляет», на чужих жен и мужей не заглядывается, под утро с помадой на воротнике не является. Все домашние заботы, конечно же, пополам, и Глеб честно пылесосил ковер, когда оказывался дома в середине дня, что случалось примерно раз в месяц. Друзья общие, в отпуск вместе, к теще на ее шесть соток тоже вместе. Никаких скандалов и взаимных обид – мы же договорились!
И жизнь потекла, простая, понятная, предсказуемая, очень удобная.
Глеб заскучал очень быстро, года через два, наверное. Только тогда он понятия не имел, что маета, когда не знаешь, куда себя деть, какие найти развлечения, на что употребить вечера и выходные, если такие, не дай бог, случались, – все от скуки.
Когда родился Сашка, начались трудности – бессонница, пеленки, соковыжималки, пюре из яблока с морковью, бутылочки и какой-то особенно понимающий детский врач, которого почему-то нужно было непременно возить в их многоэтажный пригород «из центра». Это оказалось тяжело, и вдвоем с женой они героически «преодолевали трудности», поддерживали друг друга, уговаривали, что «так будет не всегда», – одним словом, старались. Младенчество сына закончилось, они приспособились к жизни с ребенком, и он приспособился к ним. Жизнь, немного видоизменившаяся, «давшая крен», выровнялась и потекла своим чередом – денег не всегда хватает, работы по-прежнему много, в одной комнате втроем тесновато, и теперь приходится ждать, когда ребенок заснет, чтобы получить свою порцию привычного, уютного и простого секса. А чего особенно стараться-то… в этом направлении? Все ясно, давно пройдено, ничего нового никто не изобретет!.. Зато летом ребенка можно спровадить к бабушке на шесть соток и спать, как когда-то, с распахнутым на Енисей окном – и счастье вовсе не в возможности побыть вдвоем, а именно в этом распахнутом окне!
На работе Глеб вкалывал, и там было много интересных и важных дел, событий, встреч. Губернатор часто летал в командировки, и охрана с ним, – в самые отдаленные шахтерские поселки Белоярского края, и на Кольскую губу, и в Москву, и в Питер, и даже на Чукотку однажды слетали!.. Анатолий Васильевич к своей охране относился с симпатией и даже уважением, и семья губернаторская за лакеев и дворников их никогда не держала. Мужики платили тем же – на Восьмое марта сначала Любови Ивановне и Катюшке цветы привозили, а потом уж собственным супругам! Катю Глеб учил стрелять из пистолета, Митьку, ее брата, выручал из всяческих глупых мальчишеских передряг, с Любовью Ивановной состоял в заговоре, когда она просила: «Вы уж отцу-то не рассказывайте, что Митька опять напился! Это у него пройдет! А, Глебушка?!» Он ездил с детьми «в ночное», когда им удавалось уговорить Любовь Ивановну, и она отпускала их только с тем условием, чтоб и Глеб тоже поехал, и в «случае чего» был рядом. Однажды какому-то Катиному поклоннику он уши надрал за то, что тот утащил ее в куст сирени за школой и там лапал. Глеб всегда забирал Катю из школы и подъехал к школьным воротам в самый патетический момент. Он выскочил из губернаторской «Волги», за шиворот выволок из сирени Ромео и как следует оттаскал за уши. Ромео вопил и вырывался, но Глеб его не отпускал, а потом еще извиняться заставил, и тот извинялся, отводя глаза и то и дело трогая руками распухшие красные лопухи. Потом Глеб затолкал в машину соблазнительницу – губернаторскую дочь, – но домой не повез, а повез «на курган», так называлась горушка на высоком берегу Енисея, место семейных воскресных пикников, а также встреч бывших одноклассников и однокурсников всех мастей. «На кургане» было пусто – будний день, никаких семей и однокашников. Глеб нашел место почище, усадил Катю на траву и грозным голосом прочел лекцию о женской ответственности, о собственном достоинстве, об умении различать истинные чувства, держать себя в руках и не бросаться на шею всяким идиотам и уж тем более не лазить с ними в сирень!.. Катя слушала поначалу с независимым и гордым видом и даже строптиво фыркала, а потом устыдилась, зашмыгала носом, и глаза у нее налились слезами. Глеб бушевал довольно долго, все не замечал, что она давно раскаялась и плачет, и когда наконец заметил, перепугался, что переборщил.
Потом они помирились – она обещала ему быть разборчивой, а он обещал, что не станет на нее нападать, не разобравшись. Катя считала, что он «не разобрался», и Глеб согласился, когда она объяснила ему почему.
Чтобы закрепить примирение, в ларьке на углу улиц Ленина и Жданова они купили по пирогу и съели их в скверике на скамейке. Там были вкусные пироги, все охранники об этом знали и, когда не было времени поесть как следует, ездили в этот ларек. Глеб любил пироги с яблоками и повидлом, а Катя с мясом.
На работе Глеб отвлекался, и со временем так получилось, что только там ему было хорошо, и семья, интересами которой он живет, – отнюдь не его собственная, а как раз губернаторская!.. Эта самая губернаторская семья была вовсе не «правильной», не «показательной», не слишком счастливой, в общем, самой обыкновенной! Там врали, скандалили, не понимали друг друга, обижались по пустякам, бурно ругались, потом так же бурно мирились, и все это было очень далеко от идеала, который когда-то Глеб придумал.
Придумал не для губернаторской семьи, конечно. Для своей.
Самое интересное, что в его собственной семье как раз и было вожделенное им когда-то спокойствие – тишь, гладь да божья благодать.
Полный штиль. Надежный тыл. Крепость «Орешек».
Глеб по молодости все придумывал «развлечения» – хотя ничего, кроме рыбалки, ухи под водочку и под долгие разговоры, да еще бани на губернаторской заимке, так и не придумалось. Еще он придумывал «цели» – хотя ничего, кроме новой машины и двухкомнатной квартиры с «улучшенной планировкой» вместо однокомнатной хрущевки, тоже никак не придумывалось.
Когда квартира и машина были «достигнуты», Глеб Звоницкий понял, что это все.
Больше ничего не будет.
На замок в Шотландии он никогда не заработает, да ему и не особенно хотелось в замок. «Роллс-Ройс Фантом» тоже ему не светит, да и зачем он нужен, этот самый «Фантом»?..
Значит, получается так – утром, по дороге в «настоящую жизнь», он везет Сашку в школу, а уж из школы сына забирает бабушка. В двух комнатах два ковра – значит, оба нужно пропылесосить. В субботу, если вдруг оказывалась свободная суббота, с сыном в парк или на Енисей, туда, где устраивали пикники и собирались бывшие одноклассники и однокурсники всех мастей. Вечером, значит, ужин и телевизор. В воскресенье, если, не дай бог, оказалось свободным еще и воскресенье, главное – дотянуть до вечера, не напиться раньше времени, потому что вечером приезжает мама «повидаться с внучком», и можно начинать пить, только когда все сядут за стол, никак не раньше. Если начать раньше, до стола можно и не дотянуть, и все обидятся – жена, теща, мама!..
Ну а утром – господи, спасибо тебе! – нужно на работу.
Вот и все. Больше ничего не будет.
Однажды в такое вот воскресенье, когда Глеб с тоской смотрел поочередно то в телевизор, то в окно, то на бутылку, до которой еще надо было ждать целых полдня, ему вдруг позвонила Катя Мухина.
Кате тогда было лет двадцать, она училась в Питере и в Белоярск приезжала только на каникулах.
– Глеб Петрович, – сказала она тихим и странным голосом. – Вы можете сейчас приехать? Я знаю, что смена сегодня не ваша, но… я вас очень прошу, Глеб Петрович!
Глеб сказал: о чем разговор, конечно же, через пятнадцать минут он будет.
Все было забыто: и мама, и бутылка, и воскресенье. Он прилетел на губернаторскую дачу не через пятнадцать, а через девять минут после ее звонка. Они обе, Любовь Ивановна и Катя, ждали его на крыльце, притихшие и встревоженные.
Катя, завидев его, сбежала с крыльца, и они встретились на дорожке.
– У нас Митька пропал, – выпалила она громким шепотом и оглянулась, как будто их могли подслушивать. – Мы папе не говорили. Папа только вчера Митьке сказал, что так продолжаться не может и, если он не остановится, ну, в смысле… пить не бросит, папа больше помогать ему не будет! И с утра он пропал, Митька!.. Мы с мамой боимся, Глеб Петрович! А если об этом кто-нибудь узнает, сразу шум поднимется, а у папы и так вчера гипертонический криз был, «Скорая» приезжала.
Любовь Ивановна всхлипывала на крыльце.
– Помоги, Глебушка, – взмолилась она оттуда и громко высморкалась. – Сил моих больше нет! Так страшно, так страшно… Пропадет ведь парень совсем!..
Глеб сказал: о чем разговор, конечно же, вы только не волнуйтесь.
Губернаторского сына он нашел только под вечер – тот мирно спал в каком-то кабаке. Сердобольный хозяин даже накрыл его одеяльцем, а кабак замкнул на ключ, чтобы лишние люди не пялились на Митю Мухина, спящего в банкетном зале среди бела дня!.. Впрочем, кажется, именно этот ресторан «крышевали» ребята из губернаторской администрации, так что, может, хозяин Митю вовсе и не жалел, а просто его отца боялся.
Глеб долго с Митей валандался, приводил в себя, поил аспирином, пивом и сладким чаем, потом еще насильно кормил в каком-то другом ресторане и смотрел с брезгливой жалостью, как трясутся пальцы, державшие вилку, – мелкой отвратительной стариковской дрожью, – а потом сдал его с рук на руки матери и сестре!..
Это был просто эпизод, один из многих, но, вернувшись в свой двухкомнатный рай «улучшенной планировки», где все уже давно спали и на плите для него был приготовлен в кастрюльке ужин – холодные макароны, а сверху плоская коричневая котлета, – Глеб отчетливо понял, что так больше продолжаться не может.
Ну, если он не последний предатель и изменник, конечно!..
Любовь Ивановна и Катя, жавшиеся друг к другу на крылечке в ожидании, когда он наконец приедет, значили для него неизмеримо больше, чем жена, подруга жены, которую на днях бросил муж и которая теперь каждый вечер приходила жаловаться, а также холодная котлета поверх холодных же макарон!.. Слабак и пьянчужка Митька был гораздо важнее, чем шесть тещиных соток и перспектива пойти с тестем за грибами.
С Катей, Митькой, Любовью Ивановной у Глеба были общие интересы, вполне определенные и ясные, не всегда правильные, но уж точно общие! С его собственной семьей, такой ясной и правильной, не было никаких.
Их объединяли только общая воскресная скука, отпуск раз в году на теплом море, покупка холодильника и спальни «под орех», Сашкины оценки – ты подумай, в четверти по математике опять тройка! – и заунывные подругины рассказы о бывшем муже.
Когда им стало неинтересно до такой степени, что они даже изобразить этот интерес не могут?!
Куда он девался?
Испарился?!. Выветрился?!.
И самое главное – Глеб был в этом абсолютно уверен, – он сам во всем виноват. Жена не виновата. Именно он предатель и изменник, предал свою семью и со всего размаху въехал в другую! Правила жизни определял он, и именно в соответствии с его правилами они жили, а вопроса, почему у жены не было своих, он себе не задавал.
Еще он был уверен, что во всем виновата работа и губернаторская семья, затянувшая его, как в омут, и есть только один выход из положения – поменять работу, перестать жить чужой жизнью и начать жить своей.
И он ушел со службы, изумив Мухина, Любовь Ивановну и коллег. Его только-только повысили, сделали начальником охраны, таким образом и эта цель была достигнута, а он ушел. Губернатор негодовал, губернаторша только поджимала губы, Митька ничего не заметил – он спивался ускоренными темпами, словно поставил цель погубить себя как можно быстрее, а Катя была в Питере.
Он ушел и начал все заново – сцепив челюсти, заставляя себя не звонить на старую работу, не спрашивать, как дела, не выяснять, что там с Митькой, за кого вышла Катя и кто теперь покупает Любови Ивановне валокордин и таблетки от давления!..
Ничего не помогло.
Предательство, о котором знал только он и за которое так себя казнил, оказалось сильнее его правильных решений и логических построений. Видимо, оттого, что во всех этих построениях он не учитывал одну-единственную, но очень важную составляющую – себя.
Он учитывал все: жену, сына, две комнаты «улучшенной планировки», тещу с тестем, застолье в воскресенье, отпуск на теплом море, Новый год на чужой даче! Только себя не учитывал. Все он выстраивал так, чтобы было «правильно», всех подгонял, собирал и направлял – как собака колли стадо послушных овечек. Овечки брели себе вполне послушно, щипали травку и позвякивали колокольчиками, а пастух что-то… занемог.
И смена места работы не помогла!..
Глеб ушел от жены – не к новой прекрасной возлюбленной и не в новую счастливую жизнь, а потому что невозможно было дальше терпеть старую жизнь. Постоянная фальшь и сознание собственного предательства, как кислота, сожрали остатки пластмассовой конструкции, которую он воздвиг.
Он еще долго пытался понять, что именно сделал не так, почему идеальная схема стала неправдой, и все забывал про главную составляющую – себя.
Ему стало неинтересно. Ему стало наплевать. Ему решительно не подходила его собственная идеальная схема!..
После развода он долго жил рядом с окружной дорогой среди спившихся трясущихся стариков и промышляющих скверной самогонкой старух, мрачно вкалывал на новой работе и старался стать Сашке «хорошим отцом». Хотя бы на расстоянии…
Водитель Саша, всегда работавший с Глебом в Питере, оглянулся на него и сказал негромко и сочувственно:
– Приехали, Глеб Петрович.
Сочувствия и мужской солидарности в голос он подпустил, потому что слышал разговор Глеба с женой, ясное дело.
Глеб, много лет прослуживший и водителем, и охранником, и, по совместительству, нянькой у губернаторского сына, и еще утешителем у Любови Ивановны, и еще хранителем тайн Катюшки, ни сочувствия, ни солидарности не принял. Он слишком хорошо знал, что подчас они ничего не стоят, искренности в них нет никакой и, кроме злорадства, проблемы начальства ничего у подчиненных не вызывают.




















